Перри Андерсон Родословная абсолютистского государства
Предисловие
Предмет данной работы – попытка сравнительного обзора природы и развития абсолютистского государства в Европе. Его общий характер и пределы как отражение прошлого объяснены в предисловии к исследованию, предваряющему настоящую книгу [1] . К этому можно добавить несколько специальных замечаний об отношении предпринятого в данном томе анализа к историческому материализму. Задуманная как марксистское исследование абсолютизма, предлагаемая работа намеренно расположена между двумя разными планами марксистского дискурса, которые обычно размещаются на значительном удалении друг от друга. В последние десятилетия марксистские историки, авторы впечатляющего корпуса монографий, как правило, не всегда давали себе труд задуматься над теоретическими импликациями, поднятыми в их собственных работах. В то же время философы-марксисты, пытавшиеся разъяснить или решить фундаментальные теоретические проблемы исторического материализма, зачастую делали это в отрыве от специальных эмпирических проблем, поставленных историками. В настоящей работе предпринята попытка занять среднюю позицию между двумя названными. Возможно, она послужит лишь отрицательным примером. В любом случае задача нашего исследования – изучить европейский абсолютизм как в общем, так и в частности; так сказать, как «чистые» структуры абсолютистского государства, представляющие собой базовую историческую категорию, так и «нечистые» варианты, представленные особенными и отличавшимися друг от друга монархиями после-средневековой Европы. Эти два уровня реальности в работах современных марксистов обычно разделены пропастью. С одной стороны, ими конструируются или предполагаются «абстрактные» общие модели – не только абсолютистского государства, но и буржуазной революции или капиталистического государства, без обращения к их различным вариантам; с другой стороны, изучаются «конкретные» локальные случаи, без ссылок на их взаимные последствия и взаимосвязь. Условная дихотомия между этими процедурами происходит, несомненно, из широко распространенного мнения, что умопостигаемая необходимость существует только на уровне наиболее общих и широких исторических тенденций, которые действуют, так сказать, «поверх» эмпирических обстоятельств, специфических событий и институтов, сюжет или облик которых обычно непредсказуем. Научные законы – если вообще признается их наличие – считаются действенными только для наиболее универсальных категорий; единичные объекты относятся к области случайного. Практическим результатом этого разделения становится часто то, что общие концепты – такие как абсолютистское государство, буржуазная революция или капиталистическое государство – оказываются настолько далекими от исторической действительности, что теряют всякое объяснительное значение; конкретные же исследования, ограниченные определенными географическими или временными рамками, напротив, не способны привести ни к каким теоретическим обобщениям. Посылкой данной работы является мое убеждение, что не существует непреодолимой черты между необходимостью и случайностью в историческом объяснении, которая бы отделяла друг от друга разные типы исследования – «долгосрочное» от «краткосрочного» или «абстрактное» от «конкретного». Есть только то, что известно – установлено историческими исследованиями, и то, что неизвестно; причем последнее может быть как механизмом отдельного события, так и законами движения целых структур. Оба варианта равно поддаются, в принципе, адекватному анализу их причин. (На практике сохранившееся историческое свидетельство часто бывает настолько недостаточным или противоречивым, что определенное суждение невозможно; однако это другая проблема – обеспеченность источниками, а не умопостигаемость.) Одна из главных причин предпринятого здесь исследования кроется, таким образом, в попытке совместить два уровня рефлексии, которые часто были неоправданно разведены в работах марксистов, ослабляя их способность к рациональному теоретизированию в области истории.
Масштаб предлагаемого ниже исследования отмечен тремя аномалиями или расхождениями с ортодоксальным подходом к предмету. Во-первых, гораздо более длинная родословная линия абсолютизма, очевидная уже в работе, послужившей прологом к настоящей книге. Во-вторых, в границах части света, исследуемой на этих страницах, – Европы – предпринята систематическая попытка эквивалентного исследования ее западной и восточной частей, как это было сделано и в предшествовавшем анализе феодализма. Это не что-то само собой разумеющееся. Хотя разделение на Западную и Восточную Европу представляется интеллектуальным общим местом, оно редко было предметом прямой и непрерывной исторической рефлексии. Последний урожай серьезных работ по европейской истории до некоторой степени исправил традиционный геополитический дисбаланс западной историографии, с характерным для нее невниманием к восточной части Европы. Но до разумного равновесия еще далеко. Более того, необходим не столько простой паритет в освещении двух регионов, сколько сравнительное объяснение их разделения, анализ различий и динамики их взаимосвязей. История Восточной Европы – вовсе не жалкая копия истории Запада, которую можно было бы просто добавить сбоку, не повлияв на изучение последней. Развитие более «отсталых» регионов континента бросает непривычный свет на более «развитые» регионы и часто обнаруживает в их истории новые проблемы, скрытые при ограниченной чисто западной интроспекции. Поэтому, вопреки обычной практике, вертикальное разделение континента между Западом и Востоком проведено в нашем исследовании как центральный организующий принцип изучения материала. В каждой из зон, конечно, всегда существовали большие общественные и политические вариации, и они исследуются и сопоставляются сами по себе. Цель этой процедуры – предложить региональную типологию, которая поможет уточнить расходящиеся траектории главных абсолютистских государств как в Восточной, так и в Западной Европе. Такая типология станет, пусть только в виде плана, именно тем промежуточным концептуальным уровнем, которого так часто не хватает в пространстве между общими теоретическими конструкциями и частными случаями-историями, в исследованиях абсолютизма, как и много другого.
В-третьих и последних, выбор предмета этого исследования – абсолютистского государства – определил периодизацию, непохожую на обычную для историографии. Традиционные рамки историописания обычно ограничиваются одной страной или узким периодом. Подавляющее большинство квалифицированных исследований проводится строго в рамках национальных границ, и, если работа пересекает их для придания международной перспективы, в ней обычно ограничиваются временные рамки исследуемой эпохи. В любом случае историческое время не представляет проблемы: и в «старомодном» нарративе, и в «современных» социологических исследованиях события и институты погружены в единую и гомогенную темпоральность. Хотя все историки знают, что скорость перемен различается в разных слоях или секторах общества, удобство и привычка обычно диктуют, чтобы форма работы предполагала или предлагала хронологический монизм. Иными словами, его материалы рассматриваются так, будто они разделяют общее начало и общий конец, протянувшись на один и тот же отрезок времени. В нашем исследовании не существует такой единой темпоральности, поскольку времена основных абсолютизмов Европы – как Западной, так и Восточной – были чрезвычайно разными, и это различие само по себе играло важную роль в природе этих государственных систем. Испанский абсолютизм потерпел свое первое серьезное поражение в XVI в. в Нидерландах; английскому абсолютизму снесли голову в середине XVII в.; французский абсолютизм существовал до конца XVIII в.; прусский абсолютизм дожил до конца XIX в.; русский абсолютизм был свергнут только в XX в. Широкий разрыв в датировке этих больших структур неизбежно соотносился с глубокими различиями в их составе и эволюции. Поскольку специальный объект этого исследования составляет весь спектр европейского абсолютизма, то его не покрывает никакая общая темпоральность. История абсолютизма имеет много пересекающихся начал и разрозненных оборванных концов. Лежащее в его основе единство – реально и глубоко, но оно не составляет линейный континуум. Комплексное развитие европейского абсолютизма с его многочисленными разрывами и смещениями от региона к региону лежит в основе изложения исторического материала в этой книге. Здесь опущен весь цикл процессов и событий, которые предопределили триумф капиталистического способа производства в Европе после эпохи раннего Нового времени. Первая буржуазная революция случилась хронологически задолго до последних метаморфоз абсолютизма. Для целей нашей работы они остаются категорически в будущем и будут рассмотрены в следующем исследовании. Следовательно, такие феномены, как первоначальное накопление капитала, начало религиозной реформации, формирование наций, экспансия заморского империализма, начало индустриализации, формально вписывающиеся в хронологические рамки исследуемых нами «периодов и являющиеся современными по отношению к разным фазам европейского абсолютизма, не обсуждаются нами и не исследуются. Их даты – те же. Их времена– различны. Чужая и смешанная история последовательных буржуазных революций нас здесь не интересует: настоящая книга ограничена природой и развитием абсолютистских государств, их политическими предшественниками и противниками. Два последующих исследования будут специально посвящены, в свою очередь, цепи великих буржуазных революций, от восстания Нидерландов до объединения Германии, и структуре современных капиталистических государств, которые в конце концов появились после долгой эволюции. Некоторые из теоретических и политических аргументов, выдвигаемых в этом томе, станут полностью ясны в этих продолжениях.
Наконец, надо, видимо, объяснить выбор Государства как центральной темы исследования. Сегодня, когда «история снизу» стала паролем как в марксистских, так и в немарксистских кругах и уже привела к серьезным достижениям в нашем понимании прошлого, надо, тем не менее, вспомнить одну из базовых аксиом исторического материализма: что вековая борьба между классами в конце концов разрешается на политическом, а не на экономическом или культурном уровне общества. Другими словами, именно создание и разрушение государств закрепляет фундаментальный сдвиг в отношениях производства до тех пор, пока существуют классы. «История сверху» – история замысловатых механизмов классового господства – не менее существенна, чем «история снизу». В самом деле, без нее последняя остается односторонней (пусть это и лучшая сторона). Вспомним по этому случаю слова Маркса: «Свобода состоит в переходе государства от органа, навязанного обществу, к полностью подчиненному ему, и сегодня также формы государства более или менее свободны в зависимости от того, ограничена ли „свобода“ государства». Полная отмена государства остается век спустя одной из целей революционного социализма. Но высшее значение, придаваемое его конечному исчезновению, свидетельствует о весе его присутствия в истории. Абсолютизм, как первая международная государственная система современного мира, еще не выдал нам всех своих секретов или уроков. Цель настоящей работы – внести вклад в обсуждение некоторых из них. Ее ошибки, заблуждения, недосмотры, описки, иллюзии остаются открытыми для критики в ходе коллективного обсуждения.
I Западная Европа
1. Абсолютистское государство на Западе
Длительный кризис европейской экономики и общества, разразившийся в XIV–XV вв., сделал очевидными проблемы, с которыми столкнулся феодальный способ производства в период позднего Средневековья [2] . Каким был окончательный политический итог континентальных конвульсий той эпохи? В течение XVI в. на Западе утверждалось абсолютистское государство. Централизованные монархии Франции, Англии и Испании пошли на решительный разрыв с «пирамидами» раздробленного суверенитета средневековых общественных формаций, с их поместной и вассальной системами. Споры об исторической природе этих монархий не утихают со времен Энгельса, который в знаменитом выражении назвал их продуктом классового равновесия между старой феодальной аристократией и новой городской буржуазией: «В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII–XVIII вв., которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга…» [3] . Множественные оговорки этого пассажа указывают на определенные концептуальные колебания Энгельса. Но, бросив внимательный взгляд на другие тексты Маркса и Энгельса, становится ясно, что именно эта концепция абсолютизма была постоянной темой их работы. Энгельс повторил этот же основной тезис в другом месте в более категоричной форме, отметив, что «базовым условием старой абсолютной монархии» было «равновесие между землевладельческой аристократией и буржуазией» [4] . В самом деле, определение абсолютизма как политического балансира между аристократией и буржуазией часто склоняется к имплицитному или эксплицитному описанию его как буржуазного в своих основаниях государства. Этот сдвиг особенно очевиден в самом «Манифесте коммунистической партии», в котором политическая роль буржуазии «в период мануфактуры» охарактеризована одной фразой как «противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще» [5] . Показательно, как авторы здесь незаметно переходят от «противовеса» к «главной основе», что отзывается эхом и в других текстах. Энгельс мог отзываться об эпохе абсолютизма как о времени, когда «феодальная аристократия начала понимать, что период ее социального и политического господства пришел к концу» [6] . Маркс, со своей стороны, постоянно утверждал, что административные структуры новых абсолютистских государств были непосредственно буржуазным инструментом. «При абсолютной монархии, – писал он, – бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии». В другом месте Маркс утверждал, что «централизованное государство, с его вездесущими органами постоянной армии, полиции, бюрократии, духовенства и суда – органами, созданными по плану систематического и иерархического разделения труда, – появилось во времена абсолютной монархии, служившей новорожденному среднему классу в качестве могучего оружия в его борьбе против феодализма» [7] .
Эти размышления об абсолютизме были более или менее случайными и иносказательными – основатели исторического материализма не теоретизировали специально о новых централизованных монархиях, появившихся в ренессансной Европе. Оценка их точного веса была оставлена на суждение будущих поколений. Марксистские историки, фактически, спорят о социальной природе абсолютизма до наших дней. Правильное решение этой проблемы, в самом деле, жизненно важно для понимания как перехода от феодализма к капитализму в Европе, так и политических систем, сопутствовавших этому переходу. Абсолютные монархии создали постоянные армии, бюрократию, ввели налогообложение в масштабах всей страны, кодифицированное законодательство и начала общего рынка – все это характеристики капитализма. Поскольку они совпали с исчезновением крепостного права, стержневого института феодального способа производства в Европе, то и описание абсолютизма Марксом и Энгельсом как государственных систем, представлявших собой либо баланс между буржуазией и аристократией, либо даже прямое господство капитала выглядело правдоподобным. Более тщательное исследование структур абсолютистского государства на Западе, однако, неминуемо ослабляет такое впечатление. Дело в том, что конец крепостничества не означал исчезновения феодальных отношений из села. Отождествление двух процессов – частая ошибка. И все же очевидно, что частное внеэкономическое принуждение, личная зависимость и соединение непосредственного производителя со средствами производства вовсе не обязательно исчезли, когда сельские излишки перестали извлекаться в форме труда или оброка и превратились в денежную ренту. До тех пор пока аристократическая аграрная собственность блокировала свободный рынок земли и фактическую мобильность работников, – другими словами, пока труд не был отделен от социальных условий, для того чтобы стать «рабочей силой», – отношения производства на селе оставались феодальными. Сам Маркс в теоретическом анализе земельной ренты в «Капитале» ясно сформулировал это: «Превращение отработочной ренты в продуктовую ренту, если рассматривать дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. <…> Под денежной рентой мы понимаем здесь <…> земельную ренту, возникающую из простого превращения формы продуктовой ренты, как и она сама, в свою очередь, была лишь превращенной отработочной рентой, <…> базис этого рода ренты, хотя он и идет здесь навстречу своему разложению, все еще остается тот же, как при продуктовой ренте, образующей исходный пункт. Непосредственный производитель по-прежнему является наследственным или вообще традиционным владельцем земли, который должен отдавать земельному собственнику как собственнику существеннейшего условия его производства избыточный принудительный труд, то есть неоплаченный, выполняемый без эквивалента труд в форме прибавочного продукта, превращенного в деньги» [8] .
Феодалы, которые оставались собственниками основных средств производства в любом доиндустриальном обществе, были, конечно, родовитыми землевладельцами. На протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом, как в экономике, так и в политике, оставался тот же самый класс, что и в Средневековье: феодальная аристократия. Эта аристократия претерпевала глубокие метаморфозы на протяжении веков после окончания Средневековья; однако от начала и до конца истории абсолютизма она не теряла политической власти.
Изменения форм феодальной эксплуатации, происходившие в конце феодальной эпохи, были, конечно, очень значительными. В самом деле, именно эти перемены изменили формы государства. Абсолютизм был по своей сути именно перенацеленным и перезаряженным аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции – несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках новорожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия. Консенсусное мнение целого поколения историков-марксистов, от Англии до России, суммировал Хилл 20 лет назад: «Абсолютная монархия была особой формой феодальной монархии, отличавшейся от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; однако правящие классы оставались теми же самыми, точно так же, как республика, конституционная монархия и фашистская диктатура могут быть разными формами правления буржуазии» [9] . Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени. Альтюссер точно определил его характер: «Политический режим абсолютной монархии – это всего лишь новая политическая форма, необходимая для поддержания феодального господства и эксплуатации в период развития товарной экономики» [10] . Однако нельзя преуменьшать глубину исторической трансформации, связанной с появлением абсолютизма. Напротив, весьма важно ухватить полностью логику и значение той огромной перемены в структуре аристократического государства и феодальной собственности, которая произвела на свет новый феномен – абсолютизм.
Феодализм как способ производства изначально определялся через органическое единство экономики и политики, парадоксальным образом распределенное между звеньями цепи раздробленных суверенитетов по всей общественной формации. Институт крепостного права как механизма изъятия излишков соединял экономическую эксплуатацию и политико-юридическое принуждение на молекулярном уровне деревни. Феодал, в свою очередь, обычно был обязан проявлять вассальную лояльность и нести рыцарскую службу для своего сеньора, который считал землю своим исключительным владением. По мере общей замены повинностей на денежную ренту клеточное единство политического и экономического подавления крестьянства серьезно ослабело и угрожало полным распадом (в конце этого пути ждали «свободный труд» и «договор о зарплате»). Таким образом, постепенное исчезновение крепостного права ставило под сомнение классовое господство феодальных хозяев. Результатом стал сдвиг политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины – абсолютистского государства. Ослабленное на уровне деревни, оно сконцентрировалось на «национальном» уровне. Результатом стал возрожденный аппарат королевской власти, постоянной политической функцией которого было подавление крестьянских и плебейских масс внизу общественной иерархии. Эта новая государственная машина, однако, была по самой своей природе наделена силой, способной подавлять или дисциплинировать индивидов и группы внутри самой аристократии. Установление абсолютизма не было, следовательно, как мы видим, мягким эволюционным процессом для самого господствующего класса: оно было отмечено чрезвычайно резкими разрывами и конфликтами среди феодальной аристократии, чьим коллективным интересам оно в конечном счете служило. В то же самое время объективным дополнением к политической концентрации власти на вершине общественного устройства в централизованной монархии была экономическая консолидация феодальной собственности под ней. С развитием товарных отношений распад первичных связей между экономической эксплуатацией и политико-юридическим принуждением вел не только к усилению роли королевской власти в осуществлении второго, но и к компенсаторному укреплению прав собственности, гарантировавших первое. Другими словами, вместе с реорганизацией феодальной политической системы в целом и разжижением оригинальной системы феодов, владение землей делалось все менее «условным», по мере того как суверенитет становился все более «абсолютным». Ослабление средневековых концепций вассалитета приводило к двум результатам: оно придавало новую чрезвычайную власть монархии, в то же самое время освобождая от традиционных ограничений владения аристократии. Аграрная собственность в новую эпоху была молчаливо превращена в безусловно наследственную (аллодиальную, используя термин, который сам становился анахронизмом в изменившемся юридическом климате). Индивидуальные члены аристократического класса, которые постепенно теряли политические права представительства в новую эпоху, получали в качестве другой стороны того же процесса экономические приобретения в форме собственности. Окончательным результатом этого общего передела социальной власти аристократии было создание государственной машины и юридического порядка абсолютизма, целью которых было увеличение эффективности аристократического правления путем принуждения некрепостного крестьянства к новым формам зависимости и эксплуатации. Королевские государства эпохи Ренессанса были первыми и передовыми модернизационными инструментами в поддержании господства аристократии над сельским населением.
Одновременно, однако, аристократия вынуждена была приспосабливаться и ко второму антагонисту – торговой буржуазии, которая появилась в средневековых городах. Как было показано, именно наличие этой третьей прослойки не позволило западной аристократии решить свои проблемы с крестьянством по восточному образцу, сокрушив его сопротивление и прикрепив его к поместью. Средневековый город смог развиваться в результате того, что иерархическое распределение суверенитетов при феодальном способе производства впервые освободило городские экономики от прямого господства сельского правящего класса [11] .
Города не создавались внешними для западного феодализма факторами, главным условием их существования была уникальная «детотализация» суверенитета в политэкономическом порядке феодализма. Это объясняет гибкость городов на Западе во время тяжелейшего кризиса XIV в., который временно обанкротил множество патрицианских семей в средиземноморских городах. Барди и Перуджи потерпели крах во Флоренции, Сиена и Барселона пришли в упадок; однако Аугсбург, Женева или Валенсия только начинали свой подъем. Важнейшие городские производства-изготовление железа, бумаги и тканей – росли, несмотря на феодальную депрессию. Сохраняя внешнюю дистанцию от аграрных проблем, сама эта экономическая и социальная жизнестойкость являлась постоянным раздражителем в ходе классовой борьбы и блокировала любые регрессивные поползновения аристократии. В самом деле, важно, что именно в 1450–1500 гг., когда на Западе появились первые предшественники унифицированных абсолютных монархий, был преодолен и долгий кризис феодальной экономики. Это стало возможным благодаря рекомбинации производственных факторов, ведущую роль в которой впервые сыграли специфически городские технологические достижения. Концентрация изобретений, совпавшая с переломом между «средневековой» и «современной» эпохами слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее здесь. Открытие процесса аффинажа ( seiger) для отделения серебра от медной руды возобновило работу шахт в Центральной Европе и поток металлов в международную экономику; за 1460–1530 гг. производство монеты в Центральной Европе выросло в 5 раз. Развитие литых бронзовых пушек впервые сделало порох решающим орудием войны, превратив замки баронов в анахронизм. Изобретение наборных литер положило начало книгопечатанию. Конструирование трехмачтовых управляемых с кормы галеонов сделало океаны преодолимыми и положило начало заморским завоеваниям [12] . Все эти технические прорывы, заложившие основы европейского Возрождения, произошли во второй половине XV в., и именно тогда прекратилась вековая аграрная депрессия– в Англии и Франции это произошло примерно к 1470 г.
Это была именно та эпоха, когда неожиданное восстановление политической власти и единства происходило в одной стране за другой. Из пропасти крайнего феодального хаоса и беспорядка времен войны Алой и Белой розы, Столетней войны и второй кастильской гражданской войны, практически одновременно появились и первые «новые» монархии в правление Людовика XI во Франции, Фердинанда и Изабеллы в Испании, Генриха VII в Англии и Максимилиана в Австрии. Таким образом, когда на Западе возникали абсолютистские государства, их структура была в своем основании определена перегруппировкой феодалов против крестьянства после отмены крепостного права; однако затем она была переопределена подъемом городской буржуазии, которая после серии технических и коммерческих достижений развивала доиндустриальную мануфактуру. Именно это вторичное влияние городской буржуазии на формы абсолютистского государства отметили Маркс и Энгельс в своих вводящих в заблуждение представлениях о «противовесе» и «главной основе». Энгельс не раз достаточно аккуратно описывал настоящее соотношение сил: обсуждая новые морские открытия и мануфактуры времен Возрождения, он писал, что «за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры. Государственный строй оставался по-прежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным» [13] . Угроза крестьянского недовольства, незримо конституировавшая абсолютистское государство, всегда, таким образом, сочеталась с давлением торгового или мануфактурного капитала внутри западных экономик, отливая контуры классового господства аристократии в новую эпоху. Конкретная форма абсолютистского государства на Западе стала результатом действия двух этих факторов.
Двойственные силы, которые произвели на свет новые монархии Европы эпохи Ренессанса, нашли единую юридическую форму. Возрождение римского права, одно из великих культурных достижений эпохи, одинаково соответствовало нуждам обоих социальных классов, чья сила и положение оформили структуру абсолютистского государства на Западе. Новое открытие римского права восходит к эпохе Высокого Средневековья. Все более прочное установление обычного права не смогло полностью стереть память о нем и практику римского гражданского права на том полуострове, где его традиции были самыми долгими, – в Италии. Именно в Болонье Ирнерий, «светоч закона» (lamp of the law), начал систематическое изучение кодексов Юстиниана в начале XII в. Основанная им школа глоссаторов методически воспроизводила и классифицировала наследие римских юристов на протяжении следующей сотни лет. За ними последовала школа комментаторов XIV–XV вв., более заинтересованных в современном приложении римских правовых норм, чем в научном анализе их теоретических принципов; в процессе адаптации римского права к резко изменившимся условиям времени они исказили его первоначальную форму и очистили его от частного содержания [14] . Сама неточность перевода ими латинской юриспруденции парадоксальным образом «универсализировала» ее, удаляя большие порции римского гражданского права, строго привязанные к историческим условиям античности (например, конечно же, всестороннее рассмотрение вопросов рабства) [15] . Римские юридические концепции начали распространяться за пределы Италии начиная с их повторного открытия в XII в. К концу Средних веков ни одна крупная страна Западной Европы не осталась не затронутой этим процессом. Однако решительное «принятие» римского права, его решающий юридический триумф произошел в эпоху Возрождения, одновременно с триумфом абсолютизма. Два типа исторических причин его глубокого влияния отражали противоречивый характер самого римского наследия.
Экономически восстановление и введение классического гражданского права весьма благоприятствовало росту свободного капитала в городе и стране, потому что главной отличительной чертой римского гражданского права была содержащаяся в нем концепция абсолютной и безусловной частной собственности. Классическая концепция законной ( Quiritary) собственности потерялась еще в темных глубинах раннего феодализма, потому что феодальный способ производства, как мы видели, точно определялся юридическим принципом условной собственности в дополнение к раздробленному суверенитету. Этот статус собственности был хорошо адаптирован к почти полностью натуральной экономике, возникшей в «темные века»; хотя он никогда не был полностью адекватным городскому сектору, развивавшемуся в средневековой экономике. Возрождение римского права в ходе Средневековья вело, таким образом, к юридическим попыткам «уточнить» и ограничить понятие собственности, вдохновленное заново открытыми классическими принципами. Одной из таких попыток было изобретение в конце XII в. различения между dominium directum и dominium utile для объяснения существования вассальной иерархии и соответственной множественности прав на одну и ту же землю [16] . Другой была характеристика средневекового понятия владения собственностью (seisin), расположенного между римскими «собственностью» ( property) и «владением» ( possession ), которая гарантировала защищенную собственность от случайного присвоения или конфликтующих притязаний, сохраняя при этом феодальный принцип множественных прав на один и тот же объект: право seisin не было ни исключительным, ни вечным [17] . Полное восстановление концепции абсолютной частной собственности на землю было продуктом раннего Нового времени, когда потребовалось, чтобы производство и обмен товаров в сельском хозяйстве и в мануфактурном производстве достигли уровня равного или превосходящего античность и чтобы кодифицирующие их юридические концепции смогли вернуть себе изначальное значение. Принцип superficies solo cedit— единой и безусловной собственности на землю – снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности, именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе. В самих средневековых городах, конечно же, появилось относительно развитое коммерческое право. Внутри городской экономики обмен товаров достиг относительного динамизма уже в Средневековье, и в некоторых важных отношениях формы его юридического выражения были более развитыми, чем сами римские прецеденты: примером могут служить законодательство о компаниях и морское право. Однако здесь тоже не существовало единой структуры, правовой теории или процедур. Превосходство римского права для торговой практики городов состояло, таким образом, не только в его ясном понятии абсолютной собственности, но и в традициях равенства, рациональных канонах доказательства и опоре на профессиональных юристов – преимущества, которые не мог предоставить традиционный суд [18] . Восприятие римского права в ренессансной Европе было, таким образом, знаком распространения капиталистических отношений в городах и в стране: экономически оно отвечало жизненным интересам торговой и мануфактурной буржуазии. В Германии, стране, где воздействие римского права было наиболее драматичным, в конце XV–XVI в. невероятно быстро вытеснившим местные суды с родины тевтонского обычного права, первоначальный импульс к его принятию возник в южных и западных городах и пришел снизу через давление городских истцов, требовавших ясного и профессионального процессуального права [19] . Вскоре, однако, оно было взято на вооружение германскими князьями и применено на их территориях в еще больших масштабах и с совершенно иными целями.
Политически возрождение римского права соответствовало конституционной необходимости реорганизованных феодальных государств той эпохи. Несомненно, что в Европе первичная причина принятия римской системы права лежала в стремлении королевских правительств к усилению центральной власти. Римская юридическая система включала две различные – и очевидно противоречивые – части: гражданское право, регулирующее экономические трансакции между гражданами; и публичное право, управляющее политическими отношениями между государством и его подданными. Первое называлось jus, второе – fex. Юридически безусловный характер частной собственности, освященный первым, находил противоречивого двойника в формально абсолютной природе имперского суверенитета, определяемого вторым, по меньшей мере начиная с эпохи Домината. Именно теоретические принципы этого политического impeńum оказали глубокое влияние на новые монархии эпохи Ренессанса и были для них особенно привлекательными. Если возрождение концепции законной собственности способствовало общему росту товарного обмена в переходных экономиках эпохи, то возрождение авторитарных прерогатив Домината выражало и укрепляло концентрацию аристократической классовой власти в централизованном государственном аппарате, которая была реакцией знати на этот процесс. Двойственные общественные процессы, запечатленные в структурах западного абсолютизма, нашли, таким образом, выражение в новом введении римского права. Знаменитая максима Ульпиана– quodprincipi placuit legis habet vicem («воля правителя имеет силу закона») – стала конституционным идеалом ренессансных монархий на всем Западе [20] . Дополняющая ее идея, что короли и князья сами являлись legibus solutus, или освобожденными от предшествующих законных ограничений, предоставила юридическую формулу, позволявшую не принимать во внимание средневековые привилегии, игнорировать традиции и подчинять частные права.
Другими словами, прирост частной собственности снизу дополнялся сверху увеличением публичной власти, олицетворенной в самовластной воле короля. Абсолютистские государства на Западе основывали свои новые стремления на классических прецедентах: римское право было самым могущественным интеллектуальным оружием, доступным для их типичной программы территориальной интеграции и административного централизма. Неслучайно единственной средневековой монархией, которая достигла полной эмансипации от любых представительных или корпоративных ограничений, было папство, первая политическая система феодальной Европы, оптом принявшая римскую юриспруденцию, кодифицировав каноническое право в XII–XIII вв. Претензии Папы на plenitude potestatis в Церкви создали прецедент для последовавших притязаний светских князей, часто прямо направленных против религиозной чрезмерности. Более того, точно так же, как юристы-каноники в папском государстве управляли созданными ими административными рычагами контроля над Церковью, так и полупрофессиональные бюрократы, обученные римскому праву, стали ключевыми исполнительными служащими новых королевских государств. Абсолютные монархии Запада характерным образом опирались на страту умелых законников для заполнения своих административных машин: letrados в Испании, maitres de requetes во Франции, doctores в Германии. Пропитанные римскими доктринами королевской декретной власти и римскими концепциями унитарных правовых норм, эти юристы-бюрократы были рьяными проводниками королевского централизма в первый критический век создания абсолютистского государства. Именно этот международный корпус легистов более, чем любая другая сила, романизировал юридические системы Западной Европы в эпоху Ренессанса. Трансформация закона с неизбежностью отражала распределение власти между классами собственников той эпохи: абсолютизм, как реорганизованный государственный аппарат господства аристократии, был центральным архитектором восприятия римского права в Европе. Даже там, где, как в Германии, движение инициировали автономные города, именно князья возглавляли его и воплотили в жизнь; там же, где, как в Англии, королевская власть не смогла распространить гражданское право, оно не пустило корни и в городской среде [21] . В сверхдетерминированном процессе римского возрождения первенствовало политическое давление династического государства: требования монархической «ясности» доминировали над требованиями коммерческой «определенности» [22] . Рост формальной рациональности, пусть несовершенной и неполной, в юридической системе Европы раннего Нового времени был в преобладающей степени результатом работы аристократического абсолютизма.
Эффект юридической модернизации состоял, таким образом, в восстановлении правления традиционного феодального класса. Очевидная парадоксальность этого феномена отразилась на всей структуре абсолютных монархий – экзотических гибридных композиций, чья поверхностная «современность» раз за разом выдавала их глубинную архаику. Это ясно видно из обзора институциональных инноваций, которые олицетворяли их появление: армии, бюрократии, налогообложения, торговли, дипломатии. Давайте рассмотрим их кратко и по порядку.
Часто обращалось внимание на то, что абсолютистское государство первым создало профессиональную армию, которая с началом военной реформы конца XVI–XVII в., связанной с именами Мориса Оранжского, Густава-Адольфа и Валленштейна (голландский строй и учения пехоты, шведская система кавалерийского залпа, чешская единая вертикальная команда), невероятно выросла в размерах [23] . Армия Филиппа II насчитывала около 60 тыс. человек, а столетия спустя Людовик XIV командовал 300 тыс. солдат. Однако и по форме, и по функциям эти войска весьма отличались от тех, что позднее станут характеристикой современного буржуазного государства. Обычно эти солдаты не были призваны в национальную армию, а составляли смешанную массу, в которой иностранные наемники играли постоянную центральную роль. Эти наемники типично рекрутировались в регионах из-за пределов новых централизованных монархий; на поставке солдат особенно специализировались горные регионы: швейцарцы были гуркхами Европы раннего Нового времени. Французская, голландская, испанская, австрийская и английская армии включали швабов, албанцев, швейцарцев, ирландцев, валахов, турков, венгров и итальянцев. Самой очевидной социальной причиной феномена наемничества был, конечно, естественный отказ аристократии массово вооружать собственных крестьян. «Совершенно невозможно обучить всех подданных республики ( commonwealth) искусству войны и в то же время сохранять их лояльность законам и должностным лицам, – писал Жан Боден, – В этом, вероятно, была главная причина роспуска Франциском I в 1534 г. семи полков по 6 тыс. пехотинцев каждый, которые он сам создал в своем королевстве» [24] . Напротив, на наемные войска, невежественные даже в языке местного населения, можно было положиться в подавлении народных восстаний. Немецкие ландскнехты справились с крестьянскими волнениями в Восточной Англии в 1549 г., в то время как итальянские аркебузиры ликвидировали сельский мятеж к юго-западу от Лондона; швейцарские гвардейцы помогли усмирить герильи булонцев и камизаров в 1662 и 1702 гг. во Франции. Значение наемников, заметное уже в конце Средних веков от Уэльса до Польши, не сводилось к временному удобству абсолютизма в начале его существования: они сопутствовали ему на Западе до самого конца. В конце XVIII в., даже после введения воинской повинности в основных европейских странах, до двух третей любой «национальной» армии могло состоять из нанятых иностранных солдат [25] . Пример прусского абсолютизма, нанимавшего и похищавшего людей в армию из-за границы, используя аукционы и мобилизацию, напоминает, что не всегда можно четко отделить одно от другого.
В то же самое время функции этих огромных сборищ солдат также, видимо, отличались от более поздних армий капитализма. До сих пор не существовало марксистской теории различных социальных функций войны при разных способах производства. Здесь не место исследовать этот предмет. Однако можно аргументировать, что война была, вероятно, самым рациональным и быстрым способом извлечения избытков, доступных любому правящему классу при феодализме. Сельскохозяйственное производство не было, как мы видели, застойным на протяжении Средневековья, то же самое относится и к объему торговли. Однако и то и другое росло слишком медленно с точки зрения феодалов, в сравнении со скорым и массивным «урожаем», предоставляемым завоеванием территории, в ряду которых норманнское вторжение в Англию или на Сицилию, захват Неаполя Анжуйской династией или завоевание Кастилией Андалусии были только самыми впечатляющими примерами. Поэтому логичным представляется, что с социальной точки зрения феодальный правящий класс был военным. Экономическая рациональность войны в такой общественной формации была весьма специфичной: это максимизация богатства, роль которого не может сравниться с той, что оно играет в сменивших ее более развитых формах производства, где доминирует базовый ритм аккумуляции капитала и «неустанные всеобщие перемены» (Маркс) в экономических основаниях общественной формации. Аристократия была землевладельческим классом, родом занятий которого была война: внешние приобретения были не ее общественной целью, а внутренней функцией ее экономического положения. Нормальная среда конкуренции между капиталистами – экономика, и ей соответствует типично приобретательская структура: обе конкурирующие стороны могут расширяться и процветать, хотя и не в равной степени, в условиях конфронтации, потому что производство товаров внутренне неограниченно. Типичной средой соперничества между феодалами была, по контрасту, война, и ее структура всегда была в потенции конфликтом с нулевой суммой, разыгрывавшимся на поле битвы, в результате которой ограниченное количество земли бывало завоевано или потеряно. Дело в том, что земля представляет собой естественную монополию: ее нельзя увеличить, но только переделить. Категориальной целью аристократического правления была территория, независимо от того, какое сообщество на ней проживало. Земля как таковая, не язык, определяла естественные периметры могущества. Правящий класс феодалов был поэтому весьма подвижным – таким, каким позже не мог быть правящий класс капиталистов. Так как капитал сам по себе характерно мобилен, он позволяет своим держателям быть национально закрепленными: земля национально немобильна, и феодалы должны были путешествовать, чтобы овладеть ею. Поэтому любая вотчина или династия могла переносить свою резиденцию с одного конца континента на другой без дезорганизации. Члены Анжуйской династии могли править Венгрией, Англией или Неаполем; норманны – Антиохией, Сицилией или Англией; Бургундская династия – Португалией или Зеландией; Люксембургская – Рейнской областью или Богемией; Фламандская – Артуа или Византией; Габсбурги – Австрией, Нидерландами или Испанией. В этих различных землях феодалам и крестьянам не нужен был общий язык. Общественные территории формировали единое целое с частными владениями, и классическим средством их приобретения была сила, неизменно приукрашенная претензиями на религиозную или генеалогическую легитимность. Война не являлась «спортом» принцев, она была их судьбой; за пределами ограниченного разнообразия индивидуальных наклонностей и характеров она влекла их неумолимо, как социальное требование их статуса. Для Макиавелли, обозревавшего Европу начала XVI в., главным законом существования была истина, безукоризненная, как небо над ним: «Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого» [26] .
Абсолютистские государства отражают эту архаичную рациональность в своей глубинной структуре. Они были машинами, построенными главным образом для битвы. Важно отметить, что первый регулярный национальный налог, введенный во Франции, taille royale, был создан для того, чтобы финансировать первые регулярные военные подразделения в Европе – companies d’ordonnance середины XV в., первое из которых состояло из шотландских «солдат удачи». К середине XVI в. 8о % доходов испанского государства шло на военные траты: Виценс Вивес (Vives) мог написать, что «импульс по направлению к современному типу административной монархии был задан в Западной Европе великими морскими операциями Карла V против турок в Западном Средиземноморье начиная с 1535 года» [27] . К середине XVII в. ежегодные расходы континентальных княжеств от Швеции до Пьемонта были везде преимущественно и монотонно посвящены подготовке или ведению войны, теперь чрезвычайно более дорогой, чем в эпоху Возрождения. Еще век спустя, в мирный канун 1789 г., по данным Неккер, две трети французских государственных расходов были по-прежнему ассигнованы на военные нужды. Очевидно, что такая морфология государства не соответствует капиталистической рациональности: она представляет разбухшую память о средневековых функциях войны. Грандиозный военный аппарат позднефеодального государства не оставался в бездеятельности. Практически постоянное состояние международного вооруженного конфликта было одной из отличительных черт всего климата абсолютизма. Состояние мира был метеорологическим исключением в те века, когда абсолютизм доминировал на Западе. Подсчитано, что за весь XVI в. было только 25 лет без крупномасштабных военных операций в Европе [28] , тогда как в XVII в. только 7 лет прошло без крупных войн между государствами [29] . Такие календари чужды капиталу, хотя, как мы увидим, он внес в них и свой вклад.
Характеристика гражданской бюрократии и налоговой системы абсолютистского государства была не менее парадоксальной. Она появилась как будто для того, чтобы проиллюстрировать переход к веберовской рациональной юридической администрации, по контрасту с джунглями частных зависимостей Высокого Средневековья. В то же самое время ренессансная бюрократия рассматривалась как собственность, которую можно продавать частным лицам: это было смешение двух порядков, различие между которыми всегда будет поддерживать буржуазное государство. Следовательно, доминирующей формой интеграции феодальной аристократии в абсолютистское государство на Западе стало приобретение «должностей» [30] . Тот, кто частным образом покупал пост в государственном аппарате, мог затем компенсировать свои затраты с помощью лицензированных привилегий и коррупции (системы вознаграждений), что напоминает монетизированную карикатуру на пожалование поместья. В самом деле, маркиз дель Васто, испанский губернатор Милана в 1544 г., мог потребовать от итальянских чиновников этого города заложить свое имущество Карлу V в тяжелый для него час после поражения при Цересоле, в точности следуя модели феодальных взаимоотношений [31] . Такие «держатели должностей», распространившиеся во Франции, Италии, Испании, Британии или Голландии, могли надеяться получить со своей покупки до 300–400 % прибыли, а возможно, и много больше. Система родилась в XVI в. и превратилась в главный источник финансов абсолютистских государств на протяжении XVII в.
Ее избыточно паразитический характер очевиден: в крайних ситуациях (например, во Франции в 1630-е гг.), она могла стоить государственному бюджету примерно столько же в издержках (через налоговые откупа и иммунитеты), сколько поставляла в ответ. Рост продаж должностей был, конечно, одним из самых ярких побочных продуктов возраставшей монетизации экономик раннего Нового времени и относительного роста влияния торговой и мануфактурной буржуазии. Однако справедливо и то, что сама интеграция последних в государственный аппарат путем частной покупки и наследования общественных должностей и почестей означала подчиненный характер их ассимиляции в феодальную политическую систему, в которой аристократия всегда с неизбежностью составляла верхушку социальной иерархии. Чиновники ( officiers) французского парламента, которые заигрывали с муниципальным республиканизмом и спонсировали «мазаринады» (движение против Мазарини) в 1650-е гг., стали самыми твердолобыми защитниками аристократической реакции в 1780-е. Абсолютистская бюрократия не только замечала рост торгового капитала, но и тормозила его.
Если продажа должностей была косвенным способом поднять доход от аристократии и торговой буржуазии на выгодных для них условиях, абсолютистское государство также, и прежде всего, облагало налогом бедных. Экономический переход от трудовой повинности к денежной ренте на Западе сопровождался появлением королевских налогов, собиравшихся на войну, что в условиях долгого феодального кризиса в конце Средневековья было уже одной из главных причин отчаянных крестьянских восстаний. «Цепь крестьянских восстаний, прямо направленных против налогообложения, взорвалась по всей Европе. <…> Выбор между фуражирами дружественной или вражеской армий был невелик – те и другие брали одинаково. Затем появлялись сборщики налогов и выметали все, что могли найти. Наконец, феодалы выбивали из своих людей „помощь“, которую они должны были заплатить своему суверену. Нет сомнений, что изо всех бед, с которыми они сталкивались, крестьяне страдали наиболее болезненно и наименее терпеливо от бремени войны и налогообложения» [32] . Практически везде преобладающий вес налогов – тальи и габели во Франции, сервисио в Испании – падал на бедняков. Не существовало юридической концепции «гражданина», обязанного платить налоги по самому факту своей принадлежности к нации. Класс сеньоров был на практике везде освобожден от налогообложения. Поршнев наглядно показал, что новые налоги, установленные абсолютистскими государствами для «централизации феодальной ренты», были противоположностью сеньориальным сборам, которые формировали «местную феодальную ренту» [33] : эта двойная система поборов приводила к мучительным эпидемиям восстаний бедноты во Франции XVII в., где провинциальная аристократия часто вела своих собственных крестьян против сборщиков налогов, чтобы с большей вероятностью собрать с них местные подати. Фискальных чиновников должны были охранять отрядами фузилеров, чтобы они могли исполнять свои функции в сельской местности: вместе они представляли модернизированное олицетворение единства политико-правового принуждения с экономической эксплуатацией, определяющего феодальный способ производства как таковой.
Экономические функции абсолютизма не исчерпывались, однако, его налоговой и должностной системами. Меркантилизм был правящей доктриной эпохи, и он представляет ту же самую неопределенность, как и бюрократия, которая должная была воплощать его в жизнь, и с тем же самым скрытым возвратом к более раннему прототипу. Меркантилизм несомненно требовал подавления партикуляристских барьеров торговли внутри национальных границ и боролся за создание унифицированного внутреннего рынка для производства товаров. Нацеленный на увеличение мощи государства по отношению ко всем другим государствам, он поощрял экспорт товаров, запрещая в то же время экспорт золота или монет, веруя в то, что в мире существует конечное количество торговли и богатства. В соответствии со знаменитой фразой Хекшера (Hecksher) «государство было одновременно и субъектом, и объектом меркантилистской экономической политики» [34] . Его характерными творениями были королевские мануфактуры и регулируемые государством гильдии во Франции, а также привилегированные компании в Англии. Средневековое и корпоратистское происхождение первого вряд ли нуждается в комментарии; слияние экономического и политического порядков в последних возмущало Адама Смита. Дело в том, что меркантилизм представлял собой концепцию феодального правящего класса, который адаптировался к общему рынку, но сохранил суть своего мировоззрения в единстве того, что Френсис Бэкон назвал «соображениями изобилия» и «соображениями мощи». Классические буржуазные доктрины laissez-faire, с их жестким формальным разделением политической и экономической систем, служили ему антиподом. Меркантилизм был теорией последовательного вмешательства политического государства в работу экономики, в общих интересах процветания одного и мощи другого. Логично, что там, где laissez-faire был сущностно «пацифистским», благословляя блага мира между народами для увеличения взаимовыгодной международной торговли, меркантилистская теория [Монкретьен (Motchretien), Бодэн (Bodin)] была очень воинственной, подчеркивая необходимость и выгодность войны [35] . И наоборот, целью сильной экономики было успешное осуществление завоевательной внешней политики. Кольбер говорил Людовику XIV, что королевские мануфактуры были экономическими полками, а корпорации его резервами. Этот величайший практик меркантилизма, который восстановил финансы французского государства за десять волшебных лет интендантства, затем подтолкнул своего суверена к роковому вторжению в Голландию в 1672 г., таким выразительным советом: «Если король подчинит все Объединенные провинции своей власти, их торговля станет торговлей подданных его величества, и ничего больше не надо будет просить» [36] . Сорок лет европейского конфликта последовали за этим экономическим умозаключением, которое совершенным образом фиксирует социальную логику абсолютистской агрессии и хищнического меркантилизма: торговля голландцев рассматривалась как земля англосаксов или владения мавров, – физический объект, который можно захватить военной силой и которым можно потом владеть постоянно. Оптическая иллюзия этого частного суждения не делает его нерепрезентативным: именно такими глазами абсолютистские государства смотрели друг на друга. Меркантилистские теории богатства и войны были, в самом деле, концептуально соединены: модель мировой торговли как игры с нулевой суммой, которая вдохновляла экономический протекционизм, проистекала из модели международной политики как игры с нулевой суммой, которая была неотъемлемой частью ее воинственности.
Торговля и война, конечно, не исчерпывали внешнюю активность абсолютистских государств Запада. Большие усилия прилагались и к дипломатии. Она стала одним из великих институциональных изобретений эпохи – возникшая в миниатюрном регионе Италии в XV в., институционализированная там миром в Лоди, и принятая Испанией, Францией, Англией, Германией и всей Европой в XVI в. Дипломатия была, фактически, нестираемым родимым пятном ренессансного государства: с ее появлением в Европе родилась международная государственная система, в которой существовало «постоянное зондирование слабых мест в окружении государства и опасностей, ему угрожающих, исходящих от других государств» [37] . Средневековая Европа никогда не состояла из четко разграниченных гомогенных политических единиц – международной системы государств. Ее политическая карта была запутанной, наложенной и замысловатой, в которой разные политические ступени были географически переплетены и стратифицированы, изобиловали множественными вассальными зависимостями, асимметричными сюзеренитетами и аномальными анклавами [38] . И в этом сложном лабиринте не могла возникнуть формальная дипломатическая система, потому что не существовало единообразия или равенства партнеров. Концепция латинского христианства, членами которого были все люди, предлагала универсалистскую идеологическую матрицу для конфликтов и решений, которая была необходимой оборотной стороной чрезвычайно партикуляристской гетерогенности самих политических единиц. Поэтому «посольства» были спорадическими и неоплачиваемыми путешествиями с обращениями, которые с равным основанием могли быть направлены вассалом к собственному вассалу на данной территории, или от князя к князю двух разных территорий, или от принца к его сюзерену. Сокращение феодальной пирамиды до новых централизованных монархий ренессансной Европы впервые создало формализованную систему новых институтов взаимных постоянных посольств за границей, постоянные канцелярии для иностранных дел и секретные дипломатические коммуникации и доклады, защищенные новой концепцией «экстерриториальности» [39] . Светский дух политического эгоизма, вдохновлявший с этого времени дипломатическую практику, был прозрачно выражен Эрмолао Барбаро, венецианским послом, который был его первым теоретиком: «Первая обязанность посла – та же самая, что и у других государственных служащих, то есть думать и советовать такие вещи, которые лучше всего послужат сохранению и расширению его собственного государства».
И все же эти инструменты дипломатии, послы и государственные секретари, не были орудием современного национального государства. Идеологическая концепция «национализма» была чужда внутренней природе абсолютизма. Королевские государства новой эпохи не пренебрегали мобилизацией патриотических чувств своих подданных в ходе политических и военных конфликтов, постоянно противопоставлявших различные монархии Западной Европы. Однако рассеянный народный протонационализм Англии Тюдоров, Франции Бурбонов или Испании Габсбургов был в основном знаком присутствия буржуазии в политической жизни [40] ; сановники или суверены манипулировали им в большей степени, чем он управлял их действиями. Национальный ореол абсолютизма на Западе, очень часто декларированный (Елизавета I, Людовик XIV), на деле зависел от многих обстоятельств. Руководящие нормы эпохи надо было искать в другом месте. Высшим знаком легитимности была династия, а не территория. Государство задумывалось как вотчина монарха, и, соответственно, право на него могло быть получено путем союза личностей: felix Austria. Высшим изобретением дипломатии был, следовательно, брак – мирное зеркало войны, которое очень часто ее провоцировало. Менее дорогостоящее в качестве способа территориальной экспансии, чем военная агрессия, матримониальное маневрирование давало и менее гарантированный результат (часто всего лишь на одно поколение) и было потому предметом непредсказуемого риска смертности в интервале между свадебным обрядом и созреванием его политических плодов. Отсюда длинный окольный путь брака так часто вел назад прямо к короткой дороге войны. История абсолютизма замусорена такими конфликтами, названия которых свидетельствуют сами за себя: войны за испанское, австрийское, баварское наследства. Их результат мог, в самом деле, способствовать упрочению власти династии над территорией, развязавшей войну. Париж мог потерпеть поражение в разрушительной военной борьбе за испанское наследство, и дом Бурбонов унаследовал Мадрид. В дипломатии абсолютистского государства, таким образом, также очевидно доминирование феодалов.
Чрезвычайно выросшее и реорганизованное феодальное государство эпохи абсолютизма, тем не менее, постоянно и глубоко переопределялось ростом капитализма внутри составных общественных формаций периода раннего Нового времени. Эти формации были, конечно же, комбинацией различных способов производства при постепенно затухающем доминировании одного из них – феодализма. Все структуры абсолютистского государства раскрывают, таким образом, влияние работы новой экономики в рамках старой системы: изобиловала гибридная «капитализация» феодальных форм, само извращение которыми институтов будущего (армии, бюрократии, дипломатии, торговли) было превращением старых социальных целей в их повторение.
И все же предчувствие нового политического порядка, содержащееся в них, не было ложным обещанием. Буржуазия на Западе была уже достаточно сильной, чтобы в условиях абсолютизма оставить на государстве свой смазанный отпечаток. Видимым парадоксом абсолютизма в Западной Европе было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов, в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли одновременно обеспечить и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов. Абсолютистское государство во все возраставшей степени централизовало политическую власть и работало в направлении создания единой правовой системы: кампании Ришелье против гугенотских редутов во Франции были типичным случаем. Оно покончило с большим количеством внутренних барьеров в торговле и поддержало ввозные пошлины против иностранных конкурентов: меры Помбаля (Pombal) в Португалии времен Просвещения были ярким примером. Оно предоставило доходные, хотя и рискованные инвестиции для ростовщического капитала: Аугсбургские банкиры XVI в. и генуэзские олигархи XVII в. могли наживать состояния на своих займах испанскому государству. Оно мобилизовало сельскую собственность путем захвата церковных земель: роспуск монастырей в Англии. Оно предложило бюрократии синекуры рантье: Полетт (Paulette) во Франции создавал им стабильные должности. Оно спонсировало колониальные предприятия и торговые компании: Белого моря, Антильских островов, Гудзонова залива, Луизианы. Другими словами, оно выполняло некоторые частичные функции первоначального накопления, необходимые для окончательного триумфа самого капиталистического способа производства. Причины того, почему оно смогло выполнять такую «двойную» роль, лежат в специфическом характере торгового или мануфактурного капитала: поскольку ни тот ни другой не основывался на массовом производстве, характерном для машинной индустрии, ни один сам по себе не требовал радикального разрыва с феодальным аграрным порядком, который все еще включал подавляющее большинство населения (будущие наемные работники и будущий рынок потребления промышленного капитализма). Другими словами, они могли развиваться в пределах, установленных реорганизованными феодальными рамками. Не хочу сказать, что так было везде: политические, религиозные или экономические конфликты могли после периода созревания при определенных условиях легко вылиться в революционные взрывы, направленные против абсолютизма. Всегда в рамках этой стадии, однако, существовало потенциальное поле совместимости между природой и программой абсолютистского государства и действиями торгового и мануфактурного капитала. В условиях международной конкуренции между благородными классами, которая порождала специфические войны той эпохи, размеры товарного сектора внутри каждой «национальной» вотчины всегда имели критическое значение для ее относительной военной и политической силы. Каждая монархия поэтому была заинтересована и в пополнении казны и поощрении торговли под ее собственными флагами, и в борьбе со своими соперниками. Отсюда – «прогрессивный» характер, который последующие историки так часто приписывали официальной политике абсолютизма. Экономическая централизация, протекционизм и заморская экспансия усиливали позднефеодальное государство и создавали прибыль ранней буржуазии. Они увеличивали налогооблагаемые доходы одного, создавая возможности для бизнеса другого. Рекламные максимы меркантилизма, провозглашавшиеся абсолютистским государством, давали убедительное выражение этому временному совпадению интересов. В соответствии с этим герцог Шуазель (Duc de Choiseul) в последние десятилетия аристократического старого режима на Западе декларировал: «От флота зависят колонии, от колоний – торговля, от торговли – возможности государства содержать многочисленные армии, увеличивать население и делать осуществимыми самые славные и полезные начинания» [41] .
Однако, как подразумевает финальный пассаж о «славных и полезных начинаниях», абсолютизм сохранял свой неотъемлемо феодальный характер. Это было государство, основанное на социальном превосходстве аристократии и ограниченное императивами земельной собственности. Аристократия могла передать власть монарху и разрешить обогащение буржуазии: массы оставались в ее власти. Никакого умаления благородного класса в абсолютистском государстве никогда не случалось. Его феодальный характер проявлялся в отказе от выполнения или искажении обещаний, которые оно делало капиталу. Фуггеры были в конце концов разрушены банкротствами Габсбургов; английская аристократия захватила большую часть монастырских земель; Людовик XIV разрушил блага работы Ришелье, отозвав Нантский эдикт; лондонские купцы были ограблены проектом Кокейна (Cockayne); Португалия после смерти Помбала вернулась к системе Метуэна, парижские спекулянты были обмануты законом. Армия, бюрократия, дипломатия и династия оставались затвердевшими феодальными комплексами, которые правили всей машиной государства и управляли его судьбами. Правление абсолютистского государства было правлением феодальной аристократии в эпоху перехода к капитализму. Его конец означал кризис власти этого класса: начало буржуазных революций и возникновение капиталистического государства.
2. Класс и государство: проблемы периодизации
Мы описали типичную институциональную структуру абсолютистского государства на Западе. Нам остается сделать только набросок исторической траектории этой формы, которая пережила важные изменения за более чем три столетия своего существования. В то же время необходимо описать отношения между аристократией и абсолютизмом, поскольку ничто не может быть более далеким от истины, чем предположение, будто они отличались естественной гармонией с самого начала. Напротив, реальная периодизация абсолютизма на Западе может быть основана именно на смене типа отношений между аристократией и монархией, а также многочисленных сопутствовавших этой смене политических сдвигах. Ниже предлагается предварительная периодизация эволюции государства и отношения к нему доминирующего класса.
Средневековый монарх, как мы убедились, представлял собой сочетание феодального сюзерена и помазанного короля. Чрезвычайные королевские права второй функции были, конечно, необходимым противовесом структурной слабости и ограничениям первой: противоречие между этими двумя альтернативными основами королевской власти было центральной проблемой феодального государства в Средние века. Феодальный сюзерен на вершине иерархии вассалов играл роль доминирующего элемента этой модели монархии, как показывает ретроспективный взгляд на нее в сравнении со структурами абсолютизма. Эта роль предопределяла очень узкие пределы экономической базы монархии в раннесредневековый период. Феодальный правитель той эпохи вынужден был поднимать свои доходы главным образом за счет своих собственных владений, в качестве одного из землевладельцев. Доход от его поместий сначала поступал в натуральном виде, а позднее во всевозрастающей степени в денежной форме [42] . В дополнение к этому доходу, он обычно имел определенные финансовые привилегии, происходившие от его положения территориального властителя: прежде всего, феодальные сборы ( incidences ) и особую «помощь» от своих вассалов, связанную со вступлением во владение в их феодах, плюс налоги сеньора, взимаемые с рынков или торговых маршрутов, плюс чрезвычайные сборы от Церкви, плюс доходы от королевской юстиции в форме штрафов и конфискаций. Естественно, эти фрагментированные и ограниченные доходы вскоре стали недостаточными даже для небольших правительственных обязанностей, характерных для средневековой политической системы. Конечно, можно было обратиться за кредитом к купцам и банкирам в городах, контролировавшим сравнительно большие резервы ликвидного капитала: это было первым и самым распространенным средством, к которому прибегали феодальные монархи, сталкивавшиеся с дефицитом доходов для осуществления государственных обязанностей. Однако заимствование лишь откладывало проблему, поскольку банкиры обычно требовали залога будущих королевских доходов для обеспечения своих кредитов.
Настоятельная и постоянная нужда получать значительные суммы сверх традиционных доходов приводила, таким образом, всех европейских монархов к необходимости к созыву, время от времени, «сословий» своего королевства для того, чтобы собрать налоги. Эти сословные собрания – «Штаты» – становились все более частыми и влиятельными, начиная с XIII в. в Западной Европе, когда задачи феодальных правительств все более усложнялись, и масштаб требуемых финансов соответственно увеличивался [43] . Они так никогда и не получили законодательной базы для регулярного созыва, независимого от воли правителя, и потому их периодичность в разных странах весьма различалась. Однако эти учреждения нельзя рассматривать как случайный или посторонний нарост на средневековом политическом теле. Напротив, они представляли собой механизм, который был неизбежным следствием структуры раннефеодального государства как такового. Именно потому, что политический и экономический порядок был вплавлен в цепь личных обязательств и долгов, никогда не существовал никакой легальной основы для общего налогообложения со стороны монарха помимо иерархии суверенов-посредников. В самом деле, удивительно, что сама идея всеобщего налогообложения – центральная для всего здания Римской империи – полностью отсутствовала во времена «темных веков» [44] . Таким образом, ни один феодальный король не мог по своему желанию назначить новый налог. Каждый правитель должен был получить «согласие» специально собиравшихся органов сословного представительства на налогообложение, в соответствии с юридическим принципом quod omnes tangit [45] . Важно, что большинство прямых общих налогов, которые постепенно вводились в Западной Европе с согласия средневековых парламентов, были впервые введены в Италии, где феодальный синтез в большой степени опирался на римское и городское наследие. Не только Церковь налагала общие налоги на верующих для осуществления крестовых походов; муниципальные правительства – компактные советы патрициев без инвеституры или стратификации рангов – не испытывали больших трудностей в установлении налогов на население своих городов, хотя и в меньшей степени на подчиненные contado. Коммуна Пизы имела даже налог на собственность. На Апеннинском полуострове также взималось множество непрямых налогов: монополия на соль или габелъ происходит с Сицилии. Вскоре пестрое фискальное полотно было соткано и в основных странах Западной Европы. Английские принцы в силу своего островного положения опирались в большей степени на таможенные пошлины, французы на акцизы и талью, а немцы на интенсификацию сборов. Эти налоги, однако, не были установлены постоянно. Они обычно оставались сборами по случаю вплоть до конца Средних веков, на всем протяжении которых лишь немногие сословные представительства уступили королям право устанавливать постоянное или всеобщее налогообложение без согласия своих подданных.
Социальное деление «подданных» было очевидным. «Сословия королевства» обычно состояли из дворянства, духовенства и городской буржуазии, и были либо так и организованы в трехкуриальную систему, либо в несколько отличавшуюся двухкуриальную (магнаты/немагнаты) [46] . Такие собрания были практически всеобщими в Западной Европе, за исключением Северной Италии, где плотность городского населения и отсутствие феодального сюзеренитета замедлило их появление: парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, ландтаги в Германии, кортесы в Кастилии или Португалии, риксдаг в Швеции и т. д. Помимо их существенной роли налоговых вентилей средневекового государства, эти органы сословного представительства выполняли другую критически важную функцию в феодальной политической системе. Они являлись коллективными институтами одного из глубочайших принципов феодальной иерархии, – обязанности вассала предоставлять не только auxilium, но и consilium своему лорду; другими словами, право подавать свой совет по серьезным делам, касающимся обеих сторон. Такие консультации вовсе не обязательно ослабляли средневекового правителя: в случае международного или внутриполитического кризиса они могли усилить его, предоставив важную поддержку. Вне частного ядра отношений индивидуального вассалитета, общественное приложение этой концепции было первоначально ограничено небольшим количеством магнатов-баронов, которые являлись главными держателями земель монарха, формировали его окружение и должны были консультировать его по важным государственным делам. С ростом влияния сословий в XIII в. в связи увеличением фискальных запросов, прерогативы баронов на консультации в ardua negotia regni (период тяжелых королевских забот) были постепенно расширены на эти новые ассамблеи и стали важной частью политических традиций благородного класса, который, конечно, всюду доминировал в сословно-представительных органах. «Ответвление» феодальной политии в позднее Средневековье в виде институтов сословного представительства, таким образом, не меняло отношений между монархией и дворянством в каком-то одном направлении. Эти институты были главным образом вызваны к жизни для расширения фискальной базы монархии, однако в процессе выполнения этой функции они также увеличили потенциальный коллективный контроль дворянства над последней. Они, следовательно, не могут рассматриваться ни как простая система сдержек, ни как инструменты королевской власти: скорее, они точно повторяли баланс между феодальным сюзереном и его вассалами в рамках более сложной и эффективной системы.
На практике созыв представителей сословий оставался спорадическим, а налоги, налагаемые монархией, относительно скромными. Важной причиной такого положения дел было то, что экстенсивно оплачиваемая бюрократия еще не поставила себя между монархией и дворянством. Королевское правительство на протяжении Средневековья опиралось на услуги очень большой церковной бюрократии, высший персонал которой мог посвятить себя на постоянной основе делам гражданской администрации без того, чтобы выставлять финансовый счет государству, так как он уже получал большое жалованье от независимого церковного аппарата. Высшее духовенство, которое век за веком поставляло высших администраторов феодальной политии – от Англии до Франции и Испании, – было, конечно, главным образом рекрутировано из благородного сословия, для которого доступ к постам епископов и аббатов составлял важную социальную и экономическую привилегию. Ступенчатая феодальная иерархия личной присяги и верности, корпоративные сословные ассамблеи, осуществляющие свое право голосования за налоги, и рассуждения о делах королевства, неформальный характер администрации, частично определяемый Церковью, верхний эшелон которой часто составляли магнаты, – все это формировало понятную и доступную политическую систему, привязывавшую аристократию к государству, с которым, несмотря на постоянные конфликты с отдельными монархами, она составляла единое целое.
Контраст между этой моделью отношений средневековых сословий с монархией и той, что появилась в начальный период абсолютизма Нового времени, вполне очевиден для сегодняшнего историка. Он был, естественно, не менее, а гораздо более очевиден для аристократии, которая жила в то время. Дело в том, что великая молчаливая сила, ставшая причиной структурной реорганизации власти феодального класса, была скрыта от них. Тип исторической причинности, который разрушал изначальное единство внеэкономической эксплуатации, лежавшей в основе всей социальной системы, расширяя производство товаров и обмен и вновь централизуя их на вершине, был не виден в их категориальной вселенной. Для многих представителей аристократии перемены означали новые возможности для удачи и славы, за которые они с жадностью ухватились; для многих других – бесчестье и крах, против которого они бунтовали; для большинства – продолжительный и трудный процесс адаптации и обращения, на протяжении жизни нескольких поколений, прежде чем гармония между их классом и государством была кое-как восстановлена. В ходе этого процесса позднефеодальная аристократия была вынуждена отказаться от старых традиций и приобрести многие новые умения [47] . Она должна была избавиться от частного вооруженного насилия, социальных моделей вассальной лояльности, экономических привычек наследственного безразличия, политических прав автономного представительства, и культурных атрибутов неграмотного невежества. Она должна была освоить новые занятия дисциплинированного офицера, грамотного чиновника, изысканного придворного и более-менее предусмотрительного владельца поместья. История западного абсолютизма в большой степени представляет собой историю медленного превращения землевладельческого правящего класса в необходимую форму своей собственной политической власти, несмотря на (и вопреки) большую часть его предыдущего опыта и инстинктов.
Ренессанс, таким образом, стал эпохой первой фазы консолидации абсолютизма, когда он был все еще сравнительно близок к предшествовавшей монархической модели. Сословия продолжали существовать во Франции, Кастилии или Нидерландах до середины века и процветали в Англии. Армии была сравнительно малы, в основном представляя собой наемные силы так называемого сезонного типа. Ими руководили лично аристократы, относившиеся к высшим магнатам своих королевств (Эссекс, Альба, Конде или Нассау). Великий секулярный бум XVI в., спровоцированный как быстрым демографическим ростом, так и появлением американского золота и торговли, облегчил кредит для европейских принцев и позволил увеличивать затраты без соответственного расширения фискальной системы, хотя в целом происходила интенсификация налогообложения: это был золотой век южногерманских финансистов. Бюрократическая администрация постепенно росла, но она обычно становилась добычей аристократических семей, соревновавшихся за политические привилегии и экономические прибыли, получаемые от должности, и возглавлявших паразитические клиентелы менее влиятельных дворян, которые проникали в государственный аппарат и формировали соперничающие сети патронажа: это была модернизированная версия позднесредневековой системы клиентов и их конфликтов. Фракционные раздоры между сильными семьями, каждая из которых имела в своем распоряжении сегмент государственной машины и часто солидную региональную базу в едва объединенной стране, постоянно выходили на первый план политической сцены [48] . В Англии смертельное соперничество между Дадли и Сеймурами и Лестерами и Сесилями, во Франции убийственная трехсторонняя война между Гизами, Монморенси и наследниками Бурбонов, в Испании жестокая закулисная борьба между группами Альба и Эболи задавали тон эпохе. Западные аристократы начали получать университетское образование и культурную подкованность, до того остававшуюся уделом духовенства [49] ; однако они еще ни в коем случае не были демилитаризованы в частной жизни, даже в Англии, не говоря о Франции, Италии или Испании. Правящие монархи обычно должны были принимать во внимание независимую силу своих магнатов и предлагать им должности, приличествовавшие их рангу: следы симметричной средневековой пирамиды были еще видны в подходах суверена. Только во второй половине века первые теоретики абсолютизма начали пропагандировать концепции божественного права, которые окончательно подняли королевскую власть над ограниченной и взаимной вассальной клятвой сюзеренов Средневековья. Боден был первым и наиболее скрупулезным из них. Однако XVI век завершился в крупных странах, нигде не создав законченной формы абсолютизма: даже в Испании Филипп II был бессилен отправить войска через границу Арагона без разрешения своих лордов.
В действительности же, сам термин «абсолютизм» неверен. Ни одна западная монархия никогда не получала абсолютную власть над своими подданными в значении неограниченного деспотизма [50] . Все были ограничены, даже на вершине своих прерогатив, комплексом концепций, определявших «божественное» или «естественное» право. Теория суверенитета, предложенная Боденом, доминировавшая в европейской мысли все столетие, выразительно воплощала эти противоречия абсолютизма. Ибо Боден был первым мыслителем, систематически и решительно порвавшим со средневековой концепцией власти как осуществления традиционного правосудия и сформулировал современную идею политической власти как суверенной способности создавать новые законы и налагать безусловную обязательность их исполнения. «Основным отличием суверенного величества и абсолютной власти является право налагать законы на подданных без их согласия. <…> Существует различие между правосудием и законом, поскольку одно всего лишь означает беспристрастность, тогда как другое означает управление. Закон есть не что иное, как осуществление сувереном его власти» [51] . И все же, провозглашая эти революционные аксиомы, Боден в то же время поддержал самые консервативные феодальные максимы, ограничивавшие базовые фискальные и экономические прерогативы правителей над своими подданными. «Ни один государь в мире не имеет права по собственной воле налагать налоги на свой народ, или произвольно отбирать товары у других, [поскольку] суверенный государь не может нарушать законы природы, установленные Богом – чьим представителем на Земле он является, и, следовательно, не может отбирать собственность у других без справедливой и обоснованной причины» [52] . Таким образом, страстное обоснование новой идеи о суверенитете сочеталось у Бодена с призывом возродить систему феодов для военной службы и утверждением ценностей сословного представительства: «Суверенитет монарха ни в коем случае не отвергается или умаляется существованием сословного представительства; напротив, его величество еще более велик и прославлен, когда его народ признает его как суверена, даже если в таких собраниях государи, не желающие восстановить против себя подданных, позволяют и соглашаются на такие вещи, на которые не согласились бы без просьбы, мольбы или жалобы народа…» [53] Ничто не раскрывает лучше настоящую природу абсолютной монархии в эпоху позднего Возрождения, чем это авторитетное мнение. Ибо практика абсолютизма соответствовала его теории, созданной Боденом. Ни одно абсолютистское государство не могло просто по воле монарха лишить свободы или земельной собственности дворянина или буржуа, как это делалось в современных им азиатских тираниях. Не могли они достичь и полной административной централизации или юридической унификации; корпоративный сепаратизм и региональная гетерогенность, унаследованная от Средневековья, была чертой старого режима вплоть до его окончательного свержения. Абсолютная монархия на Западе была, таким образом, ограниченной дважды: продолжавшими существовать традиционными политическими структурами под нею и присутствием всеобщего морального закона над ней. Другими словами, власть абсолютной монархии осуществлялась в границах класса, чьи интересы она обеспечивала. Острый конфликт между ними развернулся в следующем веке, когда монархия принялась разрушать семейные земельные владения аристократии. Однако надо понимать, что как по-настоящему абсолютная власть никогда не осуществлялась абсолютистскими государствами на Западе, так и борьба между этими государствами и аристократией не могла быть абсолютной. Социальное единство определяло место и временные рамки политических противоречий между ними. Они, однако, имели свое собственное историческое значение.
Следующие сто лет стали свидетелями полного установления абсолютистского государства, в век сельскохозяйственной и демографической депрессии и снижавшихся цен. Именно тогда в полной мере стали ощутимы результаты «военной революции». Армии быстро росли в размерах, становясь астрономически дорогими, в течение нескольких непрерывно расширявшихся войн. Военные операции Тилли не были более значительными, чем те, которыми командовал Альба; однако они выглядели карликовыми по сравнению с проводимыми Тюренном. Затраты на эти массивные военные машины спровоцировали острый кризис доходов абсолютистских государств. Налоговое давление на массы интенсифицировалось. Одновременно продажа государственных должностей и титулов стала центральной финансовой необходимостью для всех монархий и была систематизирована таким образом, которого не знало предыдущее столетие. Результатом стала интеграция растущего числа буржуа-парвеню в ряды государственных служащих, которые становились все более профессиональными, и реорганизация связей между аристократией и самим государственным аппаратом.
Продажа должностей была не просто экономическим изобретением для увеличения доходов, поступавших от имущих классов. Она также выполняла политическую функцию: делая приобретение бюрократической должности рыночной трансакцией и наделяя обладание ею правом наследования, продажа должностей блокировала формирование в государственной системе клиентелы магнатов, зависимой не от безличного денежного эквивалента, а от личных связей и престижа патрона и его дома. Ришелье в своем завещании подчеркнул критическую «стерилизующую» роль paulette в выведении административной системы из-под достижимости щупальцев аристократических родов, таких как дом Гизов. Конечно, один паразитизм был сменен другим: место патронажа заняла коррупция. Однако посредничество рынка было безопаснее для государства, чем посредничество магнатов: парижские финансовые синдикаты, дававшие займы государству, собиравшие налоги и покупавшие должности в XVII в., были куда менее опасны для французского абсолютизма, чем провинциальные династии XVI в., которые не только имели в распоряжении целые отделы королевской администрации, но и могли выставить собственные вооруженные силы. Усилившаяся бюрократизация должностей, в свою очередь, создавала новый тип управленцев, хотя и рекрутировавшихся из аристократии и ожидавших от своей должности обычной прибыли, однако проникнутых уважением к государству как таковому и намерением отстаивать его долговременные интересы перед лицом близоруких интриг амбициозных или недовольных вельмож. Таковы были аскетичные министры-реформаторы монархий XVII в., в основном гражданские служащие, не имевшие какой-либо автономной региональной или военной базы и управлявшие делами государства из своих кабинетов: Оксеншерна, Лод, Ришелье, Кольбер или Оливарес. (Дополнительным типажом в новую эпоху стал слабый близкий друг правящего суверена, valido, на которых Испания была такой щедрой, от Лермы до Годоя; Мазарини был странной смесью двух типов.) Именно это поколение расширило и кодифицировало практику двусторонней дипломатии XVI в., превратив ее в многостороннюю международную систему, основополагающим документом которой стал Вестфальский договор, а горнилом, в котором она была выкована, – масштабные войны XVII в.
Эскалация войны, бюрократизация должностей, интенсификация налогообложения, эрозия клиентел вели к одному и тому же результату: к окончательному исчезновению того, что в следующем столетии Монтескье ностальгически назовет «посредствующими властями» между монархией и народом. Другими словами, система сословий терпела неудачу по мере того, как классовая власть аристократии приняла форму центростремительной диктатуры, осуществлявшейся под королевскими знаменами. Реальная власть монархии как института, конечно, никоим образом не соответствовала власти монарха: суверен, который на самом деле управлял администрацией и проводил политику, был исключением из правила, хотя, по очевидным причинам, творческое единство и эффективность абсолютизма всегда достигали максимума, когда эти институты совпадали (как в случае Людовика XIV или Фридриха II). Наибольший расцвет и сила абсолютистского государства великого века (grand siecle) были с необходимостью связаны с подавлением традиционных прав и автономий благородного класса, бравших начало в средневековой децентрализации феодальной политики и освященных вековыми традициями и интересами. Последние Генеральные штаты перед революцией созывались во Франции в 1614 г.; последние кастильские Кортесы перед Наполеоном – в 1665; последний ландтаг в Баварии – в 1669; в то время как в Англии самый долгий перерыв в работе парламента продолжался с 1629 г. до начала гражданской войны. Эта эпоха была, таким образом, не только политическим и культурным апогеем абсолютизма, но и временем широко распространенного среди аристократии недовольства и отчуждения от него. Частные привилегии и традиционные права не отдавались без борьбы, особенно в период экономической рецессии и дорогого кредита.
XVII век на Западе был поэтому временем постоянно повторявшихся восстаний местной знати против абсолютистского государства; они часто смешивалась с недовольством юристов или купцов, а иногда аристократия даже использовала возмущение страдающих сельских или городских масс в качестве оружия против монархии [54] . Фронда во Франции, Каталонская республика в Испании, неаполитанская революция в Италии, восстание сословий в Богемии и «великий мятеж» в самой Англии в разной степени включали этот протест аристократии против консолидации абсолютизма [55] . Естественно, эта реакция никогда не становилась полномасштабной атакой аристократов на монархию, поскольку они были связаны классовой пуповиной; в том столетии не было и ни одного случая чисто аристократического мятежа. Характерной моделью был, скорее, локальный взрыв, в котором регионально ограниченная часть дворянства поднимала знамя аристократического сепаратизма, а уже к ней в общем восстании присоединялись недовольная городская буржуазия и толпы плебеев. Только в Англии, где капиталистический компонент мятежа перевешивал как в сельском, так и городском классах собственников, «великий мятеж» победил. В других странах, таких как Франция, Испания, Италия и Австрия, восстания, в которых доминировали или участвовали аристократы-сепаратисты, были подавлены, и власть абсолютизма восстановлена. Феодальный правящий класс не мог отказаться от достижений абсолютизма, выражавших глубокую историческую необходимость, проявлявшуюся на всем континенте, без того, чтобы поставить под сомнение свое собственное существование; на деле он никогда полностью не разделял цели восстаний. Однако региональный или частный характер этой борьбы не уменьшает ее значения: факторы местного автономизма просто концентрировали недовольство, рассеянное в разных кругах аристократии, и придавали им военно-политическую форму. Протесты в Бордо, Праге, Неаполе, Эдинбурге, Барселоне или Палермо имели гораздо более широкий резонанс. Их окончательное поражение было центральным эпизодом тяжелой работы всего класса в этом столетии, который медленно трансформировал себя, чтобы соответствовать новым, непривычным потребностям новой государственной власти. Ни один класс в истории сразу не воспринимал логику своего исторического положения в эпоху перехода: долгий период дезориентации и смятения был необходим для того, чтобы он выучил нужные правила собственного суверенитета. Западная аристократия в напряженную эпоху абсолютизма XVII в. не была исключением: она должна была приспособиться к резкой и неожиданной смене порядка управления.
Это объясняет очевидный парадокс траектории абсолютизма на Западе. Если XVII в. был полднем беспорядка и смятения в отношениях между аристократией и государством, то XVIII в. был, в сравнении с ним, золотым вечером их примирения и тишины. Превалировала новая стабильность и гармония, когда международная экономическая конъюнктура изменилась, и на большей части Европы установилось относительное процветание, а аристократия вновь обрела уверенность в своей способности управлять судьбами государства. Отполированная реаристократизация высшей бюрократии наступала в одной стране за другой, заставляя предшествовавшую эпоху выглядеть наполненной парвеню. Французское регентство и шведская олигархия шляп были наиболее яркими примерами этого феномена. Но он был заметен и в Испании Карла, и даже в Англии Георга или в Голландии эпохи париков, где буржуазные революции на самом деле сделали государство и доминирующий способ производства капиталистическими. В министрах государства, символизирующих этот период, не хватало творческой энергии и суровой силы их предшественников, но они жили в безмятежном мире с собственным классом. Флери или Шуазель, Энсенада или Аранда, Уолпол или Ньюкасл были репрезентативными фигурами той эпохи.
Цивилизованное поведение абсолютистского государства на Западе в эпоху Просвещения отражает эту модель: сокращение неумеренности и утончение техники, некоторое восприятие буржуазного влияния совмещались с общей потерей динамизма и творческих способностей. Крайние злоупотребления, связанные с продажей должностей были пресечены, и бюрократия стала соответственно менее коррумпированной; хотя ценой этого была система общественных займов для обеспечения эквивалентных доходов, заимствованная из наиболее развитых капиталистических стран, которая вскоре начала топить государство накопленными долгами. Меркантилизм по-прежнему проповедовался и практиковался, хотя новые «либеральные» экономические доктрины физиократов, защищавших свободу торговли и инвестиции в сельское хозяйство, ограниченно распространялись во Франции, Тоскане и других местах. Самым важным и интересным изменением в последнее столетие перед Французской революцией был, однако, феномен вне государства. Это было европейское распространение рестрикционизма (vincolismo) – лихорадочный поиск аристократией средств для защиты и консолидации большой земельной собственности перед дезинтеграционным давлением и превратностями капиталистического рынка [56] . Английская аристократия после 1689 г. была одной из первых, проложивших этот путь, изобретя «ограниченную передачу», запрещавшую владельцам земли отчуждать семейную собственность и вручавшую права только старшему сыну: две меры, придуманные для того, чтобы заморозить рынок земли в интересах аристократии. Вскоре, одна за другой, главные западные страны создали или улучшили свои собственные варианты закрепления земли за ее традиционными собственниками. Mayorazgo в Испании, morgado в Португалии , fideicommissum в Италии и Австрии и майорат в Германии выполняли одну и ту же функцию: сохранить в неприкосновенности огромные владения магнатов и большие латифундии перед угрозой их фрагментации или продажи на открытом коммерческом рынке [57] . Многое в восстановленной стабильности европейской аристократии XVIII в. было, несомненно, обязано экономическому фундаменту этих юридических изобретений. На деле, вероятно, в тот период среди правящего класса было гораздо меньше социальной текучести, чем в предыдущие эпохи, когда семьи и состояния росли и разрушались гораздо быстрее посреди политических и социальных потрясений [58] .
Именно на этом фоне космополитичная культура элиты двора и салона распространилась по Европе, типизированная новым доминированием французского языка в качестве международного языка дипломатического и интеллектуального дискурса. На деле, конечно, под внешним флером эта культура была гораздо глубже проникнута идеями поднимающейся буржуазии, уже нашедшими триумфальное выражение в Просвещении. Особый вес торгового и производящего капитала в большинстве западных общественных формаций поднимался на протяжении этого века, который стал свидетелем второй большой волны торговой и колониальной заморской экспансии. Однако он определял государственную политику только там, где буржуазные революции уже случились, и абсолютизм был свергнут, – в Англии и Голландии. В других местах самым впечатляющим признаком структурной связи позднефеодального государства с его финальной фазой была неизменность военных традиций. Реальная сила войск в основном сравнялась или немного упала в Западной Европе после Утрехтского мира: физический аппарат войны прекратил расширяться, во всяком случае на суше (на море – другое дело). Но частота войн и их центральное положение в международных отношениях не изменились серьезным образом. На деле, вероятно, больше территорий – классических объектов аристократической военной борьбы – поменяли хозяев за этот век, чем за любой из двух предшествовавших: среди трофеев были Силезия, Неаполь, Ломбардия, Бельгия, Сардиния и Польша. Война «функционировала» в этом смысле вплоть до конца старого режима. Типологически, конечно, кампании европейского абсолютизма были определенным развитием в рамках повторения. Общим детерминантом всех их было феодальное стремление к территории, характерной формой которого являлся династический конфликт начала XVI в. (борьба за Италию Габсбургов и Валуа). На сто лет (1550–1650 гг.) на это наложился религиозный конфликт между силами Реформации и Контрреформации, который никогда не инициировал, но часто обострял геополитическое соперничество и предлагал ему современный идеологический язык. Тридцатилетняя война была самой большой и последней из этих «смешанных» битв [59] . Ее быстро сменил первый из совершенно новых по типу военных конфликтов в Европе, который шел за другие цели и другими способами – англо-голландские торговые войны 1650-1660-х гг., в которых практически все сражения были морскими. Эта конфронтация, однако, ограничивалась двумя европейскими государствами, которые прошли через буржуазные революции, и была, таким образом, строго спором внутри капиталистической системы. Попытка перенять эти цели Кольбером во Франции привела к фиаско в 1670-е гг. Тем не менее, начиная с войны Аугсбургской лиги, торговля была практически всегда дополнительным фактором в главных европейских военных битвах за землю – хотя бы из-за участия в них Англии, чья географическая заморская экспансия была не только полностью торговой по характеру и чья цель была стать мировой колониальной монополией. Отсюда – гибридный характер последних войн XVIII в., в которых две разные эпохи и два разных типа конфликтов противостояли в странной, единой свалке и из которых наиболее ярким примером была Семилетняя война [60] . Это первая в истории война, которая велась по всему земному шару, хотя и в качестве второстепенного события для большинства участников, для которых Манила или Монреаль были перестрелками где-то в глуши по сравнению с Лейтеном или Кунерсдорфом. Ничто лучше не характеризует ослабевшую феодальную проницательность старого режима во Франции, чем его неспособность почувствовать реальные ставки в этих двойных войнах: вместе со своими соперниками он оставался до самого конца нацеленным на традиционную борьбу за землю.
3. Испания
Таков был общий характер абсолютизма на Западе. Однако государства, возникшие в разных странах ренессансной Европы, нельзя свести к единому чистому типу. Они демонстрировали разные варианты, которые имели решающее влияние на последующую историю этих стран, ощущаемое до наших дней. Поэтому обзор этих вариантов является необходимым дополнением к рассуждению об общей структуре западного абсолютизма. Испания, первая великая держава современной Европы, представляет собой логическую точку старта.
Подъем Габсбургской Испании был не просто одним из эпизодов в серии современных и эквивалентных опытов строительства государств в Западной Европе; он явился также дополнительным фактором в формировании всей серии как таковой. Таким образом, он занимает качественно отличное место в общем процессе «абсолютизации». Влияние и воздействие испанского абсолютизма было в прямом смысле «чрезмерным» по сравнению с другими западными монархиями того периода. Его влияние на международные дела было наиболее сильным фактором везде на континенте в связи с непропорциональным богатством и силой, находившимися в его распоряжении: историческая концентрация этих ресурсов в Испанском государстве не могла не повлиять на общую конфигурацию и развитие государственной системы Запада. Испанская монархия была обязана своим превосходством комбинации двух ресурсных комплексов, которые сами по себе являлись неожиданной проекцией обычных составных частей поднимавшегося абсолютизма на исключительный масштаб. С одной стороны, правящий дом получил больше выгод, чем любой другой в Европе от заключения династических браков. Связи семейства Габсбургов привели Испанское государство к таким территориальным приобретениям и влиянию в Европе, с которыми не могла тягаться ни одна соперничавшая монархия, являя собой высший пример феодального механизма политической экспансии. С другой стороны, колониальное завоевание Нового Света снабдило ее сверхизобилием драгоценных металлов, создав казну, превосходившую пределы возможного для любого из соперников. Организованное и управлявшееся старыми сеньориальными структурами разграбление обеих Америк было в то же время и самым впечатляющим актом первоначального накопления европейского капитала в эпоху Возрождения. Испанский абсолютизм, таким образом, приобретал силу как в результате феодального расширения в Европе, так и от извлекаемого заморского капитала. Конечно же, никогда не возникал вопрос о том, каким социальным и экономическим интересам служил политический аппарат испанской монархии. Ни одно другое абсолютистское государство в Западной Европе не было настолько аристократичным по своему характеру или таким враждебным буржуазному развитию. Само везение, отдавшее ему контроль над шахтами в Америке, с их примитивной, но выгодной экономикой добычи, отбило желание способствовать росту мануфактур или заботиться о распространении торговых предприятий в рамках своей европейской империи. Вместо этого оно обрушивалось всем своим весом на самые активные коммерческие общества континента и, одновременно, угрожало всем остальным в цикле межаристократических войн, которые продолжались 150 лет. Испанская мощь задушила жизненную силу городов Северной Италии и сокрушила процветающие города половины Нидерландов – две самые развитые зоны европейской экономики на рубеже XVI в. Голландия в конечном счете избежала ее контроля в долгой борьбе за буржуазную независимость. В тот же самый период Испания поглотила королевства Южной Италии и Португалию. Франция и Англия подвергались испанским атакам, а княжества Германии – неоднократным набегам кастильских терций. В то время как испанские флоты бороздили Атлантику или патрулировали Средиземноморье, испанские армии маршировали по большей части Западной Европы: от Антверпена до Палермо и от Регенсбурга до Кинсейла. Угроза доминирования Габсбургов, однако, в конце концов ускорила реакцию и укрепила защиту династий, выстроенную против них. Приоритет Испании отвел Габсбургской монархии системообразующую роль в западном абсолютизме. Однако он также, как мы увидим, критически ограничил возможности самого испанского абсолютизма внутри системы, которую он помог создать.
* * *
Испанский абсолютизм был рожден от союза Кастилии и Арагона, созданного свадьбой Изабеллы I и Фердинанда II в 1469 г. Он опирался на прочный экономический фундамент. Во времена дефицита рабочей силы, ставшего результатом общего кризиса западного феодализма, все больше регионов Кастилии начали развивать прибыльную шерстяную экономику, которая сделала ее «Австралией Средневековья» [61] и главным партнером фламандской торговли; Арагон же к тому времени был одной из ведущих территориальных и торговых держав Средиземноморья, контролировавшей Сицилию и Сардинию. Политический и военный динамизм нового дуалистического государства был вскоре проявлен в драматической серии широких внешних завоеваний. Последний оплот мавров – Гранада – был разрушен, и Реконкиста завершена; Неаполь аннексирован; Наварра поглощена; и, сверх всего, была открыта и подчинена Америка. Семейство Габсбургов вскоре присоединило к своим владениям Милан, Франш-Конте и Нидерланды. Эта внезапная лавина успехов сделала Испанию первой державой Европы на весь XVI в., вознеся ее на такое положение, которого ни один континентальный абсолютизм так и не смог впоследствии достичь. И все же государство, руководившее этой обширной империей, было само по себе ветхой конструкцией, объединенной единственно персоной монарха. Испанский абсолютизм, внушавший трепет северным протестантам за границей, был в действительности чрезвычайно мягким и ограниченным в своем домашнем варианте. Его внутренние связи были необычайно свободными. Причины этого парадокса надо, бесспорно, искать в любопытных треугольных отношениях между американской империей, европейской империей и Иберийской метрополией.
Составные королевства Кастилии и Арагона, объединенные Фердинандом и Изабеллой, представляли собой чрезвычайно разнородную основу для конструирования новой испанской монархии в конце XV в. Кастилия была страной, в которой существовала аристократия, обладавшая огромными владениями, и сильные военные ордены; там также существовало множество городов, хотя – и это важно – не было еще определенной столицы. Кастильская аристократия отобрала значительную аграрную собственность у монархии во время гражданских войн позднего Средневековья; 2–3% населения теперь контролировали около 97 % земель, более половины которых, в свою очередь, принадлежали немногим семействам магнатов, возвышавшимся над многочисленным дворянством идальго [62] . Выращивание зерна в этих огромных поместьях постепенно уступило место разведению овец. Шерстяной бум, ставший источником богатства многих аристократических домов, стимулировал в то же время рост городов и внешнюю торговлю. Кастильские города и кантабрийское судоходство выиграли от процветания пасторальной экономики позднесредневековой Испании, связанной комплексной коммерческой системой с текстильной промышленностью Фландрии. Таким образом, с самого начала экономические и демографические особенности Кастилии в Союзе давали ей преимущество: с населением численностью примерно 5–7 миллионов и оживленной заморской торговлей с Северной Европой, она легко становилась доминирующим государством на полуострове. Политически ее государственное устройство было любопытным образом не определено. Кастилия-Леон – одно из первых средневековых королевств в Европе, в котором в XIII в. развилась система сословий; тогда как к середине XV в. фактическое господство аристократии над монархией имело большие перспективы. Однако власть позднесредневековой аристократии не приобрела никакой юридической формы. Кортесы фактически оставались ассамблеей, созывавшейся по случаю и с неопределенными полномочиями; вероятно, из-за мигрирующего характера кастильского королевства, которое сдвигалось на юг и по мере этого перетасовывало свою общественную модель, там так и не возникло твердой и фиксированной институциализации системы сословий. Таким образом, созыв и состав кортесов был предметом произвольного решения монархии, в результате чего сессии созывались нерегулярно, а постоянная трехкуриальная система по-прежнему отсутствовала. С одной стороны, кортесы не имели полномочий инициировать законодательство, с другой – аристократия и духовенство сохраняли фискальный иммунитет. В результате возникла система сословного представительства, в которой только города должны были платить налоги, за которые проголосовали кортесы. Аристократия, таким образом, не имела прямой экономической заинтересованности в своем участии в кастильском сословном представительстве, которая была сравнительно слабым и изолированным институтом. Аристократический корпоративизм находил выражение в богатых и грозных военных орденах (Калатрава, Алькантара и Сантьяго), созданных крестоносцами; однако им по самой природе не хватало коллективной власти благородного сословия.
Экономический и политический характер королевства Арагон [63] находился в резком контрасте с вышеописанным. Внутренние области Арагона прятали наиболее репрессивную сеньориальную систему на Иберийском полуострове; местная аристократия пользовалась всем спектром феодальной власти в бесплодной сельской местности, в которой все еще существовало крепостное право и крестьяне- мориски возделывали ее для своих хозяев-христиан. Каталония, с другой стороны, традиционно была центром торговой империи на Средиземном море: Барселона была крупнейшим городом средневековой Испании, и ее городской патрициат был богатейшим коммерческим классом в регионе. Каталонское процветание, однако, серьезно пострадало во времена долгой феодальной депрессии. Эпидемии XIV в. ударили по княжеству с особой жестокостью, возвращаясь снова и снова после «черной смерти», уничтожая население, сократившееся в 1365–1497 гг. более чем на треть [64] . Коммерческие банкротства дополнялись агрессивной конкуренцией со стороны Генуи в Средиземноморье, в то время как мелкие торговцы и ремесленные гильдии бунтовали против городских патрициев. В сельской местности крестьянство взбунтовалось, чтобы сбросить «дурные традиции» и захватить обезлюдевшие земли в ходе восстаний ременсов в XV в. Наконец, гражданская война между монархией и аристократией, затянувшая в свой водоворот другие социальные группы, еще более ослабила каталонскую экономику. Ее заморские базы в Италии остались, однако, нетронутыми. Валенсия, третья провинция королевства, находилась в социальной плане посередине между Арагоном и Каталонией. Аристократия эксплуатировала труд морисков; торговое сообщество расширялось на протяжении XV в., когда финансовое господство распространялось вниз по побережью от Барселоны. Рост Валенсии, тем не менее, не был достаточной компенсацией за упадок Каталонии. Экономическое неравенство между двумя королевствами союза, созданного браком Фердинанда и Изабеллы, очевидно из того факта, что население трех провинций Арагона, вместе взятых, составляло, вероятно, около 1 миллиона человек – по сравнению с 5–7 миллионами кастильцев. Политический контраст между двумя королевствами был не менее впечатляющим. Арагон обладал, вероятно, самой сложной и укрепленной системой сословного представительства в Европе. Все три провинции (Каталония, Валенсия и Арагон) имели собственные отдельные кортесы. В каждой существовали, в дополнение к ним, специальные наблюдательные институты постоянного юридического контроля и экономического управления, исходящего от кортесов. Каталонский Diputacio – постоянный комитет кортесов – являлся наиболее эффективным примером. Более того, кортесы должны были по статусу собираться через регулярные интервалы и требовали единогласия – изобретение уникальное для Западной Европы. Арагонские кортесы сами содержали проработанную четырехкуриальную систему, включавшую магнатов, духовенство, дворянство и бюргеров [65] . В целом этот комплекс средневековых «свобод» создавал чрезвычайно трудную перспективу для создания централизованного абсолютизма. Институциональная асимметрия порядков в Кастилии и Арагоне предопределила все последующее развитие испанской монархии.
Понятно, что Фердинанд и Изабелла выбрали курс на концентрацию и создание непоколебимой королевской власти в Кастилии, где условия для этого были наиболее подходящими. Арагон представлял гораздо более труднопреодолимые препятствия для создания централизованного государства и гораздо менее прибыльную перспективу экономической фискализации. В Кастилии проживало в 5–6 раз больше людей, и их большее богатство не было защищено никакими сравнимыми конституционными барьерами. Поэтому два монарха приступили к методичному выполнению программы ее административной реорганизации. Военные ордены были обезглавлены, а их обширные земли и доходы изъяты. Баронские замки были разрушены, маркграфы изгнаны, и частные войны запрещены. Муниципальная автономия городов была ликвидирована путем назначения коррехидоров для управления ими; королевская юстиция была усилена и расширена. Контроль над доходами Церкви был передан государству, а местный церковный аппарат лишен прямого выхода на Папский престол. Кортесы были постепенно приручены, когда после 1480 г. аристократия и духовенство просто перестали приглашаться на их заседания. Поскольку главным поводом для их созыва было поднятие налогов для финансирования военных расходов (прежде всего на Гранадскую и Итальянскую войны), от которых первые два сословия были избавлены, у них не было причин протестовать против своего исключения. Налоговые поступления выросли впечатляюще: кастильские доходы поднялись с примерно 900 тысяч реалов в 1474 г. до 26 миллионов в 1504 г. [66] Королевский совет был реформирован и избавлен от влияния магнатов; новый орган был заполнен юристами-бюрократами или летрадос, рекрутированными из мелкопоместного дворянства. Профессиональные секретари, работавшие напрямую с монархами, руководили повседневными делами. Другими словами, кастильская государственная машина была рационализирована и модернизирована. Однако новая монархия никогда не противопоставляла ее классу аристократии в целом. Высшие дипломатические и военные должности были всегда зарезервированы за магнатами, которые оставались вице-королями и губернаторами, в то время как дворяне низших рангов заполняли должности коррехидоров. Королевские владения, захваченные после 1454 г., были возвращены монархии, однако большинство тех, что были присвоены ранее, остались в руках аристократии; новые поместья в Гранаде прибавились к их владениям, и был подтвержден mayorazgo, закреплявший неприкосновенность сельскохозяйственной собственности. Более того, широкие привилегии были предоставлены сельским интересам шерстяного картеля Места, в котором доминировали южные латифундисты; в то время как дискриминационные меры против зернового производства в итоге закрепили розничные цены на зерно. В городах удушающая система гильдий была навязана новорожденной городской промышленности, а религиозные преследования новообращенных ( converses ) привели к исходу еврейского капитала. Все эти политические меры проводились в Кастилии с большой энергией и решимостью.
В Арагоне, с другой стороны, не было предпринято даже попыток осуществить политическую программу сравнимых масштабов. Здесь, напротив, самым большим достижением Фердинанда, было общественное примирение и восстановление позднесредневекового государственного устройства. Крестьяне ременса получили в конце концов свободу от крепостных повинностей в «Гвадалупской сентенции» 1486 г., что уменьшило недовольство в деревне. Доступ в каталонскую Diputacio был расширен путем введения жеребьевки. Во всем остальном правление Фердинанда однозначно подтвердило отдельную идентичность Восточного королевства: каталонские свободы были в полном объеме признаны в Observanca 1481 г., и дополнительные меры защиты от королевского вмешательства были добавлены к уже существовавшему арсеналу противостояния любой форме монархической централизации. Редко бывавший в родной стране Фердинанд назначил вице-королей во все три провинции для осуществления власти и создал Совет Арагона, в основном размещавшийся в Кастилии, для общения с ними. В результате Арагон был предоставлен своим собственным механизмам управления; даже производители шерсти – всемогущие на другом берегу Эбро – не смогли получить санкцию на перегон овец через его сельскохозяйственные земли. Поскольку Фердинанд был обязан торжественно подтвердить все его привилегии, не возникало и вопроса об административном объединении Арагона и Кастилии. Католические величества не только не создали по-настоящему единого королевства, но и не смогли даже ввести общую денежную единицу [67] , не говоря уже об общей налоговой или правовой системе в своих королевствах. Инквизицию – уникальный для Европы феномен – надо рассматривать именно в этом контексте: она была единственным объединенным «испанским» институтом на полуострове, перегруженным идеологическим аппаратом, компенсировавшим административное разделение и рассредоточение государства.
Восшествие на престол Карла V осложнило, но не изменило заметным образом эту модель; пожалуй, оно лишь подчеркнуло ее. Непосредственным результатом прихода суверена-Габсбурга стал новый и очень космополитичный двор, в котором доминировали фламандцы, бургундцы и итальянцы. Финансовое вымогательство нового режима вскоре спровоцировало волну интенсивной народной ксенофобии в Кастилии. Отъезд самого монарха в Северную Европу стал сигналом к широкому городскому мятежу против того, что ощущалось как узурпация иностранцами кастильских ресурсов и позиций. Восстание коммунеро в 1520–1521 гг. получило первоначальную поддержку от многих городских аристократов и апеллировало к традиционному набору конституционных требований. Однако его движущей силой были массы ремесленников в городах, а его лидерами – представители городской буржуазии северной и центральной Кастилии, торговые и мануфактурные центры которой испытали экономический бум в предшествовавший период [68] . Они почти не нашли поддержки в сельской местности, ни среди крестьян, ни среди сельской аристократии; движение серьезно не повлияло на регионы, где города были немногочисленными или слабыми, – Галицию, Андалузию, Эстремадуру или Гвадалахару. «Федеративная» или «протонациональная» программа революционной Хунты, созданной кастильскими коммунами во время восстания, выдавала его как мятеж третьего сословия [69] . Его разгром королевскими армиями, которые поддержала аристократия, как только радикализм восставших стал очевиден, был критически важным шагом на пути к консолидации испанского абсолютизма. Подавление восстания коммунеро практически уничтожило последние остатки договорной конституции в Кастилии и приговорило кортесы – для которых коммунеро требовали регулярного созыва раз в три года – к небытию. Значительно важным, однако, был факт, что наиболее серьезной победой Испанской монархии над организованным сопротивлением королевскому абсолютизму в Кастилии – вернее, его единственным настоящим военным противостоянием оппозиции в этом королевстве – был военный разгром городов, а не аристократии. Нигде больше в Западной Европе ничего подобного с новорожденным абсолютизмом не произошло: обычной моделью было подавление аристократического, а не буржуазного сопротивления, даже в тех случаях, когда они тесно переплетались. Триумфальная победа над кастильскими коммунами в самом начале существования испанской монархии предопределила отличие ее дальнейшего пути от других западных стран.
Самым впечатляющим достижением времен правления Карла V было, конечно же, значительное расширение международной орбиты Габсбургов. В Европе к наследственным землям правителей Испании отошли Нидерланды, Франш-Конте и Милан, в то время как в Америке были завоеваны Мексика и Перу. В течение всей жизни императора вся Германия была театром военных действий из-за этих наследственных владений. Территориальная экспансия усилила стремление молодого абсолютистского государства в Испании к передаче управления разными династическими владениями отдельным советам и вице-королям. Канцлер Карла V пьемонтец Меркурио Гаттинара, вдохновленный универсалистскими идеями Эразма, боролся за создание более компактной и эффективной исполнительной власти для громоздкой империи Габсбургов, создав для нее унитарные институты министерского типа – Совет финансов, Военный совет и Государственный совет (последний теоретически должен был стать вершиной всего имперского здания), отвечавший за все регионы империи. Их поддерживал растущий постоянный секретариат гражданских служащих в распоряжении монарха. В то же самое время постепенно формировалась новая серия территориальных советов, причем сам Гаттинара создал первый из них для управления Индиями. К концу века существовало уже не менее шести таких региональных Советов: для Арагона, Кастилии, Индий, Италии, Португалии и Фландрии. Кроме Кастильского, ни один из них не был в достаточной степени укомплектованным местными чиновниками, и вся административная работа была доверена вице-королям, которых издалека контролировали и которыми, часто неумело, управляли эти Советы [70] . Власть вице-королей была, в свою очередь, очень ограниченна. Только в Америке у них в подчинении была собственная бюрократия, но зато коллегии судей ( audiences) отобрали у вице-королей судебную власть, которой они пользовались в других регионах; в то же время в Европе им надо было договариваться с местной аристократией (сицилийской, валенсианской или неаполитанской), которая обычно претендовала на монополию на занятие публичных должностей. В результате любая настоящая унификация как в рамках огромной империи, так и на самом Иберийском полуострове была заблокирована. Америки были юридически прикреплены к королевству Кастилия, Южная Италия – к Арагону. Атлантическая и средиземноморская экономика не встречались в рамках одной коммерческой системы. Разделение между двумя оригинальными королевствами Союза внутри Испании было на практике усилено заморскими владениями теперь присоединенными к ним. Для юридических целей Каталония могла бы быть просто приравнена по статусу к Сицилии или Нидерландам. В самом деле, к XVII в. власть Мадрида в Неаполе или Милане была выше, чем в Барселоне или Сарагосе. Само разрастание Габсбургской империи, таким образом, переросло ее способности к интеграции и предотвратило процесс административной централизации в самой Испании [71] .
В то же время правление Карла V дало старт роковой последовательности европейских войн, которые стали ценой испанского господства на континенте. На южном театре своих бесчисленных кампаний Карл достиг ошеломляющего успеха: именно в то время Италия стала управляться испанцами, Франция была изгнана с полуострова, Папский престол запуган, а турецкая угроза отброшена. С того времени самое развитое городское общество в Европе стало военной базой испанского абсолютизма. На северном театре своих военных действий, однако, император зашел в дорогостоящий тупик: Реформация осталась непобежденной в Германии, несмотря на повторявшиеся попытки сокрушить ее, а наследственные враги Валуа пережили все поражения Франции. Более того, финансовое бремя постоянной войны на Севере серьезно деформировало традиционную лояльность Нидерландов к концу правления Карла, подготовив несчастья, которые ожидали в Нижних Землях Филиппа II. Размеры и стоимость армий Габсбургов постоянно и стремительно росли на протяжении всего правления Карла V. До 1529 г., испанские войска в Италии никогда не насчитывали более 30 тысяч человек, в 1536–1537 гг на войну с Францией было мобилизовано 60 тысяч солдат, к 1552 г. под командой императора находилось уже, вероятно, 150 тысяч человек [72] . Финансовые заимствования и налоговый пресс выросли соответственно: доходы Карла V утроились ко времени его отречения в 1556 г. [73] , однако королевские долги были настолько внушительными, что через год его наследником было объявлено банкротство государства. Испанская империя в Старом Свете, унаследованная Филиппом II, всегда административно разделенная, становилась экономически несостоятельной к середине века: именно Новый Свет обновил ее казну и продлил ее раскол.
Начиная с 1560-х гг. влияние американской империи на испанский абсолютизм все более определяло ее будущее, хотя важно не смешивать разные уровни, на которых этот эффект работал. Открытие рудников в Потоси чрезвычайно увеличило поток колониального золота в Севилью. Поставка большого количества серебра из обеих Америк, начиная с этого времени, стало решающим ресурсом (facility) испанского государства. Она обеспечила испанский абсолютизм изобильным и постоянным чрезвычайным доходом, выходившим за рамки обычного дохода европейских государств. Это означает, что абсолютизм в Испании мог долгое время продолжать обходиться без медленной налоговой и административной унификации, которая была предварительным условием абсолютизма в других странах. Упрямое непокорство Арагона компенсировалось безграничным согласием Перу. Колонии, другими словами, работали структурными заместителями провинций, в политической системе, где традиционные провинции были замещены автаркическими вотчинами. Ничто сильнее не иллюстрирует это положение, чем совершенное отсутствие сколько-нибудь пропорционального вклада в испанские военные усилия в Европе в конце XVI–XVII в. со стороны Арагона и даже Италии. Кастилия вынуждена была нести бремя налогов на бесконечные военные кампании за рубежом практически в одиночку: за ней, буквальным образом, лежали рудники Индий. Общая доля американской дани в испанском имперском бюджете была, конечно, намного меньше, чем в то время предполагали завистники: в разгар плавания «золотых кораблей», колониальное золото составляло всего лишь около 20–25 % доходов [74] . Большую часть остальных доходов Филиппа II доставляли домашние кастильские налоги: традиционный налог с продаж ( алькабала ), особые servicio, налагаемые на бедных, cruzada, собираемая с санкции Церкви с духовенства и мирян, облигации (juros ), продававшиеся богатым. Американские драгоценные металлы, однако, играли свою роль в поддержании налоговой базы государства Габсбургов. Чрезвычайно высокий уровень налогов следующих правлений, косвенно поддержанный частным переводом золота в Кастилию, объем которого был в среднем вдвое выше, чем от общественных доходов [75] ; заметный успех juros как изобретения для изъятия финансов (первое широко распространенное использование таких облигаций абсолютной монархией в Европе) частично объяснялось его способностью открыть этот новый денежный кран. Более того, колониальный рост королевских доходов сам по себе был достаточно убедительным, чтобы влиять на испанскую внешнюю политику и на природу испанского государства. Доходы прибывали в виде звонкой монеты, которую можно было сразу пустить на финансирование движения войск или дипломатические маневры в Европе; они же давали Габсбургам возможность получать такие кредиты на международном финансовом рынке, о которых не мог мечтать ни один другой правитель [76] . Огромные военные и морские операции, которые осуществлял Филипп II, от Ла-Манша до Эгейского моря и от Туниса до Антверпена стали возможными только благодаря чрезвычайной финансовой гибкости, обеспеченной американскими доходами.
В то же самое время влияние американских драгоценных металлов на испанскую экономику, в отличие от ее влияния на кастильское государство, было не менее важным, хотя и в ином отношении. В первой половине XVI в. умеренный уровень их поставки (с большей долей золота) предоставлял стимулы для кастильского экспорта, быстро откликнувшегося на инфляцию, вызванную появлением колониальных сокровищ. Поскольку 60–70 % этого золота, которое не попадало прямиком в королевский кошелек, надо было покупать как обычный товар у местных американских предпринимателей, торговля с колониями, особенно текстилем и вином, бурно развивалась, Монопольный контроль над этим захваченным рынком первоначально приносил прибыль кастильским производителям, которые могли торговать на нем по инфляционным ценам, хотя потребители на родине вскоре стали громко роптать на выросшую стоимость жизни [77] . Однако для кастильской экономики в целом в этом процессе было два фатальных поворота. Сначала выросший колониальный спрос привел к дальнейшему переводу земель с производства зерновых на вино и оливки. Это усилило уже катастрофическую тенденцию, поощрявшуюся монархией, к сокращению производства пшеницы за счет шерсти: испанская шерстяная промышленность, в отличие от английской, была не фермерской, а перегонной, а потому чрезвычайно разрушительной для обрабатываемой земли. В результате этого двойного давления Испания стала главным импортером зерна к 1570-м гг. Структура кастильского сельского общества уже к этому времени была не похожа ни на одну другую страну в Западной Европе. Зависимые держатели и крестьяне были меньшинством в сельской местности. В XVI в. более половины сельского населения Новой Кастилии (вероятно, 60–70 %) были сельскохозяйственными рабочими или jornaleros [78] , а в Андалузии их доля была, видимо, еще выше. Деревни страдали от массовой безработицы и тяжелой феодальной ренты на землях сеньора. Самым поразительным фактом было то, что испанские переписи 1571 и 1586 гг. показывают нам общество, в котором лишь около 1⁄3 мужского населения занято в сельском хозяйстве; тогда как не менее чем 2⁄5 вообще не принимают прямого участия в производстве, создавая преждевременный и раздутый «третичный сектор» абсолютистской Испании, который предопределил будущий вековой застой [79] . Но общий ущерб, нанесенный колониальными доходами, не был ограничен сельским хозяйством, доминирующей отраслью производства того времени, ибо ввоз золотых слитков из Нового Света был также причиной паразитизма, который во всевозрастающей степени иссушал и задерживал развитие отечественных мануфактур. Ускоренная инфляция увеличивала стоимость производства текстильной промышленности, функционировавшей в рамках очень жестких технических ограничений, до того момента, когда кастильская одежда была вытеснена как с отечественного, так и с колониального рынка. Голландские и английские контрабандисты начали снимать сливки с американского спроса, а более дешевые иностранные товары завоевали саму Кастилию. Кастильский текстиль пал к концу века жертвой боливийского серебра. Тогда поднялся крик: Espana son las Indias del extraniero!: Испания стала Америкой в Европе, колониальной свалкой для иностранных товаров. Таким образом, как сокрушалось множество современников, и аграрная, и городская экономики сгорели в конце концов в пламени американских сокровищ, [80] . Производительный потенциал Кастилии был подорван той самой империей, которая закачивала ресурсы в военный аппарат государства для беспрецедентных авантюр за рубежом.
И все же существовала связь между двумя этими эффектами. Если американская империя несла гибель испанской экономике, то именно европейская империя разрушила государство Габсбургов и первая сделала продолжительную борьбу за вторую финансово возможной. Без золотых поступлений в Севилью колоссальные военные усилия Филиппа II были бы немыслимы. Однако именно эти усилия уничтожили изначальную структуру испанского абсолютизма. Долгое правление Благоразумного короля, занявшее всю вторую половину XVI в., не было само по себе однообразным перечнем внешнеполитических неудач, несмотря на огромные расходы и изнурительные неудачи на международной арене. Его основная схема была, наделе, неотличима от той, что преследовала Карла V: успех на Юге, поражение на Севере. В Средиземноморье турецкая военно-морская экспансия была окончательно остановлена в сражении при Лепанто в 1571 г., победа, которая с тех пор ограничила действия оттоманского флота домашними водами. Португалия была мягко включена в Габсбургский блок путем династической дипломатии: ее включение в империю повлекло за собой присоединение многочисленных лузитанских владений в Азии, Африке и Америке к испанским колониям в Индиях. Собственные испанские имперские владения были расширены завоеванием Филиппин на Тихом океане – с точки зрения логистики и культуры самая дерзкая колонизация своего века. Военный аппарат испанского государства постепенно оттачивал навыки и эффективность, так что его система организации и снабжения стала самой передовой в Европе. Традиционное желание кастильских идальго служить в терциях укрепляло ее пехотные полки [81] , в то время как итальянские и валлонские провинции были надежным источником солдат, если не налогов, для международной политики Габсбургов; важно, что многонациональный контингент габсбургских армий сражался лучше на чужой земле, чем на родной, и сама его разнородность позволяла гораздо в меньшей степени полагаться на внешних наемников. Впервые в современной Европе большие постоянные армии успешно содержались на большом расстоянии от имперской родины на протяжении десятилетий. Начиная с прибытия Альбы и до самого окончания Восьмидесятилетней войны с голландцами [82] армия Фландрии насчитывала в среднем 65 тысяч человек– беспрецедентное достижение [83] . С другой стороны, постоянное размещение этих войск в Нидерландах создало само поменяло ход истории. Голландия, роптавшая от недовольства из-за непомерных налогов и религиозных преследований Карла V, взорвалась, сотворив первую буржуазную революцию в истории, в результате давления Тридентского централизма Филиппа II. Мятеж Нидерландов представлял собой прямую угрозу жизненным испанским интересам, поскольку две экономики, близко связанные со времен Средневековья, в значительной степени взаимно дополняли друг друга: Испания экспортировала шерсть и золото в Нижние земли, и импортировала текстиль, металлические изделия, зерно и шкиперские инструменты. Более того, Фландрия обеспечивала стратегическое окружение Франции и была, таким образом, осью габсбургского международного господства. И все же, несмотря на огромные усилия, испанская военная мощь оказалась неспособной сломить сопротивление Соединенных Провинций. Более того, вооруженное вмешательство Филиппа II в религиозные войны во Франции и его морская атака на Англию – две попытки расширения первоначального театра военных действий во Фландрии – были отбиты: гибель Армады и восхождение на трон Генриха IV стали знаком двойного поражения его политики на Севере. И все же международный баланс к концу его правления все еще очевидно внушительно склонялся в сторону Испании – опасным образом для его преемников, которым он завещал ощущение неуменьшенной континентальной мощи. Южные Нидерланды были отвоеваны и укреплены. Лузитано-Испанский флот был быстро восстановлен после 1588 г. и успешно отбивал английские нападения на маршруты атлантического золота. Французская монархия отказалась наконец от протестантизма.
Дома, однако, наследие Филиппа II на рубеже XVII в. было более мрачным. Кастилия теперь впервые имела постоянную столицу в Мадриде, где размещалось центральное правительство. Совет государства, в котором доминировали магнаты, рассматривавшие важнейшие вопросы политики, получил противовес в виде королевского секретариата, где исполнительные юристы-функционеры обеспечивали монарха-бюрократа понятными ему инструментами управления. Административная унификация династических владений, однако, не была последовательной. Абсолютистские реформы проводились в Нидерландах, где они привели к разгрому, и в Италии, где они добились умеренного успеха. На самом Иберийском полуострове, по контрасту, не предпринималось даже никаких попыток в этом направлении. Португальская конституционная и правовая автономия скрупулезно уважалась; кастильское вмешательство не нарушало традиционных порядков западного королевства. В восточных провинциях арагонский партикуляризм провоцировал короля, вооруженным путем защищая его беглого секретаря Антонио Переса от королевской юстиции: в 1591 г. армия подавила этот вопиющий мятеж, но Филипп воздержался от постоянной оккупации Арагона или от серьезного изменения его конституции [84] . Шанс на централизацию был сознательно отвергнут. Между тем экономическое положение как страны, так и монархии к концу века ухудшалось угрожающим образом. Поставки серебра в 1590–1600 гг. достигли рекордных уровней, но военные расходы выросли к этому времени так сильно, что в Кастилии был введен новый налог на потребление, главным образом на продукты питания ( millones ), который с тех пор стал тяжелейшим бременем для рабочей бедноты на селе и в городах. Общие доходы Филиппа II выросли к концу его правления более чем в 4 раза [85] ; несмотря на это, в 1596 г. его настигло банкротство. Три года спустя ужаснейшая чума той эпохи накрыла Испанию, истребив значительную часть населения полуострова.
За воцарением Филиппа III последовало заключение мира с Англией (1604), еще одно банкротство (1697), а затем вынужденное перемирие с Голландией (1609). При новом дворе доминировал валенсийский аристократ Лерма, легкомысленный и продажный privado (фаворит), пользовавшийся личным влиянием на короля. Мир принес с собой расточительство придворных и умножение почестей; прежний секретариат лишился политического влияния, в то время как кастильская аристократия снова сосредоточилась в центре государства. Два государственных решения Лермы стоят того, чтобы о них вспомнить, – это систематическое использование девальвации для решения проблемы королевских финансов путем наводнения страны неполноценными медными веллонами и массовое изгнание морисков из Испании, которое ослабило сельскую экономику Арагона и Валенсии и неизбежным результатом которого стал рост цен и дефицит рабочей силы. В долгосрочном плане, однако, гораздо более тяжелым был тихий сдвиг, случившийся в торговых отношениях между Испанией и Америкой. Начиная примерно с 1600 г. американские колонии становились все более экономически самостоятельными и не нуждались в первичных товарах, которые они традиционно импортировали из Испании, – зерне, масле и вине; грубую ткань теперь тоже начали производить на месте; быстро развивалось кораблестроение, и межколониальная торговля переживала бум. Эти перемены совпали с ростом креольской аристократии в колониях, чье богатство основывалось в большей мере на сельском хозяйстве, чем на рудниках [86] . На самих рудниках негативно сказались последствия углублявшегося кризиса со второго десятилетия XVII в. Частично в результате демографического коллапса индейской рабочей силы из-за опустошающих эпидемий и сверхэксплуатации на подземных работах, а частично в связи с исчерпанием залежей добыча серебра стала уменьшаться. После пика, достигнутого в предыдущем столетии, это падение было сначала постепенным. Однако содержание и направление торговли между Старым и Новым Светом необратимо менялись, в убыток Кастилии. Колониальный импорт сменился на мануфактурные товары, которые не могла поставлять Испания и которые контрабандой провозились английскими и голландскими купцами; местный капитал реинвестировался на месте, вместо того чтобы быть переведенным в Севилью; а местное мореплавание увеличивало свою долю в атлантическом тоннаже. Итогом было катастрофическое падение испанской торговли с американскими владениями, объем которой с 1606–1610 по 1646–1650 гг. упал на 60 %.
Во времена Лермы далекоидущие последствия этих процессов были скрыты в будущем. Однако относительный закат Испании на морях и подъем протестантских держав Англии и Голландии за ее счет были уже заметны. Попытки обратного завоевания Голландской республики и вторжения в Англию провалились уже в XVI в. Но с тех времен два морских противника Испании стали более процветающими и сильными, в то время как реформированная Церковь продолжала завоевывать Центральную Европу. Приостановка военных действий на десятилетие при Лерме лишь убедила новое поколение имперских генералов и дипломатов – Зунига, Гондомара, Осуну, Бедмара, Фуэнтеса, – что, несмотря на дороговизну войны, Испания не может позволить себе мир. Воцарение Филиппа IV, приведшее к власти в Мадриде могущественного графа-герцога Оливареса, совпало с беспорядками в Богемии, принадлежавшей австрийской ветви семьи Габсбургов: у него появился шанс сокрушить протестантизм в Германии и свести счеты с Голландией – взаимосвязанные задачи из-за необходимости овладеть коридором сквозь Рейнскую область для передвижения войск между Италией и Фландрией. Так, в 1620-е гг. снова вспыхнула европейская война, начатая союзником в Вене, но по инициативе Мадрида. В ходе Тридцатилетней войны любопытнейшим образом развернулась модель, созданная испанским оружием в двух военных циклах предыдущего века. Тогда как Карл V и Филипп II одерживали первоначальные победы на юге Европы, но терпели окончательные поражения на севере, войска Филиппа IV достигли быстрого успеха на севере только для того, чтобы испытать окончательный разгром на юге. Масштабы испанской мобилизации для этой третьей, и последней, попытки были гигантскими: в в 1625 г. Филипп IV насчитывал под своей командой 300 тысяч человек [87] . Богемские сословия были сокрушены в 1625 г. в битве у Белой горы, с помощью испанских субсидий и ветеранов, и дело протестантизма проиграло в чешских землях. Голландцев вынудил отступить Спинола после взятия Бреды. Шведская контратака в Германии, после победы над армиями Австрии и Лиги, была отражена испанскими терциями под началом кардинала-инфанта у Нордлингена. Однако именно эти победы заставили Францию вступить в войну, сместив военный баланс в сторону противников Испании: реакцией Парижа на Нордлинген в 1634 г. было объявление Ришелье войны в 1635 г. Результаты скоро стали очевидны. Голландцы вернули Бреду в 1637 г. Годом позже пал Брайзах (Breisach) – ключ к пути во Фландрию. В течение следующего года большая часть испанского флота была отправлена на дно у Даунса (Downs) – это гораздо более серьезный удар по военно-морским силам Габсбургов, чем судьба Армады. Наконец, в 1643 г. французская армия завершила эпоху превосходства терций в битве при Рокруа (Rocroi). Военное вмешательство Франции Бурбонов сильно отличалось от сражений, которые вели Валуа в предыдущем столетии; именно новый французский абсолютизм стал инструментом обрушения испанской имперской мощи в Европе. Ибо там, где в XVI в. Карл V и Филипп II извлекали пользу из внутренней слабости французского государства, употребляя провинциальные разногласия для вторжений в саму Францию, роли поменялись: повзрослевший французский абсолютизм мог использовать аристократические мятежи и региональный сепаратизм на Иберийском полуострове для вторжения в Испанию. В 1520-е гг. испанские войска вторгались в Прованс, в 1590-е гг. – в Лангедок, Бретань и Иль-де-Франс по приглашению местных диссидентов. В 1640-е гг. французские солдаты и корабли сражались бок о бок с антигабсбургскими мятежниками в Каталонии, Португалии и Неаполе: испанский абсолютизм был поставлен в безвыходное положение на своей собственной земле.
Долгое напряжение международного конфликта на Севере в конце концов почувствовалось и на самом Иберийском полуострове. В 1627 г. вновь пришлось объявить государственное банкротство; веллон был девальвирован на 50 % в 1628 г.; резкое падение трансатлантической торговли последовало в 1628–1631 гг.; «серебряный флот» не дошел по назначению в 1640 г. [88] Огромные военные расходы были причиной новых налогов на потребление, сборов с духовенства, конфискации процентов по государственным облигациям, захвата частных поставок золота, нараставшей продажи дворянству титулов и особенно сеньориальных полномочий. Однако все эти изобретения не смогли собрать сумму, необходимую для продолжения войны; поскольку ее цену по-прежнему платила одна Кастилия. Португалия практически не поставляла доходов Мадриду, ее вклад был ограничен задачей защиты португальских колоний. Фландрия была хронически дефицитной. Неаполь и Сицилия в предыдущий век поставляли скромный, но заметный доход в центральную казну. Теперь, однако, стоимость защиты Милана и поддержания президио в Тоскане перекрывала все доходы, несмотря на увеличенные налоги, продажу должностей и отчуждение земель: Италия продолжала поставлять для войны бесценную живую силу, но не оказывать финансовую помощь [89] . Наварра, Арагон и Валенсия в лучшем случае соглашались на очень небольшие выплаты династии в чрезвычайных случаях. Каталония – богатейший регион Восточного королевства и самая экономная провинция из всех – ничего не платила, не разрешала тратить свои налоги и размещать свои войска за пределами собственных границ. Историческая цена неспособности габсбургского государства гармонизировать отношения с собственными владениями была очевидной уже к началу Тридцатилетней войны. Оливарес, понимавший, чем грозило отсутствие централизованной интеграции государственной системы и рискованное исключительное положение в ней Кастилии, предложил Филиппу IV далеко идущую реформу всей структуры в секретном меморандуме в 1624 г., где он предусматривал одновременное уравнивание налоговых сборов и политической ответственности между разными династическими патримониями, которые дали бы арагонскому, каталонскому и итальянскому дворянству постоянный доступ к высшим позициям в королевской службе в обмен на более равномерное распределение налогового бремени и принятие единой правовой системы по кастильскому образцу [90] . Этот черновик унифицированного абсолютизма был слишком смелым, чтобы его можно было опубликовать, из страха как перед кастильской, так и некастильской реакцией. Однако Оливарес предложил также второй, ограниченный проект, «Союз по оружию», в котором предусмотрел общую резервную армию в 140 тысяч человек, собранную и экипированную всеми испанскими владениями для их общей обороны. Эта схема, официально обнародованная в 1626 г., была атакована со всех сторон силами традиционного партикуляризма. Каталония вообще отказалась иметь какое-либо отношение к этому проекту, и Союз остался только на бумаге.
Однако, по мере того как развивались военные действия и ухудшались позиции Испании, в Мадриде нарастало желание получить от Каталонии хоть какую-то помощь. Оливарес решил заставить Каталонию принять участие в войне, атаковав Францию через ее юго-восточную границу в 1639 г., сделав, таким образом, не желавшую сотрудничать провинцию де-факто фронтом испанских передовых операций. Этот опрометчивый замысел имел катастрофические последствия [91] . Замкнутое и ограниченное каталонское дворянство, страдавшее от отсутствия доходных должностей и промышлявшее разбоем в горах, было разъярено кастильскими командирами и потерями, понесенными в войне против французов. Низы духовенства разжигали страсти. Крестьянство, изнуренное реквизициями и постоем войск, восстало. Сельскохозяйственные рабочие и безработные устремились в города и подняли яростные мятежи в Барселоне и других центрах [92] . Каталонская революция 1640 г. сплавила взрывом недовольство всех общественных классов, за исключением небольшой группы магнатов. Власть Габсбургов над провинцией рухнула. Чтобы погасить народный радикализм и остановить кастильскую реконкисту, дворянство и патрициат пригласили французов оккупировать провинцию. На десятилетие Каталония превратилась в протекторат Франции. Между тем на другой стороне полуострова Португалия начала собственное восстание через считанные месяцы после каталонского. Местная аристократия, обиженная уступкой Бразилии голландцам и уверенная в антикастильских чувствах масс, не испытала трудностей в подтверждении своей независимости, когда Оливарес совершил ошибку, сосредоточив королевские армии против сильно укрепленного востока, где побеждали франко-каталонские силы, а не на сравнительно демилитаризованном западе [93] . В 1643 г. Оливарес пал; четыре года спустя Неаполь и Сицилия в свою очередь сбросили испанское господство. Европейский конфликт истощил казну и экономику Габсбургской империи на Юге и разрушил единство ее политического тела. В катаклизме 1640-х гг., когда Испания катилась к поражению в Тридцатилетней войне, за которым последовали банкротство, эпидемии, депопуляция и вторжения, неизбежным было и распадение лоскутного союза династических владений: сецессионистские восстания в Португалии, Каталонии и Неаполе стали приговором непрочности испанского абсолютизма. Он развился слишком быстро и слишком рано благодаря своему заморскому богатству не завершив постройки своей метрополии.
В конце концов, начало Фронды сохранило Каталонию и Италию для Испании. Мазарини, отвлеченный домашними беспорядками, оставил первую после того, как неаполитанские бароны восстановили лояльность своему суверену во второй, когда сельская и городская беднота поднялась на социальное восстание, а французские войска за рубежом были уменьшены. Война, однако, продолжалась еще полтора десятилетия, даже после возвращения последней средиземноморской провинции – против голландцев, французов, англичан и португальцев. В 1650-е гг. случались неоднократные потери во Фландрии. Робкие попытки вернуть Португалию долгое время не могли увенчаться успехом. К тому времени класс кастильских идальго утратил интерес к этому делу; разочарование в войне широко распространилось среди испанцев. Финальные пограничные кампании велись в основном силами итальянских призывников, разбавленных ирландскими или немецкими наемниками [94] . Их единственным результатом стало разрушение значительной части Эстремадуры и доведение правительственных финансов до низшей точки дефицита. Мир и независимость Португалии не признавались до 1688 г. Шестью годами позднее Франш-Конте перешел к Франции. Во время беспомощного правления Карла II центральная политическая власть вновь оказалась в руках класса грандов, который обеспечил себе прямое господство в государстве после аристократического путча 1677 г., когда Дон Хуан Хосе Австрийский – их кандидат в регенты – успешно привел арагонскую армию в Мадрид. На этот же период пришлась тяжелейшая экономическая депрессия столетия, со сворачиванием производства, коллапсом финансовой системы, возвращением к бартерному обмену, дефициту продовольствия и хлебным бунтам. В 1600–1700 гг. численность населения Испании сократилась с 8500 тысяч до 7 миллионов – сильнейший демографический упадок среди стран Запада. К концу столетия габсбургское государство агонизировало: его кончина, персонализированная в призрачном правителе Карле II Зачарованном (El Hechizado), ожидалась при всех заграничных дворах как сигнал к тому, что Испания станет европейским трофеем.
В действительности же война за испанское наследство обновила абсолютизм в Мадриде путем разрушения его неуправляемых пристроек. Нидерланды и Италия были потеряны. Арагон и Каталония, сплотившиеся вокруг австрийского кандидата, понесли поражение и были покорены в ходе гражданской войны, разыгравшейся внутри войны международной. Новая французская династия пришла к власти. Монархия Бурбонов достигла того, что не сумели Габсбурги. Гранды, многие из которых дезертировали в англо-австрийский лагерь в войне за наследство, были подчинены и исключены из центральной власти. Импортировав более передовой опыт и технику французского абсолютизма, космополитичные гражданские служащие создали в XVIII в. унитарное централизованное государство [95] . Система сословного представительства в Арагоне, Валенсии и Каталонии была уничтожена, а их партикуляризм подавлен. Было введено французское изобретение для единообразного управления провинциями – королевские интенданты. Армия была радикально реорганизована и профессионализирована на основе полупризывной системы и аристократического командования. Колониальная администрация была дисциплинирована и реформирована: освобожденные от европейских владений, Бурбоны показали, что Испания могла управлять своей американской империей компетентно и прибыльно. Фактически именно в течение этого столетия в противоположность полууниверсальной «испанской монархии» (monarquia espanola) окончательно появилась единая Испания ( Espana ) [96] .
Тем не менее работа бюрократии Карла, рационализировавшая испанское государство, не смогла вдохнуть новую жизнь в испанское общество. Было слишком поздно для развития, сравнимого с французским или английским. Когда-то динамичная кастильская экономика пришла к своему концу при Филиппе IV. Несмотря на демографическое возрождение (численность населения увеличилась с 7 до и миллионов) и заметное расширение производства зерна в Испании, только 60 % населения все еще было занято в сельском хозяйстве, тогда как городские мануфактуры были практически исключены из общественной формации метрополии. После коллапса американских рудников в XVII в., в XVIII в. начался новый бум мексиканского серебра, однако в отсутствие крупной домашней промышленности, от него, вероятно, больше выиграла французская экспансия, чем испанская [97] . Местный капитал был направлен, как и раньше, на приобретение общественной ренты или землю. Государственная администрация количественно не была очень большой, но страдала от раздутого честолюбия и охоты за должностями со стороны обедневшего дворянства. Обширные латифундии, обрабатываемые бригадами на юге страны, обеспечивали богатство застойной аристократии грандов, размещавшейся в провинциальных столицах [98] . Начиная с середины века наблюдался приток высшей аристократии на министерские посты, когда «гражданская» и «военная» партии боролись за власть в Мадриде: время арагонского аристократа Аранды соответствует высшей точке прямого влияния магнатов в столице [99] . Политический импульс нового порядка, однако, уже иссякал. К концу века двор Бурбонов находился в состоянии полного упадка, напоминавшего его предшественника, при слабом и коррумпированном правлении Годоя, последнего из фаворитов ( privado). Границы возрождения XVIII в., эпилогом которого стал позорный коллапс династии в 1808 г., всегда были очевидны в административной структуре Испании Бурбонов. Даже после реформ Карла власть абсолютистского государства останавливалась на муниципальном уровне на огромных территориях страны. До самого вторжения Наполеона больше половины городов Испании находились под юрисдикцией сеньора или духовенства, а не монархии. Режим сеньории, средневековый реликт, берущий начало в XII–XIII вв., имел для контролировавших эту юрисдикцию аристократов скорее экономическое, чем политическое, значение; однако он предоставлял им не только прибыли, но и местную судебную и административную власть [100] . Это «сочетание суверенитета и собственности» было выразительным пережитком принципа территориальной власти в эпоху абсолютизма. Старый режим сохранял свои феодальные корни в Испании вплоть до своей гибели.
4. Франция
Эволюция Франции разительно отличалась от испанской модели. Здешний абсолютизм не обладал богатой заморской империей, на раннем этапе обеспечившей преимущество Испании. Вместе с тем ему была незнакома и перманентная структурная проблема сплавления воедино несопоставимых королевств с резко отличавшимся политическим и культурным наследием. Монархия Капетингов концентрическими кругами на протяжении Средних веков распространяла свой сюзеренитет со своей первоначальной базы в Иль-де-Франс, пока не охватила территорию от Фландрии до Средиземноморья. Ей не приходилось соревноваться с соперниками такого же феодального ранга в пределах Франции: в галльских землях было лишь одно королевство, за исключением маленького и полуиберийского государства Наварра на далеких склонах Пиренеев. Отдаленные графства и герцогства Франции всегда номинально зависели от центральной династии, даже в тех случаях, когда вассалы были изначально более могущественны, чем их король-сюзерен, что создавало правовую иерархию, способствовавшую позднейшей политической интеграции. Социальные и лингвистические различия, разделявшие Юг и Север, хотя и были постоянными и выраженными, никогда не были так велики, как те, что противопоставляли Запад Востоку в Испании. Отдельная правовая система и язык, существовавшие на Юге, не совпали, к счастью для монархии, с локализацией главного военно-политическо-го вызова, брошенного централизации Франции в конце Средневековья: Бургундский дом, главный соперник Капетингской династии, был северным герцогством. Южный партикуляризм, тем не менее, оставался в раннее новое время постоянной латентной угрозой, принимая новые личины при каждом кризисе. Реальный политический контроль французской монархии над территориями никогда не был равномерным: он падал на окраинах страны, уменьшался в недавно присоединенных и наиболее удаленных от Парижа провинциях. В то же время исключительные демографические размеры Франции сами по себе представляли гигантское препятствие для административной унификации: с 20 миллионов жителей она была вдвое более населена, чем Испания в XVI в. Если унитарному абсолютизму в Испании мешала жесткость и очевидность внутренних барьеров, то в границах французского государства им соответствовало изобилие и разнообразие региональной жизни. Поэтому за капетингской консолидацией средневековой Франции не последовало распространения единого государственного устройства. Наоборот, история становления французского абсолютизма была историей «конвульсивного» продвижения к централизованному монархическому государству, периодически прерывавшегося рецидивами провинциальной дезинтеграции и анархии, за которыми наступали периоды интенсивной реакции в форме усиления королевской власти, пока процесс не увенчался установлением жесткой и стабильной структуры. Тремя великими кризисами политического порядка были, конечно, Столетняя война в XV в., религиозные войны в XVI в. и Фронда в XVII в. Переход от средневековой к абсолютной монархии в ходе каждого из этих кризисов сначала останавливался, а затем ускорялся, приведя в конце концов к установлению культа королевской власти в эпоху Людовика XIV, равного которому не было в Западной Европе.
Медленная концентрическая централизация капетингских королей, упомянутая выше, неожиданно закончилась с пресечением династии в середине XIV в., что стало сигналом к началу Столетней войны. Начало жестоких свар между французскими магнатами при слабых правителях династии Валуа привели в конце концов к объединенной англо-бургундской атаке на французскую монархию в начале XV в., которая подорвала единство королевства. В апогее английских и бургундских успехов в 1420-е гг. практически все традиционные владения королевского дома в Северной Франции были под вражеским контролем, в то время как Карл VII вынужден был бежать и укрываться на Юге. Общая история постепенного восстановления французской монархии и вытеснения английских армий хорошо известна. Для нас важно, что главным наследием суровых испытаний Столетней войны стало фискальное и военное освобождение монархии от ограничений средневековой политической системы. Война была выиграна только лишь после отказа от сеньориальной системы рыцарской службы, показавшей свою катастрофическую неэффективность в сражениях против английских лучников, и благодаря созданию регулярной оплачиваемой армии, артиллерия которой стала решающим оружием победы. Чтобы набрать такую армию, французская аристократия позволила монархии собрать первый общенациональный налог – королевскую талью 1439 г., которая стала в 1440-е г. регулярной солдатской тальей (taille des gens d’armes) [101] . Аристократия, духовенство и некоторые города были освобождены от ее уплаты, и в течение следующего века право не платить талью стало для аристократии наследственным. Таким образом, к концу XV в. монархия достаточно укрепилась, чтобы приступить к созданию регулярной армии в виде ордонансовых рот, под командой аристократов, и ввести прямые налоги без какого бы то ни было контроля представительных органов.
В то же время Карл VII не пытался укрепить власть династии в северных провинциях Франции, когда они были успешно отвоеваны; напротив, он поддержал региональные сословные ассамблеи и передал местным институтам финансовую и судебную власть. Точно так же, как капетингские правители сопровождали расширение монархического контроля уступкой княжеских уделов, первые короли династии Валуа комбинировали восстановление единства королевства с передачей власти в провинциях укрепившейся аристократии. Причина была одной и той же в обоих случаях: очевидная административная трудность управления страной таких размеров, как Франция, с помощью доступных династии инструментов. Силовой и фискальный аппараты центрального государства были по-прежнему очень малы: Ордонансовые роты Карла VII никогда не насчитывали более 12 тысяч человек – совершенно недостаточная мощь для эффективного контроля и подавления населения численностью 15 миллионов [102] . Аристократия сохраняла автономию местной власти благодаря собственным мечам, от которых зависела стабильность всей общественной структуры. Появление скромной королевской армии даже увеличило экономические привилегии благородного сословия, поскольку институциализация тальи обеспечила аристократии полный фискальный иммунитет, которого у нее ранее не было. Созыв Карлом VII Генеральных штатов, института, который прекратил свое существование столетия назад, был, таким образом, вызван именно необходимостью создания национального форума, на котором он мог бы заставить различные провинциальные сословия и города принимать налоги, ратифицировать договоры и предоставлять советы о внешней политике; однако этот орган редко полностью соглашался с его требованиями. Столетняя война, таким образом, завещала французской монархии постоянную армию и налоги, но не гражданскую администрацию в масштабах государства. Английские интервенты были изгнаны с французской земли; бургундские амбиции остались. Людовик XI, унаследовавший трон в 1461 г., обращался с внешней и внутренней оппозицией власти Валуа с мрачной решительностью. Неуклонное восстановление провинциальных уделов, таких как Анжу, систематическая смена муниципальных правительств в главных городах, произвольное взимание более тяжелых налогов и подавление аристократических интриг весьма увеличили королевскую власть и казну во Франции. Более того, Людовик XI укрепил весь восточный фланг французской монархии, обеспечив крушение своего самого опасного соперника и врага, Бургундской династии. Спровоцировав швейцарские кантоны на войну против соседнего герцогства, он профинансировал первое большое поражение феодальной кавалерии от пехоты: с разгромом Карла Лысого швейцарскими копейщиками при Нанси в 1477 г. Бургундское государство пало, и Людовик XI аннексировал большую часть герцогства. В течение следующих двух десятилетий Карл VIII и Людовик XII, желая удержать за Францией Бретань, последнее большое независимое княжество, женились на его наследницах. Французское королевство теперь впервые объединило все вассальные провинции средневековой эпохи под властью одного суверена. Уничтожение самых больших домов Средневековья и реинтеграция их доменов с землями монархии подчеркнуло очевидное господство самой династии Валуа.
На деле, однако, «новая монархия», созданная Людовиком XI, ни в коей мере не была централизованным или интегрированным государством. Франция была разделена на 12 губерний, управление которыми было доверено принцам королевской крови или крупнейшим аристократам. Они легально пользовались широким спектром королевских прав вплоть до конца века и фактически могли действовать как автономные властители и в следующем [103] . Более того, теперь появились еще и местные парламенты, провинциальные суды, созданные монархией и получившие верховную юридическую власть, важность и количество которых постепенно росло: между восшествием на престол Карла VII и смертью Людовика XII новые парламенты были созданы в Тулузе, Гренобле, Бордо, Дижоне, Руане и Эксе. Городские свободы также еще не были значительно урезаны, хотя положение патрицианской олигархии в них усилилось за счет гильдий и мелких хозяев. Важнейшей причиной этих ограничений центральной власти оставались непреодоленные организационные проблемы создания эффективного аппарата феодального господства в масштабах всей страны, в условиях экономики без общего рынка, без модернизированной транспортной системы, в которой еще не закончилось разложение феодальных отношений в деревне. Социальная база для вертикальной политической централизации была еще не готова, несмотря на определенные успехи монархии. Именно в этом контексте Генеральные штаты были вызваны ко второй жизни после Столетней войны, не для противопоставления, а в связи с возрождением монархии. Во Франции, как и в других странах, первичным импульсом к созыву сословий была потребность династии в поддержке ее фискальной и внешней политики со стороны подданных королевства [104] . Однако во Франции консолидация Генеральных штатов в качестве постоянного национального института была заблокирована тем же самым разнообразием, которое заставило монархию предпринять передачу власти местным органам в самый час своей победы. Дело не в том, что три сословия были особенно социально разделены в моменты встреч: среднее дворянство (moyenne noblesse) доминировало без особых усилий. Однако региональные ассамблеи, избиравшие своих представителей в Генеральные штаты, отказывались давать им мандат на голосование за общенациональные налоги; поскольку аристократия были исключена из существующего обложения, она не чувствовала особой необходимости в созыве Генеральных штатов [105] . В результате французские короли, не получавшие от национального представительства финансового вклада, на который надеялись, постепенно вовсе перестали его созывать. Таким образом, укрепление сеньориальной местной власти в регионах, а не централизующее давление монархии препятствовало появлению в ренессансной Франции национального парламента. В краткосрочной перспективе это вносило лепту в подрыв королевского авторитета, а в будущем, однако, облегчало задачу абсолютизма.
В первой половине XVI в. Франциск I и Генрих II руководили процветающим и растущим королевством. Активность представительных органов постепенно снижалась: Генеральные штаты почти не собирались, представители городов не созывались после 1517 г., а внешняя политика становилась исключительным делом королей. Юристы – maitres de requetes – постепенно расширяли полномочия монархии, а парламенты дрожали от страха на специальных сессиях оглашения королевских указов (lits de justice) в присутствии монарха. Контроль над назначениями в церковной иерархии был получен благодаря Болонскому конкордату с Папой. Однако ни Франциск I, ни Генрих II еще не походили на самодержавных правителей: оба они часто совещались с региональными ассамблеями и тщательно соблюдали традиционные привилегии знати.
Экономический иммунитет Церкви не был нарушен со сменой патронажа над ней (в отличие от ситуации в Испании, где монархия обложила духовенство большим налогом). Королевские эдикты в принципе все еще требовали регистрации парламентом, чтобы стать законом. Доходы казны удвоились в 1517–1540 гг., однако уровень налогообложения к концу правления Франциска I не был заметно выше, чему Людовика XI шестьюдесятью годами ранее, хотя цены и доходы за это время весьма выросли [106] : таким образом, за это время прямое налоговое бремя по отношению к национальному богатству на самом деле сократилось. С другой стороны, выпуск государственных облигаций для рантье, начиная с 1522 г., помогал поддерживать государственную казну в порядке. Престиж династии внутри страны поддерживался беспрерывными войнами в Италии, в которую правители из династии Валуа вовлекли свою знать: они стали постоянным выходом для непреходящей воинственности дворян. Продолжительные попытки Франции получить контроль над Италией, начатые Карлом VIII в 1494 г. и завершенные договором в Като-Камбрези в 1559 г., оказались безуспешными. Испанская монархия, более развитая в военном и политическом отношениях и обладающая стратегическими базами в Северной Европе и военно-морским преимуществом союзников-генуэзцев, победила своего французского соперника в борьбе за контроль над заальпийским полуостровом. Победа в этом соревновании осталась за тем государством, абсолютизм в котором развился раньше. В конечном итоге, однако, поражение в первой иностранной авантюре помогло французскому абсолютизму, запертому на его собственной территории, обеспечить себе более прочные и компактные основания. С другой стороны, оно означало немедленное прекращение итальянских войн в сочетании с кризисом наследования, показавшего, насколько слабо монархия Валуя была еще укоренена в стране. Смерть Генриха II низвергла Францию в сорокалетнюю междоусобную борьбу.
Причиной гражданских войн, развязанных после Като-Камбрези, были, конечно, религиозные конфликты Реформации. Но они предоставили что-то вроде рентгеновского снимка государства конца XVI в., раскрыв множественные трения и противоречия французской общественной системы эпохи Возрождения. Борьба между гугенотами и Святой Лигой за контроль над монархией, вакантной после смерти Генриха II и регентства Екатерины Медичи, служила ареной для практически всех типов политических конфликтов эпохи перехода к абсолютизму. Религиозные войны вели от начала до конца три соперничавших рода магнатов – Гизы, Монморенси и Бурбоны, каждый из которых контролировал собственные доменные территории, широкую клиентелу, имел влияние в государственном аппарате, лояльные войска и международные связи. Семья Гизов была хозяйкой северо-востока от Лотарингии до Бургундии; линия Монморенси-Шатильонов располагалась на наследственных землях, протянувшихся через весь центр страны; бастионы Бурбонов лежали на юго-западе. Межфеодальная борьба между этими благородными домами обострилась в связи с тяжелым положением обедневших сельских дворян по всей Франции, ранее приученных к доходам от грабительских набегов на Италию и теперь страдавших от роста цен; эта страта предоставляла военные кадры, готовые к продолжительной гражданской войне, независимо от разделявших ее религиозных предпочтений. Более того, когда борьба началась, города тоже разделились на два лагеря: большинство южных городов поддержали гугенотов, тогда как города внутренних регионов севера практически без исключения стали оплотом Лиги. Существует точка зрения, будто различная торговая ориентация (на заморский или внутренний рынок) повлияла на это разделение [107] . Однако более вероятным представляется, что общая географическая структура гугенотства отражала традиционный региональный сепаратизм Юга, который всегда лежал на самом большом расстоянии от домашних владений Капетингов в Иль-де-Франс и в котором дольше всего власть сохраняли собственные государи. Сначала протестантизм проникал во Францию из Швейцарии по главным речным системам Роны, Луары и Рейна [108] , обеспечивая равномерное региональное распространение реформированной веры. Но когда терпение властей иссякло, она сконцентрировалась в Дофине, Лангедоке, Гиени, Пуату, Сентонже, Беарне и Гаскони – горных или прибрежных регионах за Луарой, многие из которых были суровы и бедны и общей характеристикой которых была не столько коммерческая энергичность, сколько манориальный партикуляризм. Гугенотство всегда собирало под свои знамена ремесленников и бюргеров в городах, однако присвоение десятины кальвинистской верхушкой делало привлекательность новой веры в глазах крестьян весьма ограниченной. Лидеры гугенотов рекрутировались по преимуществу из землевладельческого класса, который в 1560-е гг., вероятно, наполовину состояли из протестантов, тогда как в населении в целом их доля никогда не превышала 10–20 % [109] . Религия отступила на юг в объятия аристократического диссидентства. Главное напряжение конфессионального конфликта может быть понято как разрыв тонкой материи французского единства вдоль ее наследственно слабейшего шва.
Однако развернувшаяся борьба освободила более глубокие социальные конфликты, чем феодальный сецессионизм. Когда Юг оказался в руках Конде и протестантских армий, удвоенный вес королевского налогообложения лег на осажденные католические города Севера. Городская нищета, ставшая результатом такого развития в 1580-е гг., спровоцировала радикализацию Святой Лиги в городах, достигшую пика после убийства Генрихом III Гиза. Пока герцоги из клана Гизов – Майенн, Омаль, Эльбеф, Меркёр – отделяли Лотарингию, Бретань, Нормандию и Бургундию во имя католичества, а испанские армии вторгались из Фландрии и Каталонии для помощи Лиге, в северных городах взорвались муниципальные революции. Власть в Париже была взята диктаторскими комитетами недовольных юристов и церковников, поддержанных голодающими плебейскими массами и фанатичной фалангой монахов и проповедников [110] . Орлеан, Бурж, Дижон, Лион последовали примеру. Как только протестант Генрих Наваррский стал законным наследником монархии, идеология этих городских восстаний стала меняться в сторону республиканизма. В то же самое время ужасающее разорение сельской местности постоянными военными кампаниями тех десятилетий толкнуло крестьян юга и центра страны – Лимузена, Перигора, Керси, Пуату и Сентонжа– к угрожающе нерелигиозному восстанию в 1590-е гг. Именно эта двойная радикализация в городах и сельской местности в конце концов вновь объединила правящий класс: аристократия начала смыкать ряды, как только появилась реальная опасность восстания снизу. Генрих IV принял католичество, сплотил аристократических руководителей Лиги, изолировал коммуны и подавил крестьянские мятежи. Религиозные войны закончились восстановлением королевского государства.
Французский абсолютизм теперь сравнительно быстро достиг совершеннолетия, хотя ему предстояло взять еще одно препятствие, прежде чем окончательно утвердиться. Великими архитекторами его администрации были, конечно, Сюлли, Ришелье и Кольбер. Размеры и разнообразие страны оставались еще непокоренными, когда они начинали свою работу. Принцы королевской крови оставались ревнивыми соперниками монарха, часто обладая наследственным статусом губернаторов. Провинциальные парламенты, состоявшие из сельского дворянства и юристов, представляли бастионы традиционного партикуляризма. Торговая буржуазия росла в Париже и других городах и контролировала муниципальные власти. Влияние народных масс выросло в ходе гражданских войн предыдущего столетия, когда обе стороны в разные периоды обращались к ним за поддержкой, а память о народных восстаниях сохранялась [111] . Французское абсолютистское государство, появившееся в великом столетии (grandsiede) должен был справиться с этим комплексом проблем. Генрих IV впервые утвердил королевское присутствие в Париже, перестроив город и превратив его в постоянную столицу королевства. Гражданское примирение сопровождалось заботой государства о восстановлении сельского хозяйства и помощью экспортной торговле. Престиж монархии в народе был восстановлен личной привлекательностью самого основателя новой династии Бурбонов. Нантский эдикт и его дополнительные статьи успокоили протестантов, уступив им ограниченную региональную автономию. Генеральные штаты не были созваны, несмотря на обещание сделать это, данное во время гражданской войны. Внешний мир поддерживался, а вместе с ним и административная экономия. Сюлли, канцлер-гугенот, удвоил доходы государства, главным образом перейдя к косвенным налогам, рационализировав откупа и сократив траты. Важнейшим институциональным достижением правления было введение полетты в 1604 г.: продажа должностей в государственном аппарате, существовавшая уже более века, была институционализирована изобретением Полетта, позволившим им стать наследственными в обмен на выплату небольшого ежегодного процента от ее продажной стоимости-мера, направленная не только на увеличение доходов монархии, но и на изоляцию бюрократии от влияния магнатов. При экономном режиме Сюлли продажа офисов составляла только около 8 % от доходов бюджета [112] . Однако, начиная с периода несовершеннолетия Людовика XIII и далее, эта пропорция быстро менялась. Рецидив дворянской фракционности и религиозного недовольства, отмеченный последней и бесплодной сессией Генеральных штатов (1614–1615) перед Французской революцией и первым агрессивным вмешательством парижского парламента в работу королевского правительства, привел к кратковременному доминированию герцога де Люина (Duc de Luynes). Государственные расходы резко выросли из-за необходимости откупаться от капризных магнатов и возобновления войны против гугенотов на юге. С этого времени бюрократия и судебная власть породили самый большой объем коррупции в Европе. Франция стала классической страной продажи должностей, в то время как постоянно растущее количество синекур создавалось монархией в целях увеличения доходов. К 1620–1624 гг. их продажа приносила королевской казне около 38 % дохода [113] . Более того, откупа теперь регулярно продавались крупным финансистам, которые изымали до % налогов на их пути в государственную казну. Цена внешней и внутренней политики в период Тридцатилетней войны возросла так резко, что монархия вынуждена была постоянно обращаться к насильственным займам под высокие проценты у синдикатов своих собственных откупщиков, которые в то же самое время были чиновниками ( officiers) купившими должности в финансовой части государственного аппарата [114] . Этот порочный круг финансовых импровизаций неизбежно доводил коррупцию до крайности. Размножение коррупционных должностей, на которые теперь назначалось новое «дворянство мантии», препятствовало любому твердому династическому контролю над важнейшими институтами общественного права и финансов, ослабляя бюрократическую власть в центре и на местах.
И именно в ту эпоху Ришелье и его преемники начали строительство рационализированной бюрократической машины, способной к прямому королевскому контролю и вмешательству на всем пространстве Франции. Фактический правитель страны с 1624 г., кардинал твердо довел до конца ликвидацию оставшейся крепости гугенотов на юго-западе, осадив и взяв Ла-Рошель; разрушил несколько аристократических заговоров, казнив организаторов; отменил высшие средневековые военные титулы; разрушил замки аристократов и запретил дуэли; подавил сословия, где это позволило местное сопротивление (Нормандия).
И сверх того, Ришелье создал систему интендантов. Интенданты юстиции, полиции и финансов были чиновниками, направленными с широкими полномочиями в провинции. Сначала это были временные миссии ad hoc, но позднее они превратились в постоянных комиссаров центрального правительства по всей Франции. Назначенные напрямую монархом, они могли быть отозваны с поста, а эти должности не продавались и не покупались: обычно рекрутируемые из бывших «челобитчиков» (maitres des requites), принадлежавших к мелкому и среднему дворянству XVII в., они представляли новую силу абсолютистского государства в самых отдаленных уголках королевства. Чрезвычайно непопулярные в страте чиновников ( officier), на чьи местные прерогативы они покушались, они сперва использовались с осторожностью и сосуществовали с традиционным управлением в провинциях. Однако Ришелье поломал квазинаследственный характер регионального управления, долгое время бывший добычей высшей аристократии, так что к концу его правления только четверть этих позиций была занята теми же людьми, что и до его прихода к власти. Таким образом, на протяжении этого периода обе группы – чиновников и комиссаров – развивались одновременно и в противоречии одна другой, однако внутри общей эволюции государственных структур. В то время как роль интендантов постепенно становилась все более важной и авторитетной, магистраты местных парламентов, защитники легализма и партикуляризма, периодически ограничивали инициативы королевского правительства.
Составная форма французской монархии привела, таким образом, в теории и на практике, к чрезвычайно изощренной сложности. Коссман описал ее контуры в сознании правящего класса того времени в ярком пассаже: «Современники чувствовали, что абсолютизм никоим образом не исключает тех противоречий, которые казались им неотъемлемой чертой государства, и не меняет ни одного их представления об управлении. Для них государство было чем-то вроде церкви барокко, в которой большое число разных концепций переплелось, сразилось и, наконец, слилось в единую величественную систему. Архитекторы недавно открыли овал, и пространство ожило в их изобретательном использовании: везде великолепие овальных форм, мерцающих из углов, проецировало на конструкцию как целое мягкую энергию и раскачивающийся нечеткий ритм, характерный для нового стиля» [115] . Эти «эстетические» принципы французского абсолютизма, тем не менее, соответствовали его функциональным целям. Соотношение между налогами и повинностями выражалось напряжением между «централизованной» и «местной» феодальной рентой. Это «экономическое» удвоение было в каком-то смысле воспроизведено в «политических» структурах французского абсолютизма. Именно сложность архитектуры государства позволяла происходить процессу медленного, но неуклонного объединения благородного класса, который постепенно приспосабливался к новой централизованной форме, подконтрольной интендантам, продолжая занимать прочные позиции в системе чиновников ( officier) и местной власти в провинциальных парламентах. Более того, она одновременно решала сложную задачу интеграции новорожденной французской буржуазии в структуру феодального государства. Покупка должностей представляла собой такую прибыльную инвестицию, что капитал постоянно оттекал от мануфактур или торговых предприятий на ростовщическую игру с абсолютистским государством. Синекуры и феоды, откупа и займы, привилегии и долговые обязательства отвлекали богатства буржуазии от производственной деятельности. Приобретение благородных титулов и фискального иммунитета считалось нормальной предпринимательской целью для нуворишей (roturiers). Социальным последствием было возникновение буржуазии, которая во все большей степени ассимилировалась с аристократией через систему привилегий и должностей. Государство, в свою очередь, спонсировало королевские мануфактуры и общественные торговые компании, которые, от Сюлли до Кольбера, представляли собой отдушины для делового класса [116] . Как следствие – политическая эволюция французской буржуазии на 150 лет зашла в тупик.
Бремя содержания всего этого аппарата легло на бедных. Реорганизованное феодальное государство жирело немилосердно за счет сельских и городских масс. Размах, с которым местная коммутация ренты и рост монетизированного сельского хозяйства компенсировались централизованным изъятием избытков у крестьянства, виден – в отношении Франции – с совершенной ясностью. В 1610 г. налоговые агенты государства собрали 17 миллионов ливров тальи. К 1644 г. сборы этого налога достигли 44 миллиона ливров. Общее налогообложение на деле увеличилось вчетверо за десятилетие после 1630 г. [117] Причиной этого резкого роста фискального бремени было, конечно, дипломатическое и военное вмешательство Ришелье в Тридцатилетнюю войну. Начав с субвенций Швеции, затем используя германских наемников, он закончил большими французскими армиями на поле боя. Международный эффект был ослепительным. Франция решила судьбу Германии и разрушила влияние Испании. Вестфальский мир, через четыре года после исторической французской победы при Рокруа, расширил границы французской монархии от Мааса до Рейна. Новые структуры французского абсолютизма прошли, таким образом, крещение в огне европейской войны. Успех Франции в борьбе против Испании совпал с внутренней консолидацией двойной бюрократической структуры, которая составляла раннее государство Бурбонов. Чрезвычайные обстоятельства конфликта облегчили установление интендантств в завоеванных или угрожаемых зонах: его огромная финансовая стоимость в то же время повлекла за собой беспрецедентную продажу должностей и принесла огромные состояния банковским синдикатам. Реальную цену войны несли на себе бедняки, среди которых она спровоцировала социальный хаос. Фискальное давление абсолютизма военного времени было причиной народной поддержки отчаянных восстаний городских и сельских масс на протяжении этих десятилетий. Городские мятежи произошли в Дижоне, Эксе и Пуатье в 1630 г.; жакерии – в сельской местности в Ангумуа, Сентонже, Пуату, Перигоре и Гиени в 1636–1637 гг.; крупное плебейское и крестьянское восстание – в Нормандии в 1639 г. К большим региональным мятежам надо добавить рассыпанные по стране мелкие вспышки недовольства против сборщиков налогов, часто происходившие при покровительстве местного дворянства. Королевские войска регулярно применялись для репрессий внутри страны, в то время как международный конфликт полыхал за пределами Франции.
Фронду можно рассматривать в определенном смысле как «гребень» этой длинной волны народных восстаний [118] , во время которой на короткий период часть высшей аристократии, держателей должностей и городской буржуазии использовали массовое недовольство для достижения собственных целей в борьбе с абсолютистским государством. Мазарини, сменивший Ришелье в 1642 г., умело направлял французскую внешнюю политику в конце Тридцатилетней войны, добившись присоединения Эльзаса. После Вестфальского мира, однако, Мазарини спровоцировал кризис, ставший известным как Фронда, продолжив войну с Испанией на Средиземноморском театре военных действий, где он, итальянец, нацелился на аннексию Неаполя и Каталонии. Налоговые изъятия и финансовые махинации для поддержания военных усилий за границей совпали с неурожаями 1647, 1649 и 1651 гг. Голод и ярость народных масс соединилась с восстанием измученных войной чиновников ( officiers ), возглавленных парижским парламентом, против системы интендантов, раздражением рантье из-за девальвации правительственных ценных бумаг; ревностью могущественных пэров королевства к итальянскому авантюристу, манипулировавшему несовершеннолетним королем. Развязкой стала беспорядочная и ожесточенная схватка, в которой страна, казалось, снова распалась на провинции, отделившиеся от Парижа, повсюду бродили мародерствующие частные армии, города создавали мятежные муниципальные диктатуры, и сложные интриги разделяли и вновь объединяли принцев, соперничавших за контроль над королевским двором. Провинциальные губернаторы искали случая свести счеты с местными парламентами, тогда как муниципальные власти получили возможность атаковать региональные магистратуры [119] . Фронда, таким образом, воспроизвела многие структурные элементы религиозных войн. На этот раз самое радикальное городское восстание совпало с выступлением одной из традиционно самых недовольных сельских местностей: мятежники в Бордо ( Ormee) и на самом юго-западе до конца противостояли армиям Мазарини. Однако захват власти в Бордо и Париже народом случился слишком поздно для того, чтобы повлиять на результат переплетавшихся конфликтов Фронды; местные гугеноты на Юге в целом остались нейтральными; восставшие не смогли выдвинуть связной политической программы, идущей дальше их инстинктивной враждебности к местной буржуазии Бордо [120] . К 1653 г. Мазарини и Тюренн затоптали последние очаги восстания. Административная централизация и классовая реорганизация в рамках смешанных структур французской монархии в XVII в. доказали свою эффективность. Хотя недовольство масс было, вероятно, более сильным, Фронда была менее опасна для монархии, чем религиозные войны, потому что имущий класс уже фактически объединился. Несмотря на все противоречия между системами чиновников ( officiers) и интендантов, обе группы в основном рекрутировались из дворянства мантии, тогда как банкиры и откупщики, с которыми боролись парламенты, были наделе тесно с ними связаны персонально. Процесс притирки, обеспеченный сосуществованием двух систем в одном государстве, завершился установлением их солидарности против масс. Сама глубина плебейского недовольства, проявившегося во время Фронды, сократила последнюю эмоциональную дистанцию между диссидентствующей аристократией и монархией: хотя в XVII в. еще повторялись крестьянские мятежи, никогда больше они не были поддержаны восстаниями «сверху». Фронда стоила Мазарини потери желанных целей в Средиземноморье. Однако когда война с Испанией завершилась Пиренейским миром, Руссильон и Артуа были присоединены к Франции; а отборная бюрократическая элита была готова к установлению административного порядка следующего царствования. Аристократия к этому времени угомонилась под скипетром завершенного солнечного абсолютизма Людовика XIV.
Новый суверен получил полный контроль над государственным аппаратом в 1661 г. Как только королевская власть и центр принятия решений воссоединились в фигуре одного правителя, стал очевиден политический потенциал французского абсолютизма. Парламентам заткнули рот, их права на представление возражений перед регистрацией королевских эдиктов (ремонстрации) были аннулированы в 1673 г. Другие суверенные дворы были поставлены в подчиненное положение. Провинциальные сословия более не могли обсуждать налоги и торговаться по их поводу: точные фискальные требования диктовались монархией, а сословия были вынуждены принимать их. Муниципальная автономия привилегированных городов (bonnes villes) была укрощена, а мэры приручены, когда в городах поднялись военные гарнизоны. Должность губернатора предоставлялась теперь только на три года, и занимавшие ее люди часто должны были постоянно жить при дворе, что делало ее только лишь почетным отличием. Командование укрепленными городами в пограничных регионах подвергалось тщательной ротации. Высшее дворянство заставили постоянно жить в Версале, как только был отстроен новый дворцовый комплекс (1682 г.), отлучив его от реального управления своими территориальными вотчинами. Эти меры против непокорного партикуляризма традиционных институтов и групп провоцировали, конечно, недовольство как среди принцев и пэров, так и среди провинциального дворянства. Однако они не меняли объективную связь между аристократией и государством, теперь более действенную, чем когда бы то ни было, в защите главных интересов благородного класса. О степени экономической эксплуатации, гарантированной французским абсолютизмом, можно судить по недавним подсчетам: на протяжении XVII в. Аристократия, составляя 2 % населения, присваивала 20–30 % валового национального дохода [121] . Центральный механизм королевской власти был, таким образом, сконцентрирован, рационализирован и увеличен без серьезного сопротивления аристократии.
Людовик XIV унаследовал своих ключевых министров от Мазарини: Летелье ведал военными делами, Кольбер совмещал управление королевскими финансами, двором и флотом, Лионне руководил внешней политикой, а Сегюр в должности канцлера занимался внутренней безопасностью. Эти дисциплинированные и компетентные администраторы формировали вершину бюрократической вертикали, оказавшейся теперь в распоряжении монархии. Король лично председательствовал в дискуссиях маленького государственного совета ( Conseil d’en Haut), состоявшего из наиболее доверенных политических слуг и исключавшего всех принцев и магнатов. Он стал высшим исполнительным органом государства, в то время как Совет депеш ( Conseil des Depeches) занимался проблемами провинций и внутренними делами, а вновь созданный Совет финансов ( Conseil des Finances) управлял экономикой монархии. Эффективность подразделений этой строгой системы, созданной неустанной деятельностью самого Людовика XIV, была гораздо выше, чем громоздкого избыточного аппарата Габсбургского абсолютизма в Испании, с его полутерриториальной планировкой и нескончаемым коллективным пережевыванием проблем. Ниже уровнем находилась сеть интендантов, теперь охватывавшая всю Францию. Последней провинцией, получившей комиссара в 1689 г., была Бретань [122] . Страна была разделена на 32 генералитета ( generalites), каждым из которых теперь управлял интендант с помощниками (subdelegues), наделенных новыми полномочиями по оценке и надзору за сбором тальи – жизненно важные обязанности, переданные им от старых чиновников (officier) — «казначеев», ранее контролировавших этот налог. Общее количество персонала в гражданском секторе центрального государственного аппарата французского абсолютизма в правление Людовика XIV было по-прежнему весьма скромным: вероятно, всего 1000 ответственных работников, считая как тех, кто находился как при дворе, так и в провинциях [123] . Но они опирались на серьезно усиленную машину принуждения. Были созданы постоянные полицейские силы для поддержания порядка и подавления мятежей, сначала в Париже (1667), а потом и по всей Франции (1698–1699). За это время до невероятных размеров выросла армия – от примерно 30–50 тысяч до 300 тысяч к концу правления [124] . Постоянное жалованье, учения и униформа были введены Летелье и Лувуа; вооружение и укрепления модернизированы Вобаном. Рост этого военного аппарата означал окончательное разоружение провинциальной аристократии и появление ресурса, способного быстро и эффективно разгромить любое народное восстание [125] . Швейцарские наемники, составлявшие гвардию Бурбонов, в два счета разделались с булонским крестьянством и с камизарами; новые драгуны осуществили массовое изгнание гугенотов из Франции. Идеологический фимиам, щедро расточаемый режиму оплаченными писателями и церковниками, драпировал военные репрессии, на которые тот опирался, но не мог скрыть их.
Французский абсолютизм достиг своего институционального апофеоза в последние десятилетия XVII в. Структура государства и культура гармоничного правления, достигшая совершенства в правление Людовика XIV, стала моделью для остальной аристократии Европы: Испания, Португалия, Пьемонт и Пруссия были только наиболее очевидными примерами его влияния. Однако политическое излучение ( rayonnement) Версаля выходило за его пределы: организационные достижения бурбонского абсолютизма должны были, в концепции Людовика XIV, служить особой цели, выполняя задачу военной экспансии. Первое десятилетие правления (1661–1672 гг.) было временем подготовки внутри страны дальнейших авантюр вовне ее. С административной, экономической и культурной точек зрения это были наиболее блестящие годы правления Людовика XIV; почти все его наиболее важные достижения датируются этим временем. Под мудрым руководством молодого Кольбера фискальное давление было стабилизировано и торговля процветала. Государственные расходы были уменьшены путем оптового сокращения всех новых должностей, созданных после 1630 г.; грабеж откупщиков также резко сократился, хотя государство и не вернуло себе функцию сбора налогов; земли королевского домена систематически возвращались государству. Личная талья была снижена с 42 до 34 миллионов ливров, в то время как реальная талья в менее обложенных налогом государственных провинциях (pays d’etats) поднята примерно на 50 %; доход от непрямых налогов увеличился на 60 % благодаря внимательному надзору над системой откупов. Чистый доход монархии удвоился с 1661 по 1671 г., и регулярно достигался бюджетный профицит [126] . Между тем была начата амбициозная меркантилистская программа ускорения мануфактурного и коммерческого роста во Франции и заморская колониальная экспансия; королевские субсидии создали новые отрасли промышленности (производство ткани, стекла, гобеленов, скобяных товаров), появились компании, созданные на основе королевских концессий для развития торговли с Ост– и Вест-Индией; большие субсидии получили судостроительные предприятия, и, наконец, был введен крайне протекционистский тариф. Именно этот меркантилизм, однако, напрямую привел к решению вторгнуться в Голландию в 1672 г., с намерением подавить конкуренцию со стороны ее торговли, доказавшей свое превосходство над французской, путем включения Соединенных провинций в состав Франции. Война с Голландией началась успешно: французские войска перешли Рейн, расположились на расстоянии удара от Амстердама и взяли Утрехт. Однако на защиту status quo быстро поднялась международная коалиция, прежде всего Испания и Австрия, в то время как Оранская династия сохранила власть в Голландии, установив семейный союз с Англией. Семь лет сражений закончились аннексией Францией Франш-Конте и улучшением ее границы в Артуа и Фландрии, однако Соединенные провинции остались нетронутыми, а антиголландский тариф 1667 г. был отменен: внешнеполитические итоги оказались более чем скромными. Дома же, во Франции, по фискальным сокращениям Кольбера был нанесен удар: вновь распространилась продажа должностей, увеличены старые налоги и изобретены новые, распространялись займы, коммерческие субсидии были урезаны. Война с этого момента стала доминировать практически над каждым аспектом царствования [127] . Нищета и голод, вызванные государственными изъятиями, и серия плохих урожаев привели к возобновлению крестьянских восстаний в Гиени и Бретани в 1674–1675 гг. и быстрому подавлению их армией – на этот раз ни один лорд или помещик не попытался использовать их в своих целях. Аристократия, освобожденная от денежных обязательств, которые Ришелье и Мазарини пытались наложить на нее, оставалась лояльной на протяжении всего этого времени [128] .
Восстановление мира на десятилетие в 1680-е гг., однако, только обострило самонадеянность абсолютизма Бурбонов. Король был теперь замурован в Версале, калибр министров уменьшился по мере того, как поколение, подобранное Мазарини, уступило место посредственным преемникам путем наследственной кооптации из одной и той же группы родственных семей «дворянства мантии»; неуклюжие антипапские жесты перемежались необдуманной высылкой протестантов из королевства; скрипучее юридическое крючкотворство использовалось для осуществления небольших аннексий на северо-востоке. Сельскохозяйственная депрессия продолжалась, хотя морская торговля восстановилась и расцвела, к тревоге английских и голландских купцов. Поражение французского кандидата на пост электора Кельна и восхождение Вильгельма III на английский трон были сигналами возобновления международного конфликта. Война Аугсбургской лиги (1689–1697) объединила практически всю Западную и Центральную Европу против Франции – Голландию, Англию, Австрию, Испанию, Савойю и большую часть Германии. Французские армии за предшествовавшее десятилетие выросли более чем вдвое – до примерно 220 тысяч человек. Но самое большее, чего они смогли достичь, это добиться с коалицией дорогостоящей ничьей; военные цели войны со стороны Людовика XIV нигде не были достигнуты. Единственным приобретением Франции по Рисвикскому миру было европейское признание аннексии Страсбурга, состоявшейся еще до войны. Остальные оккупированные территории должны были быть освобождены, а французский флот изгнан с морей. Для финансирования войны на поток было поставлено изобретение новых должностей, титулы выставлялись на аукцион, насильственные займы и государственная рента выросли в разы, ценой валюты манипулировали, и впервые был установлен подушный налог, которого не смогла избежать даже аристократия [129] . Деревню охватили инфляция, голод и депопуляция. Однако уже через пять лет Франция вновь нырнула в европейский конфликт за Испанское наследство. Дипломатическая бездарность Людовика XIV и его грубые провокации опять скрепили максимальную антифранцузскую коалицию в ходе решающего военного соперничества, в которое она вступила. Завещание Карла II было составлено в пользу французского наследника, французские войска оккупировали Фландрию, Испания управлялась французскими эмиссарами, контракты на работорговлю с ее американскими колониями переданы французским купцам, а изгнанный претендент-Стюарт нарочито приветствовался как легитимный английский монарх. Намерение Бурбонов монополизировать всю Испанскую империю, отказываясь от ее раздела или уменьшения обширных испанских владений, неизбежно объединил Австрию, Англию, Голландию и большую часть Германии против нее. Потянувшись за всем сразу, французский абсолютизм в результате не сохранил почти ничего от своей попытки политической экспансии. Армия Бурбонов – теперь уже численностью 300 тысяч, вооруженная ружьями и штыками, была истреблена под Бленхаймом (Blenheim), Рамийи (Ramillies), Турином, Уденарде (Oudenarde), Мальплаке (Malplaquet). Сама Франция пережила вторжение, а система откупов рухнула, валюта девальвировалась, в столице начались хлебные бунты, морозы и голод поразили сельскую местность. Тем не менее за исключением восстания гугенотов в Севеннах (Cevennes) крестьянство осталось спокойным. Правящий класс сомкнул ряды вокруг монархии, несмотря на самодержавную дисциплину и внешнеполитические катастрофы, потрясшие все общество.
Спокойствие наступило только после окончательного поражения в войне. Условия мира были смягчены из-за раскола в коалиции победителей, что позволило младшей ветви династии Бурбонов сохранить свою власть над Испанией ценой политического отделения от Франции. Во всем остальном разрушительные испытания не принесли галльскому абсолютизму никакой выгоды. Они только установили власть Австрии над Нидерландами и Италией и сделали Англию хозяйкой колониальной торговли в Испанской Америке. Парадокс французского абсолютизма состоял в том, что его величайшее процветание внутри страны не совпало с величайшим влиянием в международных делах; напротив, именно несовершенная и неполная государственная структура Ришелье и Мазарини, с ее институциональными аномалиями и израненная внутренними мятежами достигла впечатляющих успехов за рубежом, тогда как консолидированная и стабилизированная монархия Людовика XIV с ее невероятно выросшей силой и армией показательно провалилась в попытке установить господство в Европе или получить заметные территориальные приращения. Институциональное строительство и внешняя экспансия в случае Франции сместились по фазе и поменялись местами. Причина этого лежала, конечно, в ускорении времени по сравнению с развитием абсолютизма в целом в морских странах – Голландии и Англии. Испанский абсолютизм доминировал в Европе на протяжении ста лет; впервые остановленный голландской революцией, он окончательно проиграл французскому абсолютизму в середине XVII в. Французский абсолютизм, однако, не получил сравнимой гегемонии в Западной Европе. Уже через го лет после Пиренейского договора его экспансия была остановлена. Окончательное поражение Людовика XIV было результатом не множества его стратегических ошибок, а изменения относительного положения Франции в европейской политической системе, сопутствовавшего Английской революции 1640–1660 гг. и государственному перевороту 1688 г. [130] Именно экономический подъем английского капитализма и политическая консолидация его государства в конце XVII в. застали врасплох французский абсолютизм, несмотря на то что он сам еще переживал период своего расцвета. Настоящими победителями войны за испанское наследство были купцы и банкиры Лондона: они создали всемирный британский империализм. Позднефеодальное Французское государство было остановлено двумя капиталистическими государствами неравной силы – Англией и Голландией – при помощи Австрии. Абсолютизм Бурбонов был по сути гораздо более сильным и цельным, чем испанский, однако и силы, собранные против него, тоже были пропорционально более могущественными. Усердная внутренняя подготовка Людовика XIV к внешнему господству оказалась тщетной. Час верховенства Версаля в Европе, казавшийся таким близким в 1660-е гг., так никогда и не пробил.
Начало эпохи Регентства в 1715 г. показало социальную реакцию на это поражение. Высшая аристократия, чьи долго сдерживавшиеся обиды на королевскую автократию вдруг получили свободу, немедленно вернулась. Регент получил согласие парламента Парижа отвергнуть завещание Людовика XIV в обмен на восстановление традиционного права на ремонстрацию (выражение протеста); правительство попало в руки пэров, которые немедленно прекратили действие системы министерств усопшего короля, приняв на себя прямую власть в так называемой полисинодии. Таким образом, регентство институционально восстановило как дворянство шпаги, так и дворянство мантии. Новая эпоха фактически усилила открыто классовый характер абсолютизма: В XVIII в. неаристократическое влияние в государственном аппарате уменьшалось, вместе с укреплением коллективного господства все более единой высшей аристократии. Захват магнатами регентства не продолжался долго: при Флери и двух слабых королях, сменивших его, система принятия решений на вершине государства вернулась к старой министерской модели, более не контролировавшейся монархом. Однако аристократия начиная с того времени мертвой хваткой вцепилась в высшие должности в правительстве: с 1714 по 1789 г. только три министра не были титулованными аристократами [131] . Юридические магистраты парламентов теперь также формировались узкой стратой дворян, как в Париже, так и в провинциях, от которой незнатные люди были отстранены. Королевские интенданты, когда-то бывшие бичом провинциальных землевладельцев, в свою очередь превратились фактически в наследственную касту: 14 из них в правление Людовика XVI были сыновьями интендантов [132] . Все архиепископы и епископы Церкви ко второй половине века были благородного происхождения, а большинство аббатств, монастырей и должностей каноников контролировались тем же классом. Высшее военное командование армии было занято грандами; покупка армейских должностей нуворишами (roturiers ) была запрещена в 1760-е гг., когда стало необходимо доказать неопровержимое благородное происхождение для того, чтобы претендовать на ранг офицера. Аристократический класс в целом сохранял строго позднефеодальный статус: это был юридически определенный орден из примерно 250 тысяч человек, исключенных из общего налогообложения и пользовавшихся монополией на должности в высших эшелонах бюрократии, судебной системы, духовенства и армии. Его внутренние подразделения были скрупулезно определены в теории, и между высшими пэрами и сельским мелкопоместным дворянством ( hobereaux) существовала пропасть. Однако на практике «смазка» деньгами и родственными связями делала высший слой гораздо более гибко определенной группой, чем когда-либо ранее. Французская аристократия в эпоху Просвещения обладала полной гарантией своего положения в структурах абсолютистского государства. И все же непреодолимое чувство дискомфорта и трений сохранялось между аристократией и монархией даже в этот последний период оптимального союза между ними. Ибо абсолютизм, неважно, насколько близок по духу был его персонал и насколько привлекательны его услуги, оставался недосягаемой и безответственной силой, вершившей дела над головой аристократии как целого. Условием его эффективности как государства была структурная дистанция между ним и классом, из которого он рекрутировался и чьи интересы защищал. Аристократия во Франции никогда не стала безусловно доверять и принимать абсолютизм: его решения не были подотчетны титулованному ордену, который дал ему жизнь. Это было необходимым условием из-за врожденной природы самого класса, но также из-за опасности необдуманных и произвольных действий, которые мог предпринять монарх. Полнота королевской власти, даже осуществляемой в мягкой форме, порождала дворянское недовольство ею. Монтескье – президент парламента Бордо при «легком» режиме Флери – нашел идейную форму для нового типа аристократической оппозиции, характерной для этого века.
На деле, монархия Бурбонов в XVIII в. сделала немного шагов по нивелированию «промежуточных властей», которые так превозносил Монтескье. Старый режим во Франции сохранял джунгли необычной юрисдикции, разделений и институтов— pays s’etats, pays d’elections, parlements, seneschaussees, generalites – до самой революции. После Людовика XIV практически не происходило дальнейшей рационализации политической системы: так и не возник единый таможенный тариф, система налогообложения, юридический кодекс или система местной администрации. Единственная попытка монархии добиться нового единообразия в одном из институтов была попытка теологического подчинения духовенства путем преследования янсенизма, с которым неустанно боролся парламент Парижа во имя традиционного галликанства. Анахроничный спор по этому идеологическому вопросу был главным раздражителем в отношениях между абсолютизмом и дворянством мантии от Регентства до эпохи Шуазеля, когда иезуиты были изгнаны из Франции парламентами, в символической победе галликанства. Гораздо более серьезным был финансовый тупик, в который зашли монархия и магистраты. Людовик XIV оставил государство в огромных долгах, регентство уменьшило их наполовину с помощью системы законов, но стоимость внешней политики от войны за Австрийское наследство и далее, в сочетании с экстравагантностью двора поддерживали казну в состоянии постоянно углублявшегося дефицита. Последовательные попытки наложить новые налоги, нарушив фискальный иммунитет аристократии, наталкивались на сопротивление или саботаж парламентов и провинциальных штатов, которые отказывались регистрировать эдикты или принимали возмущенные ремонстрации. Объективные противоречия абсолютизма раскрылись здесь в их наиболее явной форме. Монархия пыталась обложить налогом богатство аристократии, тогда как аристократия требовала контроля над политикой монархии: благородное сословие, таким образом, отказывалось уступить свои экономические привилегии без того, чтобы получить политические права по контролю над королевским государством. В своей борьбе против абсолютистских правительств по этому вопросу юридическая олигархия парламентов все больше использовала радикальный язык философов : кочующие буржуазные идеи свободы и представительства все чаще стали появляться в риторике одной из самых косных, консервативных и кастовых ветвей французской аристократии [133] . К 1770-1780-м гг. любопытное культурное заражение групп аристократии идеями низших сословий было во Франции отчетливо выражено.
Дело в том, что XVIII в. стал временем быстрого роста рядов и богатств местной буржуазии. Эпоха, начавшаяся с регентства, была временем экономической экспансии, с вековым ростом цен, относительным аграрным процветанием (по меньшей мере в 1730–1774 гг.) и демографическим выздоровлением: население Франции выросло примерно с 18–19 до 25–26 миллионов человек в 1700–1789 гг. Хотя сельское хозяйство оставалось доминирующей отраслью производства, мануфактуры и торговля заметно развились. Продукция французской промышленности увеличилась примерно на 60 % за это столетие [134] , настоящие фабрики начали появляться в текстильной отрасли, было положено начало металлургической и угольной промышленности. Гораздо более быстрым, однако, был прогресс торговли, особенно на международной и колониальной аренах. С 1716–1720 по 1784–1788 гг. внешняя торговля выросла в 4 раза, с постоянным экспортным излишком. Колониальная торговля достигла еще большего роста с развитием сахарных, кофейных и хлопковых плантаций на Антильских островах; в последние годы перед революцией она достигла 2/з уровня внешней торговли [135] . Торговый бум естественным образом стимулировал урбанизацию; в городах строили новые дома, и к концу века провинциальные города Франции все еще значительно превосходили английские в размерах и численности населения, несмотря на гораздо более высокий уровень индустриализации по ту сторону Ла-Манша. Между тем продажа должностей сокращалась по мере овладения аристократией государственным аппаратом. Абсолютизм XVIII в. перешел на общественные займы, которые не создавали того же уровня близости с государством: рантье не получали дворянства или налогового иммунитета, как чиновники ( officiers) до них. Самой богатой группой класса французских капиталистов оставались финансисты, чьи спекулятивные инвестиции собирали огромную прибыль с армейских контрактов, откупов и королевских заимствований. Одновременное уменьшение доступа незнатных людей к феодальному государству и развитие торговой экономики вне него освободили буржуазию от ее подчиненности и зависимости от абсолютизма. Купцы, промышленники и корабельщики времен Просвещения, а также адвокаты и журналисты, выросшие вместе с ними, теперь все больше процветали за рамками государства, с неминуемым результатом для политической автономии буржуазного класса как целого.
Монархия, со своей стороны, уже показала свою неспособность защитить интересы буржуазии, даже когда они номинально совпадали с интересами самого абсолютизма. Нигде это не было более ясно, чем во внешней политике позднего государства Бурбонов. Войны этого столетия точно следовали традиционной модели. Небольшие аннексии земли в Европе всегда на практике получали приоритет над защитой или присоединением заморских колоний; морская и торговая мощь приносилась в жертву территориальному милитаризму [136] . Флери, стремившийся к миру, успешно добился поглощения Лотарингии в кратких кампаниях из-за Польского наследства в 1730-е гг., от которых Англия держалась в стороне. Во время войны за Австрийское наследство в 1740-е гг., однако, английский флот наказывал французскую торговлю на всем пути от Карибов до Индийского океана, нанеся огромные торговые потери Франции, пока Саксония завоевывала Южные Нидерланды в завершенной, но тщетной наземной кампании: мир восстановил status quo ante с обеих сторон, но стратегические уроки были уже ясны для Питта в Англии. Семилетняя война (1756–1763), в которой Франция обязалась поддержать австрийскую атаку на Пруссию вопреки любому разумному династическому интересу, принесла несчастье колониальной империи Бурбонов. Континентальная война велась на этот раз апатично французскими армиями в Вестфалии, пока морские сражения, начатые Британией, смели Канаду, Индию, Западную Африку и Вест-Индию. Дипломатия Шуазеля восстановила владения Бурбонов на Антильских островах по условиям Парижского мира, но шанс, что Франция будет руководить торговым империализмом в мировом масштабе, был упущен. Американская война за независимость позволила Парижу достичь политического реванша над Лондоном «по доверенности»; однако французская роль в Северной Америке, хотя жизненно важная для успеха американской революции, была, по сути дела, мародерской операцией, которая не принесла никаких приобретений Франции. В самом деле, именно стоимость интервенции Бурбонов в войну за американскую независимость привела к последнему фискальному кризису французского абсолютизма. К 1788 г. государственный долг был таким большим – выплата процентов по нему составляла почти 50 % расходов бюджета – и бюджетный дефицит таким острым, что последние министры Людовика XVI Калонн и Ломени де Бриен решились наложить земельный налог на аристократию и духовенство. Парламенты яростно сопротивлялись этим схемам, монархия в отчаянии издала декрет об их роспуске, затем отступила перед озабоченностью собственнических классов и восстановила их, а в конце концов капитулировала перед требованием парламентов о созыве Генеральных штатов для получения их согласия на налоговую реформу, созвало три сословия в условиях катастрофического дефицита зерна, широкой безработицы и народных страданий в 1789 г. Аристократическая реакция против абсолютизма вслед за этим перешла в буржуазную революцию, которая свергла ее. Историческое крушение французского абсолютистского государства было прямо связано с негибкостью его феодальной структуры. Фискальный кризис, который детонировал в революции 1789 г., был спровоцирован его юридической неспособностью обложить налогом класс, который оно представляло. Сама негибкость связей между государством и аристократией в конечном счете предопределила их общее падение.
5. Англия
В Средние века английская феодальная монархия была гораздо более могущественной, чем французская. Монархи Нормандской и Анжуйской династий создали королевское государство, не имевшее себе равных по влиянию и силе во всей Западной Европе. Именно сила английской средневековой монархии позволила ей предпринимать амбициозные территориальные авантюры на европейском континенте, тесня Францию. Столетняя война (1337–1453), во время которой сменявшие друг друга английские короли и их аристократия попытались завоевать и удерживать огромные территории Франции, находившиеся за опасным морским барьером, представляла собой уникальное военное предприятие Средневековья, демонстрируя организационное превосходство островного государства. Но сильнейшая средневековая монархия на Западе в конце концов породила слабейший и недолговечный абсолютизм. В то время как Франция превратилась в самое внушительное абсолютистское государство в Западной Европе, Англия создала необычно мягкий вариант абсолютистского режима. Переход от средневековой к ренессансной эпохе, таким образом, совпал в английской истории – несмотря на все местные легенды о непрерывной «последовательности» – с глубоким и радикальным отходом от многих наиболее характерных черт прежнего феодального развития. Естественно, определенные средневековые структуры наибольшей важности были сохранены и унаследованы. Именно эта противоречивая смесь традиций и новых явлений объясняет особый политический перелом, случившийся на острове в эпоху Ренессанса.
Ранняя административная централизация нормандского феодализма, связанная как с изначальным военным завоеванием, так и со скромными размерами страны, породила, как мы видим, необыкновенно маленький и регионально единый класс знати, в котором никогда не было владык полунезависимых земель, сравнимых с существовавшими на европейском континенте. Города, наследовавшие англосаксонские традиции, были частью королевского домена с самого начала и поэтому пользовались коммерческими привилегиями, но не политической автономией коммун (как это было в Европе): они никогда не были многочисленными или достаточно сильными в средневековую эпоху, чтобы бросить вызов своему подчиненному положению [137] . Руководители Церкви здесь так и не смогли сформировать больших консолидированных сеньориальных анклавов. Таким образом, средневековая монархия в Англии была избавлена от опасностей, подстерегавших централизованную власть во Франции, Италии или Германии. Результатом стала параллельная централизация в рамках средневековой политической системы, как королевской власти, так и представительства знати. Эти два процесса в действительности не противоречили, а дополняли друг друга. В парцеллярной системе феодального суверенитета власть монарха, являвшегося верховным сюзереном, в целом могла существовать только при поддержке особых вассальных ассамблей, способных оказывать чрезвычайную экономическую и политическую поддержку, вне иерархии персональной зависимости, пронизывающей общество. Поэтому средневековые сословия, как указывалось выше, никогда прямо не противостояли власти монарха: они часто были непременным условием ее существования. Нигде в Европе XII столетия не было точной копии той королевской власти и администрации, какая принадлежала Анжуйской династии в Англии. Но личная королевская власть монарха весьма скоро стала сопровождаться властью ранних коллективных институтов правящего класса феодалов, носивших уникально унитарный характер – парламентов. Существование средневековых парламентов в Англии начиная с XIII в., конечно, не являлось национальной особенностью. Их отличие заключалось скорее в том, что они были одновременно «единственными» и «объединяющими» институтами [138] . Другими словами, существовала только одна такая ассамблея, представительство в которой совпадало с границами самой страны, а не множество разных для отдельных провинций; кроме того, состав английских парламентов не предполагал деления на три сословия – знать, духовенство и бюргеров, как было распространено на европейском континенте. Со времен Эдварда III (1327–1377) в английском парламенте рыцари и города постоянно были представлены вместе с баронами и епископами. Двухпалатная система лордов и общин явилась результатом дальнейшего развития института, когда парламент разделился не по сословиям, но по четко обозначенному внутриклассовому различию среди знати. Централизованная монархия породила единый парламент.
Из ранней централизации английской феодальной политики вытекали два следствия. Единые парламенты, которые собирались в Лондоне, не получили ни возможности тщательного фискального контроля, ни права регулярного созыва, которыми позже характеризовались некоторые из европейских континентальных сословных систем. Но они отстояли традиционное право ограничения королевской законодательной власти, что приобрело большое значение в эпоху абсолютизма; со времени правления Эдварда I (1272–1307) утвердилось правило, что ни один монарх не может издавать новые законы без согласия с парламентом [139] . Очевидно, это право вето соответствовало объективной необходимости власти аристократии. В действительности, поскольку географически и технически формирование централизованного королевского управления в Англии оказалось легче, чем где-либо еще, то там в такой же степени меньше потребность в том, чтобы она изобретала для себя дополнительное право законодательства ввиду отсутствия опасности регионального сепаратизма или анархии герцогов. Таким образом, в то время как реальная исполнительная власть средневековых королей Англии была обычно большей, чем у французских монархов, по тем же самым причинам они никогда не получали той относительной законодательной автономии, которой пользовались их французские коллеги. Второй отличительной чертой английского феодализма было необычное слияние монархии и знати на местном правовом и административном уровнях. Хотя по всему европейскому континенту судебная система было обычно разделена на личную королевскую и сеньориальную юрисдикции, в Англии процветание дофеодальных народных судов создавало своего рода почву, на которой могло быть достигнуто слияние обеих. Шерифы, обеспечивавшие руководство местными судами в графствах, были ненаследственными королевскими назначенцами; тем не менее они выбирались из местного дворянства, а не из среды столичных чиновников; сами же суды сохранили остатки своего первоначального характера народных судебных собраний, в которых участвовали на равных правах все свободные люди сельского сообщества. В результате английское правосудие не превратилось ни во всестороннюю систему профессиональных королевских судей ( baili , бальи), ни в обширную систему баронских «высших судов« (haute justice); вместо этого в английских округах появилось неоплачиваемое самоуправление аристократии, которое позже разовьется в систему мировых судов раннего Нового времени. В средневековый период, конечно, местные суды графств уравновешивались сосуществованием с манориальными судами и различными сеньориальными привилегиями классического феодального типа, которые встречались повсюду в Европе.
В то же время средневековая знать Англии была таким же воинственным и хищным классом, как и повсюду в Европе; она отличалась размахом и постоянством во внешней агрессии. Ни одна феодальная аристократия позднего Средневековья не участвовала в таких далеких от своей территориальной базы и свободных походах всем сословием. Повторяющиеся грабежи Франции во время Столетней войны (1337–1453) были самым ярким проявлением этого милитаризма: но были еще и Шотландия и Фландрия, рейнские земли и Наварра, Португалия и Кастилия, которые становились целями вооруженных экспедиций англичан в XIV в. Английские рыцари сражались повсюду от Ферта в Шотландии до Эбро в Италии в эту эпоху. Военная организация этих экспедиций отражала местное развитие монетизированного «бастардного феодализма». Последнее типичное феодальное войско, собранное на основе зависимости от земельного владения, было созвано для похода Ричарда II на Шотландию. Сражения Столетней войны уже представляли собой битвы наемных отрядов, сформированных на контрактной основе крупными земельными магнатами для короля и подчинявшихся только своим капитанам. Дополнительные силы предоставляли монархам английские графства и иностранные наемники. Поскольку регулярное или профессиональное войско в тот период отсутствовало, то и масштаб экспедиций был скромным: во Францию никогда не отправляли больше, чем 10 тысяч воинов. Знать, возглавлявшая эти набеги на территории Валуа, занималась в основном грабежом. Добыча, выкуп и земля составляли предмет их амбиций. Самые удачливые капитаны значительно обогащались на войнах, в которых английские войска раз за разом побеждали превосходившие их французские силы, пытавшиеся их изгнать. Но стратегическое превосходство английских захватчиков на протяжении большей части долгого конфликта не было связано, как может в ретроспективе показаться, с контролем над морями. Средневековые флоты Северного моря состояли не более чем из импровизированных кораблей – перевозчиков войск; это были в основном торговые суда, привлеченные лишь на время военных действий и не способные патрулировать моря постоянно. Ареной морских сражений все еще оставалось Средиземноморье, а главным оружием – весельная галера. Нет никаких сведений о морских битвах той эпохи в Атлантике: это были мелкие стычки, происходившие в небольших заливах или устьях рек (Слёйс или Ла-Рошель), где сражавшиеся суда могли сойтись для абордажа и рукопашного боя своих воинов. Ни о каком стратегическом «морском превосходстве» не могло быть и речи в ту эпоху. Поэтому побережья с обеих сторон Ла-Манша оставались одинаково незащищенными от высадки войск со стороны моря. В 1386 г. Франция собрала самые большие войско и флот за всю войну для полномасштабного вторжения в Англию. В планах обороны острова даже и не предполагался перехват этого флота в море. Было решено во избежание потерь оставить английский флот на Темзе, а врага заманивать в ловушку вглубь острова [140] . В тот раз вторжение не состоялось, но беззащитность Англии со стороны моря была очевидна во время войны, в которой морские набеги играли ту же роль, что и кавалерийские атаки ( chevauchees) на суше. Французский и кастильский флоты, используя мобильные галеры южного (средиземно-морского) типа, захватили, разграбили или сожгли ужасающее количество портов на всем побережье от Девона до Эссекса: среди других городов Плимут, Саутгемптон, Портсмут, Льюис, Гастингс, Уинчелси, Рай, Грейвсенд и Гарвич захватывались или подвергались ограблению в течение конфликта.
Английское превосходство в ходе Столетней войны, приведшее к тому, что постоянным полем сражений, сопровождавшихся разрушениями и грабежами, была Франция, не являлось результатом превосходства на море [141] . Оно было следствием глубокой политической интеграции и единства английской феодальной монархии, чья административная способность эксплуатировать свои патримонии и сплачивать свою знать до самого конца войны была гораздо большей, чем у французской монархии, измотанной нелояльными вассалами в Бретани или Бургундии и ослабленной своими ранними неудачными попытками отобрать английский феод в Гиени. Лояльность английской аристократии закреплялась успешными военными походами, которыми руководили английские принцы-военачальники. Ситуация не изменялась до тех пор, пока французская феодальная политика не была реорганизована Карлом VII на новой фискальной и военной основе. Как только англичане лишились своих бургундских союзников, их силы относительно быстро были вытеснены большими и лучше оснащенными французскими войсками. Ужасным последствием окончательного краха английской мощи во Франции стало начало Войны Алой и Белой Розы. Поскольку победоносная королевская власть больше не объединяла высшую знать, позднесредневековая военная машина развернулась против внутренних врагов и обрушилась на Англию, представ как в виде жестоких банд и одиночек, разорявших владения магнатов, так и соперничающих узурпаторов, сражавшихся за английский трон. Гражданская война в конечном счете закончилась в 1485 г. на поле Босворта победой новой королевской династии Тюдоров.
Правление Генриха VII постепенно подготовило появление новой монархии в Англии. При последних Ланкастерах аристократические фракции заметно укрепили парламенты и управляли ими в своих целях, тогда как Йорки боролись в условиях анархии за новое усиление центральных институтов королевской власти. Будучи Ланкастером по происхождению, Генрих VII фактически развивал административную практику Йорков. До Войны Роз парламенты заседали фактически ежегодно, и в первое десятилетие после битвы при Босворте они продолжали собираться так же. Но как только стабильность в стране и обществе была восстановлена, а власть Тюдоров укреплена, Генрих VII нарушил эту традицию: с 1497 по 1509 г– последние 12 лет его царствования – парламент собрался только один раз. Централизованное королевское правление осуществлялось через маленький кружок личных советников и прихвостней монарха. Его главной целью было покорение необузданной власти магнатов в предшествующие годы, сопровождавшейся террором бандитских дружин их вооруженных слуг, систематическим давлением на правосудие и постоянными междоусобными войнами. Эта политика Генриха VII проводилась с большим постоянством и успехом, чем при Йорках. Прерогатива высшего правосудия над знатью была предписана «Звездной палате», коллегиальному суду, который отныне стал главным политическим орудием монархии против бунта или мятежа. Региональные недовольства на севере и западе страны (где лорды заявляли, что владеют землей по праву завоевания, а не потому, что их наделил ею монарх) были пресечены специальными советами, созданными, чтобы контролировать ситуацию на местах (in situ). Расширенные права защиты и полусуверенные частные привилегии магнатов были отменены, банды вооруженных слуг распущены. Местные органы власти попали под королевский контроль путем тщательного отбора мировых судей (Justices of the Peace – ) и наблюдения с их стороны; опасные восстания со стороны региональных вождей подавлялись. Появился прообраз полицейских органов – малые вооруженные отряды [142] . Королевский домен увеличился вчетверо за время правления благодаря возвращению земель. Также усилилась и феодальная эксплуатация, выросли таможенные пошлины. К концу правления Генриха VII общий королевский доход утроился, создав запас в казне от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов [143] Таким образом, династия Тюдоров заложила многообещающий фундамент строительства английского абсолютизма на рубеже XV–XVI вв. Генрих VIII унаследовал от отца сильную власть и растушую казну.
Первые 20 лет правления Генриха VIII не принесли больших изменений в стабильное внутреннее положение монархии Тюдоров. Руководство страной при кардинале Уолси не претерпело никаких крупных институциональных перемен, кроме того, что кардинал сконцентрировал в своих руках беспрецедентную власть над англиканской церковью как папский легат. И король, и первый министр были главным образом озабочены внешней политикой государства. Небольшие кампании против Франции в 1512–1514 и 1522–1525 гг. стали главными событиями этого периода. Чтобы справиться с финансовыми затратами на военные экспедиции, потребовалось провести два недолгих заседания парламента [144] . Попытка Уолси собрать нефиксированный («дружеский») налог вызвала оппозицию Генриху VIII со стороны имущих слоев, но в тот момент еще не было никакого предчувствия драматического развития королевской политики в Англии. Все изменил «брачный» кризис 1527–1528 гг., вызванный решением короля развестись со своей испанской женой и последующим тупиком в отношениях с Папой Римским, поскольку дело касалось наследования трона. Для того чтобы устранить препятствие в лице Папы, связанное с вдохновленной династической враждебностью германского императора по поводу второго брака Генриха VIII, было необходимо новое и радикальное законодательство, а также национальная политическая поддержка против и Клемента VII, и Карла V.
Так, в 1529 г. Генрих VIII созвал парламент, заседавший без перерыва по 1539 г., чтобы обеспечить поддержку земельного класса в борьбе с Папой Римским и Священной Римской империей, а также в вопросе подчинения Церкви английскому государству. Это возрождение полузабытого института не было, однако, конституционной капитуляцией Генриха VIII или Томаса Кромвеля, который стал архитектором королевской политики в 1531 г.: обращение короля за помощью к парламенту означало не ослабление власти монарха, а скорее – новый шаг к ее укреплению. Парламенты Реформации не только увеличили власть монархии, передав ей контроль над всем аппаратом Церкви. Под руководством Кромвеля они также подавили сеньориальную автономию, лишив магнатов права назначать мировых судей, объединили всю протестующую знать в графствах и включили Уэльс юридически и административно в английское королевство. Еще более существенным шагом стал роспуск монастырей и конфискация их огромных богатств в пользу государства. В 1536 г. комбинация политической централизации и религиозной реформации вызвала опасное восстание на севере страны, бунт «благодатного паломничества» (Pilgrimage of Grace), ставший региональной реакцией против сильного королевского государства того типа, который был характерен для Западной Европы в ту эпоху [145] . Восстание было быстро подавлено, и был создан новый постоянный Северный совет, для того чтобы удерживать земли за Трентом. Между тем центральная бюрократия при Кромвеле была увеличена и реорганизована, он преобразовал должность королевского секретаря в самый высокий министерский пост и создал основы постоянного Тайного совета [146] . Вскоре после падения министра Тайный совет был формально институционализирован в качестве внутреннего исполнительного инструмента монархии и в будущем стал центром государственной машины Тюдоров. Статуты и прокламации, очевидно разработанные, чтобы передать монархии чрезвычайные законодательные полномочия, и ставившие под сомнение будущее парламента, были в конечном счете нейтрализованы палатой общин [147] .
Но это не мешало Генриху VIII проводить кровавые чистки министров и магнатов или создать тайную полицейскую службу, занимавшуюся доносами и арестами. Государственный репрессивный аппарат регулярно увеличивался в течение всех лет правления Генриха VIII, к концу которого были приняты 9 законов об измене [148] .
Использование Генрихом VIII парламента, от которого он не ожидал и не получал большого беспокойства, опиралось на легалистский подход: он был необходимым средством для достижения целей короля. Национальный абсолютизм находился в процессе становлении в унаследованных рамках английского феодального государства, которое передало парламенту уникальные полномочия, что можно сравнить с любым подобным процессом на континенте. Реальная власть Генриха VIII в его государстве на протяжении его жизни была точно такой же, как и его конкурента во Франции Франциска I.
И все же новая монархия Тюдоров в своих действиях имела одно фундаментальное ограничение, которое ставит ее особняком в ряду аналогичных институтов за рубежом: у нее не было существенного военного аппарата. Чтобы понять, почему английский абсолютизм принял столь своеобразную форму, доминировавшую в XVI – начале XVII в., необходимо выйти за пределы национального наследия в законодательной деятельности парламента и посмотреть на весь международный контекст Европы эпохи Возрождения. В то время как государство Тюдоров успешно проходило внутреннюю перестройку, геополитическое положение Англии испытывало быстрые и решительные перемены. В эпоху Ланкастеров внешнеполитическая мощь Англии могла сравниться или превосходила любую другую страну континента из-за более развитой природы феодальной монархии в Англии. Но в начале XVI в. баланс сил между ведущими западными державами полностью изменился. Испания и Франция – две жертвы английского вторжения в предшествовавшую эпоху– теперь были энергичными и агрессивными монархиями, оспаривавшими друг у друга захват Италии. Обе они неожиданно обогнали Англию. Все три монархии достигли примерно одинаковой внутренней консолидации, но это было именно такое выравнивание, которое позволило естественным преимуществам двух континентальных держав той эпохи впервые стать решающими. Франция превыщала Англию по численности населения в 4–5 раз, Испания же в этом отношении превосходила Англию вдвое, и это не считая ее американской империи и европейских владений. Такое демографическое и экономическое превосходство усиливалось географической необходимостью для обеих стран по причине постоянной войны в то время совершенствовать современные наземные войска на регулярной основе. Создание «ордонансных рот» (compagnies d’ordonnance) и терций ( tercios ), использование наемной пехоты и полевой артиллерии, – все это вело к организации нового типа королевского военного аппарата – более крупного и более затратного, чем все известные в средневековый период. Увеличение военной мощи было обязательным условием выживания для континентальных монархий эпохи Возрождения. У государства Тюдоров не было этого императива из-за его островного положения. С одной стороны, постепенный рост размеров армий и военных расходов в раннее Новое время и транспортные проблемы с перевозкой и снабжением большого количества солдат по воде сделали средневековый тип заморских экспедиций, в которых выделялась Англия, в большей степени анахронизмом. Военное превосходство новых континентальных держав, основанное на внушительных финансовых и человеческих ресурсах, предотвратило любое повторение кампаний Эдуарда III или Генриха V. С другой стороны, такое континентальное господство не было подкреплено равным морским могуществом; военно-морское дело оставалось, по сути, средневековым, что позволяло Англии пребывать в относительной безопасности, не опасаясь морского десанта. Результатом стал критически важный переход к «новой монархии» в Англии; у государства Тюдоров не было ни возможности, ни необходимости создавать военный механизм, сравнимый с тем, что был в распоряжении французского или испанского абсолютизма.
Однако субъективно ни Генрих VIII, ни его поколение среди английской знати еще не были способны понять новую международную ситуацию. Воинственная гордость и континентальные амбиции их средневековых предшественников все еще жили в памяти английского правящего класса того времени. Сам сверхосторожный Генрих VII, возродивший притязания Ланкастеров на французский престол, стремился предотвратить поглощение династией Валуа Бретани и активно строил планы наследования Кастилии. Уолси, который в последующие 20 лет направлял внешнюю политику Англии, выступил в качестве арбитра в достижении европейского согласия в период подписания Лондонского договора и стремился никак не меньше, чем к самому итальянскому папству. Генрих VIII, в свою очередь, питал надежды стать императором Германии. Эти грандиозные планы рассматривались поздними историками как нереальные фантазии; в действительности они отражали затруднения английских правителей в осознании своего места в новой дипломатической ситуации, в которой положение Англии в реальности стало весьма слабым, причем именно в такое время, когда их власть внутри страны значительно усилилась. В действительности именно утрата международного положения, незамеченная местными сторонниками, лежала в основе всех просчетов с королевским разводом. Ни кардинал, ни король не понимали, что папство вынуждено подчиняться превосходящему давлению Карла V из-за господства власти Габсбургов над Европой. Франко-испанская борьба за Италию отодвинула на обочину Англию – беспомощного наблюдателя, интересы которого в курии не имели никакого веса. Результатом удивительного открытия стал переход «защитника веры» в стан Реформации. И все же провалы внешней политики Генриха VIII не ограничивались его пагубными дипломатическими ошибками. В трех случаях монархия Тюдоров попыталась вмешаться в войны между Габсбургами и Валуа в Северной Франции, предприняв экспедицию через Ла-Манш. Армии, отправленные в кампании 1512–1514, 1522–1525 и 1543–1546 гг., будучи неизбежно значительного размера, состояли из английского ополчения, увеличенного за счет иностранных наемников: 30 тысяч – в 1512 г.; 40 тысяч – в 1544 г. Их высадка не имела каких-либо серьезных стратегических целей и не принесла значительных приобретений; уход англичан с линии борьбы между Испанией и Францией продемонстрировал как свою дороговизну, таки бесполезность. Но эти «бесцельные» войны Генриха VIII, отсутствие какой-либо логической причины для которых столь часто отмечалось, не были лишь результатом личной прихоти; они точно соответствовали любопытной исторической паузе, когда английская монархия потеряла свое прежнее значение во Франции, но еще не обрела морской роли, ожидавшей ее в будущем.
Однако нельзя сказать, будто они не имели значительных результатов в самой Англии. Последнее важное предприятие Генриха VIII – его союз с Империей и нападение на Францию в 1543 г., имел роковые последствия для будущего английской монархии. Военная интервенция на континент была проведена плохо; расходы на нее возросли неимоверно, достигнув в итоге суммы, превышавшей в 10 раз затраты на первую войну Генриха с Францией; чтобы покрыть эти расходы, государство не только прибегло к вынужденным займам и снижению стоимости монеты, но и начало продавать на рынке сельскохозяйственные угодья, которые были только что отняты у монастырей, составлявшие около земель королевства. Продажа монархией бывших церковных земель к моменту смерти Генриха увеличила военные расходы в несколько раз. Когда же мир был восстановлен, огромное количество таких владений было распродано [149] ; вместе с этим был потерян единственный великий шанс английского абсолютизма создать твердую экономическую базу, независимую от парламентского налогообложения. Такая передача собственности не только ослабила государство в долгосрочной перспективе, но и чрезвычайно усилила джентри, которое представляло основных покупателей этих земель, и их число, а также богатство отныне постоянно росли. Таким образом, одна из самых унылых и нелогичных войн в английской истории оказала большое влияние на внутренний баланс сил в английском обществе.
Действительно, двойственные аспекты последнего эпизода в правлении Генриха во многом предзнаменовывали эволюцию всего английского землевладельческого класса. Ибо в действительности военный конфликт 1540-х гг. был последней в столетии агрессивной войной, которую Англия вела на континенте. Исчезли иллюзии Креси и Азенкура. Но постепенная утрата традиционного призвания глубоко изменило образ английской знати. Отсутствие сдерживающей готовности к вероятному вторжению позволило английской знати в эпоху Возрождения обходиться без модернизированного военного аппарата. Ей непосредственно не угрожали соперничавшие феодальные классы из-за рубежа; и она крайне неохотно, как любая аристократия на такой же стадии ее эволюции, подчинялась широкомасштабному укреплению королевской власти на родине, которое было логическим последствием наличия огромной постоянной армии. В результате в изоляционистском контексте островного королевства демилитаризация самого благородного класса произошла исключительно рано. В 1500 г. каждый английский пэр служил в армии; ко времени Елизаветы, как подсчитано, только половина аристократии имела боевой опыт [150] . Ко времени гражданской войны XVII в. крайне мало дворян имели вообще хоть какой-нибудь военный опыт. Это было гораздо более раннее, чем где-либо на континенте, прогрессирующее отчуждение дворянства от его главной военной функции, которая в средневековом социальном порядке являлась для нее определяющей; это неизбежно имело важные последствия для самого землевладельческого класса. В особом морском контексте так и не произошло умаления его репутации, обычно связанной с глубоким ощущением добродетелей меча и кодифицированной против искушений кошелька. Это, в свою очередь, способствовало постепенному обращению английской аристократии к торговой деятельности задолго до любого другого землевладельческого класса Европы. Распространение овцеводства, которое стало растущим сектором в сельском хозяйстве XV в., естественно, чрезвычайно усилило это обращение, в то время как сельское производство тканей, которое было связано с первым, стало естественным местом приложения дворянских инвестиций. Тем самым был открыт экономический путь, который вел от превращений феодальной ренты XIV–XV вв. к появлению расширявшегося сельскохозяйственного капиталистического сектора в XVII в. Когда он было выбран, стало невозможно поддерживать закрепленный законом особый характер английской знати.
В эпоху позднего Средневековья Англия обнаружила, вместе с большинством других стран, тенденцию к официальной стратификации рангов аристократии с введением новых титулов, после того как изначальная феодальная иерархия вассалов и сеньоров была размыта началом монетизации общественных отношений и распадом классической ленной системы. Повсюду знать чувствовала необходимость создания новой и более сложной иерархии рангов, поскольку в целом стала переживать упадок система личной зависимости. В Англии XIV–XV вв. наблюдалось принятие знатью серии новых титулов герцогов, маркизов, баронов и виконтов, которые стали средством гарантирования первородства в наследовании, отделявшим истинное «пэрство» от остального класса [151] . Отныне этот слой всегда включал самую могущественную и богатую группу внутри аристократии. В то же время была сформирована Геральдическая коллегия, которая придавала законный статус джентри, ограничивая его семьями, имеющими герб, и устанавливая процедуры для исследования претензий на такой статус. Более жесткий двухсословный аристократический порядок, законодательно отделявший находившихся ниже roturiers (простолюдинов), таким образом, мог развиваться в Англии так же, как и в других странах. Но все более невоенные и протокоммерческие интересы знати, стимулировавшиеся продажей земли и аграрным бумом эпохи Тюдоров, сделали невозможным укрепление жесткого барьера [152] . В результате «гербовый критерий» был неэффективен. Однако в Англии появилась характерная особенность, в соответствии с которой границы аристократии не совпадали с патентованным пэрством, представлявшим единственную ее часть, обладающую законными привилегиями, в то время как нетитулованное дворянство и младшие сыновья пэров могли господствовать в так называемой палате общин. Таким образом, характерные особенности английского землевладельческого класса были исторически оформлены; он был в основе исключительно гражданским, торговым по роду деятельности и коммонером по рангу. Этому классу соответствовало государство с небольшой бюрократией, ограниченными налогами и без постоянной армии. Как мы видели, внутренние тенденции развития монархии Тюдоров были поразительно схожи с ее континентальными конкурентами (вплоть до персональных параллелей между Генрихом VII, Людовиком XI и Фердинандом II, с одной стороны, а также Генрихом VIII, Франциском I и Максимилианом I – с другой); но ограниченность такого развития была предопределена характером окружавшей ее аристократии.
Между тем непосредственным наследием последнего вторжения Генриха VIII во Францию была острая нужда сельского населения из-за обесценивания монеты и фискального давления, вызвавших угрожающее положение и временную депрессию в торговле. Поэтому малолетство Эдуарда VI стало временем быстрого упадка политической стабильности и авторитета государства Тюдоров с предсказуемыми интригами крупнейших территориальных владетелей за контроль над двором в десятилетие, отмеченное крестьянскими волнениями и религиозными кризисами. Крестьянские восстания в Восточной Англии и на юго-западе были подавлены итальянскими и немецкими наемниками [153] . Но впоследствии, в 1551 г., эти профессиональные войска были расформированы с целью уменьшить расходы государственной казны; последний за почти три столетия крупный аграрный взрыв был подавлен последними крупными силами иностранных солдат, имевшимися в распоряжении монархии. А тем временем соперничество между герцогами Сомерсетом и Нортумберлендом вместе с их клиентами из менее крупных дворян, чиновников и военных выражалось в подковерных переворотах и контрпереворотах в Тайном совете посреди религиозных трений и династической неопределенности. Казалось, что все единство аппарата государства Тюдоров находится под временной угрозой. И все же опасность реального распада не только исчезла со смертью молодого государя; она вряд ли могла когда-либо вылиться в точную копию аристократических конфликтов во Франции из-за отсутствия в распоряжении противоборствующих магнатов зависимых войск. Развязка интерлюдии в правление Сомерсетов и Нортумберлендов должна была только радикализировать местную Реформацию и укрепить трон монарха перед лицом крупной знати. Короткое правление Марии с его династическим подчинением Испании и эфемерной католической реставрацией почти не оставило политических следов. Последняя опора Англии на континенте была потеряна после отвоевания Францией Кале.
Длительное правление Елизаветы во второй половине столетия в основном восстановило и укрепило внутренний status quo ante без каких-либо радикальных нововведений. Религиозный маятник вернулся к умеренному протестантизму с созданием прирученной англиканской церкви. Королевская власть в идеологическом плане во многом была укреплена, так как личная популярность королевы достигла новых высот. Однако в институциональном плане было сравнительно мало изменений. Во время первой половины правления, в период длительной и спокойной деятельности секретаря Берли ( Burghley ), был окончательно сформирован и укреплен Тайный совет. Уолсингэм расширил сети шпионажа и полиции, направленные главным образом на подавление деятельности католиков. По сравнению с правлением Генриха VIII резко сократилась законодательная деятельность [154] . Соперничество партий внутри высшей знати теперь в основном приняло форму коридорных интриг из-за почестей и должностей при дворе. Последняя серьезная попытка военного путча магнатов, а именно восстание конца царствования под руководством английского Гиза – Эссекса, была легко пресечена. С другой стороны, политическое влияние и богатство джентри, которое изначально поддерживали в противовес пэрам Тюдоры, теперь все более очевидно становились помехой для королевских прерогатив. Созывавшийся главным образом из-за возникновения внешних угроз 13 раз за 44 года, парламент теперь начал демонстрировать независимую позицию по вопросам правительственной политики. За столетие численность палаты общин значительно выросла, с 300 до 460 депутатов, среди которых постоянно увеличивалась доля сельских дворян, поскольку сельские сквайры или их покровители получали места, закрепленные за мелкими городами (borough) [155] . Моральный упадок Церкви после светского господства и доктринальных метаний предшествовавших пятидесяти лет способствовал постепенному распространению в значительных слоях этого класса оппозиционного пуританства. Последние годы правления Тюдоров были отмечены новым упорством и сопротивлением парламента, религиозная назойливость и фискальная обструкция которого заставили Елизавету возобновить продажи королевских земель, чтобы минимизировать свою зависимость от него. Монархическая машина принуждения и бюрократии оставалась очень незначительной по сравнению с ее политическим престижем и исполнительными полномочиями. Более того, у нее не было вооруженных сил для ведения наземной войны, которые ускорили развитие абсолютизма на континенте.
Разумеется, влияние военного искусства эпохи Возрождения отнюдь не прошло мимо елизаветинской Англии. Армии Генриха VIII оставались разнородными и импровизированными по характеру: набранные дома архаичные рекруты-аристократы были перемешаны с фламандскими, бургундскими, итальянскими и «аллеманскими» (немецкими) наемниками, набранными за рубежом [156] . Елизаветинское государство теперь, в эпоху Альбы и Фарнезе, столкнувшееся с реальной и постоянной внешней опасностью, прибегло к увеличению (в обход закона) традиционной в Англии системы вооруженного ополчения, чтобы собрать силы, достаточные для заморских экспедиций. Формально предназначенные для службы в качестве местного ополчения, около 12 тысяч человек, прошли специальную подготовку и содержались для обороны страны. Оставшиеся, часто собранные после облав на бродяг, предназначались для использования за рубежом. Установление подобной системы не создавало постоянной или профессиональной армии, хотя и обеспечивало регулярными военными контингентами в скромных масштабах для выполнения многочисленных внешнеполитических обязательств елизаветинского правительства. В качестве глав рекрутского ведомства большую роль приобрели лорды-наместники графств; медленно вводилась полковая организация, а огнестрельное оружие победило местную привязанность к длинным лукам [157] . Сами контингенты вооруженного ополчения обычно объединялись с солдатами-наемниками: шотландцами или немцами. На континент отправлялась армия, никогда не превышавшая 20 тысяч солдат, то есть половина той, что участвовала в последней экспедиции Генриха; обычно же она была значительно меньше. Эти полки в Нидерландах или Нормандии показали себя не с лучшей стороны. По сравнению с приносимой ими пользой стоимость их была непропорционально высока, помешав какой-либо дальнейшей эволюции в том же направлении [158] . Военная неполноценность английского абсолютизма продолжала препятствовать его экспансионистским целям на континенте. Поэтому елизаветинская внешняя политика направлялась в основном негативными целями: предотвращение восстановления испанского владычества в Соединенных провинциях, предотвращение укрепления Франции в Нижних Землях, предотвращение победы Лиги во Франции. В результате эти ограниченные цели были достигнуты, хотя роль английских армий в завершении самих взаимосвязанных европейских конфликтов была второстепенной. Решающая победа Англии в войне против Испании была достигнута в другом месте – в поражении Армады; но эту победу нельзя было развить на суше. Отсутствие какой-либо позитивной континентальной стратегии вылилось в расточительные и бессмысленные предприятия последнего десятилетия века. Длительная война с Испанией после 1588 г., которая дорого обошлась английской монархии относительно внутреннего дохода, закончилась без приобретения территорий или сокровищ.
И все же английский абсолютизм достиг главного военного завоевания этого периода. Елизаветинский абсолютизм, неспособный на фронтальное наступление против ведущих континентальных монархий, бросил свои крупнейшие армии против бедного и примитивного кланового общества Ирландии. Кельтский остров оставался, вероятно, самым архаичным общественным образованием Запада, а может, и всего континента до конца XVI в. «Последний ребенок Европы» [159] , по выражению Бэкона, находился за пределами римского мира; он не был затронут германскими завоеваниями; завоевания викингов затронули его, но не подчинили. Христианизированная в VI в., ее отсталая клановая система пережила только религиозное обращение без политической централизации; даже Церковь приспособилась к местному общественному порядку в этом отдаленном уголке веры, отказавшись от епископской власти в пользу общинной монастырской организации. Наследственные вожди и аристократы управляли свободными крестьянами, объединенными в большие родовые единицы, и были связаны узами вассалитета. В деревне преобладало скотоводство. Не было централизованной монархии, не существовали города, хотя с VII по IX в., в самый надир «темных веков», повсюду в монастырских общинах процветала письменная культура. Постоянные нападения норманнов в IX–X вв. разрушили культурную жизнь и местные клановые обычаи. Скандинавские анклавы создали первые в Ирландии города; под иноземным давлением, в конце концов, в глубине острова родилась центральная королевская власть, которая в начале XI в. ликвидировала опасность со стороны викингов. Эта случайная ирландская верховная монархия вскоре снова распалась на воюющие союзы, неспособные сопротивляться более серьезному вторжению. В конце XII в. Анжуйская монархия в Англии получила от папства во «владение» Ирландию, и англо-норманские баронские войска вторглись, чтобы подчинить и колонизировать остров. Английский феодализм с его тяжелой кавалерией и крепкими замками постепенно, за чуть более сто лет, установил формальный контроль над большей частью страны, кроме ее крайнего севера. Но плотность англо-норманских поселений была недостаточной, чтобы закрепить военные успехи. В позднесредневековый период, когда энергия английской монархии и знати была направлена в основном на Францию, ирландское клановое общество постепенно восстановило позиции. Область английского правления уменьшилась до маленькой территории Пейл (Pale) вокруг Дублина, за пределами которой располагались разбросанные «вольные» владения территориальных магнатов англо-норманского происхождения (к тому моменту все более «гэлизированных»), в свою очередь окруженные возрожденными кельтскими вождями, зоны контроля которых опять покрывали большую часть острова [160] .
С появлением обновленного государства Тюдоров на рубеже Нового времени связаны первые серьезные попытки восстановить и усилить английское владычество над Ирландией в этом веке. В 1494–1496 гг. Генрих VII направил своего помощника Пойнингса уничтожить автономию местного баронского парламента. Тем не менее могущественная династия Килдаров, брачными узами близко связанная с ведущими гэльскими семьями, продолжала пользоваться самой большой феодальной властью, получив титул лорда-наместника. В правление Генриха VIII правительство Кромвеля начало применять более регулярные бюрократические средства для управления в Пейле; в 1534 г. Килдар был смещен, а мятеж его сына подавлен. В 1540 г. Генрих VIII, будучи отлученным Папой, который изначально пожаловал английской монархии управление Ирландией как «римским феодом», принял новый титул короля Ирландии. На практике, однако, большая часть острова оставалась вне тюдоровской власти, управляемая либо «старыми ирландскими» вождями, либо «староанглийскими лордами», сохранявшими верность католицизму, в то время как Англия подпала под влияние Реформации. За пределами Пейла ко времени Елизаветы было образовано только два графства. Вскоре, как только монархия попыталась укрепить свою власть и создать «новоанглийские» владения протестантских колонистов, чтобы населить страну, вспыхнули сильнейшие восстания: в 1559–1566 гг. (Ольстер), в 1569–1572 гг. (Манстер) и в 1579_1183 гг. (Лейнстер и Манстер). Наконец, во время длительной войны между Англией и Испанией в 1595 г. вспыхнуло повсеместное восстание против Тюдоров под руководством ольстерского кланового вождя О’Нила, призвавшего на помощь Папу и Испанию. Стремясь к окончательному решению ирландской проблемы, елизаветинский режим собрал крупнейшие армии короны, чтобы снова занять остров и англизировать страну раз и навсегда. Тактика партизанской войны, взятая на вооружение ирландцами, натолкнулась на политику безжалостного истребления [161] . Война продолжалась 9 лет, пока английский командующий Маунтджой не сломил всякое сопротивление. Ко времени смерти Елизаветы Ирландия в военном отношении была захвачена.
Однако эта знаменательная операция оказалась единственной победой тюдоровских наземных армий: одержанная с величайшими усилиями у дофеодального противника, она не могла быть повторена ни на одной другой арене. Решительное стратегическое усовершенствование того времени в пользу всей репутации английского земельного класса и его государства было сделано в другом месте: в медленных сдвигах в морском вооружении и морской экспансии на протяжении XVI в. К 1500 г. традиционное средиземноморское деление на «длинную» весельную галеру, созданную для войны, и «круглый» парусный ког, используемый в торговле, в северных водах начало сменяться конструированием больших военных кораблей, оснащенных огнестрельным оружием [162] . В новом типе боевых кораблей весла были заменены парусами, а солдаты начали уступать место пушкам. Генрих VII, создавший первый английский сухой док в Портсмуте в 1496 г., построил только два таких корабля. Однако именно Генриху VIII принадлежит заслуга начала «непрерывной и беспрецедентной» экспансии английской морской мощи; за первые пять лет после своего воцарения он ввел, купив или построив, во флот 24 военных корабля, увеличив его в 4 раза [163] . К концу правления английская монархия обладала 53 кораблями и имела созданный в 1546 г. постоянный Морской совет. Огромные каракки того периода с их неустойчивыми башнями и вновь установленной артиллерией все еще были неуклюжим оружием. Морские битвы продолжали оставаться преимущественно абордажными сражениями между войсками на воде; и в войне конца правления Генриха VIII французские галеры все еще удерживали инициативу, совершая нападения до самого Солента. В правление Эдуарда VI в Чатэме был построен новый док, но в последовавшие десятилетия начался резкий упадок тюдоровской морской мощи, когда с введением более быстрого галеона испанское и португальское кораблестроение опередило Англию. Однако, начиная с 1579 г., в период управления Морским советом Хоукинсом прослеживается быстрое увеличение и модернизация королевского флота: были созданы низко-сидящие галеоны, оснащенные дальнобойными пушками, превратившими их в высокоманевренные артиллерийские площадки, предназначенные в ходе битвы топить противника огнем с максимального расстояния. Начало долго подготавливавшейся английскими пиратами острова Мэн морской войны с Испанией доказало техническое превосходство таких новых кораблей. «К 1588 г. Елизавета I была хозяйкой самого мощного военно-морского флота, который когда-либо видела Европа» [164] . Армада была расстреляна английскими полукульверинами и разбросана штормом и бурей. Была обеспечена безопасность острова и заложены основы имперского будущего.
Окончательные результаты нового морского владычества, обретенного Англией, имели двоякий характер. Применение вместо наземных войск военно-морского флота наметило тенденцию к ограничению и обособлению военной силы, благополучно направив его за моря (до этого подобные корабли напоминали плавучие тюрьмы, на которых с известной жестокостью использовался труд принудительно завербованных). В то же время сосредоточение правящего класса на морском деле благоприятствовало его торговой ориентации. Тогда как армия всегда оставалась институтом специального назначения, флот был по природе инструментом двойного характера, нацеленным не только на войну, но и на торговлю [165] . Огромное количество английских торговых судов, оснащенных пушками, все XVI столетие выполняли роль боевых кораблей, но при необходимости они могли вернуться к грузовым перевозкам. Естественно, государство поощряло премией за конструкцию торговых судов, способную к такой адаптации. Таким образом, флот должен был стать не только «более важным» инструментом аппарата насилия английского государства, но и «двусторонним» с глубокими последствиями для природы правящего класса [166] . Ибо, хотя и будучи высокими на единицу [167] , общие расходы на морское строительство и содержание флота были гораздо ниже, чем на содержание постоянной армии; в последние десятилетия правления Елизаветы они были в 3 раза меньше. В то же время выгоды на протяжении последующих столетий были гораздо выше; их суммой стала Британская колониальная империя. Все последствия этого упора на морское дело еще не были столь очевидны. Однако именно благодаря ему уже к XVI в. землевладельческий класс мог развиваться не в противостоянии, а в единстве с торговым капиталом в портах и графствах.
Пресечение династии Тюдоров в 1603 г. и приход Стюартов создали абсолютно новую политическую ситуацию для монархии, ибо с приходом Якова I Шотландия впервые объединилась в личной унии с Англией. Теперь под властью одного правящего дома были объединены две совершенно разные политические системы. Сначала шотландское влияние на модель развития Англии проявлялось слабо из-за исторической дистанции между общественными формациями; но в долгосрочной перспективе оно стало критическим для судеб английского абсолютизма. Шотландия, как и Ирландия, оставалась кельтской крепостью за пределами римской власти. Получив примесь ирландской, германской и скандинавской иммиграции в период «темных веков», в XI в. ее пестрая карта кланов была подчинена центральной королевской власти с юрисдикцией над всей страной, кроме северо-запада. В Высокое Средневековье столкновение с англо-норманским феодализмом здесь также придало новую форму местной политической и социальной системе; но в то время как в Ирландии оно приняло форму сомнительного военного завоевания, которое вскоре было смыто кельтским реваншем, в Шотландии местная династия Кэнморов сама пригласила английских поселенцев и привнесла английские институты, поощряя межнациональные браки со знатью Юга и подражая структурам более развитого королевства по другую сторону границы, с его замками, шерифами, управляющими и судьями. Результатом стала более глубокая и полная феодализация шотландского общества. Добровольно принятая «норманизация» уничтожила старое этническое разделение страны и создала новую линию языкового и социального разделения между Равниной (Lowland), где распространилась английская речь вместе с поместьями и пожалованиями, и Высокогорьем (Highland), где гэльский остался языком отсталого кланового сельского общества. В отличие от Ирландии, чисто кельтские области были окончательно сведены к меньшинству, ограниченному северо-западом. В период позднего Средневековья шотландская монархия в целом потерпела провал в попытках подчинить королю всех подданных. Влияние друг на друга политических моделей Равнины и Высокогорья привело к полуфеодализации верхушки кельтских кланов в горах и клановому влиянию на шотландскую феодальную организацию равнин [168] . Кроме этого, постоянная пограничная война с Англией подрывала королевство. В условиях анархии XIV–XV вв. среди непрекращающихся беспорядков на границе бароны захватили наследственный контроль над должностями и территориями шерифов и установили частную юрисдикцию; магнаты вырвали провинциальные «регалии» у монархии, и повсюду проникли родовые сети.
В следующие полтора столетия наследовавшая династия Стюартов, опираясь на неустойчивое меньшинство и регентское правление, уже была неспособна прокладывать путь вперед среди все более распространявшегося беспорядка в стране, в то время когда Шотландия все сильнее становилась связанной дипломатическим союзом с Францией как противовесом английскому давлению. В середине XVI в. откровенное французское господство в период регентства Гизов вызвало ксенофобию среди аристократов и народа, что на этот раз создало направляющую силу местной Реформации; города, помещики и знать восстали против французского правительства, линии коммуникаций которого с континентом были перерезаны английским флотом в 1560 г., обеспечив успех шотландского протестантизма. Но религиозные перемены, которые отныне отдалили Шотландию от Ирландии, мало что изменили в политической системе страны. Гэльское Высокогорье, которое единственное оставалось верным католицизму, стало в течение столетия даже еще более диким и более беспокойным. В то время как на юге новым украшением ландшафта времен Тюдоров стали застекленные особняки, на Границе и Равнине по-прежнему сооружались сильно укрепленные замки. По всему королевству происходили частные вооруженные столкновения. Только после прихода к власти Якова VI, начиная с 1587 г., шотландская монархия стала серьезно укреплять свое положение. Яков VI, использовавший смесь умиротворения и насилия, создал сильный Тайный совет, покровительствовал магнатам и настраивал их друг против друга, создал новые пэрства, постепенно ввел в Церкви епископат, увеличил представительство мелких баронов и городков в парламенте, подчиняя последний созданием закрытых руководящих комитетов («лорды статей»), и умиротворил Границу [169] . К началу XVII в. Шотландия, очевидно, была подчинена. И все же ее социально-политическая структура оставалась серьезной противоположностью современной ей Англии. Численность населения была небольшой (около 750 тысяч жителей); городов было немного, и они оставались маленькими, управлявшимися пасторами. Крупные знатные дома представляли собой территориальных владык ранее неизвестного в Англии типа: Гамильтонов, Хантли, Аргайлов, Энгюсов, контролировавших огромные районы страны с полным набором полномочий, военной свитой и зависимыми арендаторами. Феодальные владения принадлежали менее важным баронам; мировой суц, осторожно введенный королем, перестал действовать. Многочисленный класс мелких землевладельцев (лэрдов) привык к мелким вооруженным стычкам. Угнетаемое крестьянство, освобожденное от крепостного состояния в XIV в., никогда не организовывало больших восстаний. Экономически бедное и культурно изолированное шотландское общество было все еще преимущественно средневековым по характеру; шотландское государство было ненамного более безопасным, чем английская монархия после Босворта.
Однако трансплантированная в Англию династия Стюартов преследовала идеалы абсолютистского королевства, которое стало стандартной нормой дворов всей Западной Европы. Яков I, привыкший к стране, в которой территориальные магнаты ассоциировались с законом, а парламент был малозначимым, обнаружил государство, где милитаризм вельмож был уничтожен, однако не сумел понять, что именно парламент был здесь центром власти аристократии. Поэтому намного более развитый характер английского общества того времени создал видимость обманчиво более легкого для него правления. Якобитский режим, высокомерный по отношению к парламенту и не понимающий его, не сделал ни одной попытки успокоить оппозиционно настроенных английских джентри. Экстравагантность двора была соединена с его негибкой внешней политикой, основанной на сближении с Испанией, что было одинаково непопулярным среди подавляющего большинства землевладельческого класса. Доктрина божественных прав монархии развивалась рука об руку с обрядовостью Высокой Церкви. Исключительное судопроизводство использовалось как средство против общего права; продажа монополий и должностей – против отказа парламента в налогах. Однако нежелательное развитие королевского правления в Англии не встречало такого же сопротивления в Шотландии или Ирландии, где местная аристократия задабривалась расчетливым покровительством короля, а Ольстер заселялся за счет массовой колонизации с шотландской
Равнины, чтобы укрепить господство протестантов. Но к концу правления политическое положение монархии Стюартов оказалось опасно изолированным в ее центральном королевстве. Ибо лежащая в основе социальная структура Англии ускользала из-под нее, как только монархия стремилась достичь институциональных целей, которые почти повсюду на континенте были успешно реализованы.
В течение столетия после роспуска монастырей, когда население Англии удвоилось, численность знати и джентри утроилась, а их доля в национальном богатстве непропорционально возросла вместе с особенно заметным подъемом в начале XVII в., когда рентные платежи обогнали рост цен, обогатив весь землевладельческий класс. За столетие после 1530 г. чистый доход джентри, вероятно, вырос в 4 раза [170] . Трехчастная система из землевладельца, фермера и сельскохозяйственного рабочего, будущий архетип английской деревни, уже появлялась в наиболее богатых частях сельской Англии. В то же время в Лондоне происходила беспрецедентная концентрация торговли и мануфактур, увеличившись к 1630 г. в 7–8 раз за время от Генриха VIII до Карла I и создав самый крупный среди европейских стран капиталистический город. К концу века Англия уже представляла собой нечто вроде единого внутреннего рынка [171] . Аграрный и торговый капитализм тем самым развивался быстрее, чем в каком-либо ином государстве, кроме Нидерландов, и значительная часть самой английской аристократии – пэрства и джентри – успешно адаптировалась к нему. Вот почему новое политическое укрепление феодального государства больше не соответствовало социальному характеру большей части класса, на который оно в конечном счете должно было опираться. Не было и неотразимой социальной опасности снизу, чтобы связать более тесными узами монархию и джентри. Поскольку не было необходимости в огромной постоянной армии, налогообложение в Англии осталось чрезвычайно низким: вероятно, треть или четверть того, что собиралось во Франции в начале XVII в. [172] Очень малая часть этого приходилась на сельские массы, а приходские бедняки получали значительную помощь из общественных фондов. В результате, после аграрных волнений середины XVI в., в деревне царил относительный социальный мир. Более того, крестьянство было не только объектом более легкого налогообложения, чем где-либо еще, но и более дифференцировано. С приходом торгового импульса в деревню такая стратификация, в свою очередь, сделала возможным и доходным фактический отказ от возделывания доменов в пользу сдачи в аренду земли аристократией и джентри. В итоге происходила консолидация слоя относительно богатых кулаков (йоменов) и большого количества сельскохозяйственных рабочих рядом с общей крестьянской массой. Таким образом, положение в деревнях было более или менее безопасным для знати, которая больше не испытывала страха перед сельскими восстаниями и поэтому не проявляла заинтересованности в централизованной машине насилия в распоряжении государства. В то же время низкий уровень налогов, который способствовал такому аграрному миру, препятствовал появлению крупной бюрократии, побуждавшей укреплять фискальную систему. Поскольку с эпохи Средних веков аристократия сосредоточила в своих руках местные административные функции, монархия никогда не имела профессионального аппарата на местах. Таким образом, стремление Стюарта к развитому абсолютизму с самого начала столкнулось с препятствиями.
В 1625 г. Карл I добросовестно, если в целом и неуместно, взялся за создание более развитого абсолютизма с имеющимися в его распоряжении малообещающими ресурсами. Иная атмосфера вновь пришедшей придворной администрации не помогла монархии: специфическое сочетание коррупции времен Якова и добросовестности Карла – от Бэкингэма до Лода – вошло в особый диссонанс с большинством джентри [173] . Причуды его внешней политики с самого начала правления также ослабили двор: провал английского вмешательства в Тридцатилетнюю войну совпал с начатой по капризу Бэкингэма ненужной и безуспешной войной с Францией. Однако когда этот эпизод был завершен, общее направление династической политики стало относительно логичным. Парламент, который решительно осудил ведение войны и ответственных за это министров, был распущен на неопределенный срок. В последовавшее десятилетие «личного правления» монархия попыталась снова сблизиться с высшей знатью, снова вдохнув жизнь в формальную иерархию рождений и рангов внутри аристократии, даруя привилегии пэрам, поскольку угроза магнатского милитаризма в Англии была в прошлом. В городах монополии и пожалования были закреплены за высшим слоем городских купцов, которые входили в традиционный городской патрициат. Интересы огромного количества джентри и новых купцов были исключены из королевской политики. Такая же забота проявилась в епископальной реорганизации Церкви, проведенной Карлом I, который восстановил дисциплину и мораль духовенства за счет расширения религиозной дистанции между местными священниками и сквайрами. И все же успехи абсолютизма Стюартов были ограничены идеологическим/ церковным аппаратом государства, которое как в правление Якова I, так и Карла I начало насаждать божественное право и священнический ритуал. Однако экономический/бюрократический аппарат оставался в тисках острого фискального голода. Парламент контролировал право налогообложения и с самого начала правления Якова I сопротивлялся любой попытке обойти его. В Шотландии династия могла действительно увеличивать налоги по своей воле, особенно на города, поскольку здесь не было сильной традиции налогообложения по согласию сословий. В Ирландии драконовская администрация Страффорда отбирала землю и доходы у вновь прибывших после елизаветинского завоевания дворян и впервые сделала остров богатым источником доходов государства [174] . Но в самой Англии, где и крылась главная проблема, такие средства были непригодны. Из-за затруднений, созданных распродажей королевских имений Тюдорами, Карл I обращался к любому возможному феодальному и неофеодальному средству в поиске налоговых доходов, способных поддержать увеличившуюся государственную машину без парламентского контроля: возрождение попечительства, штрафы для рыцарства, использование реквизиций для нужд королевского двора, увеличение монополий, раздача почестей. Именно в эти годы впервые продажа должностей стала главным источником королевских доходов, составляя от 30 до 40 %; и одновременно вознаграждение держателей должностей сделалось основной долей в государственных расходах [175] . Все эти средства продемонстрировали свою бесполезность: их изобилие противопоставляло землевладельческий класс больше, чем пуританское отвращение, проявляемое к новому двору и Церкви. Важно отметить, что последней возможностью Карла I создать солидную фискальную базу была попытка увеличить единственный традиционный военный налог, который существовал в Англии: корабельные деньги, уплачиваемые портами на содержание флота. В течение нескольких лет он был подорван отказом местных мировых судей, не получавших жалования, защищать его.
Выбор этой схемы и ее судьба косвенно (en creux) вскрывают элементы, которые были упущены в английской версии Версаля. Континентальный абсолютизм был построен на своих армиях. По странной иронии, островной абсолютизм мог существовать при своих слабых доходах лишь до тех пор, пока ему не нужно было строить армию. Только парламент мог предоставить для этого ресурсы, а, однажды созванный, он был настроен разрушить власть Стюартов. Но по тем же историческим причинам возраставшее в Англии политическое сопротивление монархии не обладало готовыми инструментами для вооруженного восстания против нее; оппозиционное дворянство даже не имело точки приложения для конституционного наступления на личное правление короля, поскольку не был созван парламент. Тупиковая ситуация между антагонистами была разрешена в Шотландии. В 1638 г. клерикализм Карла, который уже угрожал шотландской знати отобрать секуляризованные у Церкви земли и десятины, наконец, спровоцировал религиозное восстание из-за навязывания англиканской литургии. Для сопротивления этому объединились шотландские сословия, а их Ковенант, направленный против англиканства, получил немедленную материальную поддержку. Поскольку в Шотландии ни аристократия, ни джентри не были демилитаризованы, более архаичная социальная структура родного Стюартам государства сохранила воинственные связи позднесредневековой политической системы. Ковенант смог за несколько месяцев собрать значительную полевую армию, чтобы противостоять Карлу I. Магнаты и лэрды сформировали и вооружили своих арендаторов, города ради этого организовали сбор денежных средств, ветераны-наемники Тридцатилетней войны обеспечили профессиональный офицерский корпус. Командование армией, поддерживаемой пэрами, было доверено генералу, вернувшемуся со шведской службы [176] . В Англии монархия не могла собрать равных им сил. Поэтому есть логика в том, что именно шотландское вторжение 1640 г. положило конец личному правлению Карла I. Английский абсолютизм понес заслуженное наказание за свое пренебрежение к армии. Его отход от правил позднесредневекового государства только предоставил негативный аргумент в пользу ее необходимости. Парламент, созванный в чрезвычайных обстоятельствах (in extremis) королем, чтобы разобраться с поражением от шотландцев, приступил к ликвидации всех приобретений монархии Стюартов, провозгласив возвращение к первоначальным конституционным рамкам. Год спустя вспыхнул католический мятеж в Ирландии [177] . Лопнуло второе слабое звено стюартовского мира. Борьба за контроль над английской армией, которую надо было собрать для подавления ирландского восстания, привела парламент и короля к гражданской войне. Английский абсолютизм был втянут в кризис из-за аристократического партикуляризма и кланового отчаяния на его периферии – силами, которые исторически далеко отстали от него. Но он оказался подрубленным в самом центре коммерциализованным джентри, капиталистическим городом, ремесленниками и йоменами – силами, толкающими за его пределы. Прежде чем он достиг возраста зрелости, английский абсолютизм был свергнут буржуазной революцией.
6. Италия
Абсолютистское государство возникло в эпоху Ренессанса. Значительная часть используемых им методов – как административных, так и дипломатических – впервые появились в Италии. Поэтому неизбежно возникает вопрос: почему сама Италии так и не стала национальным абсолютистским государством? Понятно, конечно, что универсалистские средневековые институты папства и Империи сдерживали развитие обычной территориальной монархии в Италии и Германии. В Италии папство противостояло любой попытке территориального объединения полуострова. Однако этого само по себе было бы недостаточно, чтобы предотвратить такой исход. Папство в течение длительного времени оставалось слабым. Могущественный французский король вроде Филиппа Красивого мог без труда, применив простую и наглядную вооруженную силу, арестовать Папу в Ананьи, а потом пленить его в Авиньоне. Отсутствие подобной господствующей силы в Италии позволяло папству политически маневрировать. Решающую причину отсутствия национального абсолютизма следует искать в другом. Она, скорее, лежит в преждевременном развитии коммерческого капитала в городах Северной Италии, которое предотвратило появление мощного организованного феодального государства на национальном уровне. Именно богатство и жизненные силы Ломбардии и Тосканы нанесли поражение самому серьезному претенденту на установление единой феодальной монархии, которая могла бы обеспечить основу для более позднего абсолютизма, – Фридриху II, пытавшемуся в XIII в. расширить свое достаточно развитое баронское государство за пределы своей базы на юге.
Император располагал возможностями для реализации своих проектов. Южная Италия была той частью Западной Европы, в которой пирамидальная феодальная иерархия, внедренная норманнами, соединилась с наследием византийского имперского самодержавия. Королевство Сицилия попало в тяжелое положение в последние годы норманнского правления, когда местные бароны взяли власть и королевские полномочия в провинциях. Фридрих II сообщил о своем появлении в Южной Италии, обнародовав в 1220 г. законы Капуи, которые усиливали централизованный контроль над Королевством (Regno). Королевские представители сместили мэров городов, ключевые замки были отобраны у знати, наследование феодальных владений было передано под монархический надзор, раздача земель королевского домена была отменена, а феодальный оброк на содержание морского флота был восстановлен [178] . Законы Капуи были установлены с помощью меча; они были дополнены десятилетие спустя в Мельфийских конституциях 1231 г., которые кодифицировали правовую и административную систему королевства, подавив последние остатки городской автономии и крепко прижав церковных магнатов. Знать, прелаты и города были подчинены монарху с помощью сложной бюрократической системы, включавшей корпус королевских юстициариев, которые исполняли роль специальных уполномоченных и судей в провинциях, работавших с письменными документами, – официальные должностные лица, подвергавшиеся периодической ротации, чтобы предотвратить их сращивание с местными сеньориальными интересами [179] . Число замков было увеличено, чтобы наводить страх на мятежные города и лордов. Мусульманское население западной Сицилии, которое до тех пор держалось в горах, являясь постоянной «занозой в боку» Норманнского государства, было покорено и переселено в Апулию: так появилась арабская колония в Лучере, впредь снабжавшая Фридриха уникальными профессиональными исламскими отрядами для его кампаний в Италии. В экономическом плане Королевство было не менее рационально организованным. Были отменены внутренние пошлины и введена жесткая таможенная служба. Государственный контроль над внешней торговлей зерном позволял получать огромные прибыли от земель короны, бывшей крупнейшим на Сицилии производителем пшеницы. Важные торговые монополии и более регулярные земельные налоги приносили существенные финансовые доходы; был даже отчеканен запас золотых монет [180] . Основательность и процветание этого оплота Гогенштауфенов на юге позволили Фридриху II предпринять попытку создания унитарного имперского государства на территории всего полуострова.
Требуя всю Италию в качестве своего наследия и призвав большинство разрозненных феодалов севера на свою сторону, император захватил Марке и вторгся в Ломбардию. На короткий период его амбиции, казалось, были на грани реализации: в 1239–1240 гг. Фридрих создал проект будущего административного устройства Италии как единого королевского государства, разделенного на провинции, управляемые генеральными викариями ( vicars-generals ) и генерал-капитанами (captains-generals ), аналогичными сицилийским юстициариям, назначаемым императором из его апулийского окружения [181] . Превратности войны не допустили стабилизации этой структуры, но ее логика была безошибочной. Даже последние неудачи и смерть императора не уничтожили дело Гибеллина. Его сын Манфред, незаконнорожденный и не имевший императорского титула, вскоре смог возобновить стратегическое доминирование Гогенштауфенов на полуострове, разбив флорентийских гвельфов при Монтаперти; несколько лет спустя его армии угрожали захватом самому Папе Римскому у Орвьето, предвосхищая будущее нападение французов на Ананьи. И все же временные успехи династии оказались иллюзорными; в длительных войнах гвельфов и гибеллинов линия Гогенштауфенов в конечном счете была побеждена.
Папство формально стало победителем в этом споре, оркестрируя борьбу против имперского «антихриста» и его потомков. Но идеологическая и дипломатическая роль следующих Пап – Александра III, Иннокентия IV, Урбана IV – в атаках на власть Гогенштауфенов в Италии никогда не соответствовала реальной политической и военной силе папства. На протяжении долгого времени папский престол испытывал недостаток даже в скромных административных ресурсах, которые были у средневековых княжеств: только в XII в., после борьбы за инвеституру с Империей в Германии, папство приобрело нормальную судебную машину, сопоставимую с существовавшей в светских государствах той эпохи, во главе с конституционной Римской курией [182] . После этого папская власть развивалась по двум любопытно расходящимися путям, в соответствии с присущим ей церковным и светским дуализмом. Внутри единой Церкви папство постепенно выстраивало самодержавную централистскую власть, прерогативы которой значительно превосходили таковые любого смертного монарха. Полнота власти, предоставленная Папе, была совершенно не ограничена обычными феодальными сдержками – сословным представительством или советами. Все церковные бенефиции повсюду в христианском мире осуществлялись под его контролем; сделки по закону проходили в его судах; был успешно установлен общий подоходный налог на духовенство [183] . В то же время, однако, папство как итальянское государство оставалось крайне слабым и неэффективным. Огромные усилия были вложены Папами в попытку объединить и расширить Патримоний Св. Петра в Центральной Италии. Но средневековое папство потерпело неудачу в попытке установить безопасный и надежный контроль даже над небольшим регионом, находящимся под его номинальным сюзеренитетом. Маленькие городки на холмах Умбрии и Марке энергично сопротивлялись папскому вмешательству в их управление, в то время как сам город Рим часто становился источником проблем и нелояльности [184] . Не было создано жизнеспособной бюрократии для управления Папским государством, внутреннее состояние которого на протяжении длительного периода отличалось нестабильностью и анархией. Налоговые поступления от Патримония Св. Петра составляли всего лишь 10 % от общего дохода папства; стоимость его поддержания и защиты была на протяжении большей части времени значительно больше, чем доходы, которые он приносил. Военная служба, которой были обязаны вассальные Папе города и территории, была также недостаточна для обеспечения оборонных нужд [185] . С финансовой и военной точек зрения Папское государство, в качестве итальянского княжества, не могло поддерживать свое существование. В случае столкновения один на один с Королевством на юге оно не имело никаких шансов на успех.
Основная причина неудачи движения Гогенштауфенов по объединению полуострова лежала в другой плоскости – в решающем экономическом и социальном превосходстве Северной Италии, численность населения которой вдвое превышала население Юга и где находилось подавляющее большинство городских центров торговли. В Королевстве Сицилия было всего три города с населением более 20 тысяч жителей, а на Севере таких городов было более 20 [186] . Экспорт зерна, составлявший основу благосостояния Юга, на самом деле, был косвенным признаком коммерческого господства Севера. Именно процветающие коммуны Ломбардии, Лигурии и Тосканы импортировали зерно в результате развитого там разделения труда и концентрации населения, в то время как излишки в Меццоджорно были, наоборот, признаком слабозаселенной сельской местности. Таким образом, ресурсы коммун, хотя они часто были разделены, всегда были значительно больше тех, которые император был в состоянии мобилизовать в Италии, и в то же время самому их существованию как автономных городов-республик угрожала перспектива создания единой островной монархии. Первая попытка Гогенштауфенов установить имперский суверенитет в Италии, нападение Фридриха I, перешедшего Альпы со стороны Германии в XII в, была блестяще отражена Ломбардской лигой. Эта великая победа была одержана ее городским народным ополчением над армией Барбароссы у Леньяно в 1160 г. С перемещением династической основы власти
Гогенштауфенов из Германии на Сицилию и насаждением централизованной монархии Фридриха II в землях Южной Италии соответственно возросла опасность королевского и сеньориального поглощения коммун. И вновь города Ломбардии, ведомые Миланом, остановили продвижение императора на севере, несмотря на поддержку с флангов его феодальных союзников Савойи и Венеции. После его смерти восстановленные Манфредом позиции гибеллинов наиболее эффективно были оспорены в Тоскане. Гвельфские банкиры Флоренции, изгнанные после Монтаперти, стали финансовыми архитекторами окончательного крушения дела Гогенштауфенов. Их крупные ссуды – около 200 тысяч ливров, – сделали возможным Анжуйское завоевание Королевства [187] ; в то же время в битвах при Беневенто и Тальякоццо флорентийская кавалерия решила исход сражений в пользу французских армий. В длительной борьбе против призрака объединенной итальянской монархии вклад папства сводился к регулярным анафемам в адрес врага; именно коммуны предоставляли денежные средства и – до самого конца – большую часть войск. Города Ломбардии и Тосканы оказались достаточно сильны, чтобы предотвратить территориальную перегруппировку на феодальносельскохозяйственной основе. С другой стороны, они не смогли достичь какого-либо единства на полуострове самостоятельно: торговый капитал в то время не имел возможности управлять общественной формацией национального масштаба. Таким образом, хотя Ломбардская лига успешно защищала Север от имперских вторжений, она была неспособна победить феодальный Юг: Королевство Сицилия вынуждены были атаковать французские рыцари. Достаточно логично, что не города Тосканы или Ломбардии унаследовали Юг, а анжуйская знать – инструмент победы городов, присвоивший ее плоды. Впоследствии восстание Сицилийской вечерни (Sicilian Vespers) против французского правления покончило с единством самого старого Королевства. Баронские территории Юга были разделены между враждующими анжуйским и арагонским претендентами в хаотичной схватке, окончательный результат которой уничтожил перспективу господства Юга в Италии. Папство, бывшее в то время простым заложником Франции, было вывезено в Авиньон, покинув полуостров на полвека.
Города Севера и Центра были предоставлены самостоятельному политическому и культурному развитию. Одновременное ослабление Империи и папства сделали Италию слабым звеном западного феодализма; с середины XIV до середины XVI в. города между Альпами и Тибром обобщили революционный исторический опыт, который получил название Ренессанса – возрождения классической цивилизации античности, после промежуточного периода темного «Средневековья». Радикальный разворот во времени, содержавшийся в этом определении, противоречивший любой эволюционной и религиозной хронологии, обеспечил основу категориальных структур европейской историографии: эпоха, которую потомки рассматривали как основную линию, отделяющую от прошлого, сама провела границы, которые отделили ее от предшествовавшей ей, и разграничила отдаленное прошлое и непосредственное, что было ее уникальным культурным достижением. До тех пор не существовало никакого ощущения дистанции между Средневековьем и античностью; оно всегда рассматривало классическую эпоху, как свое собственное продление в прошлое, в еще не спасенный, дохристианский мир. Ренессанс открыл себя вместе с новым, интенсивным осознанием разрыва и утраты [188] . Античность была в далеком прошлом, отрезанной от современности мраком Средних веков, и все же была значительно развитее, чем грубое варварство, которое преобладало все последующие столетия. На пороге новой эпохи Петрарка воззвал к будущему: «Легкий сон забвения не будет длиться вечно: после того как темнота рассеется, наши внуки вернутся в чистое сияние прошлого». Острое осознание длительного слома и отступления, случившегося после падения Рима, смешалось с твердым намерением вновь достичь образцовых стандартов древних. Восстановление античного мира было обновленным идеалом нового времени. Итальянский Ренессанс, таким образом, явился временем сознательного возрождения и имитации одной цивилизацией другой, в широком спектре проявлений общественной и культурной жизни, у которого не было примера и продолжения в истории. Римское право и римские магистраты уже всплыли из забвения в поздних средневековых коммунах: римская собственность оставила свою печать на всех экономических связях городов Италии, в то же время латинизированные консулы сменили епископальную администрацию в качестве правителей. Плебейские трибуны вскоре стали образцом для «народных капитанов» в итальянских городах. Появление Ренессанса принесло с собой новые науки – археологию, эпиграфику и критику текстов для освещения классического прошлого; однако внезапно эти подходы расширились до подражания античности в невероятных, взрывоопасных масштабах. Архитектура, живопись, скульптура, поэзия, история, философия, политическая и военная теория соперничали в том, чтобы возвратить свободу или красоту работе, однажды отправленной в забвение. Церкви, построенные Альберти, стали результатом изучения им Витрувия; Мантена рисовал, подражая Апеллесу; Пьеро ди Козимо писал триптихи, вдохновленный Овидием, оды Петрарки опирались на Горация; Гвиччардини учился иронии у Тацита; спиритуализм Фичино происходил от Плотина; беседы Макиавелли были комментариями к Ливию, а его диалоги о войне – обращением к Вегетию.
Цивилизация Возрождения в Италии была настолько яркой и жизненной, что до сих пор кажется истинным повторением античности. Их общие исторические установки, опирающиеся на систему городов-государств, обеспечивали объективную основу для иллюзий о перевоплощении. Параллели между расцветом городов в период классической античности и в эпоху итальянского Ренессанса впечатляли. Оба периода изначально были результатом деятельности автономных городов-республик, созданных общественно сознательными гражданами. В тех и других на начальном этапе доминировала знать, там и там большая часть первых граждан владела земельной собственностью в сельской местности, окружавшей город [189] . Те и другие были интенсивными центрами товарного обмена. То же самое море обеспечивало основные торговые пути [190] . Оба требовали военной службы от своих граждан, в кавалерии или пехоте согласно имущественному цензу. Даже некоторые политические особенности греческих полисов имели схожие элементы в итальянских коммунах: очень высокий процент граждан, занимавших временные посты в государстве, или использование жеребьевки для избрания судей [191] . Все эти общие характеристики способствовали своего рода наложению одной исторической формы на другую. На самом деле, конечно, социально-экономическая природа античных и ренессансных городов-государств была глубоко различна. Средневековые города, как мы видели, были динамичными анклавами внутри феодального способа производства, структура раздробленного суверенитета которого позволяли им существовать; они находились в постоянных трениях с сельской местностью, тогда как античные города были, по большей части, ее символическим продолжением. Итальянские города начинали как торговые центры, возглавляемые мелкими дворянами и заселенные полу-крестьянами, часто совмещавшими сельские и городские профессии, обработку почвы с ремеслами. Но они быстро сформировали модель, совершенно отличную от принятой их античными предшественниками. Торговцы, банкиры, фабриканты и юристы формировали патрицианскую элиту городов-республик, в то время как основную массу граждан составляли ремесленники; напротив, в античных городах доминирующим классом всегда была землевладельческая аристократия, а большая часть граждан были фермерами-йоменами или лишенными имущества плебеями, и были также рабы, составлявшие многочисленный нижний класс непосредственных производителей, не имевших гражданства [192] .
Для средневековых городов было просто неестественным использование рабского труда в домашнем и сельском хозяйстве [193] ; они обычно запрещали даже крепостничество внутри своих территорий. Вся экономическая ориентация двух городских цивилизаций была, таким образом, в ключевых отношениях диаметрально противоположной. В то время как обе представляли собой пункты товарного обмена, итальянские города были также в основе своей центрами производства, внутренняя организация которых базировалась на ремесленных гильдиях, тогда как античные города всегда в первую очередь были центрами потребления, сосредоточенного в клановых или территориальных ассоциациях [194] . Разделение труда и технический уровень мануфактурного производства в ренессансных городах – текстильного и металлургического – были значительно более развиты, чем в античности, так же как и морской транспорт. Коммерческий и банковский капитал всегда хромал в классическом мире вследствие отсутствия необходимых финансовых институтов, которые гарантировали бы его безопасное накопление; теперь, с появлением акционерных компаний, векселей и двойных бухгалтерских счетов, изобретением государственного займа, неизвестного античным городам, увеличивал и государственные доходы, и инвестиционные рынки сбыта для городских рантье.
Наконец, полностью отличные друг от друга базы рабского и феодального способов производства были, очевидно, диаметрально противоположны в отношениях между городом и деревней. Города античного мира формировали интегрированное гражданское и экономическое единство со своей сельской округой. Муниципии включали как городской центр, так и его аграрную периферию, а юридическое гражданство было общим для обоих. Рабский труд связывал производственную систему каждого, и не существовало особой городской экономической политики как таковой: город, по существу, функционировал просто как агломерация потребителей аграрной продукции и земельной ренты. Итальянские города, напротив, были четко отделены от своей сельской местности: сельский округ ( contado) был типичной подданной территорией, чьи жители не имели гражданских прав в государстве. Его название стало основой для высокомерного прозвища крестьян —contadini (деревенщина). Коммуны противодействовали некоторым фундаментальным институтам аграрного феодализма: вассалитет был часто специально запрещен в черте городов; крепостничество, в деревнях контролируемых ими, было отменено. В то же время итальянские города систематически эксплуатировали свои сельские округа для получения собственной прибыли и поставок, облагая налогом зерно и пополняя за счет этого свои запасы, фиксируя цены и навязывая массу излишних правил и директив подчиненному сельскохозяйственному населению [195] .
Подобная антиаграрная политика были неотъемлемой частью деятельности городов-республик периода Ренессанса, чей экономический дирижизм был бы чуждым для их античных предшественников. Основным способом расширения классического города была война. Добыча сокровищ, земли и рабочей силы были теми экономическими целями, которые могли ставиться в рамках рабовладельческого способа производства, и внутренняя структура греческих и римских городов, в своем большинстве, вытекала из этого: военная профессия гоплитов или assidui была центральной для всей их муниципальной конституции. Военная агрессия в отношении друг друга была постоянным явлением и для итальянских коммун, но она никогда не достигала сравнимого значения. Государство не нуждалось в военном определении гражданства, потому что конкуренция в торговле и производстве, сопровождавшаяся и проводившаяся в жизнь внеэкономическим принуждением, «издержки на защиту» в ту эпоху [196] стали формулироваться как самостоятельная экономическая цель сообщества: рынки и займы были важнее пленников, грабеж был второстепенным по отношению к монополизации. Города итальянского Ренессанса, как показала их судьба, были сложными торговыми и промышленными организмами, чьи возможности в сухопутных или даже военно-морских сражениях были относительно ограниченными.
Эта огромная социально-экономическая разница, конечно, нашла свое отражение и в особенностях культурного и политического процветания, где города-государства античности и Ренессанса казались наиболее схожими. Свободный ремесленнический фундамент городов Возрождения, где ручной труд в гильдиях не был испорчен социальной деградацией рабов, создал цивилизацию, в которой пластические и визуальные искусства (живопись, скульптура и архитектура) занимали абсолютно доминировавшее положение. Скульпторы и художники сами были организованы в гильдии и сначала довольствовались срединной социальной позицией, аналогичной той, которую занимали ремесленники; однако постепенно они достигли неизмеримо большей славы и престижа, чем их греческие и римские предшественники. Девять муз античного мира вообще не включали визуальных искусств [197] . Чувственная фантазия была высшей сферой Ренессанса, принесшая такие художественное богатство и роскошь, что они превзошли саму античность, к гордости современников. В то же время интеллектуальные и теоретические достижения ренессансной культуры в Италии были значительно более ограниченными. Литература, философия и наука, расположенные в порядке убывания их вклада в достижения эпохи, не создали произведений, сравнимых с творениями античной цивилизации. Рабская основа классического мира, разделившая ручной и умственный труд значительно радикальнее, чем это когда-либо делала средневековая цивилизация, создала праздный землевладельческий класс, весьма отличавшийся от делового патрициата городов-государств Италии. Слова и числа, в их абстракции, были более близкими античной Вселенной; образы взяли верх при ее возрождении. Литературный и философский «гуманизм», в его светских и академических запросах, был прикован к хрупкому и узкому кругу интеллектуальной элиты в эпоху итальянского Ренессанса [198] ; дебют науки был еще впереди. Эстетическая жизненность городов имела значительно более глубокие гражданские корни и пережила и то и другое: Галилео умер в одиночестве и тишине, в то время как Бернини прославил столицу и двор, который изгнал его.
Политическая эволюция городов эпохи Ренессанса еще сильнее отклонилась от их античных прототипов, чем их культурная конфигурация. До определенного момента можно было заметить формальное сходство между ними. После уничтожения епископального управления – предыстория, которую можно сравнить со свержением королевской власти в эпоху античности, – итальянские города находились во власти землевладельческой аристократии. Возникшие там консульские режимы вскоре уступили место олигархическому правительству и власти подеста ( podesta) , которую тогда атаковали преуспевающие плебейские гильдии, создавшие свои собственные гражданские контринституты. В конце концов, высший слой гильдейских мастеров, нотариусов и купцов, которые возглавляли борьбу пополанов ( popolo) , объединялся со стоявшей над ними городской знатью, чтобы сформировать единый муниципальный блок привилегированных и сильных для подавления или манипуляции подчиненными им массами ремесленников. Точная форма и состав участников этой борьбы различались от одного города к другому, и политическая эволюция разных коммун могла сократить или удлинить эту последовательность. В Венеции с самого начала торговый патрициат присвоил плоды восстания ремесленников против старой аристократии и блокировал дальнейшее политическое развитие жестким сокращением ее рядов: ограничение Большого совета ( Серрата) 1297 г. предотвратило появление в городе пополанов. С другой стороны, во Флоренции голодающие наемные рабочие, несчастный пролетариат, стоящий ниже класса ремесленников, восстал против консервативного гильдейского управления в 1378 г., но был сокрушен. Однако в большинстве городов появлялись городские республики с широким избирательным правом, которые, фактически, управлялись ограниченными группами банкиров, предпринимателей и землевладельцев, чьим общим знаменателем было уже, в значительной степени, не происхождение, а богатство, наличие оборотного и основного капитала. Итальянская последовательность от епископов к консулам и от подеста к пополанам, а также «смешанная» конституционная система, бывшая итогом этого развития, очевидно, напоминали до некоторой степени переход от монархии к аристократии и от олигархии к демократии, или трибунату, и их «смешанные» результаты в античном мире. Но существовала одна очевидная и критическая разница между этими двумя последовательностями. В античности тирании обычно располагались между аристократическим и народным государственным устройствами, как переходные системы для разрастания общественной основы государства: они были прелюдией для расширения права на участие в голосовании и свободы народных собраний. В эпоху Ренессанса, наоборот, тирании завершали весь парад гражданских форм управления: синьории были последним этапом эволюции городов-республик и символизировали их окончательное сползание к аристократическому авторитаризму.
Конечный результат развития античных и ренессансных городов-государств больше, чем что-либо еще в их истории, показывает глубину пропасти между ними. Городские республики античной эпохи смогли породить универсальные империи, без серьезных разрывов в социальной преемственности, потому что территориальный экспансионизм был естественным продолжением их аграрных и военных стремлений. Сельская местность всегда была бесспорной осью их существования, поэтому они, в принципе, были совершенно готовы к еще большему ее присоединению, их экономический рост опирался на успешное ведение войны, которое всегда было центральной гражданской целью. Военное завоевание, таким образом, предоставляло сравнительно прямой переход от республиканского к имперскому государству, и последнее могло показаться чем-то похожим на предопределенный финал. Города эпохи Ренессанса, напротив, всегда были отделены от сельской местности: их движущие силы были сконцентрированы в самой городской экономике, чье отношение к своей сельской среде было структурно-антагонистическим. Появление синьорий – княжеских диктатур с аграрными корнями, – таким образом, не привело к дальнейшему политическому и экономическому росту. Скорее они завершали эпоху успеха итальянских городов. У республик эпохи Ренессанса не было шанса на удачное имперское завоевание и объединение. Именно потому, что они были настолько, по своей сути, городскими, что не могли управлять целой феодальной социальной формацией, в которой все еще доминировала сельская местность. Для них не могло быть никакого экономического стимула к политическому расширению в масштабе всего полуострова. Более того, их вооруженные силы были совершенно непригодными для решения подобной задачи. Появление синьорий, как институциональной формы, было предвестием их будущего тупика.
Северная и Центральная Италия сформировали исключительную зону внутри европейской экономики позднего Средневековья – наиболее развитый и процветающий регион на Западе, как мы видели. Апогеем коммун, в XIII в., был период мощного городского бума и демографического роста. Это раннее лидерство дало Италии особую позицию в последующем экономическом развитии континента. Как любая другая западноевропейская страна, она была разорена вследствие сокращения численности населения и депрессии XIV в.: торговый упадок и крах многих банков снизил уровень промышленного производства и, вероятно, стимулировал инвестиции в строительство, перевод капитала в расходные статьи и недвижимость. Путь итальянской экономики в XV в. менее ясен [199] . Резкое падение выпуска шерстяных тканей теперь было возмещено за счет переключения на производство шелка, хотя оценка компенсационных эффектов остается трудной. Возобновившийся рост населения, производства и экономической активности все равно не достигал максимального уровня XIII в. Однако кажется вероятным, что города-государства пережили общий кризис европейского феодализма лучше, чем любая другая область на Западе. Жизнеспособность городского и относительная современность аграрного секторов, по крайней мере в Ломбардии, вероятно, позволили Северной Италии вновь сообщить импульс экономике приблизительно на полстолетия раньше, чем всей остальной Западной Европе, – к 1400 г. Сейчас, тем не менее, представляется, что самый быстрый демографический рост наблюдался в сельской местности, а не в городах, ведь финансовые инвестиции все более ориентировались на землю [200] . Производство становилось более изощренным, со смещением к нему элитных товаров; шелковая и стеклодувная промышленность были среди наиболее динамичных секторов городского производства в эту эпоху. Кроме того, в течение последующих ста лет возрождавшийся европейский спрос поддерживал экспорт итальянских предметов роскоши на высоком уровне. И все же существовали неизбежные ограничения для торгового и промышленного процветания городов.
Гильдейская организация, наличием которой города эпохи Ренессанса отличались от городов античности, сама являлась препятствием для развития капиталистической промышленности в Италии. Ремесленные корпорации блокировали полное отделение прямых производителей от средств производства, что было предварительным условием капиталистического способа производства как такового в рамках городской экономики: они были определены постоянным единством ремесленников и их инструментов, которое не могло быть разрушено внутри этой структуры. Шерстяная текстильная промышленность в таких развитых центрах, как Флоренция, достигла в некоторой степени протофабричной организации, базирующейся на оплачиваемом труде; но нормой в суконном производстве всегда оставалась надомная система, находившаяся под контролем торгового капитала. Сектор за сектором ремесленники плотно группировались в гильдии, регулировавшие их методы и темп работы согласно корпоративным традициям и обычаям, которые представляли большие препятствия для прогресса в технологиях и эксплуатации. Венецианская суконная промышленность развилась последней и была наиболее конкурентоспособной в Италии в XVI в., когда она отняла рынки у Флоренции и Милана, – возможно, это был наиболее выдающийся коммерческий успех того времени. И все же даже в Венеции ремесленные корпорации также, в конечном счете, представляли непреодолимый барьер для технического прогресса: там тоже основная часть гильдейского законодательства была нацелена на воспрепятствование любым инновациям [201] . Собственно промышленный капитал функционировал, таким образом, в рамках ограниченного пространства, с небольшой возможностью расширения производства: конкуренция с более свободными, расположенными за границами города (в сельской местности и за рубежом) предприятиями с более низкой стоимостью производства, в конечном счете, разрушила его. Торговый капитал процветал дольше, потому что торговля не была скована такими ограничениями; но и он также расплатился за свою техническую инерцию, когда морское доминирование перешло от средиземноморского к атлантическому судоходству с появлением более быстрых и дешевых видов морского транспорта, созданных голландцами и англичанами [202] . Банковский капитал поддерживал уровень дохода дольше всех, потому что он был наиболее отделенным от материальных процессов производства. Все же его паразитическая зависимость от международных дворов и армий делала его особенно уязвимым перед их превратностями. Судьбы Флоренции, Венеции и Генуи – жертв английского и французского суконного производства, португальского и англо-голландского судоходства и испанского банкротства – хорошая иллюстрация этого тезиса.
Экономическое лидерство ренессансных городов Италии было очевидным. В то же самое время политическая стабилизация республиканских олигархий, которые обычно являлись результатом борьбы между патрициатом и гильдиями, оказывалась трудной задачей: социальное недовольство ремесленных масс и городской бедноты всегда оставалось ниже поверхности городской жизни, готовое взорваться снова в случае кризиса, всякий раз, когда установившийся круг властей раскалывался на фракции [203] . В конечном счете значительный рост масштаба и интенсивности военных действий с появлением полевой артиллерии и профессиональной пехоты, вооруженной пиками, привел к тому, что скромные оборонительные способности маленьких городов-государств все более устаревали. Итальянские республики стали еще уязвимее в военном плане, когда в начале Нового времени начала расти численность и огневая мощь европейских армий. Эти угрозы и проблемы, заметные в той или иной степени в разные периоды в северных и центральных городах, создали условия для дальнейшего подъема синьорий.
Социальное происхождение выскочек-лордов, обнаружившихся в разных городах, связано с сельской феодальной глубинкой. Сеть коммун никогда не покрывала север и центр полуострова полностью; между ними всегда оставались огромные сельские пустоши, над которыми господствовала сеньориальная знать. Она обеспечивала аристократическую поддержку кампаний Гогенштауфенов против городов гвельфов, и происхождение синьорий может быть прослежено от союзов знати или лейтенантов Фридриха II в менее урбанизированных регионах Салюццо или Венето [204] . В Романье значительное расширение коммун в сельской местности, путем создания подчиненных contado, привело к завоеванию городов сельскими лордами, чьи земли были включены в них [205] . Большая часть первых тиранов, появившихся на севере, были вассалами или кондотьерами, которые захватили власть в период пребывания в должностях подеста или капитана городов; во многих случаях, они завоевывали временную популярность вследствие подавления ненавидимых городских олигархов или восстановления гражданского порядка после вспышек фракционного насилия между предыдущими правящими семьями. Почти всегда они создавали увеличенный военный аппарат, лучше приспособленный к современным потребностям войны. Их провинциальные завоевания сами по себе приводили к увеличению веса аграрной составляющей в городах-государствах, которыми они теперь управляли [206] .
Связь синьорий с землями, откуда они получали войска и доходы, оставалась тесной, о чем свидетельствовало распространение этой модели. Возникнув в более отсталых районах Северной Италии, проходящих вдоль Альп на западе и доходивших до дельты реки По на востоке, княжеская власть двигалась к центру политической сцены с Висконти, захватившими Милан – некогда душу коммун Ломбардской лиги, – в конце XIII в. Милан, после того, всегда оставался самым стабильным и мощным княжеством среди крупных итальянских городов из-за своего специфического государственного устройства. С одной стороны, он не был ни морским портом, ни крупным промышленным центром, его отрасли промышленности были многочисленными и преуспевающими, но в то же время небольшими и раздробленными. С другой стороны, он обладал наиболее обширной сельскохозяйственной территорией в Италии, с орошаемыми лугами в Ломбардской долине, которая могла противостоять аграрной депрессии XIV в., возможно, лучше, чем любой другой регион в Европе. Милан, имевший крупнейшую долю сельского хозяйства в богатстве среди больших итальянских городов, был естественным плацдармом для первой имевшей международное значение синьории на Севере. К концу XIII в. большая часть Италии, расположенная выше Апеннин, попала в руки мелких лордов или военных авантюристов. Тоскана сопротивлялась последующие сто лет, но в течение XV в. она тоже уступила позолоченным тираниям. Флоренция, крупнейший промышленный и банковский центр полуострова, в конечном счете упала в спокойные наследственные руки Медичи, хотя не без эпизодов республиканского рецидива: дипломатическая и военная защита со стороны династии Сфорца – правителей Милана [207] , и давление на Римских Пап из семьи Медичи были необходимы, чтобы обеспечить окончательную победу княжеского режима во Флоренции. Сам Рим в правление Папы Юлия II делла Ровере в начале XVI в. впервые поменял политическую и военную структуру Папского государства в форме близкой к той, что применялась к враждующим силам за Тибром. Очевидно, две морские республики, Венеция и Генуя, в одиночку противостояли приходу нового типа двора и правителя – в силу относительной нехватки сельских территорий, окружавших их. Венецианская Serrata, тем не менее, создала крошечную наследственную клику правителей, которая заморозила политическое развитие города и доказала невозможность интеграции владений Республики с любым современным унитарным государством [208] . Генуэзский патрициат, наемники и асоциальные элементы выжили в машине испанского империализма. Повсюду в других местах города-государства исчезли.
В культурном плане Ренессанс достиг своего апогея в финальном акте итальянской городской цивилизации прежде, чем начались новые «варварские» вторжения из-за Альп и со стороны Средиземного моря.
Княжеский и клерикальный патронаж новых великолепных дворов полуострова щедро инвестировал в искусство и литературу: благополучателями были архитектура, скульптура, живопись, филология и история в теплоте аристократической атмосферы эрудиции и этикета. В экономическом плане медленная стагнация техники и предприятий была скрыта за резким подъемом в остальной Западной Европе, который продолжал расширять спрос на итальянские предметы роскоши, после того как внутреннее производство прекратило вводить новшества и обеспечило показное богатство синьорий. Но в политическом плане потенциал этих субкоролевских государств оказался очень ограниченным. Мозаика коммун на севере и в центре открыла путь меньшему числу объединенных городских тираний, которые в дальнейшем участвовали в постоянных войнах и интригах друг против друга, чтобы получить господство над Италией. Но ни одно из пяти крупных государств на полуострове – Милан, Флоренция, Венеция, Рим и Неаполь – не усилилось настолько, чтобы победить других или даже поглотить множество мелких княжеств и городов. Возвращение Джана Галеаццо Висконти в Ломбардию, под объединенным давлением со стороны его противников на рубеже XV в., обозначило конец наиболее перспективной претензии на господство. Непрерывная политическая и военная конкуренция между государствами средней силы, в конечном счете, достигла сомнительного равновесия после заключения в Лоди договора в 1451 г. К этому времени города эпохи Ренессанса уже развили основные инструменты светского искусства управления государством и агрессии, которые они завещали европейскому абсолютизму – наследие, огромное значение которого уже было понятно. Фискальные сборы, финансовые долги, продажа должностей, иностранные посольства, шпионские агентства – все это впервые появилось в итальянских городах-государствах в качестве репетиции в уменьшенном масштабе будущей большой международной государственной системы и ее конфликтов [209] .
Тем не менее режим синьории не мог изменить основных параметров тупика в итальянском политическом развитии, который наступил после провала проекта унитарной имперской монархии в эпоху Гогенштауфенов. Коммуны были структурно неспособны достичь объединения полуострова из-за их очень раннего городского и торгового развития. Синьории вернули политическое влияние сельскому и сеньориальному окружению, в которое они были включены. Но настоящая социальная победа деревни над городом была невозможна в Северной и Центральной Италии: привлекательность городов была значительно большей, в то время как местный землевладельческий класс не сумел создать наследственную феодальную аристократию с чувством кастовой солидарности ( esprit de corps). Одни лорды, которые захватили власть в республиках, часто были наемниками, выскочками или авантюристами, другие влиятельными банкирами и купцами. Суверенитет синьорий, следовательно, был всегда, в глубоком смысле, нелегитимным [210] : он опирался на силу и мошенничество, без какой-либо коллективной социальной санкции, аристократической иерархии или долга, стоявшего за ним. Новые княжества уничтожили гражданскую жизненную силу республиканских городов; но они не могли полагаться на лояльность и дисциплину подчиненной феодалу сельской местности. Таким образом, несмотря на использование ими преувеличенно новых средств и методов, а также их знаменитое введение в обиход чистой «силовой политики», синьории были, по существу, неспособны воспроизвести типичную государственную форму раннего Нового времени, унитарный королевский абсолютизм.
Именно запутанный исторический опыт этих владений произвел на свет политическую теорию Макиавелли. Традиционно рассматриваемая как отправная точка современного политического реализма ( Realpolitik ), предсказавшая практику светских монархий абсолютистской Европы, она была на самом деле программой идеализированной общеитальянской или, возможно, только центральноитальянской синьории незадолго до исторического краха этой общественной формы [211] . Живой интеллект Макиавелли осознавал дистанцию между династическими государствами Испании и Франции и провинциальными тираниями Италии. Он заметил, что французская монархия была окружена могущественной аристократией и основывалась на прикладной законности: чрезвычайное влияние знати и законов было ее отличительной чертой. «Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, привязанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть. <…> Монархическая власть сдерживается во Франции законами более, чем в каком-либо из известных нам нынешних царств» [212] . Но он не смог понять, что сила новых территориальных монархий лежала именно в этом сочетании феодальной знати и конституционной легитимности; он считал, что французские парламенты были просто королевским фасадом для запугивания аристократии и умиротворения масс [213] . Отвращение Макиавелли к аристократии было столь глубоким и обобщенным, что он мог объявить дворян-землевладельцев несовместимыми с любым стабильным или жизнеспособным политическим порядком: «республики, сохранившие у себя свободную и неиспорченную политическую жизнь, не допускают, чтобы кто-либо из их граждан был дворянином или же жил на дворянский лад. <…> Дабы стало совершенно ясно, кого обозначает слово „дворянин“, скажу, что дворянами именуются те, кто праздно живут на доходы со своих огромных поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. <…> подобная порода людей – решительный враг всякой гражданственности» [214] . С завистью оглядываясь на немецкие города, в которых не было вообще сеньориальной периферии [215] , он сохранял некоторый ностальгический республиканизм, состоявший из исчезающих остатков памяти о республике, управлявшейся Содерини, которой он служил, и почтения антиквара перед древней героической эпохой Рима, описанной Ливием.
Но макиавеллевский республиканизм в « Размышлениях » был преимущественно сентиментальным и случайным. Во всех политических режимах господство принадлежало небольшой правящей группе: «Во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных постов достигает не больше сорока-пятидесяти граждан» [216] . Огромная масса населения, находящаяся ниже этой элиты, заботилась только о своей собственной безопасности: «подавляющее большинство стремится к свободе ради своей безопасности». Успешное правительство всегда могло подавлять традиционные свободы до тех пор, пока оно не трогало собственность и семьи своих подданных; оно должно стараться поддерживать их экономические предприятия, поскольку они вносили бы вклад в его собственные запасы: " Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, Государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин» [217] . Эти принципы были верны для любой политической системы – княжества или республики. Республиканские конституции, те не менее, были приспособлены только для собственной долговечности: они могли сохранить существующее государство, но не создать новое [218] . Чтобы основать итальянское государство, способное противостоять варварским захватчикам из Франции, Швейцарии и Испании, была необходима сосредоточенная воля и безжалостная мощь единого правителя. Реальная страсть Макиавелли лежит здесь. Его предписания, по существу, адресованы архитектору – очевидно, выскочке-парвеню – будущего полуостровного государства. В начале «Государя» он заявляет, что в трактате будут рассмотрены два типа устройства княжества, «наследственное» и «новое», и не упустит из виду разницу между ними. Но первостепенной целью работы, доминирующей во всем его тексте, по сути, является создание нового княжества, задачи, решение которой Макиавелли считал величайшим достижением любого правителя: «Если новый Государь разумно следует названным правилам, он скоро утвердится в государстве и почувствует себя в нем прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству. Ибо новый Государь вызывает большее любопытство, чем наследный правитель, и если действия его исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей, чем древность рода. <…> И двойную славу стяжает тот, кто создаст государство и укрепит его» [219] .
Скрытый сдвиг фокуса очевиден в книге. Так, Макиавелли определяет две главные основы правительства – «хорошие законы» и «хорошая армия»; но он сразу же добавляет, что до тех пор, пока принуждение создает законность, и не наоборот, он будет рассматривать только принуждение. «Основой же власти во всех государствах – как унаследованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому минуя законы, я перехожу прямо к войску» [220] . Возможно, в наиболее известном пассаже «Государя» он повторяет тот же самый концептуальный сдвиг. Он утверждает, что закон и сила – способы поведения соответственно людей и животных, и правителю следует быть «кентавром», сочетающим то и другое. Но на деле, королевская «комбинация», обсуждаемая им, совсем не кентавр – получеловек-полуживотное, а – вот он, немедленный сдвиг, – сочетание двух животных, «льва» и «лисы» – силы и обмана. «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: с помощью законов и с помощью силы. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что Государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что Государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы? Итак, из всех зверей пусть Государь уподобится двум: льву и лисе» [221] . Страх подданных всегда предпочтительнее, чем привязанность; насилие и обман лучше законности позволяет их контролировать. «О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива <…> любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно» [222] .
Эти общие предписания были фактически внутренними правилами мелких тиранов Италии: они были далеки от реалий значительно более сложной идеологической и политической структуры классовой власти в новых монархиях Западной Европы. Макиавелли плохо понимал огромную историческую силу династической легитимности, на которой был основан развивающийся абсолютизм. Его мир был миром преходящих авантюристов и самонадеянных тиранов итальянской синьории; его путеводной звездой был Чезаре Борджиа. Результатом ученого антилегитимизма Макиавелли был его знаменитый «техницизм», защита сомнительных с моральной точки зрения средств для достижения обычных политических целей, лишенная этических ограничителей и императивов. Поведение государя могло быть только каталогом вероломства и преступлений, как только все устойчивые юридические и общественные основы господства были разрушены, а аристократические солидарность и верность аннулированы. Для более поздних эпох это отделение феодальной и религиозной идеологии от практического осуществления власти казалось секретом и величием Макиавеллевской мысли [223] . Но фактически в его политической теории, очевидно нововременной в ее приверженности рациональности, существенно недоставало непротиворечивой объективной концепции государства как такового. Его словарь постоянно тасует термины citta, governo, republica или stato, но все они подчинены понятию, которое дало название его главной работе– Государю (Principe ), который мог быть главой как «республики», так и «княжества» [224] . Макиавелли никогда полностью не отделял правителя как личность, который мог, в принципе, высадиться там, где он пожелает (Чезаре Борджиа или его партнеры) и территориально закрепленную безличную структуру политического порядка [225] . Функциональных связей между ними двумя в эпоху абсолютизма было вполне достаточно, но Макиавелли, не умея объяснить необходимую социальную взаимозависимость монархии и аристократии, сводил свое определение государства к обычной собственности правителя, дополнительному украшению его воли. Последствием этого волюнтаризма был любопытный центральный парадокс работы Макиавелли – его постоянное осуждение наемников и напряженная защита городского ополчения как единственной военной организации, способной выполнять проекты сильного государя, который мог бы стать создателем новой Италии. Это является темой яркого завершающего призыва из его наиболее знаменитой работы, адресованной Медичи: «Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны <… > они довели Италию до позора и рабства. <… > Если ваш славный дом пожелает следовать по стопам величайших мужей, ставших избавителями отечества, то первым делом он должен создать собственное войско» [226] . Макиавелли позднее посвятил «Искусство войны» развитию своих соображений о войне, полностью посвященных армии граждан, подкрепив все примерами из античности.
Макиавелли верил, что наемники являются причиной итальянской политической слабости; и как секретарь Республики он сам пытался создать армию из местных крестьян для защиты Флоренции. Конечно, фактически наемники были предпосылкой новых королевских армий по ту сторону Альп, в то время как коммунальное ополчение было с легкостью разбито регулярными войсками [227] . Причина его военной ошибки, однако, была следствием его политических убеждений. Макиавелли спутал европейское наемничество с итальянской кондотьерской системой: разница была в том, что кондотьеры в Италии владели своими войсками, продавая их и перекидывая их с одной стороны на другую в локальных войнах, в то время как королевские правители, по ту сторону Альп, формировали и заключали контракты с наемными войсками под своим непосредственным контролем, создавая предшественника постоянных, профессиональных армий. Именно сочетание макиавеллевской концепции государства как собственности Государя и его согласие на авантюристов-правителей ввело его в заблуждение в размышлениях о непостоянных кондотьерах, которые были типичны для наемнических войн в Европе. Он не сумел увидеть силу династической власти, происходившей из феодальной аристократии, которая делала домашние наемные войска достаточными не только для защиты, но и для превосходства любой другой существовавшей в то время военной системы. Логическая несовместимость гражданской милиции под властью узурпаторов-тиранов, как формулы освобождения Италии, была безнадежным признаком исторической невозможности полуостровной синьории. Помимо этого, там оставались только банальные рецепты обмана и свирепости, которые получили наименование макиавеллизма [228] . Эти советы флорентийского секретаря были просто теорией политической слабости; их техницизм был слепым эмпиризмом, неспособным обнаружить глубокие социальные причины событий, которые он сам отмечал, ограничиваясь тщетной поверхностной манипуляцией ими, мефистофельской и утопической.
Работа Макиавелли, таким образом, существенно отражала в своей внутренней структуре окончательный тупик итальянских городов-государств накануне их поглощения. Она оставалась лучшим проводником к их неотвратимому концу. В Пруссии и России, как мы увидим дальше, сверхабсолютизм возник над пустотой городов. В Италии и в Германии, к западу от Эльбы, концентрация городов породила особый вид «микроабсолютизма» – значительное увеличение мелких княжеств, которые кристаллизовали разделение страны. Эти миниатюрные государства были не в том положении, чтобы противостоять соседним феодальным монархиям, и вскоре полуостров был насильственно приведен к европейским нормам иностранными завоевателями. Франция и Испания взяли проблему под свой контроль в первые десятилетия их политической интеграции в конце XV столетия. Неспособная создать национальный абсолютизм изнутри, Италия была вынуждена получить навязанный ей извне иностранный вариант. За полстолетия между походом Карла VIII в Неаполь в 1494 г. и поражением Генриха II при Сент-Квен-тине в 1557 г, Валуа были остановлены Габсбургами, и приз достался Испании. Впредь Испания, закрепившаяся в Сицилии, Неаполе и Милане, управляла полуостровом и приручила папство под знаменем Контрреформации. Как ни парадоксально, именно экономический успех Северной Италии впоследствии обрек ее на длинный цикл политической отсталости. Конечным результатом, как только Габсбургская Империя была объединена, был значительный экономический регресс: перемещение в село городских патрициев, которые в процессе упадка бросали финансовую и производственную деятельность и инвестировали в земельные владения. Отсюда та «сотня городов тишины», к которой снова и снова обращался Грамши [229] . В удивительном сближении исторических эпох, в конечном счете, именно Пьемонтская монархия достигла национального единства в период буржуазных революций на Западе. Фактически Пьемонт обеспечил логическую основу для объединения: единственное место в Италии, где возник строгий местный абсолютизм, опиравшийся на феодальную земельную собственность, с доминирующей ролью крепостничества. Государство, созданное Эммануилом Филиберто и Карло Эммануилом в Савойе, было экономически неразвитым по сравнению с Венецией или Миланом; именно по этой причине оно оказалось единственным территориальным зародышем, способным к дальнейшему политическому совершенствованию.
Его географическое положение у подножия Альп было важным для этой исключительной судьбы. Это значило, что в течение трех столетий Савойя могла поддерживать свою автономию и расширять свои границы, стравливая две главные силы на континенте друг с другом, – сначала Францию с Испанией, затем Австрию с Францией. В 1460 г., накануне иностранных вторжений, которые положили конец эпохе Ренессанса, Пьемонт был единственным независимым государством в Италии с влиятельной сословной системой [230] —конечно, именно потому, что он был наиболее феодальным социальным образованием на полуострове. Сословия были созданы по обычной трехкуриальной системе с господством аристократии. Доходы правящих герцогов были небольшими, а их власть ограниченной, хотя духовенство, которое владело третью земель, в общем, оставалось их союзником. Сословия отказались обеспечивать средствами постоянную армию. Тогда, в 1530-е гг., французские и испанские войска оккупировали восточную и западную части Пьемонта соответственно. Во французской зоне сословное представительство было сохранено в качестве провинциальных органов королевства Валуа, в то время как в испанской оно было подавлено до 1555 г. Французская администрация реорганизовала и модернизировала местное архаичное государственное устройство; и больше всего от этой деятельности выиграл герцог Эммануил Филиберто. Получивший образование в Испании и воевавший во Фландрии, этот союзник Габсбургов и победитель у Сент-Квентина восстановил все свое наследство в 1559 г. по договору в Като-Камбрези. Энергичный и властный герцог, « Железная голова» для своих современников, созвал сословия в последний раз в 1560 г., собрал огромную сумму для создания 24-тысячной армии и затем распустил их навсегда. После этого, институциональные инновации, появившиеся за период тридцатилетнего правления Валуа, были сохранены и развиты – государственный совет, судебные парламенты, королевские указы ( lettere di giussione, аналог французских lits de justice) , общий юридический кодекс, единая денежная система и реорганизованное казначейство, законодательство, регулирующее расходы. Увеличив свои доходы в 5 раз, Эммануил Филиберто создал новую лояльную придворную аристократию, расчетливо распределяя титулы и посты. В период правления герцога, который одним из первых правителей Европы объявил себя свободным от законодательных ограничений – Мэг, сотеprincipi, siamo da ogni legge sciolti e liberi [231] , – Пьемонт быстрыми шагами двигался к ранней королевской централизации.
Впредь Пьемонтская династия всегда заимствовала политические формы и механизмы французского абсолютизма, в то же время сопротивляясь территориальному включению в него. Семнадцатый век, тем не менее, явился свидетелем длительных анархичных гражданских войн и аристократической борьбы при слабых правителях, серьезное и длинное эхо Фронды. Множественные анклавы и нечеткие границы государства в буферном регионе Европы препятствовали твердому герцогскому контролю над Альпийским высокогорьем. Движение к централизованному абсолютизму решительно было продолжено Витторио Эммануилом II в начале XVIII в. Умелая смена фронта в войне за Испанское наследство от Франции к Австрии закрепила за Пьемонтом герцогство Монферра и остров Сардинию, а также подтвердила на европейском уровне его возвышение от герцогства до монархии. Лавируя в войне, Витторио Эммануил использовал последовавший мир, чтобы установить жесткую администрацию, схожую с той, что была у Кольбера, в которой существовал Совет и система интендантов. Затем он отобрал у дворян огромные участки земель новым кадастровым регистром – перепись ( perequazione) 1731 г., – таким образом, увеличив налоговые доходы, поскольку аллодиальные владения должны были платить налоги [232] ; создал огромное число военных и дипломатических учреждений, в которые была интегрирована аристократия; устранил клерикальный иммунитет и подчинил Церковь; проводил энергичный протекционистский меркантилизм, включавший развитие дорог и каналов, содействие экспорту промышленности и строительство великолепной столицы в Турине. Его преемник Карло Эммануил III ловко создал союз с Францией против Австрии в войне за Польское наследство, чтобы получить часть Ломбардской равнины, и с Австрией против Франции в войне за Австрийское наследство, чтобы сохранить ее. Пьемонтский абсолютизм был, таким образом, одним из наиболее последовательных и успешных в эту эпоху. Как и два других южных эксперимента по построению сильного, модернизированного абсолютизма в маленьких государствах – режим Тануччи в Неаполе и Помбаля в Португалии, – он был хронологически отставшим: его творческий пик пришелся на XVIII, а не на XVII столетие. Но его модель была во всем остальном весьма схожа с ее более крупными наставниками. Действительно, ко времени своего апогея, пьемонтский абсолютизм тратил на армию, квалифицированные профессиональные войска пропорционально больше, чем любое другое государство в Западной Европе [233] . Аристократический военный аппарат был рассчитан на будущее.
7. Швеция
Внезапный подъем шведского абсолютизма в первые годы XVI в., произошедший практически без переходного периода от «раннего средневекового» сразу к «раннему новому» типу феодального государства, не имел аналогов в Западной Европе. Появление нового государства было ускорено внешними факторами. В 1520 г. молодой датский король Христиан II пришел с армией в Швецию, чтобы установить там свою власть, нанося одно поражение за другим и казня представителей олигархической партии Стуре, которая фактически управляла страной при Регентстве в последние годы Кальмарской унии. Перспектива сильной иностранной монархии, навязывавшейся Швеции, сплотила местную аристократию и часть независимого крестьянства в поддержку узурпатора-аристократа Густава Ваза, который выступил против датского доминирования и три года спустя установил свое собственное правление в стране с помощью Любека – ганзейского врага и соперника Дании. Густав, однажды установив свою власть, быстро и безжалостно продолжил установление основ устойчивого монархического государства в Швеции.
Его первым и решающим шагом было проведение отчуждения Церкви под своевременным знаменем Реформации. Инициированный в 1527 г., этот процесс успешно завершился в 1544 г., когда Швеция официально стала лютеранским государством. Реформация, проведенная Ваза, была, несомненно, наиболее успешной экономической операцией подобного рода из совершенных какой-либо династией в Европе. В отличие от разрушительных результатов захвата монастырей Тюдорами или секуляризации церковных земель немецкими князьями, в этом случае практически весь доход от церковной собственности достался шведской монархии. Помимо присвоения двух третей десятины, ранее получавшейся с населения епископами, и захвата огромных запасов серебра у церквей и монастырей, Густав с помощью конфискаций в 5 раз увеличил королевские угодья [234] . Эксплуатируя серебряные шахты, развивая экспорт железа и тщательно контролируя доходы и расходы своего королевства, Густав ко времени своей смерти накопил огромные излишки без заметного повышения налогов. Одновременно он расширил административный аппарат управления страной, утроив число бейлифов и экспериментируя с централизованной бюрократией, созданной по проекту его немецких советников. Региональные автономии в нестабильных горнопромышленных районах Даларны были подавлены, и в Стокгольме постоянно находился гарнизон. Знать, экономическое соперничество которой с духовенством было использовано для присоединения церковных земель, получала все меньше ленов за службу ( lan pa tjanst) и все больше и больше – новых феодов (forlaning ), особого вида полуправительственного земельного владения, которое было гораздо сильнее ограничено, представляя собой скорее право на отчисления от королевских доходов за выполнение определенных административных обязанностей. Эта мера централизации не вызвала сопротивления аристократии, которая в основном была солидарна с режимом в период всего правления Густава, особенно после подавления им крестьянских восстаний в Даларне (1527) и Смоланде (1543–1544) и военного покорения Любека. Традиционный совет магнатов Рад (rad) был сохранен для помощи в делах политической важности, но исключен из повседневной администрации. Важным новшеством политической машины Ваза было постоянное использование в ранний период правления Густава сословной ассамблеи, риксдага, который регулярно созывался, чтобы узаконить действия новой династии, придавая печать народного одобрения королевской политике. Самым важным достижением Густава в этом отношении было получение им в 1544 г. согласия сословной ассамблеи в Вестеросе на законодательное закрепление, положения, согласно которому монархия больше не была избираемой, а впредь передавалась по наследству дому Ваза [235] .
Сыновья Густава I Эрик XIV и Юхан, таким образом, унаследовали энергичное, хотя в чем-то еще примитивное, государство, которое поддерживало теплые отношения с аристократическим классом, накладывая незначительные повинности и не посягая на привилегии. Эрик XIV, унаследовавший власть в 1560 г., реформировал и расширил армию, расширив обязательства военной службы дворянства. Он также создал новую систему титулов, даруя магнатам титулы графа и барона вкупе с классическими наследственными феодами. Во внешней политике его правление ознаменовалось шведской экспансией в Северной Прибалтике. После неизбежного краха Ливонского ордена под ударами России и вмешательства Польши для приобретения его наследства Швеция заняла Ревель на другой стороне Финского залива. Любопытная и запутанная борьба развернулась между Балтийскими державами за контроль над Ливонией. В 1568 г. Эрик XIV стал жертвой сильных подозрений лидирующих дворян и был свергнут как неуравновешенный. Его брат Юхан III, наследовавший трон, участвовал в Ливонской войне более успешно, благодаря заключению антирусского союза с Польшей. В конце 1570-х гг. польские силы отбросили армии Ивана IV к Пскову, в то время как шведские войска завоевали Эстонию; так были заложены основы Шведской заморской империи. Дома тем временем происходил ускоренный дрейф в направлении новых феодов (forlaning ), которые все чаще жаловались монархией безродным функционерам и бейлифам, так что к 1590-м гг. только треть их оставалась в руках дворянства [236] . Разногласия между монархией и аристократией обострилиь к концу столетия, несмотря на успех Ваза в Ливонской войне. Вступление на престол сына Юхана III, католика Сигизмунда в 1592 г., ускорило наступление периода острых религиозных и политических конфликтов, которые поставили под угрозу всю стабильность королевского государства. Сигизмунд, благочестивый сторонник Контрреформации, за пять лет до этого был избран королем Польши, частично из-за династических связей Ваза с пресекшейся линией Ягеллонов. Обязавшийся, как условие признания, уважать лютеранство в Швеции и воздерживаться от административного объединения двух своих королевств, он проживал как отсутствующий монарх в Польше в течение десяти лет. Швецией в это время управлял его дядя Карл, герцог Сёдерманланда, и магнат Рада (rad); Сигизмунд был фактически выдворен из своего северного королевства вследствие соглашения между герцогом и дворянством. Однако все увеличивающаяся деспотичная личная власть, сконцентрированная Карлом, в конечном счете вызвала противодействие высшей аристократии, сплотившейся вокруг Сигизмунда после возвращения того в 1604 г. с целью вернуть свое наследство, узурпированное дядей. Последовавшее военное столкновение закончилось победой герцога благодаря антипапской пропаганде против Сигизмунда, который был представлен как угроза возрождения католицизма в Швеции.
Захват власти герцогом, который теперь стал королем Карлом IX, был закреплен судебной расправой над магнатами Рада, которые встали на сторону проигравшего соперника в этом династическом конфликте. Репрессии и нейтрализация Карлом IX совета магнатов характерным образом сопровождались учащением созыва риксдага, который вновь показал себя как послушный и управляемый инструмент шведского абсолютизма. Аристократия держалась на расстоянии вытянутой руки от центральной администрации, а ее военные обязательства были увеличены. Чтобы смягчить недовольство знати и ее презрение к узурпатору трона, король распределил земли, конфискованные у оппозиционных магнатов, которые бежали в эмиграцию с Сигизмундом, и предоставил большие доли новых феодов (forlaningar ) дворянству [237] . Однако сразу после его смерти в 1611 г. напряженность и подозрения между династией и аристократией, градус которых повышался на протяжении многих лет, переросли в действия. Знать немедленно воспользовалась малолетством короля, чтобы навязать Хартию 1612 г., которая формально осудила противоправности прошедшего царствования; восстановила полномочия Совета магнатов в делах налогообложения и внутренней политики, гарантировала первенство знати в назначениях на бюрократические посты; а также обеспечила гарантии сохранения должности и фиксированные зарплаты государственным служащим. Царствование Густава Адольфа началось с конституционного соглашения, составленного таким образом, чтобы предотвратить повторение тирании его отца. Густав Адольф не выказал никакого желания возвратиться к грубому самодержавию. Его правление, наоборот, стало временем восстановления и интеграции монархии и знати: государственный аппарат перестал быть рудиментом династического наследия, поскольку вся аристократия была теперь призвана в современную сильную администрацию и армию, сформированные в Швеции. Вельможа Густава Адольфа канцлер Оксеншерна преобразовал всю систему исполнительной власти в пять центральных коллегий, укомплектованных бюрократами их числа знати. Рад стал регулярным Тайным советом для обсуждения и выработки политики. Законодательные процедуры и структура риксдага были кодифицированы в 1617 г.; ордонанс юридически разделил аристократию на три класса и предоставил ей в 1626 г. особую палату или Рыцарский дом (Riddarhus ), которая с тех пор стала доминирующим центром сословных ассамблей. Страна была разделена на 24 провинции (лены), над каждой из которых была установлена власть лорда-наместника (landhovding), избранного из числа аристократов [238] . Развивалась модернизированная образовательная система, а официальная идеология возвеличила этническое происхождение шведского правящего класса, чьи предки – «готы» когда-то господствовали в Европе. Тем временем расходы на флот возросли в 6 раз в период царствования Густава Адольфа, а местная военная сила увеличилась в 4 раза [239] . Всеохватывающая рационализация и возрожденная энергия шведского абсолютизма обеспечили платформу для заграничной военной экспансии Густава Адольфа.
Избавив себя от неудачной войны с Данией, завещанной ему Карлом IX, подписанием дорогостоящего мира в начале своего царствования, король сконцентрировал свои начальные цели на Северо-Балтийском театре военных действий, где Россию все еще сотрясало Смутное время, а его брат Карл Филипп едва не стал царем при поддержке бояр и казаков. Очень скоро последовали территориальные приобретения за счет России. Согласно Столбовскому мирному договору 1617 г., Швеция приобрела Ингрию и Карелию, что дало ей полный контроль над Финским заливом. Четыре года спустя Густав Адольф отобрал Ригу у Польши. Затем в 1625–1626 гг. шведские армии раскатали польские войска по Ливонии, завоевав весь регион. Следующей операцией была десантная атака на саму Польшу, где все еще правил Сигизмунд. Стратегические подходы к Восточной Пруссии были захвачены аннексией Мемеля, Пиллау и Эльбинга, и с этого времени южная балтийская торговля зерном была обложена тяжелыми пошлинами. За завершением польской кампании в 1629 г. быстро последовала шведская высадка в Померании в 1630 г., знаменуя вступление Густава Адольфа в борьбу за Германию во время Тридцатилетней войны. К этому моменту общая мощь шведского военного аппарата составляла около 72 тысяч солдат, из которых только немногим более половины были местными; военные планы на 1630 г. предусматривала развертывание 46-тысячной армии в Германии, но на практике эта цель не была достигнута [240] . Тем не менее в течение двух коротких лет Густав Адольф с победой провел свои армии по огромной дуге от Бранденбурга через Рейнскую область в Баварию, разрушая позиции Габсбургов в Империи. В момент смерти короля в 1632 г. на поле триумфа у Лютцена Швеция решала судьбы Германии и господствовала во всей Северной Европе.
Что сделало возможным этот головокружительный взлет шведского абсолютизма? Чтобы понять его природу и динамику, необходимо оглянуться назад на отличительные черты средневековой Скандинавии обозначенные ранее. Центральной особенностью шведской социальной формации накануне эпохи Ваза была незавершенная феодализация отношений производства в сельской экономике. Мелкое крестьянство дофеодального типа в начале XVI в. продолжало владеть половиной обработанных земель. Это, однако, не значит, будто Швеция «никогда не знала феодализма», как часто утверждается [241] . Другая половина шведского сельского хозяйства представляла собой королевско-клерикально-дворянский комплекс с его обычным феодальным отбором излишков у зависимого крестьянства. Хотя арендаторы в этом секторе юридически не были закрепощены, внеэкономическое принуждение выдавливало из них оброк и барщину в обычных для всей Западной Европы того времени формах. Преобладающим сектором шведской экономики на протяжении того периода, несомненно, было феодальное сельское хозяйство, поскольку, хотя и существовало приблизительное равенство площадей обработанных земель в двух секторах, можно с уверенностью признать, что продуктивность и производительность была в целом выше в более крупных дворянских и королевских владениях – обычное правило в Западной Европе. Тем не менее чрезвычайное отставание экономики в целом было, на первый взгляд, ее наиболее яркой характеристикой в любой сравнительной перспективе. Менее половины почв была пригодна для земледелия. Основной зерновой культурой был ячмень. Территориальная консолидация была очень ограниченной – даже в середине XVII в. только около 8 % фермерских хозяйств относились к манорам [242] . Кроме того, уникальное распространение мелкого производства в деревнях означало, что показатель коммерциализации в сельском хозяйстве был, вероятно, самым низким на континенте. Натуральное хозяйство преобладало на огромных территориях страны до такой степени, что еще в 1570-е гг. всего 6 % королевских доходов – налогов и повинностей – собирались деньгами, в то время как большинство государственных чиновников получали вознаграждение в натуральной форме [243] . В условиях, когда температура денежно-кредитного обмена была все еще субарктической, не существовало никакой возможности для расцвета городской экономики. Шведские города были немногочисленны и слабы, большинство из них основаны и заселены немцами; внешняя торговля оставалась фактически монополией ганзейских торговцев. На первый взгляд, такая конфигурация кажется особенно неблагоприятной для внезапного и успешного появления современного Абсолютизма. Каково же объяснение исторического успеха государства Ваза?
Ответ на этот вопрос приводит нас в центр особенностей шведского абсолютизма. Централизация королевской власти в XVI–XVII вв. не была ответом на кризис крепостничества и распад манориальной системы вследствие товарного обмена и социального расслоения в деревне. Не была она и отражением роста местного торгового капитала и городской экономики. Ее первоначальный импульс был получен извне; опасность жесткого датского господства мобилизовала шведское дворянство под руководством Густава I, а капитал Любека финансировал его войну против Христиана II. Однако не кризис 1520-х гг. создал фундаментальную матрицу шведского абсолютизма: ее надо искать в треугольнике отношений классовых сил внутри страны. Основная и решающая модель социальной структуры может для наших целей быть суммирована в краткой формуле. Типичным западным сочетанием в период раннего Нового времени был аристократический абсолютизм, поднявшийся на социальных основах некрепостного крестьянства и влиятельных городов; типичным восточным сочетанием был аристократический абсолютизм, построенный на основе крепостного крестьянства и порабощенных городов. Шведский абсолютизм, наоборот, был построен на уникальной базе, потому что – по историческим причинам, отмеченным ранее, – он объединил свободных крестьян и никчемные города: другими словами, он сочетал две «противоречащие» переменные поперек основного разделения континента. В подавляюще сельских обществах того времени первая составляющая особой шведской комбинации – лично свободное крестьянство было «доминантой» и обеспечивало основное сходство шведской истории, несмотря на весьма отличную отправную точку, с Западной, а не Восточной Европой. Однако второй составляющей – незначительности городов, бывшего одним из результатов наличия сильного жизнеспособного крестьянского сектора, из которого никогда не выкачивались излишки обычными феодальными механизмами, оказалось достаточно, чтобы придать новорожденной государственной структуре шведской монархии ее отличительную особенность. Ибо знать, в одном смысле бывшая гораздо менее всесильной в деревне, чем ее партнеры где-либо в Западной Европе, была также значительно меньше объективно ограничена присутствием городской буржуазии. Маловероятно, чтобы можно было полностью перевернуть положение крестьянства, ибо баланс социальных сил в сельской экономике имел слишком сильные противовесы против насильственного закрепощения. Глубокие корни и широкое распространение независимой крестьянской собственности делали его невыполнимым, особенно постольку, поскольку сама широта этого сектора уменьшала количество знати за его пределами до исключительно низкого уровня. Всегда надо помнить, что шведская аристократия в течение первого столетия правления Ваза была очень маленьким классом по любым европейским стандартам. Так, к 1611 г. она насчитывала около 400–500 семей, при численности населения в 1 миллион 300 тысяч человек. Однако по меньшей мере от 1/2 до 2/з из них были скромными провинциалами ( knapar ), с доходами мало отличавшимися от доходов преуспевающих крестьян. Когда Густав Адольф в 1626 г., утвердил «закон Рыцарского дома» ( Riddarhusordning ), чтобы юридически установить границы сословия, только 126 семей соответствовали всем его критериям [244] . Из них примерно 25–30 семей составляли внутренний круг магнатов, которые традиционно поставляли канцлеров Рада (rad). «Критическая масса» шведской аристократии в ту эпоху была всегда структурно– недостаточной для лобовой атаки на крестьянство. В то же время не существовало какого-либо бюргерского вызова их монополии политической власти. Шведский общественный порядок был, необычайно стабильным до тех пор, пока внешние причины не начали воздействовать на него.
Именно это давление ускорило первоначальный подъем династии Ваза. С этого момента значение приобрела другая особенность шведской ситуации. Там никогда не существовало четкой феодальной иерархии внутри аристократии в период Средневековья, с полномасштабным раздроблением суверенитета, не было и пожалованных поместий. Система феодов сама по себе была запоздалой и несовершенной. Поэтому ни территориальные властители, ни феодальный сепаратизм континентального типа не развились в этой стране. Только потому, что вассальная система была недавней и относительно поверхностной, она не стала причиной регионального разделения среди маленькой шведской аристократии. Никакая раскольническая сила не создавала препятствий для единой монархии, напротив, первым реальным появлением раскола стало, наделе, само ее создание: Густав Ваза в завещании оставил своим младшим сыновьям герцогские уделы Финляндии – Остерготланд и Сондерманланд, исчезнувшие в следующем столетии [245] . В результате внутренняя необходимость централизованного абсолютизма не была велика в Швеции, поскольку ослабление крестьянства не было реальной задачей, а контроль над городами не представлял затруднений, хотя препятствия для абсолютизма внутри правящего земельного класса также были не очень большими. Маленькая и компактная аристократия относительно легко могла приспособиться к централизованной монархии. Расслабленный характер положения основного класса, который лежал в основе шведского абсолютизма и определял его форму и эволюцию, был очевидным во вспомогательной роли, которую играла в нем сословная система. С одной стороны, риксдаг политически был уникален наличием отдельного крестьянского сословия в рамках четырехкуриальной системы: не существовало никаких параллелей этому в какой-либо другой крупной стране Европы. С другой стороны, риксдаг в целом и крестьянские делегаты прежде всего представляли собой удивительно пассивную силу на протяжении всей этой эпохи, лишенную законодательной инициативы и непреклонности в отношении королевских запросов. Государи Ваза действительно столь часто обращались за помощью в риксдаг, что их правление безо всякого парадокса было описано как воплощение «парламентского абсолютизма»; поскольку каждое важное увеличение королевской силы, от конфискации Густавом I церковных земель в 1527 г. до прокламации Карла XI о божественном праве в 1680 г., было торжественно принято лояльной ассамблеей. Аристократическое сопротивление монархии почти всегда было сконцентрировано в Раде, прямом потомке средневекового королевского суда (curia Regis ), а не в риксдаге, где правящий суверен мог обычно манипулировать незнатными членами, если конфликт между ними возобновлялся [246] . Риксдаг, на первый взгляд смелый институт для своего времени, был фактически замечательно безвредным. Монархия не встречала затруднений, используя его для своих политических целей в тот период. Другое дополнительное отражение той же самой общественной ситуации, подчеркивающее послушание сословий, можно обнаружить в армии. Именно существование независимого крестьянства позволило Шведскому государству иметь призывную армию – единственную в Европе эпохи Ренессанса. Густав Ваза, декретом 1544 г. создавший систему сельской воинской повинности (utskrivning ), не рисковал вооружить жакерию, потому что солдаты, призванные таким образом, не были крепостными: их юридическое и материальное состояние было совместимо с лояльностью в боевой обстановке.
Остается под вопросом, как шведский абсолютизм приобрел не просто политико-идеологические снаряжение, но и экономические и военные ресурсы необходимые для участия в европейских делах, при собственном населении не более чем goo тысяч человек в начале XVII в. Здесь общий закон, в соответствии с которым жизнеспособный абсолютизм нуждается в значительном уровне монетизации, не мог быть обойден. Натуральное хозяйство, казалось, препятствовало этому. В Швеции, однако, был один важный анклав товарного производства, чьи непропорциональные доходы компенсировали недостаточную коммерциализацию сельского хозяйства и обеспечивали благосостояние государства Ваза в фазе внешней экспансии. Это было минеральное изобилие железных и медных месторождений Бергслагена. Горная добыча всюду занимала особое место в переходных экономиках Европы раннего Нового времени: она не только представляла в течение долго времени крупнейшую концентрацию рабочих на предприятии одной формы, но всегда была точкой опоры денежной экономики путем ее снабжения драгоценными металлами, без ее обязательного вовлечения в сложный производственный процесс или рыночный спрос. Более того, традиция королевских прав на недра в феодальной Европе означала, что она часто была в той или иной мере собственностью князей. Шведские медные и железные руды могут, сравниться с испанским серебром и золотом в своем воздействии на местный абсолютизм. Оба позволили существовать комбинации сильного и агрессивного государства с социальной формацией, не имеющей ни большого аграрного богатства, ни коммерческого динамизма: Швеция была, конечно, в этом плане, куда более скудной, чем Испания. Расцвет медного бума в Швеции был фактически напрямую связан с обвалом серебряной валюты в Кастилии. Именно выпуск нового медного веллона Лермой во время девальвации 1599 г. создал повышенный международный спрос на продукцию «медной горы» – Коппарберга в Фалуне. Густав Адольф наложил большие королевские пошлины на медные шахты, организовал королевскую экспортную компанию, чтобы монополизировать поставку и установить уровень цен, и получил огромные голландские кредиты на свои войны под залог своих минеральных активов. Несмотря на то что чеканка веллона была прекращена в 1626 г., Швеция фактически продолжала обладать медной монополией в Европе. Тем временем железная промышленность постепенно прогрессировала, увеличив производительность в 5 раз к концу XVII в., составив половину всего экспорта [247] . Кроме того, и медь, и железо были не только прямыми источниками денежного дохода для абсолютистского государства: но и обязательными материалами для его военной промышленности. Бронзовое орудие оставалось главным оружием артиллерии той эпохи, так как все остальные типы вооружения требовали высококачественного железа. С приездом легендарного валлонского предпринимателя Луиса Де-Геера в 1620-е гг. Швеция стала обладателем одним из крупнейших военных комплексов в Европе. Шахты удачно снабжали шведский абсолютизм как финансовой, так и военной составляющими, необходимыми для его броска через Балтику. Прусские пошлины, немецкие трофеи и французские субсидии составляли его военный бюджет на протяжении Тридцатилетней войны и сделали возможным привлечение огромного числа наемников, которые в конечном счете наводнили собой шведские экспедиционные войска [248] .
Созданная Империя оказалась, в отличие от испанских владений в Европе, достаточно выгодной с рациональной точки зрения. Балтийские провинции, в особенности, приносили существенные налоговые сборы от зерновых поставок в Швецию, с огромным суммарными излишками, остававшимися после вычета местных трат. Их доля в общих королевских доходах составляла более 1/3 бюджета в 1699 г. [249] Кроме того, шведское дворянство получало обширные поместья в завоеванной Ливонии, где сельское хозяйство имело гораздо большее сходство с манориальной моделью, чем на родине. Заморские ветви аристократии, в свою очередь, играли важную роль в укомплектовании дорогой военной машины шведской имперской экспансии: в начале XVIII в. каждый третий офицер Карла XII в его польской и русской кампаниях был выходцем из Балтийских провинций. Шведский абсолютизм действительно, функционировал наиболее гладко во время фаз внешней агрессивной экспансии: так было в период господства королей-генералиссимусов – Густава Адольфа, Карла X и в начале правления Карла XII, когда гармония между монархией и дворянством была наибольшей. Но внешние успехи шведского абсолютизма никогда в полной мере не отменяли его внутренних слабостей. Он страдал от фундаментального недостатка цели из-за сравнительно спокойной классовой конфигурации в самой Швеции. Таким образом, он всегда оставался «факультативной» формой правления для самого дворянского класса. В слабых социальных условиях абсолютизму не хватало давления со стороны жизненной классовой необходимости. Отсюда любопытная маятниковая эволюция шведского абсолютизма, отличающаяся от любой другой в Европе. Вместо движения через первоначальные серьезные противоречия к окончательной стабилизации и спокойной интеграции аристократии, что было, как мы видели, обычной эволюцией, в Швеции абсолютная монархия испытывала возобновляющиеся отступления в периоды королевского несовершеннолетия, и все же, не менее периодически, восстанавливала потерянные позиции: дворянские хартии 1611, 1632 и 1720 гг., ограничивавшие королевскую власть, сменялись возрождением абсолютистской власти в 1620-х, 1680-х и 1772–1789 гг. [250] Что поразительно в этих колебаниях – та относительная легкость, с которой аристократия приспосабливалась к обеим формам государственного устройства – самодержавной или представительной. В течение всех трех столетий своего существования шведский абсолютизм претерпевал частые институциональные рецидивы, но никогда не испытывал настоящего политического аристократического переворота, направленного против него, сравнимого с теми, что имели место в Испании, Франции и Англии, – только потому, что внутри страны шведское государство было, в некоторой степени, факультативным с точки зрения правящего класса, аристократия могла менять свое государственное устройство вперед и назад без чрезмерных эмоций и неудобств. История Швеции с момента смерти Густава Адольфа в 1632 г. до путча Густава III в 1789 г. является, в значительной степени, историей последовательных приспособлений знати.
Естественно, разделение и конфликты внутри самой знати были одними из центральных регуляторов этих последовательных изменений. Так, форма правления, навязанная Оксеншерной после Лютцена, систематизировала магнатское правление в Раде (теперь укомплектованное его родственниками) в период регентства 1632–1644 гг. Канцлеру скоро пришлось столкнуться со стратегическими поражениями в Германии: за победой Империи у Нордлингена в 1634 г. последовало дезертирство большинства протестантских князей в 1635 г., в то время как прибыльные прусские пошлины, важные для шведских военных усилий, теперь потеряли силу по договору. Шведских налоговых доходов хватало только на поддержку балтийских военно-морских сил, утроенных (до до кораблей) Густавом Адольфом, и на внутреннюю оборону. Французские субсидии стали, впредь, необходимыми для продолжения Стокгольмом борьбы: в 1641 г. они составляли до трети внутреннего дохода государства [251] . Кампании в Германии во второй половине Тридцатилетней войны, когда военные действия проводились значительно меньшими армиями, чем огромные массы, собранные у Брейтенфельда и Лютцена, финансировались иностранными дотациями или займами и безжалостными реквизициями полевых командиров. В 1643 г. Оксеншерна направил Торстенсона, лучшего шведского генерала, против Дании, во фланговую кампанию. Исход этого удара был удовлетворительным: провинциальные завоевания вдоль норвежской границы и островные базы на Балтике, завершившие эпоху датского контроля обеих сторон пролива Зунд. На другом театре военных действий шведские войска достигли Праги, когда в 1648 г. был восстановлен мир. Вестфальский мирный договор освятил международное положение Швеции как победителя, совместно с Францией, в длительном противостоянии в Германии. Государство Ваза приобрело Западную Померанию и Бремен на территории самой Германии и контроль над устьями Эльбы, Одера и Везера – трех великих рек Северной Германии.
Тем не менее вступление на престол Кристины в 1644 г. формально привело к политическому утверждению королевской власти: но оно было использовано легкомысленной королевой, чтобы осыпать титулами и землей верхний слой аристократии и толпу военно-бюрократических авантюристов, привлекавшихся на шведскую службу во время Тридцатилетней войны. Кристина в 6 раз увеличила число графов и баронов на высших постах в Рыцарском доме и удвоила количество дворян двух низших рангов. Впервые шведское дворянство приобрело значительную численную силу, привлеченную в основном из-за границы: более половины аристократии к 1700 г. имели иностранное происхождение [252] . Кроме того, поощряемая Оксеншерной, который добивался перевода традиционных государственных натуральных доходов в надежные потоки наличности, монархия отчуждала королевские земли и налоги в огромных масштабах в пользу своих элитных чиновников и слуг: общая территория дворянских земель в Швеции удвоилась в 1611–1652 гг., в то время как государственные доходы в период правления Кристины пропорционально падали [253] . Отчуждение налоговых выплат свободных крестьян в пользу частных землевладельцев угрожало поставить последних в полную зависимость от них. Но именно враждебность со стороны низшего дворянства, которое не получало выгод от безвозмездного расточительства королевы гарантировала, что этот переворот в имущественной модели Швеции будет кратковременным.
В 1654 г. Кристина отреклась от престола, чтобы принять католичество после заранее спланированной передачи власти своему кузену. Новый правитель Карл X немедленно вновь запустил шведский экспансионизм, начав варварское наступление в Польше в 1655 г. Отрезав русские авангарды на Востоке и рассеивая польские армии, шведские экспедиционные силы в быстрой последовательности взяли Познань, Варшаву и Краков; Восточная Пруссия была официально провозглашена шведским феодальным владением, была присоединена к Швеции и Литва. Голландские действия на море и польское возрождение ослабили хватку этого завоевания; однако только прямая датская атака на Швецию в тыл короля прекратила оккупацию Польши. Быстро возвратив свои войска назад через Померанию, Карл X двинулся на Копенгаген и вывел Данию из войны. Победа на Зунде принесла аннексию Скании. Возобновившиеся военные действия, закреплявшие шведский контроль над воротами в Балтику, были сорваны голландской интервенцией. Смерть Карла X в 1660 г. положила конец и авантюре в Польше, и конфликту в Дании. Другое магнатское регентство последовало в период несовершеннолетия наследника в 1660–1672 гг., под руководством канцлера Делагарди. Королевские планы возвращения отчужденных доходов, задуманные Карлом X до его безрассудных заморских кампаний, были отложены: переходное правительство высшей аристократии продолжало продавать собственность монархии, ведя в то же время спокойную внешнюю политику. Существенно, что именно в течение этого десятилетия впервые в шведской истории были введены в действие манориальные кодексы ( gardsratt ), давшие землевладельцам частную юрисдикцию над их собственным крестьянством [254] . Вспышка большой европейской войны, начавшаяся с нападения Людовика XIV на Голландию, в конечном счете принудила этот режим, как французского союзника и клиента, к вялому отвлекающему внимание конфликту с Бранденбургом в 1674 г. Военная неудача в Германии дискредитировала камарилью Делагарди и проложила путь для драматического восстановления власти монархии при новом суверене, который достиг совершеннолетия в период войн.
В 1680 г. Карл XI использовал риксдаг, чтобы отменить традиционные привилегии Рада и вернуть отчужденные земли и доходы династии, опираясь на поддержку низшего джентри. Королевские «сокращения» имели очень большой масштаб: Восемьдесят процентов всех отчужденных поместий были возвращены монархии без компенсаций, и доля обрабатываемых земель, принадлежавших знати в Швеции, уменьшилась вдвое [255] .
Создание новой свободной от налогов собственности было запрещено. Территориальные графства и баронства были ликвидированы. «Сокращения» были претворены с особой тщательностью в заморских владениях. Они не влияли на манориальную консолидацию внутри аристократических держаний; их окончательный результат должен был восстановить status quo ante и привести к такому распределению аграрной собственности, которое преобладало в начале столетия [256] . Государственные доходы, перераспределенные в соответствии с этой программой за счет магнатской страты, были, в дальнейшем, увеличены путем высокого налогообложения крестьянства. Риксдаг покорно согласился с беспрецедентным увеличением личной власти Карла XI, которая сопутствовала сокращениям, отказываясь фактически от всех прав контроля и сдерживания его правительства. Карл XI использовал свое положение, чтобы реформировать армию, сажая солдат-крестьян на особо выделенные земли, – так называемая индельта ( indelningsverket ) или распределительная система, освобождала казначейство от выплат денежного содержания армии дома. Постоянная военная организация была увеличена до 63 тысяч человек в 1680-х гг., из которых треть составляли профессиональные подразделения, размещенные за границей. Флот постоянно укреплялся как для стратегических, так и коммерческих целей. Бюрократия, в которую низшее дворянство имело теперь равный доступ, была обученной и рационализированной. Скания и Ливония были подвержены усиленной централизации и «шведификации» [257] . Расширение королевских полномочий завершилось к последнему десятилетию правления: в 1693 г. риксдаг закончил свое существование, приняв неискреннюю резолюцию, провозглашавшую божественное право короля на абсолютную власть над своим королевством, как божьего помазанника и представителя. Карл XI, как и Фридрих Вильгельм I Прусский, бережливый и осторожный правитель за рубежом, не терпел оппозиции своей воле внутри страны.
Лучшим свидетельством его работы было удивительное правление его сына Карла XII, который превзошел своего отца в самодержавной власти, которая идеологически возвещалась со дня его воцарения в 1697 г. Последний из королей-воинов династии Ваза, он мог провести 18 лет за границей, 9 из них в турецком плену, и при этом ни разу в его отсутствие гражданская администрация его страны не столкнулась с серьезным вызовом его власти. Сомнительно, чтобы любой другой современный ему правитель мог быть настолько уверенным в своем наследии. В действительности, фактически все правление Карла XII заняла его длительная одиссея в Восточной Европе, в период Великой Северной войны. К 1700 г. шведская имперская система на Балтике достигла часа расплаты. Несмотря на безжалостную административную перестройку империи, проведенную Карлом XI, ее демографическая и экономическая базы были слишком малы, чтобы поддерживать расширение в условиях объединенной вражды ее соседей и конкурентов. Население удвоилось за счет заграничных владений от 1,5 миллиона до примерно 3 миллионов человек; при Карле XII ее человеческие ресурсы и финансовые резервы позволили максимальную мобилизацию около 110 тысяч солдат (включая иностранных наемников), из которых меньше половины могли участвовать в его главных наступательных кампаниях [258] . Кроме того, централизация Ваза спровоцировала исключительно сильную ответную реакцию среди полугерманского дворянства Балтийских провинций, которые особенно страдали от королевских рекламаций предыдущего правления. Опыт Каталонии и Шотландии теперь должен был быть повторен в Ливонии. К 1699 г. Дания, Саксония, Польша и Россия выступили против Швеции: сигнал к войне был дан сепаратистским восстанием в Латвии, которое возглавили местные дворяне, требовавшие объединения с Польшей. Карл XII сначала ударил по Дании и быстро нанес ей поражение с помощью англо-голландских военно-морских сил; затем по России, где немногочисленные шведские полки уничтожили армию Петра I под Нарвой, затем по Польше, где Август II был изгнан из страны после тяжелого сражения и на трон посажен выдвинутый Швецией принц; и, наконец, по Саксонии, которая была беспощадно оккупирована и разграблена. После этого кругового военного похода вокруг Балтики, шведская армия была брошена вглубь Украины для соединения с запорожскими казаками и похода на Москву [259] . Тем не менее, российский абсолютизм Петра I теперь мог более чем на равных тягаться с колоннами Карла XII: у Полтавы и Переволочны в 1709 г. шведская империя была уничтожена в самой дальней исторической точке своего военного проникновения на восток. Десятилетие спустя Великая Северная война закончилась шведским банкротством и потерей Ингрии, Карелии, Ливонии, Западной Померании и Бремена.
Имперская автократия Карла XII исчезла вместе с ним. Несмотря на бедствия Великой Северной войны, закончившиеся смертью короля, среди оспариваемого наследства, знать ловко спроектировала конституционную систему, которая оставила сословиям политическое верховенство, а монархию временно свела к нулю. «Эра Свобод» (1720–1772) установила режим коррумпированного аристократического парламентаризма, разделенного фракционными конфликтами между партиями «Шляп» и «Колпаков», которые управлялись в свою очередь дворянской бюрократией и стабилизировались английскими, французскими и русскими взятками и дотациями. Новый порядок больше не был магнатским: масса средней и низшей аристократии, которая господствовала на государственной службе и в армии, все более и более переделывала его под себя. Трехразрядное деление внутри дворянского сословия было отменено. Социальные и экономические привилегии аристократии в целом ревниво оберегались: доступ для простого человека к дворянским землям или браки были запрещены. Риксдаг, из ключевого Тайного комитета которого были исключены крестьянские представители, стал формальным центром конституциональной политики, в то время как ее реальная арена находилась в Рыцарском доме [260] . Фактически увеличение социальных волнений против дворянских привилегий среди низшего духовенства, небольших городов и крестьянства грозило разрушением узкого круга привилегированных лиц внутри этой системы. Программа партии «молодых колпаков» в 1760-х гг., даже связанная с непопулярной дефляцией в экономике, показала поднимавшийся поток плебейского недовольства. Аристократическая тревога по поводу вызова «снизу», таким образом, стала причиной окончательного резкого отказа от парламентаризма. Вступление на престол Густава III дало сигнал аристократии вновь сплотиться под абсолютистской формулой: королевский путч был мягко проведен с помощью гвардии и благодаря попустительству бюрократии. Риксдаг должным образом освятил новую конституцию, вновь вернув полномочия монархической власти, хотя, первоначально, и без полного восстановления абсолютизма Карла XI или XII. Новый монарх, тем не менее, энергично продолжал двигаться к просвещенному деспотизму XVIII в., обновляя администрацию и присваивая себе все больше и больше произвольной власти. Когда дворянство попыталось сопротивляться этой тенденции, Густав III провел через риксдаг чрезвычайный «Акт соединения и безопасности», который восстановил бескомпромиссный абсолютизм в 1789 г. Чтобы достичь результатов, король вынужден был пообещать низшим сословиям доступ к гражданской службе и судебной власти, право покупать дворянские земли и выполнить другие эгалитарные требования. В итоге последние часы шведского абсолютизма проживались в аномальной атмосфере «карьеры, открытой для талантов» и сокращения привилегий дворянства. Политический смысл существования абсолютной монархии, потерял свои основания, что было несомненным знаком приближающегося конца. В последней причудливой смене ролей «радикальный» самодержец стал наиболее жарким европейским сторонником контрреволюционной интервенции против Французской революции, в то время как недовольные дворяне приняли республиканские идеалы прав человека. В 1792 г. Густав был убит инакомыслящим офицером-аристократом. Исторический недостаток целей шведского абсолютизма никогда не был более очевидным, чем в этот странный кульминационный момент. В конце концов факультативное государство завершило свое существование в непредвиденных обстоятельствах.
II Восточная Европа
1. Абсолютизм в Восточной Европе
Теперь необходимо вернуться к восточной половине Европы, а точнее, к той ее части, которая сохранилась от Оттоманского вторжения, затопившего Балканы, отделив их историю от остального континента. Глубокий кризис, поразивший европейские экономики в XIV–XV вв., вызвал сильную манориальную реакцию к востоку от Эльбы. Интенсивность сеньориальных репрессий, развязанных против крестьян, возрастала в течение XVI в. Политическим результатом этого развития в Пруссии и России стал абсолютизм восточного типа, существовавший одновременно с западным, но фундаментальным образом отличавшийся по происхождению. Абсолютистское государство на Западе являлось перенацеленным политическим аппаратом феодального класса, который признал коммутацию ренты. Оно явилось компенсацией за исчезновение крепостничества в контексте все возраставшей урбанизации экономики, которую этот класс полностью не контролировал и к которой ему пришлось приспосабливаться. Абсолютистское государство на востоке Европы, наоборот, служило репрессивной машиной феодального класса, которое только что ликвидировало традиционные общинные свободы представителей бедноты. Манориальная реакция на востоке означала, что новый мир устанавливался главным образом «сверху». Доза насилия, вложенная в социальные отношения, была, соответственно, значительно большей. Абсолютистское государство на востоке никогда не теряло черты, определенные этим изначальным опытом.
В то же время классовая борьба внутри восточных социальных формаций и ее результат – закрепощение крестьян – не дают исчерпывающего объяснения появлению самобытного абсолютизма в регионе. Дистанция между этими двумя видами может быть измерена хронологически в Пруссии, где манориальная реакция дворянства подчинила большую часть крестьянства путем расширения поместного землевладения (\' Gutsherrschaft) еще в XVI в., за сто лет до установления абсолютистского государства в XVII столетии. В Польше, классической территории «вторичного закрепощения», никакого абсолютистского государства не возникло, за что класс аристократии, в конечном счете, поплатился своим национальным существованием. Здесь также, однако, XVI век явился периодом децентрализованного феодального правления, управлявшегося представительной системой под полным контролем аристократии и очень слабой королевской властью. В Венгрии окончательное закрепощение крестьянства было достигнуто после австро-турецкой войны на рубеже XVII в., в то время когда венгерское дворянство успешно сопротивлялось обложению налогами со стороны Габсбургского абсолютизма [261] . В России установление крепостничества и появление абсолютизма находились в более тесной связи, но даже там приход первого предшествовал консолидации второго и не всегда гармонично совпадал с ним впоследствии. Поскольку холопские ( servile) отношения производства включают непосредственное слияние собственности и суверенитета, власти и землевладения, нет ничего удивительного в полицентричном аристократическом государстве, первоначально существовавшем в Германии к востоку от Эльбы, в Польше и Венгрии после манориальной реакции на востоке. Чтобы объяснить последующий подъем абсолютизма, прежде всего необходимо рассмотреть весь процесс вторичного закрепощения в контексте международной системы государств позднефеодальной Европы.
Мы видели, что спрос на продукцию сельского хозяйства со стороны более успешной западной экономики часто преувеличивался в качестве единственной или главной причины манориальной реакции на востоке в тот период. На самом же деле, хотя торговля зерном, несомненно, усилила крепостническую эксплуатацию в Восточной Германии или Польше, она не инициировала ее ни в одной из этих стран и совсем не играла никакой роли в параллельном развитии Богемии или России. Другими словами, придавать основное значение экономическим связям экспортно-импортной торговли Востока с Западом неверно, потому что феодальный способ производства как таковой – еще не преодоленный окончательно в Западной Европе XVI–XVII вв. – не мог создать единой международной экономической системы. Этой цели достиг только мировой рынок промышленного капитализма, распространявшийся из развитых стран, формируя и управляя развитием отсталых. Сложные западные экономики переходной эпохи – обычно смесь полумонетизированного и посткрепостнического феодального сельского хозяйства [262] с вкраплениями коммерческого и промышленного капитала – не имели такого буксира. Иностранные инвестиции были минимальными, за исключением колониальных империй и, в некоторой степени, Скандинавии. Внешняя торговля все еще составляла маленький процент в национальном продукте всех стран, за исключением Голландии и Венеции. Какая-либо комплексная интеграция Восточной Европы в западноевропейскую экономическую схему, часто подразумевавшаяся вследствие использования историками таких фраз, как «колониальная экономика» или «колониальные предприятия» (plantation business concerns) по отношению к поместной системе за Эльбой, была совершенно неправдоподобной.
И все же нельзя сказать, что Западная Европа не оказала решающего влияния на формирование государственных структур Восточной. Ибо международное взаимодействие эпохи феодализма осуществлялось в первую очередь на политическом, а не на экономическом уровне, потому что этот способ производства был основан на внеэкономическом принуждении. Завоевание, а не торговля, было основной формой его расширения. Неравное развитие феодализма внутри Европы нашло наиболее характерное и прямое выражение не в балансе торговли, а в балансе силы между соответствующими регионами континента. Другими словами, главным способом общения Востока и Запада в эти столетия была война. Именно международное давление западного абсолютизма, как политического аппарата более мощной феодальной аристократии, управлявшего более развитыми обществами, вынудило восточную знать создать такую же централизованную государственную машину, для того чтобы выжить. Иначе превосходящая сила реорганизованных и увеличенных абсолютистских армий неизбежно взяла бы свое естественным способом межфеодальной конкуренции – с помощью войны. Сама модернизация войска и тактики, вызванная «военной революцией» на Западе после 1560 г., сделала вторжение в огромные пространства на востоке более реальным, чем когда-либо ранее, соответственно увеличив угрозу агрессии для местной аристократии. Таким образом, в то время, когда инфраструктурные отношения производства расходились по разным дорогам, существовало парадоксальное сближение надстроек в двух регионах (что само по себе, конечно, указывало на единый способ производства). Конкретные пути, по которым первоначально была направлена военная угроза западного абсолютизма, оказались, к счастью для восточной знати, исторически окольными. Однако тем более поразительно, как немедленно произведенные ею эффекты стали катализатором изменений политической модели на Востоке. На юге передний край между двумя зонами занимала длительная австро-турецкая дуэль, которая в течение 250 лет сосредоточивала внимание Габсбургов на их оттоманских врагах и венгерских вассалах. В центральной части Германия представляла собой лабиринт маленьких, слабых государств, разделенных и нейтрализованных своими религиозными конфликтами. Именно поэтому нападение пришло с относительно примитивного севера. Швеция – самая последняя и удивительная из всех западноевропейских абсолютистских государств, новая страна с очень небольшим населением и рудиментарной экономикой – стала молотом Востока. Ее влияние на Пруссию, Польшу и Россию в течение до лет, с 1630 по 1720 г., сравнимо с тем, которое имела Испания в Западной Европе на раннем этапе, хотя оно не стало еще предметом такого же изучения. Однако это был один из крупнейших циклов военной экспансии в истории европейского абсолютизма. В зените своей славы шведская кавалерия победоносно въехала в пять столиц: Москву, Варшаву, Берлин, Дрезден и Прагу, – действуя на огромной дуге в Восточной Европе, которая превосходила даже кампании испанских терций в Западной Европе. Австрийская, прусская, польская и российская системы государственного устройства испытали на себе ее формирующий удар.
Первым шведским заграничным завоеванием стала Эстляндия (северная часть Эстонии) в период длительной Ливонской войны с Россией в последние десятилетия XVI столетия. Однако только Тридцатилетняя война, в ходе которой сложилась первая полностью формализованная международная система государств в Европе, стала решающим началом шведского вторжения на восток. Эффектный марш армий Густава Адольфа в Германию, отбросивший, к удивлению Европы, силы Габсбургов, стал поворотным моментом войны; а последовавшие успехи Баннера и Торстенсена не допустили восстановления позиций Империи (Reich). Начиная с 1641 г. шведские войска постоянно оккупировали большие части Моравии [263] и, когда в 1648 г. война закончилась, находились на левом берегу Влтавы в Праге. Вторжение Швеции окончательно разрушило перспективу имперского государства Габсбургов в Германии. Все развитие и характер австрийского абсолютизма отныне определялись этим поражением, которое лишило его шанса на создание консолидированного территориального центра в традиционных землях Империи и сместило центр его тяжести на восток. В то же время воздействие шведской мощи на эволюцию Пруссии, менее заметное в международном масштабе, на внутреннем уровне было даже глубже. Бранденбург был оккупирован шведскими войсками с 1631 г., и, несмотря на то что он был союзной протестантской страной, его немедленно подвергли безжалостным военным реквизициям и фискальным изъятиям, каких он не знал ранее. Традиционные привилегии сословия юнкеров были отменены шведскими командующими [264] . Создавшееся тяжелое положение было усугублено аннексией Швецией Западной Померании согласно Вестфальскому договору 1648 г., который гарантировал Швеции большой постоянный плацдарм на южных берегах Балтики. Шведские гарнизоны теперь контролировали Одер, представляя прямую опасность для демилитаризованного и децентрализованного правящего класса Бранденбурга, – страны, у которой фактически отсутствовала армия. С 1650-х гг. строительство прусского абсолютизма Великим курфюрстом было главным образом прямым ответом на надвигавшуюся шведскую угрозу: постоянная армия, которой суждено было стать краеугольным камнем аристократии Гогенцоллернов, и ее налоговая система были созданы юнкерами в 1653 г. для подготовки к неизбежной войне на Балтике и противостояния внешней угрозе. Шведско-польская война 1655–1660 гг. стала поворотной точкой в политической эволюции Берлина, который сам избежал удара шведской агрессии, поскольку участвовал в этой войне в качестве младшего партнера на стороне Стокгольма. Следующий большой шаг на пути создания прусского абсолютизма был вновь предпринят в ответ на военный конфликт со Швецией. Именно в 1670-е гг., в ходе шведских кампаний против Бранденбурга, которые формировали Северный театр войны, развязанной Францией на западе, был создан известный Генеральный военный комиссариат (Generalkriegskommissariat), занявший место, ранее принадлежавшее Тайному совету, и сформировавший всю структуру государственной машины Гогенцоллернов. Прусский абсолютизм в своей окончательной форме сложился в эпоху шведского экспансионизма и под его давлением.
Между тем в те же самые десятилетия после Вестфальского мира самый тяжелый изо всех скандинавских ударов обрушился на восток. Шведское вторжение в Польшу в 1655 г. быстро разрушило свободную аристократическую конфедерацию шляхты. Варшава и Краков пали, и вся долина Вислы была разорвана прямыми и встречными передвижениями войск Карла X. Главным стратегическим результатом войны стало лишение Польши сюзеренитета над герцогской Пруссией. Однако социальные результаты разрушительного шведского нападения были значительно серьезнее. Польским экономической и демографической структурам был нанесен такой ужасный ущерб, что шведское вторжение стало известно как «потоп», который навсегда отделил предшествующее процветание Речи Посполитой от безнадежного кризиса и упадка, в которые она погрузилась после него. Последнее краткое возрождение польской армии в 1680-х гг., когда Собесский возглавил защиту Вены от турок, предшествовало второму уничтожению Швецией Содружества в период большой Северной войны 1701–1721 гг., в которой основным театром разрушений вновь стала Польша. Когда последние скандинавские войска ушли из Варшавы, Польша перестала быть важной европейской державой. Польская аристократия, по причинам, которые будут обсуждены позже, не преуспела в создании абсолютизма в период этих испытаний. Она, таким образом, на практике показала, каковыми были последствия такого упущения для феодального класса в Восточной Европе. Неспособная восстановиться от смертельных ударов нанесенных Швецией, Польша в конечном счете прекратила свое существование как независимое государство.
Россия, как всегда, представляет некий отличный случай в рамках общего исторического пространства. Здесь, стремление аристократии к военной монархии проявилось значительно раньше, чем где-либо в Восточной Европе. Отчасти это было следствием предыстории Киевского государства и византийской имперской традиции, переданной через хаотичное российское Средневековье при посредстве идеологии «Третьего Рима». Иван III женился на племяннице последнего императора Константинополя из династии Палеологов и присвоил титул царь, или император, в 1480 г. Идеология translatio imperii была, несомненно, менее важной, чем постоянное давление на Россию со стороны татар и тюркских скотоводов из Центральной Азии. Сюзеренитет Золотой Орды сохранялся до конца XV в. Ее преемники – Казанское и Астраханское ханства – осуществляли постоянные набеги до тех пор, пока не потерпели поражение и не были поглощены в середине XVI в. Последующие сто лет крымские татары, теперь находившиеся под властью Оттоманской империи, совершали набеги на российскую территорию с юга; их экспедиции в поисках добычи и рабов сделали большую часть Украины ненаселенной дикой местностью [265] . Татарские всадники в эпоху раннего Нового времени не имели сил завоевывать и постоянно оккупировать эти земли. Но Россия, «страж Европы», вынуждена была сдерживать главное направление их удара. Результатом стало более раннее и сильное стремление к централизации государства в Московском княжестве, чем в более защищенном курфюршестве Бранденбурга или Польском Содружестве. Но начиная с XVI в. военная угроза с Запада превысила ту, что была на Востоке. Полевая артиллерия и современная пехота легко превзошли верховых лучников как оружие войны. Таким образом, и в России по-настоящему решающие фазы перехода к абсолютизму пришлись на время шведской экспансии. В ключевой период царствования Ивана IV, в конце XVI столетия, шла длительная Ливонская война, из которой Швеция вышла стратегическим победителем, аннексировав Эстонию, плацдарм для господства над северным Балтийским побережьем, по условиям Ям-Запольского мирного договора 1582 г. В Смутное время начала XVII в., которое завершилось вступлением на престол династии Романовых, шведские силы развернулись в глубине России. Среди возраставшего хаоса войска под командованием Делагарди вели боевые действия, направляясь к Москве, чтобы поддержать узурпатора Шуйского. Три года спустя, в 1613 г., шведский кандидат, брат Густава Адольфа, был на расстоянии вытянутой руки от российского трона и не взошел на престол только вследствие избрания Михаила Романова. Новый режим был вынужден вскоре уступить Карелию и Ингрию Швеции, которая в течение следующего десятилетия захватила всю Ливонию у Польши, что давало ей фактически полный контроль над Балтикой. Шведское влияние было также значительным в самой политической системе России в ранний период правления Романовых [266] . В конце концов, конечно, массивное государственное здание Петра I в начале XVIII в. было воздвигнуто во время и в противовес крупнейшему шведскому наступлению на Россию, возглавляемому Карлом XII, который начал с сокрушения российских армий у Нарвы и в конечном счете продвинулся в глубину Украины. Царская власть внутри России была, таким образом, испытана и выкована в международной борьбе за господство со Шведской империей на Балтике. Австрийское государство было шведской экспансией отделено от Германии; Польское государство полностью разделено. Прусское и Российское государства, наоборот, выдержали и отразили нашествие, приобретая свою развитую форму в ходе борьбы. Итак, восточный абсолютизм был обусловлен в своей сути ограничениями международной политической системы, в которую объективно была интегрирована знать всего региона [267] . Это была цена ее выживания в цивилизации, определявшейся упорной борьбой за территории. Неравное развитие феодализма обязало восточноевропейские страны соответствовать государственным структурам Запада гораздо ранее, чем они достигли сопоставимой стадии экономического перехода к капитализму.
Этот абсолютизм был также переопределен ходом классовой борьбы внутри восточноевропейских социальных формаций. Теперь необходимо рассмотреть эндогенные влияния, которые способствовали его появлению. Первоначальное соответствие поражает. Решающая юридическая и экономическая консолидация крепостничества в Пруссии, России и Богемии происходила точно в те же десятилетия, когда были прочно заложены политические основы абсолютистских государств. Это двойное развитие – институционализация крепостничества и возникновение абсолютизма – было во всех трех случаях тесно и четко связано в истории соответствующей социальной формации. В Бранденбурге Великий курфюрст и сословия закрепили знаменитую сделку в 1653 г. в официальной Хартии, согласно которой аристократия утвердила налоги для регулярной армии, а князь издал декрет, привязавший сельскую рабочую силу безвозвратно к земле. Налогами должны были облагаться города и крестьяне, а не сами юнкера, армия же должна была стать ядром всего Прусского государства. Это был пакт, который увеличил как политическую власть династии над знатью, так и власть знати над крестьянством. Восточногерманское крепостничество было теперь нормализовано и стандартизировано на всех землях Гогенцоллернов, находившихся за Эльбой. В это же время сословная система неуклонно подавлялась монархией в одной провинции за другой. К 1683 г. ландтаг Бранденбурга и Восточной Пруссии окончательно потерял всю власть [268] . Тем временем в России события развивались очень похожим образом. В 1648 г. Земский собор – представительный орган – собрался в Москве, чтобы принять историческое Соборное уложение, которое впервые кодифицировало и унифицировало крепостное право для сельского населения, учредило строгий государственный контроль над городами и их жителями, подтверждая в то же время формальную ответственность всех аристократических земель за обеспечение военной службы. Соборное уложение было первым всеобъемлющим законодательным кодексом, провозглашенным в России, и его появление было важным событием: оно фактически обеспечило царизм юридическими рамками для его утверждения в качестве государственной системы. За провозглашением закрепощения русского крестьянства здесь также последовало быстрое отмирание системы сословий. В течение десятилетия Земский собор фактически исчез, в то время как монархия создала большую полурегулярную армию, которая в конечном счете, полностью заменила старую систему дворянских ополчений. Последний Земский собор ушел в забвение в 1683 г., превратившись к тому времени в теневую группу придворных клакеров. Социальный пакт между российской монархией и аристократией, установив абсолютизм в обмен на окончательное оформление крепостничества, стал фактом.
Богемия испытала схожий синхронизм практически в тот же самый период, хотя и в другом контексте, – контексте событий Тридцатилетней войны. Вестфальский договор, положивший конец военным действиям в 1648 г., освятил двойную победу: Габсбургской монархии – над богемскими сословиями и земельных магнатов – над чешским крестьянством. Большая часть старой чешской аристократии была устранена после сражения у Белой Горы, а с ней и политическая конституция, которая воплощала их местную власть. «Новое земское уложение» (verneuerte landesordnung ), сконцентрировало всю исполнительную власть в Вене; роль сословий, потерявших свою традиционную прерогативу управления обществом, была урезана до церемониальной. Автономия городов была уничтожена. В сельской местности жестокие меры закрепощения последовали в рамках крупных поместий. Массовые проскрипции и конфискации у бывшей чешской знати и дворянства создали новую, космополитическую аристократию военных авантюристов и придворных функционеров, которые вместе с Церковью контролировали около % земель в Богемии. Огромные демографические потери после Тридцатилетней войны создали острую нехватку рабочей силы. Трудовые повинности подневольных людей вскоре достигли половины рабочей недели, в то время как феодальные сборы, десятины и налоги могли составлять до 2/3 крестьянской продукции [269] . Австрийский абсолютизм, остановленный в Германии, одержал победу в Богемии; а с ним оставшиеся свободы чешских крестьян были уничтожены. Таким образом, во всех трех регионах укрепление землевладельческого контроля над крестьянством и дискриминация городов были связаны с резким увеличением прерогатив монархии и предшествовали исчезновению сословной системы.
Города Восточной Европы, как мы видели, испытали сокращение и упадок в период позднесредневековой депрессии. Экономический подъем на континенте в XVI в., тем не менее, способствовал новому, хотя и неравномерному росту в некоторых областях востока. С 1550 г., находясь под защитой городского патрициата, тесно связанного со знатью муниципальными землевладениями, города Богемии восстановили значительную часть своего благополучия, хотя и без той народной энергии, которая отличала их в эпоху Гуситских войн. В Восточной Пруссии Кенигсберг все еще оставался крепким форпостом бюргерской автономии. В России Москва процветала после принятия Иваном III царского титула, извлекая особенную пользу от международной торговли между Европой и Азией, проходившей через Россию, в которой также принимали участие старые коммерческие центры Новгород и Псков. Созревание абсолютистских государств в XVII в. нанесло смертельный удар по возможности возрождения городской независимости на Востоке. Новые монархии– Гогенцоллерны, Габсбурги и Романовы – обеспечивали непоколебимое политическое превосходство аристократии над городами. Единственным корпоративным органом, серьезно сопротивлявшимся унификации Великого курфюрста после рецессии 1653 г., был город Кенигсберг в Восточной Пруссии: он был сокрушен в 1662–1663 и 1674 гг., в то время как местные юнкера наблюдали за этим со стороны [270] . В России сама Москва испытывала недостаток в существенном городском классе бюргеров. Торговля там была достоянием бояр, чиновников и узкого круга богатых купцов-гостей, зависевших от правительства в отношении своих статуса и привилегий; однако эта страта не включала многочисленных ремесленников, беспорядочную полусельскую рабочую силу и грубых и деморализованных солдат стрелецкого ополчения. Непосредственной причиной созыва рокового Земского собора, провозгласившего Соборное уложение, был внезапный взрыв этих разнородных групп. Бунтующие толпы, возмущенные повышением цен на товары первой необходимости и последовавшим за этим увеличением налогов администрацией Морозова, захватили Москву и заставили царя бежать из города, в это же время потеря доверия к власти ясно просматривалось и в сельских провинциях Сибири. Когда же царский контроль над столицей был восстановлен, был созван Земский собор и утверждено Уложение. Новгород и Псков, восставшие против фискальных требований, были окончательно подавлены, потеряв все свое экономическое значение. Последние городские беспорядки в Москве имели место в 1662 г., когда протестующие ремесленники были легко подавлены, и в 1683 г., когда Петр I окончательно ликвидировал стрелецкое войско. После этого российские города больше не доставляли беспокойства ни монархии, ни аристократии. В чешских землях Тридцатилетняя война уязвила гордость и остановила рост городов Богемии и Моравии: непрерывные опустошения и осады во время военных кампаний, в дополнение к отмене муниципальных автономий после них, свели их к пассивному положению недовольных в Габсбургской империи.
Основная внутренняя причина становления восточноевропейского абсолютизма находилась, однако, в сельской местности. Его сложная репрессивная машина была в первую очередь направлена против крестьянства. Семнадцатый век был эпохой падения цен и численности населения практически по всей Европе. На Востоке войны и социальные бедствия вызвали особенно острый кризис, связанный с нехваткой рабочей силы. Тридцатилетняя война послужила причиной жесточайшего отставания всей германской экономики к востоку от Эльбы. Демографические потери во многих районах Бранденбурга превышали 50 % [271] . В Богемии общая численность населения снизилась с 1 миллиона 700 тысяч до менее 1 миллиона человек к моменту подписания Вестфальского мира [272] . В России невыносимое напряжение Ливонской войны и опричнины привело к жестокой депопуляции и бегству из центральной части страны в последние годы XVI в.; от 76 до 96 % поселений в окрестностях самой Москвы были оставлены их жителями [273] . Смутное время с его гражданскими войнами, иностранными интервенциями и сельскими восстаниями было отчасти результатом нестабильности и дефицита рабочей силы, находившейся в распоряжении землевладельческого класса. Демографический спад этого периода, таким образом, создал или усилил нехватку сельскохозяйственной рабочей силы для обработки поместий. Кроме того, существовала постоянная региональная предпосылка этого дефицита, основная местная проблема восточного феодализма – слишком малое число крестьян, рассеянных на огромных территориях. Некоторое понимание контраста с условиями в Западной Европе можно извлечь из простого сравнения: плотность населения в России в XVII в. составляла 3–4 человека на квадратный километр, в то время как во Франции эта цифра достигала 40, то есть в 10 раз больше [274] . На плодородных землях Юго-Восточной Польши и Западной Украины, самой богатой сельскохозяйственной области Речи Посполитой, плотность населения была немного выше – от 3 до 7 человек на квадратный километр [275] . Большая часть равнины Центральной Венгрии – теперь пограничная область между Австрийской и Турецкой империями – лишилась населения в такой же степени. Первой задачей землевладельческого класса стала, таким образом, не фиксация уровня сборов, которые должны были платить крестьяне, как на Западе, а ограничение передвижений сельского жителя и прикрепление его к поместью. На огромных территориях Восточной Европы наиболее типичной и эффективной формой классовой борьбы крестьянства было простое бегство – массовое оставление земель для побега на незаселенные и не отмеченные на карте территории.
Меры, принятые прусским, австрийским и чешским дворянством, чтобы предотвратить эту традиционную мобильность в конце Средневековья, уже были описаны. Естественно, они были усилены в эпоху зарождения абсолютизма. Дальше на восток, в России и Польше, проблема была значительно более серьезной. Не существовало стабильных границ и рубежей поселения на обширных понтийских (черноморских) внутренних территориях, между двумя странами; густо заросший лесом Север России традиционно был областью «черносошного» крестьянства без помещичьего контроля; в то же время Западная Сибирь и Волго-Донской регион на юго-востоке все еще оставались отдаленными, бездорожными пространствами в процессе постепенной колонизации. Неконтролируемая сельская эмиграция во всех этих направлениях давала возможность избежать помещичьей эксплуатации для независимого ведения хозяйства в жестких условиях пограничья. В течение XVII в. длительный растянутый процесс закрепощения крестьян в России преодолевал сопротивление этой естественной среды: огромные, рыхлые окраины, окружавшие со всех сторон образцовые дворянские землевладения. Таким образом, исторический парадокс состоит в том, что Сибирь по большей части была освоена мелкими крестьянскими хозяйствами из «черносошных» общин Севера, стремившихся к большей личной свободе и экономическим возможностям, в тот самый период, когда огромная масса крестьян центральных территорий погружалась в унижающую неволю [276] . Именно отсутствие нормального территориального закрепления в России объясняет поразительное выживание рабства в очень значительном масштабе. В конце XVI в. холопы все еще занимались сельскохозяйственными работами приблизительно в 9-15 % российских поместий [277] . Как уже было показано, наличие сельского рабства в феодальной социальной формации всегда означает, что система крепостничества сама по себе еще не закрыта и что значительное число прямых производителей в сельской местности все еще свободны. Владение рабами было одним из ресурсов бояр, дававшее им критическое экономическое преимущество над мелкопоместным служилым дворянством [278] . Этот факт перестал играть важную роль только тогда, когда в XVIII в. сеть закрепощения охватила фактически все российское крестьянство. Тем временем существовало упорное межфеодальное соревнование за контроль над «душами», чтобы обрабатывать дворянские и церковные земли: бояре и монастыри с более прибыльными и рационально организованными поместьями часто принимали беглых крепостных из небольших поместий, затрудняя их возвращение бывшим хозяевам, что вызывало недовольство дворянского класса. Только когда установилось стабильное и сильное самодержавие с государственным аппаратом принуждения, способным приводить в исполнение закрепощение на всей территории России, эти конфликты прекратились. Таким образом, именно постоянная озабоченность помещиков проблемой мобильности рабочей силы на Востоке была основной причиной их стремления к абсолютизму [279] . Сеньориальные законы, привязывающие крестьянство к земле, уже широко применялись в предшествующую эпоху. Но, как мы видели, их реализация обычно оставалась весьма несовершенной: фактические трудовые модели ни в коей мере не соответствовали сводам законов. Миссией абсолютизма было повсеместное преобразование юридической теории в экономическую практику. Безжалостно централизованный и унитарный репрессивный аппарат был объективной необходимостью для контроля и подавления широко распространенной сельской мобильности во времена экономической депрессии. Никакая простая сеть индивидуального землевладельческого судопроизводства не могла полностью справиться с этой проблемой, независимо от степени ее деспотичности. Внутренние полицейские функции, необходимые для вторичного закрепощения на Востоке, были в этом отношении более важными, чем те, что требовались для первичного закрепощения на Западе. В результате абсолютистское государство возникло здесь раньше, чем отношения производства, на которых оно было основано, фактически одновременно с тем, как это произошло на Западе.
Польша вновь была исключением в логическом развитии этого процесса. Точно так же, как ей пришлось заплатить шведским «потопом», как внешним наказанием за то, что она не создала абсолютизма, внутренней ценой этой же неспособности стало крупнейшее крестьянское восстание эпохи – испытание украинской революции 1648 г., которое стоило ей трети ее территории и нанесло удар по морали и доблести шляхты ; от этого удара Украина никогда полностью не оправилась, а революция стала прелюдией к шведской войне. Особый характер украинской революции был прямым результатом основной проблемы крестьянской мобильности и бегства на Востоке [280] . Восстание было начато относительно привилегированными казаками на Днепре, которые изначально были беглыми русскими и русинскими крестьянами, или черкесскими горцами, которые расселились на огромных приграничных территориях между Польшей, Россией и татарским Крымским ханством. На эти безлюдные земли они пришли, чтобы принять там полукочевой, конный образ жизни, схожий с тем, который вели их исконные враги татары. Через некоторое время сложная социальная структура трансформировалась в казачьи общины. Их политическим и военным центром стал укрепленный остров, или Сечь, расположенный ниже днепровских порогов и образованный в 1557 г. Здесь был сформирован воинский лагерь, собранный в полки, выбиравшие делегатов на совет офицеров, или «генеральную старшину», которая, в свою очередь, избирала верховного командира, или гетмана. За пределами Запорожской Сечи, бродячие шайки бандитов и лесных жителей смешивались с оседлыми крестьянами под руководством своих собственных старшин. Польское дворянство, столкнувшееся с этими общинами в ходе своей экспансии на Украину, вынуждено было терпеть воинские силы запорожских казаков в ограниченном количестве, в форме «регистровых» полков под формальным командованием поляков. Казачьи войска использовались как вспомогательная кавалерия в польских военных кампаниях в Молдавии, Ливонии и России. Успешные офицеры становились богатой собственнической элитой, доминировавшей над рядовыми казаками. Иногда они фактически становились польскими дворянами.
Это социальное сближение с местной шляхтой, которая постоянно расширяла свои земли в восточном направлении, не изменило военной аномалии полковой независимости Сечи, с ее полународной разбойничьей базой; не повлияло оно и на казаков, занимавшихся сельским хозяйством и живших среди крепостного населения, возделывавшего обширные поместья польской аристократии в этом регионе. Крестьянская мобильность, таким образом, позволила родиться в причерноморских степях социологическому феномену, фактически неизвестному в то время на Западе, – массы простых сельских жителей способных выставить организованные армии против феодальной аристократии. Внезапный мятеж «регистровых полков» под предводительством своего гетмана Хмельницкого в 1648 г. был, таким образом, в состоянии бросить вызов польским армиям. Их восстание, в свою очередь, стало началом огромного всеобщего подъема крепостных Украины, которые сражались бок о бок с бедным казачьим крестьянством, чтобы сбросить своих польских землевладельцев. Три года спустя сами польские крестьяне восстали в Краковском регионе Подхале, вдохновленные украинскими казаками и крепостными. Дикая гражданская война велась в Галиции и на Украине, где шляхетские армии терпели одно поражение за другим от запорожских войск. Закончилось это роковой сменой Хмельницким подданства и Переяславским договором 1654 г., согласно которому вся Украина, расположенная на левом берегу Днепра, перешла под управление царей, при сохранении интересов казачьей старшины [281] . Украинское крестьянство-казаки и не казаки – стало жертвой этой операции: «умиротворение» Украины путем интеграции офицерского корпуса в Российское государство восстановило его узы. После длительной эволюции казачьи эскадроны сформировали элитные корпуса царского самодержавия. Переяславский договор символизировал, в действительности, сравнительную параболу развития двух главных соперников в этом регионе в XVII в. Разделенное Польское государство показало свою неспособность победить и подчинить казаков, так же как не смогло оказать сопротивления шведам. Централизованное царское самодержавие оказалось способным сделать и то и другое – отразить шведскую угрозу и не только покорить, но в итоге использовать казаков как репрессивную карательную силу против своих собственных масс.
Восстание на Украине было самой масштабной крестьянской войной в тот период в Восточной Европе. Но оно было не единственным. Все основные восточноевропейские аристократии в то или иное время в XVII в. столкнулись с восстаниями крепостных. В Бранденбурге повторялись вспышки сельского насилия в центральном районе Пригницы, во время завершающей фазы Тридцатилетней войны и в последующее десятилетие: в 1645, 1646,1648,1650 и вновь в 1656 гг. [282] Концентрация королевской власти Великим курфюрстом должна рассматриваться на фоне волнения и отчаяния в деревнях. Богемское крестьянство, подвергавшееся постепенному ухудшению своего экономического и законного положения после Вестфальского договора, восстало против своих хозяев по всей стране в 1680 г., и последние вынуждены были призвать австрийские войска, чтобы подавить этот мятеж. Сверх того, в самой России наблюдалось несравнимое количество сельских восстаний, которые растянулись на период со Смутного времени рубежа XVII в. до эпохи Просвещения XVIII столетия. В 1606–1607 гг. крестьяне, простолюдины и казаки на Днепре захватили местную власть под предводительством бывшего холопа Болотникова; его войско было близко к тому, чтобы провозгласить в Москве царем Лжедмитрия. В 1633–1634 гг. крепостные крестьяне и дезертиры восстали на Смоленщине под предводительством крестьянина Балаша. В 1670–1671 гг. фактически весь юго-восток, от Астрахани до Симбирска, сбросил контроль землевладельцев, когда огромное войско крестьян и казаков, возглавляемое бандитом Разиным, шло вверх по волжской долине. В 1707–1708 гг. сельские массы на Нижнем Дону поддержали казака Булавина в жестоком восстании против увеличения налогообложений и принудительного труда на верфях, установленных Петром I. Наконец, в 1773–1774 гг. произошло последнее и самое масштабное из всех восстание: устрашающий подъем множества эксплуатируемого населения от предгорья Урала и пустынь Башкирии до берегов Каспийского моря, под командованием Пугачева. Это восстание смешало горных и степных казаков, приписных рабочих, крестьян и скотоводческие племена в одной волне мятежей, для подавления которых потребовалось полномасштабное развертывание российских императорских армий.
Все эти народные восстания происходили на неопределенных приграничных территориях России: в Галиции, Белоруссии, Украине, Астрахани, Сибири. Центральная государственная власть истощилась, и перемещающиеся массы разбойников, авантюристов и беглых смешались с оседлыми крепостными и дворянскими сословиями: все четыре крупнейших восстания возглавлялись представителями казачества, которые имели военный опыт и организацию, что делало их такими опасными для феодального класса. Существенно, что только после окончательного закрытия украинского и сибирского фронтира в конце XVIII в., когда колонизаторские планы Потемкина были завершены, российское крестьянство, в конце концов, было приведено в угрюмую неподвижность. Таким образом, по всей Восточной Европе, интенсивность классовой борьбы в сельской местности, обычно скрытая в форме побегов крестьян, также провоцировала крестьянские взрывы против крепостничества, во время которых коллективная власть и собственность знати подвергались прямой опасности. Плоская социальная география большей части региона, которая отличала ее от более сегментированного пространства Западной Европы [283] , могла придать этой угрозе особенно серьезные формы. Опасность, исходившая от собственных крепостных, следовательно, играла роль главной центростремительной силы для аристократии восточной Европы. Появление абсолютистского государства в XVII в. в конечном счете стало ответом на социальный страх: его военно-политический аппарат принуждения был гарантией стабильности крепостничества. Таким образом, внутренний порядок абсолютизма на Востоке дополнял его внешние задачи: функцией централизованного государства была защита классовых позиций феодальной аристократии как от ее соперников за рубежом, так и от крестьян внутри страны. Организация и дисциплина одних, изменчивость и неповиновение других диктовали ускоренное политическое объединение. Таким образом, абсолютистское государство, повторенное за Эльбой, стало общим европейским феноменом.
Каковы были особые черты восточного варианта этой укрепленной феодальной машины? Можно выделить две основные и взаимосвязанные особенности. Во-первых, влияние войны на ее структуру было даже более важным, чем на Западе, и приняло беспрецедентные формы. Возможно, Пруссия представляет крайний предел, достигнутый милитаризацией генезиса этого государства. Функциональная сфокусированность на войне сделала зарождавшийся государственный аппарат к роли побочного продукта военной машины правящего класса. Абсолютизм Великого курфюрста Бранденбургского был, как мы видели, рожден среди суматохи шведских походов через Балтику в 1650-х гг. Его внутренняя эволюция и способ объединения представляли выразительное исполнение высказывания Трейчке: «Война – отец культуры и мать созидания». Вся налоговая структура, гражданские службы и местная администрация Великого курфюрста стали техническими подразделениями Генерального военного комиссариата (Generalkriegskommissariat). С 1679 г., в период войны со Швецией, этот уникальный институт под командованием фон Грумбкова стал высшим органом Гогенцоллерновского абсолютизма. Другими словами, прусская бюрократия появилась как побочная ветвь армии. Генеральный военный комиссариат стала всевластным военным и финансовым министерством, которое не только поддерживало постоянную армию, но и собирало налоги, регулировало промышленность и обеспечивало провинциальный аппарат Бранденбургского государства. Знаменитый прусский историк Отто Хинце так описывал развитие этой структуры в следующем столетии: «Вся организация бюрократического аппарата была переплетена с военными целями и предназначалась для их обслуживания. Сами провинциальные полицейские были выходцами из военных комиссариатов. Каждый государственный министр одновременно получал права военного министра, каждый член совета в административной и финансовой палатах одновременно являлся членом военного совета. Бывшие офицеры становились членами провинциальных советов, или президентами и министрами; административные чиновники, большей частью, были набраны из бывших полковых квартирмейстеров и ревизоров; более низкие должности заполнялись, насколько это было возможно, ушедшими в отставку сержантами и ветеранами войн. Таким образом, все государство приобретало военный порядок. Вся социальная система была поставлена на службу милитаризму. Дворяне, бюргеры и крестьяне были обязаны, каждый в своей сфере, служить государству и работать на короля Пруссии» [284] . К концу XVIII столетия доля населения, призванного в армию была, возможно, в 4 раза выше, чем в тогдашней Франции [285] , типичным образом она пополнялась за счет насильственной вербовки иностранных крестьян и дезертиров. Юнкерский контроль над этой командой был действительно абсолютным. Огромная военная машина регулярно поглощала почти 70–80 % фискальных доходов государства ко времени Фридриха II [286] .
Австрийский абсолютизм, как будет видно, представлял собой несовершенную смесь западных и восточных черт, соответствуя своей смешанной территориальной базе в Центральной Европе. Никакой концентрации, сопоставимой с берлинской, в Вене никогда не было. Однако примечательно, что в рамках эклектичной административной системы Габсбургсокого государства основные централизующие и инновационные импульсы с середины XVI до конца XVIII в. исходили из имперского военного комплекса. Действительно, в течение долгого времени он единственный обеспечивал практическое реальное существование династического союза различных земель, находившихся под правлением Габсбургов. Так, Высший военный совет, или Гофкригсрат, был единственным правительственным органом, чья юрисдикция распространялась в XVI в. на все габсбургские территории, единственным исполнительным агентством, объединявшим их в русле правящего курса. В дополнение к своим оборонительным обязанностям в отношении турок, Гофкригсрат отвечал за прямое гражданское управление всеми территориями вдоль юго-восточной границы Австрии и Венгрии, на которых располагались гарнизоны пограничной ( Grenzer ) милиции, подчиненной ему. Его последующая роль в медленном росте Габсбургской централизации и создании развитого абсолютизма всегда была определяющей. «Вероятно, из всех центральных органов правительства, он, в конечном счете, больше всех повлиял на процесс объединения различных наследственных территорий, и все, включая Богемию и особенно Венгрию, для защиты которых он, прежде всего, был создан, признавали его высший контроль над военными делами» [287] . Профессиональная армия, появившаяся после Тридцатилетней войны, закрепила победу династии над богемскими сословиями: поддерживаемая налогами с богемских и австрийских земель; она стала первым постоянным аппаратом правительства в обеих областях, не имея гражданского эквивалента на протяжении целого столетия. То же самое происходило в венгерских землях – продвижение Габсбургской армии в Венгрию в начале XVIII века в конечном счете привело ее к тесному политическому союзу с другими династическими владениями. Здесь абсолютистская власть сосредоточилась исключительно внутри военной ветви государственной системы: Венгрия впредь обеспечивала размещение и набор войск для габсбургских армий, которые занимали географическое пространство, согласно конституции остававшееся запретным для остальной имперской администрации. В то же время недавно завоеванные территории дальше на Восток, вырванные у турок, попали под военный контроль: Трансильвания и Банат управлялись напрямую Высшим военным советом из Вены, который организовывал и контролировал системную колонизацию этих земель немецкими иммигрантами. Таким образом, военная машина всегда была самой постоянной частью развития австрийского абсолютизма. Но австрийские армии, тем не менее, никогда не достигали положения своих прусских аналогов: милитаризация государства сдерживалась границами его централизации. Отсутствие строгого политического единства во владениях Габсбургов предотвратило сопоставимый подъем влияния военных кругов в рамках австрийского абсолютизма.
Роль военного аппарата в России, с другой стороны, была почти такой же значимой, как в Пруссии. В своем обсуждении исторической специфики «Московской империи», Ключевский прокомментировал: «Это, во-первых, боевой строй государства. Московское государство – это вооруженная Великороссия» [288] . Самые знаменитые строители этого сооружения, Иван IV и Петр I, так проектировали свою основную административную систему, чтобы увеличивать российскую боеспособность. Иван IV пытался произвести перегруппировку всей землевладельческой модели Московии, чтобы обратить ее в условное держание, все более и более налагая на знать обязанности военной службы в Московском государстве. «Земля сделалась в руках московского правительства средством хозяйственного обеспечения ратной службы; служилое землевладение стало основанием системы народной обороны» [289] . Война шла постоянно в течение большей части XVI в.: со шведами, поляками, литовцами, татарами и другими врагами. Иван IV, в конце концов, погрузился в длительную Ливонскую войну, которая закончилась общей катастрофой в 1580-х гг. Смутное время и последующая консолидация династии Романовых, однако, продолжили основную тенденцию привязывания права владения землей к задачам создания армии. Петр I затем придал этой системе ее универсальную форму. Вся земля была теперь связана с обязанностью ее владельца нести военную службу, и все дворяне вынуждены были начинать государственную службу в 15 лет. Две трети членов каждой дворянской семьи должны были поступать на армейскую службу: лишь каждому третьему сыну было позволено служить в качестве гражданского чиновника [290] . Военные и военно-морские расходы Петра за 1724 г. составляли 75 % от государственных доходов [291] —и это в один из немногих мирных лет в период его правления.
Большая сосредоточенность абсолютистского государства на войне не была чрезмерной. Она соотносилась со значительно большими завоеваниями и экспансией, чем та, что происходила на Западе. Картография восточноевропейского абсолютизма четко отражает его динамичную структуру. Московия увеличилась территориально примерно в 12 раз за XV–XVI вв., поглотив Новгород, Казань и Астрахань. В XVII в. Российское государство постепенно расширялось за счет присоединения Западной (так в тексте; видимо, Восточной. —Прим. пер.) Украины и части Белоруссии. В XVIII в. оно захватило балтийские земли, оставшуюся часть Украины и Крым. Бранденбург в XVII в. приобрел Померанию. Затем Прусское государство удвоило свои размеры, завоевав в XVIII в. Силезию. Габсбургское государство, базировавшееся в Австрии, вновь завоевало Богемию в XVII в., к XVIII в. подчинило Венгрию, присоединило Хорватию, Трансильванию и Олтению на Балканах. В конце концов, Россия, Пруссия и Австрия поделили между собой Польшу – когда-то крупнейшее государство в Европе. Рациональность и необходимость «сверхабсолютизма» для феодального класса на Востоке получили в этом окончательном разделе яркий пример того, чем чревато его отсутствие. Манориальная реакция прусских и российских дворян завершилась усовершенствованным абсолютизмом. Польское дворянство после не менее жестокого подчинения крестьянства потерпело неудачу в создании абсолютистского государства. Так, ревниво защищая частные права каждого мелкопоместного дворянина от другого и всех от любой династии, польские дворяне совершили коллективное самоубийство. Их патологический страх перед центральной государственной властью институциализировал аристократическую анархию. Результат был предсказуем: Польшу стерли с карты ее соседи, продемонстрировав на поле битвы необходимость абсолютистского государства.
Чрезвычайная милитаризация государства была структурно связана со второй главной особенностью абсолютизма в Пруссии и России. Она лежит в природе функциональных отношений между феодальными землевладельцами и абсолютистскими монархиями. Критическую разницу между восточным и западным вариантами можно увидеть в соответствующих способах интеграции дворянства в новую бюрократическую систему, созданную ими. Ни в Пруссии, ни в России не существовала сколько-нибудь заметная продажа должностей. Еще в XVI в. остэльбские юнкера характеризовались чрезвычайной национальной жадностью, тогда расцвела всеобщая коррупция и злоупотребления государственными фондами, сдача в аренду синекур и манипуляции королевским кредитом [292] . Это была эпоха бесспорного доминирования сословия господ ( Herrenstand) и рыцарства и ослабления центральной общественной власти. Появление абсолютизма Гогенцоллернов в XVII в. кардинально изменило ситуацию. Новое прусское государство укрепляло финансовую честность в своей администрации. Покупка знатью выгодных должностей в бюрократическом аппарате не разрешалась. Только в значительно более социально развитых гогенцоллерновских анклавах Клеве и Марке в Рейнской области, где существовала процветающая городская буржуазия, покупка должностей была формально санкционирована Фридрихом Вильгельмом I и его преемниками [293] . В самой Пруссии гражданская служба была замечательной в ее добросовестном профессионализме. В России, с другой стороны, мошенничество и растрата были присущи московской и романовской государственным машинам, которые регулярно, таким образом, теряли значительную часть своих доходов. Но этот феномен был просто прямой и примитивной разновидностью растраты и воровства, даже если он существовал в огромном и хаотичном масштабе. Собственно торговля должностями – как упорядоченная и легальная система вербовки в бюрократический аппарат – никогда серьезно не устанавливалась в России. Это не являлось когда-либо значительной практикой и в относительно более развитом Австрийском государстве, которое, в отличие от некоторых соседних королевств в Южной Германии, никогда не становилось прибежищем «должностного» класса, представители которого покупали бы свои административные посты. Причины общего для Восточной Европы отличия от западного образца очевидны. Всестороннее исследование К. Свартом распространения феномена продажи должностей справедливо подчеркивает его связь с существованием местного коммерческого класса [294] . Другими словами, на Западе продажа должностей отвечала переопределенности позднефеодального государства быстрым ростом коммерческого и промышленного капитала. Противоречивая связь, которую оно установило между общественной должностью и частными лицами, отражала средневековые концепции суверенитета и договоренности, в которых безличный гражданский порядок не существует. В то же время это была обналиченная связь, отражавшая наличие и вмешательство денежной экономики и ее будущих хозяев, городской буржуазии. Торговцы, юристы и банкиры имели доступ к государственной машине, если они могли выделить суммы, необходимые для покупки позиций в ней. Обменная природа взаимодействия была, конечно, также показателем внутриклассовых отношений между правящим классом аристократии и ее государством: объединение коррупцией, а не насилием, создало более умеренный и развитый абсолютизм.
На Востоке, с другой стороны, не было городской буржуазии, которая могла бы повлиять на характер абсолютистского государства; оно не сдерживалось коммерческим сектором. Подавляющая антигородская политика прусского и российского дворянства была очевидна. В России цари контролировали торговлю – часто через свои собственные монопольные предприятия – и управляли городами. Уникальным явлением было то, что городские жители часто были крепостными. В результате гибридный феномен торговли должностями был здесь невыполним. Чистые феодальные принципы управляли созданием государственной машины. Механизм служилого дворянства был, во многих отношениях, восточным коррелятом торговли должностями на Западе. Прусский юнкерский класс напрямую был включен в Военный комиссариат и его финансовые и налоговые структуры путем непосредственного набора на государственную службу. В гражданском бюрократическом аппарате всегда важное влияние имели неаристократические элементы, хотя они обычно получали дворянство, когда достигали в нем высших постов [295] . В сельской местности юнкера поддерживали строгий контроль над частными владениями ( Gutsbezirke) и были, таким образом, наделены всеми полномочиями финансовой, юридической, политической и военной власти над своими крестьянами. Провинциальные бюрократические органы гражданской службы XVIII столетия, показательно названные «военно-помещичьи палаты» (Kńegs-und-Domanen-Kammer ), аналогично становились все более и более подвластны им. В самой армии офицерский корпус был профессиональным запасом землевладельческого класса. «Только молодые дворяне допускались в кадетские компании и школы, которые он (Фридрих Вильгельм I) основал, а знатные непризванные офицеры перечислялись поименно в ежеквартальных отчетах, составленных для его сына: указание на то, что все дворяне, в силу принадлежности к сословию, рассматривались как кандидаты в офицеры. Хотя многие простые люди были призваны в условиях войны за Испанское наследство, они были отстранены вскоре после ее окончания. Таким образом, дворянство стало служилым дворянством. Оно идентифицировало свои интересы с теми государственными интересами, которые выводили его на почетные и доходные позиции» [296] .
В Австрии не было такого договора между абсолютистским государством и аристократией; непреодолимая разнородность земельного класса Габсбургских областей препятствовала этому. Все же радикальный, хотя и незавершенный эскиз служилого дворянства там тоже встречался. За повторным завоеванием Габсбургами Богемии в ходе Тридцатилетней войны последовало систематическое разрушение старой чешской и немецкой аристократии на богемских территориях. На них теперь насаждалось новое иностранное дворянство, католическое по вере и космополитическое по происхождению, которое было полностью обязано своими поместьями и благосостоянием решению династии, которая создала его. Новая «богемская» аристократия обеспечивала доминирующую часть кадров для Габсбургской государственной системы, ставшей главной социальной базой австрийского абсолютизма. Но резкий радикализм ее создания сверху вниз не стал нормой для последующих форм интеграции знати в государственную машину: сложная династическая политическая система, управлявшаяся Габсбургами, сделала единую, или «регулируемую», бюрократическую кооптацию дворянства на службу абсолютизму невозможной [297] . Нахождение на военных постах выше определенных рангов и после определенного периода службы должно было автоматически приводить к получению титула: но никакой общей или институциализованной связи между государственной службой и аристократическим порядком не возникало вплоть до окончательного подрыва международной силы австрийского абсолютизма.
В более примитивных условиях России, с другой стороны, принципы служилого дворянства пошли значительно дальше, чем даже в Пруссии. Иван IV провозгласил в 1556 г. декрет, который делал военную службу обязательной для каждого землевладельца и устанавливал точное количество воинов, которые должны были быть выставлены с определенных участков земли. Таким образом, он укреплял класс дворян-помещиков, который начал появляться в период правления его предшественника. Теперь, помимо религиозных учреждений, только люди, находящиеся на государственной службе, могли владеть землей в России. Эта система никогда не достигла универсальности или практической эффективности, которые даровались ей законом, и ни в коем случае не завершила эпоху автономной власти старинного магнатского класса бояр, чье имущество оставалось в аллодиальном владении. Но, несмотря на многие зигзаги и отступления, преемники Ивана IV наследовали и усовершенствовали его дело. Блюм так описывает первого правителя династии Романовых: «Государство, которым Михаил был призван управлять, являлось уникальным видом политической организации. Это было служилое государство, и царь был его абсолютным правителем. Деятельность и обязательства всех субъектов, от высшего правителя до самого мелкого крестьянина, определялись государством, преследовавшим свои собственные интересы и политику. Каждый субъект был связан с выполнением определенных функций, которые должны были сохранять и приумножать мощь и власть государства. Дворяне обязаны были нести службу в армии и в бюрократическом аппарате, а крестьяне были обязаны дворянам снабжать их средствами, чтобы они могли нести свою государственную службу. Свободы и привилегии, которыми субъект мог пользоваться, имелись у него только потому, что государство предоставило их, как привилегию, связанную с выполнением им определенной деятельности на службе государства» [298] . Это риторическое описание претензий царского самодержавия, а не описание фактической государственной структуры. Практические реалии российской социальной формации были далеки от всесильной политической системы, описанной выше. Идеология российского абсолютизма никогда не совпадала с его материальными возможностями, которые всегда были значительно более ограниченными, чем современные западные наблюдатели, часто предрасположенные к обычным для путешественников преувеличениям, склонны верить. Все же, в любой сравнительной европейской перспективе, особенность московского служилого комплекса была, тем не менее, очевидной. В конце XVII – начале XVIII в. Петр I обобщил и радикализировал его нормативные принципы еще сильнее. Путем слияния условных и наследственных владений он ассимилировал помещичий и боярский классы. Каждый дворянин впредь вынужден был становиться постоянным слугой царя. Государственная бюрократия была разделена на 14 разрядов: 8 высших чинов, которые предполагали наличие наследственного дворянского статуса, и 6 низших для ненаследственной аристократии. Таким образом, феодальный ранг и бюрократическая иерархия органически соединялись: механизм служилого дворянства делал государство виртуальным подобием структуры землевладельческого класса, находящегося под централизованной властью его «абсолютного» представителя.
2. Аристократия и монархия: восточноевропейский вариант
Теперь определим историческое значение служилой знати. Для этого нам надо еще раз рассмотреть эволюцию отношений между феодальным классом и его государством, теперь на востоке Европы. Уже отмечалось, что в Средние века до распространения западного феодализма на восток по преимуществу славянские общественные формации Восточной Европы не имели развитых феодальных отношений того типа, который появился на западе на основе романо-германского синтеза. Все славянские группы находились на разной стадии перехода от рудиментарных родовых союзов и общинных поселений к стратифицированным социальным системам с постоянными государственными структурами. Напомним, что обычно община состояла из правящей военной аристократии, свободных крестьян, долговых слуг и захваченных рабов; в то время как государственная система еще недалеко ушла от иерархии, во главе которой стоял традиционный военный вождь. Даже Киевская Русь, самое развитое государство региона, не создала единой наследственной монархии. Воздействие западного феодализма на социальную структуру Востока уже рассматривалось с точки зрения его влияния на способ производства в поместьях и деревнях и на организацию городов. Менее изученным оказалось его влияние на знать, но очевидно, что правящий класс гибко приспосабливался к западным иерархическим моделям. Например, высшая аристократия Богемии и Польши обрела свою форму в период с середины XII до начала XIV в., в эпоху немецкой экспансии, тогда же появились чешские rytiri и vladki или рыцари, вместе с баронами; в то же время в обе страны ко второй половине XIII в. из Германии пришло использование гербов и титулов [299] . При этом система титулов в большинстве восточноевропейских государств была позаимствована из немецкого (или позднего датского) языка: граф, маркграф, князь и т. д. – все эти названия были успешно усвоены славянскими языками.
Тем не менее и в течение эры экономической экспансии в XI–XIII вв., и в период ее сокращения в XIV–XV вв. можно выявить две важные особенности восточных правящих классов, которые уходили корнями в период, предшествовавший приходу западной системы. Во-первых, институт условного держания — система феодальной собственности – так и не укрепился за Эльбой [300] . Правда, он сначала сопутствовал немецкой колонизации и применялся на постоянно занятых немецкими юнкерами остэльбских землях больше, нежели где-то еще. Но немецкие поместья, за которые рыцари несли службу на востоке, в XIV в. были наследственными, даже несмотря на то, что они были связаны с исполнением военных обязанностей [301] . К XV в. юридические фикции в Бранденбурге все больше игнорировались, и рыцарство ( Rittergut) постепенно становилось наследственной знатью. В этом смысле процесс не отличался от того, что происходило в Западной Германии. Условное держание больше нигде так и не было внедрено. В Польше наследственные имения в Средние века численно превосходили феодальные владения; но, так же как и в Восточной Германии, оба типа собственности требовали несения военной службы, хотя она была легче для первых. Начиная со второй половины XV в. мелкопоместное дворянство превращает многие феодальные владения в наследственные, противодействуя усилиям монархии остановить этот процесс. В 1561–1588 гг. Сейм принял законодательные акты, которые превратили феодальные владения в наследственные повсеместно [302] . В России, как мы уже видели, наследственная вотчина была типичной боярской собственностью. Введение сверху системы условных поместий осуществлялось позднее царским самодержавием. Более того, на всех этих территориях было мало, или совсем не было промежуточной страты землевладельцев между рыцарями и монархами, таких как «главные держатели», получивших земли непосредственно от короля – герцоги и князья (tenants-in-chief), которые играли важную роль в феодальных иерархиях на Западе. Сложные цепочки феодальной лестницы были здесь практически неизвестны. В то же время власть в Восточной Европе не была так юридически ограничена или разделена, как на средневековом Западе. Во всех этих странах местные административные чиновники назначались, а не получали должности по наследству. Правители сохраняли формальное право облагать налогами все крестьянское население, которое не пользовалось личным иммунитетом, хотя на практике фискальная и юридическая власть принцев или князей часто была очень ограничена. В результате сеть связей между феодалами была значительно слабее, чем на Западе.
Без сомнения, эта особенность была связана с пространственным расположением восточного феодализма. Точно так же, как обширные малонаселенные пространства на Востоке создавали для знати специфические проблемы при эксплуатации труда из-за возможных побегов, специфические трудности возникали и для структурирования аристократической иерархии монархами. Положение восточноевропейских социальных формаций вблизи от неограниченных просторов, где военные приключения и анархические помыслы были в большом почете, чрезвычайно мешало династическим правителям при введении сеньориальной повинности среди военных колонистов и землевладельцев. В результате вертикальная феодальная солидарность здесь была гораздо слабее, чем на Западе. Слишком мало органических уз связывало аристократию. Ситуация существенно не изменилась после введения поместной системы во время большого кризиса европейского феодализма. Благодаря личным хозяйствам и использованию рабского труда восточное сельское хозяйство по производительности приблизилось к показателям раннесредневекового Запада. Однако отличительные признаки феодальной системы так и не возникли. В результате сеньориальная власть над крестьянством достигла уровня, неизвестного на Западе, где раздробленный суверенитет и условная собственность стали причиной путаницы и частичного совпадения юрисдикции над крепостными, что объективно способствовало крестьянскому сопротивлению. В Восточной Европе, напротив, территориальная, личная и экономическая власть принадлежала одному помещику, который имел все права над крепостными [303] . Концентрация власти была такой сильной, что и в России, и в Пруссии крепостных можно было продать другому землевладельцу отдельно от земли, на которой они работали, – условия личной зависимости были близки к настоящему рабству. Поместная система изначально не затрагивала господствующий тип аристократического владения землей, хотя площадь этих владений значительно возросла за счет деревенских общинных земель и крестьянских хозяйств. Напротив, возможно даже, что эта система усилила деспотическую местную власть внутри сеньориального класса.
Ранее уже было обрисовано двойное давление, которое создало абсолютистское государство на Востоке. Здесь важно отметить, что переход к абсолютизму не смог осуществляться здесь таким же путем, как на Западе, не только из-за превращения городов в пренебрежимый фактор и закрепощения крестьян, но и из-за специфического характера знати, которая этого добилась. Она не переживала длительного периода приспособления к относительно упорядоченной феодальной иерархии, которая подготовила бы ее к интеграции в аристократический абсолютизм. Тем не менее, столкнувшись с опасностью иноземных завоеваний или крестьянским неповиновением, знать осознавала необходимость обеспечения ex novo собственного стального единства. Тип политической интеграции, реализованный российским или прусским абсолютизмом, всегда нес в себе признаки этой изначальной классовой ситуации. Мы уже отмечали предел, к которому торопились часы восточноевропейского абсолютизма, – создание государственной структуры, опережавшей поддерживавшую ее общественную формацию, было вызвано необходимостью выровнять силы с противостоящими ей западными странами. Теперь необходимо подчеркнуть противоположную сторону того же диалектического ограничения. Именно сооружение «современного» абсолютистского здания на Востоке неизбежно влекло за собой появление «архаических» служилых отношений, некогда существовавших в феодальной системе на Западе. Эти отношения не имели раньше на Востоке большого значения, однако в то время, как на Западе со становлением абсолютизма они исчезали, на Востоке Европы под влиянием абсолютизма они стали появляться. Наиболее ярко этот процесс представлен, конечно, в России. В Средние века после падения Киевского государства здесь существовала опосредованная политическая власть и взаимные сюзерен-вассальные отношения между князьями и знатью: но они никак не были связаны с поместной властью и землевладением, в котором доминировала наследственная боярская вотчина [304] . Начиная с эпохи раннего Нового времени все развитие царизма строилось на переходе от наследственного к условному держанию, с введением системы поместий в XVI в., преобладанием поместий над вотчинами в XVII в. и окончательным объединением обеих систем в XVIII в. Впервые землей теперь владели в обмен на рыцарскую службу главному феодалу – царю; внешне это было воспроизведением порядков феодальной средневековой Западной Европы. Не считая повсеместного распространения королевской собственности после отчуждения в XVI в., в Пруссии не было таких радикальных юридических изменений в системе землевладения, потому что там все еще сохранялись признаки изначальной феодальной системы. Но и здесь горизонтальное рассеивание класса юнкеров было остановлено их неумолимой вертикальной интеграцией в структуры абсолютистского государства, скрепленной идеологическим императивом долга знати нести службу своему феодальному сюзерену. На самом деле дух военной службы государству был намного сильнее в Пруссии, чем в России, и создавал самую преданную и дисциплинированную аристократию в Европе. Поэтому здесь было меньше необходимости изменять законы и вводить материальные ограничения, которые так безжалостно использовал царизм в попытках принудить класс землевладельцев к несению военной службы на благо государства [305] . Однако в обоих случаях «возрождение» отношений службы в Европе привело к ее радикальному изменению. Военная служба требовалась теперь не лично сеньору, являвшемуся звеном в опосредованной цепи личной зависимости, что было нормой в феодальной лестнице Средневековья; теперь в ней нуждалось гиперцентрализованное абсолютистское государство.
Изменение отношений влекло за собой два неизбежных последствия. Во-первых, несение службы больше не заключалось в периодическом участии в военном походе, который осуществлял рыцарь по приказу его сюзерена – так, например, в норманской феодальной системе всадник обязан был нести службу в среднем в течение 40 дней. Теперь это был призыв к несению службы в бюрократическом аппарате с постепенным превращением службы в профессиональную и постоянную. Крайний случай представляют петровские указы, согласно которым российское дворянство было обязано служить государству в течение всей жизни. И снова, сама дикость и нереальность этой системы отражала большую практическую сложность интеграции российской знати в царский аппарат, а не степень действительных успехов в этом деле. В Пруссии не было нужды в таких чрезвычайных мерах, здесь класс юнкеров с самого начала был меньше и гораздо податливее. В обоих случаях очевидно, что такая бюрократическая служба – будь она военной или гражданской – противоречила центральному принципу настоящего западного средневекового феодального контракта, а именно его обоюдности. Настоящая феодальная система содержала очевидный компонент взаимности – у вассала были не только обязанности перед своим господином, но и права, которые сюзерен был обязан уважать. Средневековое право ясно формулирует идею сеньориального преступления – это незаконный разрыв соглашения феодалом, а не его вассалом. Теперь очевидно, что такая личная обоюдность, с ее сравнительно четко прописанными гарантиями, была несовместима с установившимся абсолютизмом, который предполагал новую и одностороннюю власть центрального государственного аппарата. Вторая характерная черта служилых отношений, сложившихся на Востоке, заключалась в их гетерономии. Помещик не был вассалом, обладавшим правом сопротивляться царю, – он был слугой, который получил поместье от самодержца и был обязан безусловно подчиняться ему. Его повиновение было прямым, не опосредовалось никакими инстанциями феодальной иерархии. Такая царистская концепция никогда не прижилась в Пруссии. Но и здесь тоже в отношениях между юнкером и государством Гогенцоллернов чрезвычайно не хватало критического элемента взаимности. Пресловутый идеал Короля-солдата был выражен в его требовании: «Мне должны служить жизнью и телом, своим домом и богатством, честью и совестью, все должно быть предано мне, за исключением святого спасения – оно принадлежит Богу, но все остальное – мое» [306] . Больше нигде культ механического военного повиновения– Kadavergehorsamkeit прусской бюрократии и армии – не проник настолько в класс землевладельцев. Таким образом, на Востоке феодальная система не стала полной копией западной системы, ни до, ни после позднесредневекового кризиса. Скорее, составные элементы этого феодализма были странным образом перетасованы в разновременных комбинациях, ни одна из которых не обладала завершенностью или единством оригинальной формы. Таким образом, поместная система существовала как при аристократической анархии, так и при централизованном абсолютизме; распыленный суверенитет существовал лишь в эпоху безусловного держания земли; появилось условное держание, но оно было связано с безусловной службой; феодальная иерархия в конце концов была кодифицирована в структуре государственной бюрократии. Абсолютизм в этом регионе стал самым парадоксальным сочетанием из всех – в западных терминах, причудливой смесью современных и средневековых структур, результат специфического «сжатия» времен на Востоке Европы.
Адаптация землевладельцев Восточной Европы к абсолютизму осуществлялось небезболезненно и не без превратностей, так же как и на Западе. На самом деле, польская шляхта —единственный из подобных социальных классов в Европе – предотвратила все попытки создать сильное династическое государство, по причинам, которые мы обсудим позже. В целом, однако, отношения между монархией и знатью на Востоке следовали траектории, не сильно отличной от развития западного абсолютизма, хотя и со своей региональной спецификой. Так, аристократическая безмятежность, превалировавшая в XVI в., сменилась многочисленными конфликтами и беспокойством в XVII в., которые, в свою очередь, уступили место новому согласию в XVIII в. Однако эта политическая модель отличалась от западной в ряде важных аспектов. Начнем с того, что процесс создания абсолютистского государства на Востоке начался намного позже. В Восточной Европе не было ничего похожего на западноевропейские монархии эпохи Возрождения. Бранденбург был в ту эпоху провинциальным болотом без сколько-нибудь примечательной княжеской власти; Австрия была опутана средневековой имперской системой рейха; Венгрия лишилась своей традиционной династии и в основном была занята турками; Польша оставалась аристократическим содружеством; Россия испытала преждевременное и навязанное самодержавие, которое вскоре рухнуло. Единственной страной, которая создала подлинно ренессансную культуру, была Польша, чья государственная система была фактически аристократической республикой. Единственной страной, которая создала мощную протоабсолютистскую монархию, была Россия, чья культура осталась гораздо более примитивной, чем культура любого другого государства региона. Будучи несвязанными, оба феномена были недолговечными. Только в следующем веке на Востоке возникло абсолютистское государство. Это произошло после окончательной военной и дипломатической интеграции континента в единую международную систему и усилившегося в результате давления Запада.
Судьба сословий региона стала ярким признаком прогресса абсолютизации. Самые сильные сословные системы на Востоке были созданы в Польше, Венгрии и Богемии – все они предполагали конституционное право избирать своего монарха. Польский сейм – двухпалатное собрание, в котором была представлена исключительно знать, не только предотвратил укрепление центральной королевской власти в Содружестве после ее важных побед в XVI в.; он даже ввел дополнительные анархические прерогативы для дворянства путем введения свободного вето (liberum veto) в XVII в., по которому любой член Сейма мог прекратить обсуждение вопроса всего одним голосом. Польский случай был уникальным в Европе; настолько непоколебимой была позиция аристократии, что в этот период даже не было сколько-нибудь серьезного конфликта между монархией и знатью, так как ни один избранный король не обладал силой, достаточной для того, чтобы бросить вызов шляхетской конституции. С другой стороны, в Венгрии, традиционные сословия непосредственно угрожали Габсбургской династии, когда та с конца XVI в. начала административную централизацию. Мадьярское дворянство, поддержанное национальным партикуляризмом и защищенное турецкой властью, сопротивлялось абсолютизму из всех сил: ни одна другая знать в Европе не вела столь жестокую и постоянную борьбу против поползновений монархии. Не менее четырех раз на протяжении ста лет – в 1604–1608, 1620–1621, 1678–1682 и 1701–1711 гг. – основные группы класса землевладельцев поднимали вооруженные восстания под предводительством Бокская, Бетлена, Токолли и Ракоци против Австрийского двора. В конце этого длительного и жестокого противостояния мадьярский сепаратизм был разбит, Венгрия оккупирована абсолютистскими армиями, а местные крепостные обложены центральными налогами. Что касается прочего, то были сохранены все остальные сословные привилегии, и суверенитет Габсбургов в Венгрии оставался лишь тенью австрийского оригинала. В Богемии, напротив, восстание Сейма (Snem), которое предшествовало Тридцатилетней войне, было сокрушено в битве при Белой горе в 1620 г. Победа австрийского абсолютизма в чешских землях была окончательной, совершенно истребившей старую богемскую знать. Сословные системы формально сохранись и в Австрии, и Богемии, но с этих пор знать покорилась династии.
Однако в двух районах, где появились самые развитые и влиятельные абсолютистские государства Восточной Европы, историческая модель отличалась. В Пруссии и России не было каких-либо крупных восстаний аристократии против установления централизованного государства. При этом интересно отметить, что в сложный период перехода к абсолютизму местная знать играла менее заметную роль в политических выступлениях, чем ее собратья на Западе. Государства Романовых и Гогенцоллернов никогда не сталкивались с тем, что могло бы сравниться с религиозными войнами, Фрондой, Каталонским восстанием или «благодатным паломничеством». К концу XVII в. сословная система в обоих государствах исчезла без шума и протеста. Ландтаг Бранденбурга сдался без сопротивления усиливающемуся абсолютизму после Перерыва ( Recess) 1653 г. Единственное серьезное сопротивление абсолютизму оказали бюргеры Кенигсберга: восточнопрусские землевладельцы, напротив, восприняли с относительным равнодушием произведенную Великим Электором ликвидацию древних прав герцогства. Безжалостная антигородская политика, проводившаяся восточной знатью, дала свой эффект и способствовала укреплению абсолютизма [307] . Отношения между династией и знатью в Пруссии в конце XVII – начале XVIII в. были, безусловно, лишены напряженности и подозрительности: ни Великого Электора ни Короля-солдата нельзя назвать популярными среди собственного класса правителями, они были известны грубым обращением со знатью. Однако в тот период в Пруссии не было ни одного серьезного, даже кратковременного конфликта между знатью и монархией. В России сословное собрание – Земский собор – было чрезвычайно слабым и бутафорским институтом [308] , созданным Иваном IV по тактическим соображениям в XVI в. Его состав и созыв легко поддавались манипуляциям дворцовой клики в столице; сословный принцип как таковой не обрел самостоятельного значения в Московии. Он был ослаблен социальным разделением внутри землевладельческого класса на группу бояр и группу малоземельных помещиков, рост которой в XVI в. поддерживали цари.
Таким образом, хотя в процессе перехода к абсолютизму была развязана мощная социальная борьба в масштабах, превосходящих что-либо подобное в Западной Европе, движение возглавлялось эксплуатируемыми сельскими и городскими классами, а не привилегированным или имущим классом, который в целом обнаружил значительное благоразумие в отношениях с царизмом. В своем конфиденциальном меморандуме Александру I граф П. А. Строганов писал: «На протяжении всей нашей истории именно крестьянство выступало источником всех беспокойств, в то время как знать никогда не волновалась: если правительство и должно кого-то опасаться или следить за кем-либо – это крепостные, а не какой-либо другой класс» [309] . Самыми значительными событиями XVII в., которыми был отмечен закат Земского собора и Боярской думы, являлись не сепаратистские восстания знати, а крестьянские войны Болотникова и Разина, городские бунты московских ремесленников, волнения казаков на Днепре и Дону. Эти конфликты создали исторический контекст, в котором были разрешены внутрифеодальные противоречия между боярами и помещиками —гораздо более острые, чем в Пруссии. Почти весь XVII в. боярские группы контролировали центральный государственный аппарат по причине отсутствия сильного царя, в то время как дворянство потеряло политический вес; но существенные интересы обеих групп уже были защищены новыми структурами российского абсолютизма, который на протяжении этого периода постепенно консолидировался. Репрессии самодержавия по отношению к отдельным аристократам были, из-за отсутствия в России эквивалента позднесредневековой правовой традиции, намного более жестокими, чем на Западе. Но тем не менее поразительно, насколько стабильной смогла стать российская монархия, несмотря на то что различные придворные и военные группировки знати боролись за влияние на нее: мощь абсолютистской функции настолько превосходила силу ее номинальных держателей, что политическая жизнь могла на время превратиться в череду интриг и переворотов, совершаемых дворцовой гвардией, совершенно не уменьшавших силу царизма как такового и не ослаблявших политическую стабильность в государстве.
XVIII в. представляет собой кульминацию гармонии, достигнутой между аристократией и монархией в Пруссии и России, так же как и в Западной Европе. Это был период, когда знать в обоих странах признала французский языком правящего класса. Фраза, которую приписывают Екатерине II – «Je suis une aristocrate, c’est mon metier» («Я – аристократка, это моя профессия»), – стала эпиграфом эпохи [310] . Согласие между землевладельческим классом и абсолютистским государством в двух восточноевропейских монархиях было даже сильнее, чем на Западе. Уже отмечалась историческая слабость взаимных и договорных элементов феодального вассалитета в Восточной Европе в более ранние эпохи. Служилая иерархия прусского и российского абсолютизма никогда не воспроизводила взаимных обязательств средневековой клятвы принятия в вассалы: бюрократическая пирамида исключала любые межличностные обещания, присущие сеньориальной иерархии, заменив верность приказами. Но отмена индивидуальных взаимных гарантий между лордом и вассалом, которые в принципе гарантировали рыцарские отношения между ними, не означала, что знать на Востоке подвергалась произвольной и безжалостной тирании со стороны своих монархов. Аристократия как класс была облечена социальной властью самой природой государства, которое возвышалось «над» ней. Служба знати в государственном аппарате гарантировала, что абсолютистское государство служит политическим интересам знати. Связь между ними хоть и была более ограниченной, чем на Западе, но она была и более доверительной. Общие правила европейского абсолютизма, несмотря на идеологическую окраску, на Востоке не нарушались. Частная собственность и безопасность землевладельческого класса оставались фетишем королевских режимов, несмотря на их самодержавные претензии [311] . Состав знати мог изменяться и перетасовываться в экстремальных случаях, как это случалось и в средневековой Западной Европе, но ее положение в социальной структуре всегда поддерживалось. Восточный абсолютизм, так же как и западный, останавливался у ворот поместья; и наоборот, аристократия получала свое главное богатство и силу от стабильного владения землей, а не от временной службы государству. Большая часть аграрной собственности по всей Европе оставалась юридически наследственной, индивидуальной, и сохранялась в кругу аристократии. Группы знати соотносились с рангами в армии и администрации, но эти группы никогда не сводились только к рангам; титулы всегда существовали вне государственной службы, скорее означая почтение, чем должность.
Поэтому неудивительно, что парабола отношений между монархией и аристократией на Востоке, несмотря на большую разницу исторических процессов в обеих половинах Европы, так походила на то, что происходило на Западе. При своем появлении абсолютизм столкнулся с непониманием и неприятием; затем, после периода смятения и сопротивления, он был окончательно принят классом землевладельцев. Для всей Европы XVIII в. был периодом восстановленного согласия между монархией и знатью. В Пруссии Фридрих II проводил открыто аристократическую политику рекрутирования и продвижения чиновников в аппарат абсолютистского государства, исключая иностранцев и выскочек ( roturiers) из армии и гражданской службы, куда они попали в предшествовавший период. В России тоже профессиональные чиновники-иностранцы, которые являлись опорой реформированных царских полков конца XVII в., были постепенно уволены, и дворянство вернулось в имперские вооруженные силы, а его провинциальные административные привилегии были расширены и закреплены Екатериной II в Жалованной грамоте дворянству. В Австрийской империи Мария-Терезия даже преуспела в снижении степени венгерской враждебности по отношению к Габсбургской династии, привязав мадьярских магнатов к жизни двора в Вене и создав в столице специальную мадьярскую гвардию для своей персоны. В середине века центральная власть монархий была сильнее, а взаимопонимание между правителями и землевладельцами на Востоке лучше, чем когда-либо ранее. Более того, в отличие от Запада, поздний абсолютизм Востока достиг своего апогея. «Просвещенный деспотизм» XVIII в. был распространен именно в Центральной и Восточной Европе [312] и олицетворен тремя монархами, которые окончательно разделили Польшу: Фридрих II, Екатерина II и Иосиф II. Похвала их работе со стороны философов-буржуа западного Просвещения со всем их зачастую поучительным непониманием была не просто исторической случайностью: динамичная энергия и мощь, казалось, дошли до Берлина, Вены и Санкт-Петербурга. Это был период высшего развития абсолютистской армии, бюрократии, дипломатии и меркантилистской экономической политики на Востоке. Раздел Польши, исполненный хладнокровно и коллективно как вызов бессильным западным державам накануне Французской революции, казалось, символизировал международный подъем абсолютизма.
Желая отразиться в зеркале западной цивилизации, абсолютистские правители в Пруссии и России усердно стремились превзойти своих коллег из Франции и Испании и льстили западным писателям, которые приезжали засвидетельствовать их блеск [313] . В некоторых аспектах восточноевропейский абсолютизм этого века был, как ни странно, даже более продвинутым, чем его западные прототипы предыдущего столетия, в результате общего развития Европы. Если Филипп III и Людовик XIV беззаботно изгоняли морисков и гугенотов, то Фридрих II не только приглашал религиозных беженцев, но и создал иммиграционное бюро за рубежом для увеличения демографического притока в королевство – новый поворот к меркантилизму. Демографическая политика также поддерживалась в Австрии и России, которые начали амбициозные программы колонизации Баната и Украины. В Австрии и Пруссии реализовывались официальная терпимость и антиклерикализм, в отличие от Испании и Франции [314] . Было введено или расширено общественное образование, заметный прогресс был достигнут в германских монархиях, особенно во владениях Габсбургов. Везде была введена воинская повинность, наиболее удачно это произошло в России. В экономике энергично поддерживался абсолютистский меркантилизм и протекционизм. Екатерина II руководила расширением металлургического производства на Урале и провела большую реформу российской денежной системы. И Фридрих II, и Иосиф II удвоили промышленное производство в своих владениях; в Австрии традиционный меркантилизм даже перемешался с более современными представлениями физиократов, с их большим вниманием к аграрному производству и политикой невмешательства ( laissez-faire) внутри страны.
Но ни одно из этих очевидных достижений не изменило сравнительный характер и позиции восточноевропейских вариантов европейского абсолютизма в эпоху Просвещения. Внутренние структуры монархий оставались архаическими и ретроградными, даже в моменты расцвета этих государств. Австрийская монархия, потрясенная поражением в войне с Пруссией, попыталась восстановить мощь государства, освободив крестьян [315] ; однако аграрные реформы Иосифа II закончились провалом, что было неизбежно, так как монархия изолировалась от своего аристократического окружения. Австрийский абсолютизм так и остался слабым. Будущее было за прусской и российской формами абсолютизма. Крепостничество было сохранено Фридрихом II и расширено Екатериной II; поместные основы восточноевропейского абсолютизма сохранились неизменными в этих двух монархиях вплоть до следующего века. Затем вновь именно потрясение военного нападения с Запада, которое когда-то помогло становлению восточноевропейского абсолютизма, теперь привело крепостное право, на котором он основывался, к своему концу. Ибо теперь агрессия исходила из капиталистических государств, и ей сложно было сопротивляться. Победа Наполеона при Иене привела непосредственно к ликвидации крепостничества в Пруссии в 1811 г. Поражение Александра II в Крымской войне спровоцировало освобождение российских крепостных в 1861 г. В обоих случаях реформы не означали конец самого абсолютизма в Восточной Европе. Продолжительность жизни двух институтов, вопреки ожиданиям, но в соответствии с историческим развитием, не совпала: абсолютистское государство на Востоке, как мы увидим, пережило отмену крепостного права.
3. Пруссия
Проанализировав основные общие детерминанты, теперь мы можем кратко рассмотреть различия в эволюции отдельных общественных формаций востока Европы. Пруссия представляет классический случай неравномерного и комбинированного развития, которое, в конечном счете привело к появлению крупнейшего индустриального государства на континенте на базе одной из мельчайших и наиболее отсталых территорий на Балтике. Поставленные этой траекторией теоретические проблемы были специально рассмотрены Энгельсом в знаменитом письме Блоху 1890 г. о важности политических, юридических и культурных систем в структуре исторической причинности: «Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали… Прусское государство возникло и развивалось также благодаря историческим и в конечном счете экономическим причинам. Но едва ли можно, не сделавшись педантом, утверждать, что среди множества мелких государств Северной Германии именно Бранденбург был предназначен для роли великой державы, в которой воплотились экономические, языковые, а со времени Реформации и религиозные различия между Севером и Югом, и что это было предопределено только экономической необходимостью, а другие моменты не оказывали также влияния (прежде всего то обстоятельство, что Бранденбург благодаря обладанию Пруссией был втянут в польские дела и через это в международные политические отношения, которые явились решающими также и при образовании владений Австрийского дома)» [316] . В то же время очевидно, что комплекс факторов возвышения Бранденбурга также содержит ответ на главный вопрос новой истории Германии: почему национальное объединение Германии в эпоху промышленной революции проходило в конечном счете под политической эгидой аграрного юнкерства Пруссии? Иными словами, возвышение государства Гогенцоллернов концентрирует в исключительно ясной форме некоторые ключевые проблемы природы и функций абсолютизма в европейском политическом развитии.
Начало его возвышения проходило не особенно в благоприятных условиях. В начале XV в., в период борьбы с Гуситской революцией в Богемии, дом Гогенцоллернов был пересажен императором Сигизмундом из Южной Германии, где этот аристократический род традиционно враждовал с торговым Нюрнбергом, в Бранденбург. В 1415 г. Фридрих, первый маркграф Бранденбурга из рода Гогенцоллернов, был возведен в сан имперского электора за службу Сигизмунду [317] . Следующий маркграф подавил муниципальную автономию Берлина, а его наследники отобрали другие города марки у Ганзейской лиги и подчинили их себе. К началу XVI в., как мы уже видели, Бранденбург превратился в область, где не было свободных городов. Поражение городов, тем не менее, обеспечило превосходство дворянства над правящей династией в этой отдаленной пограничной зоне. Местная аристократия постепенно увеличивала свои земельные владения, захватывая общинные земли и сгоняя мелких крестьян с их участков, так как экспорт сельскохозяйственных продуктов становился все более выгодным. Класс землевладельцев одновременно получал контроль над высшими судебными инстанциями, выкупал домены электора и монополизировал административные должности, в то время как череда неумелых правителей постепенно накапливала долги и слабела. Сословная система, в которой господствовало дворянство, тормозила развитие постоянной армии, а в сущности, и всякую внешнюю политику, превращая Электорат в один из наиболее ярких примеров раздробленного сословного государства ( Ständestaat) в Германии эпохи Реформации. Поэтому после экономического кризиса позднего Средневековья в эпоху революции цен на Западе Бранденбург привык к скромному процветанию поместий и очень слабой княжеской власти. Живя на доходы от зерновой торговли и демонстрируя отсутствие политической энергии, в XVI в. юнкерское сословие превратилось в сонную провинциальную заводь [318] . А между тем, после того, как в качестве последнего гроссмейстера Альберт Гогенцоллерн при благоприятных обстоятельствах упразднил Тевтонский орден, провозгласив Реформацию в 1525 г. и присвоив светский титул герцога при польском сюзеренитете, Восточная Пруссия превратилась в наследственный феод другой ветви династии Гогенцоллернов. Роспуск правившего военно-монашеского ордена, долгое время существовавшего после поражения и подчинения Польше в XV в., привел к смешению рыцарей со светскими землевладельцами и тем самым впервые сформировал в Восточной Пруссии единый сеньориальный класс. Крестьянское восстание против нового режима было быстро подавлено, а общество, похожее на бранденбургское, консолидировалось. В деревне происходило изгнание с земель и закрепощение крестьян, вследствие чего свободные арендаторы вскоре превратились в сословие вилланов. Однако небольшой слой кнехтов ( Cölmer ), бывших когда-то мелкими слугами тевтонских рыцарей, сохранился. Фактически все города были так или иначе захвачены Польшей в предшествующее столетие, кроме Кёнигсберга, единственного относительно крупного и непокорного города в регионе. Верховная власть нового герцога была ограничена и слаба, хотя земли герцогства оставались обширными. Прусские сословия обеспечили себе гораздо более широкие привилегии, чем в других землях Германии; они включали административные назначения, судебную власть и право апеллировать к польскому королю на решения герцога [319] . Международное значение Восточной Пруссии стало теперь еще менее значительным, чем Бранденбурга.
В 1618 г. два княжества, до того политически разделенные, были объединены, после того как Бранденбургский электор унаследовал Восточную Пруссию в результате династического брака, хотя герцогство продолжало оставаться вассалом Польши. За четыре года до этого было сделано другое географическое приобретение в нижнем Рейнланде, когда две густонаселенные и высоко урбанизированные маленькие территории на Западе Клеве и Марк, достались Гогенцоллернам в наследство. Однако новые династические приобретения начала XVII в. оставались без сухопутного коридора, который связывал бы их с Бранденбургом; три владения электора были стратегически разъединены и уязвимы. Сам Электорат даже по общегерманским стандартам был бедным и изолированным государством, презрительно именуемым современниками «песочницей Священной Римской империи». «Ничего не указывало на то, что Бранденбург или Пруссия когда-либо будут играть главную роль в делах Германии или Европы» [320] . Понадобился шторм Тридцатилетней войны и шведская экспансия, чтобы избавить государство Гогенцоллернов от инерции. Впервые Бранденбург вышел на арену международной политики, когда имперская армия Валленштейна победоносно промаршировала через всю Германию к Балтийскому морю. Электор Георг-Вильгельм – лютеранский враг кальвинистского правителя в Праге, пошел на политический союз с императором Фердинандом II Габсбургом в связи с конфликтом в Богемии; причем его военная роль была равна нулю, поскольку он не имел армии. Тем не менее в 1627 г. его беззащитные владения были оккупированы и разграблены австрийскими войсками, в то время как Валленштейн воцарился в Мекленбурге. А тем временем Густав Адольф в ходе войны с Польшей захватил Мемель и Пиллау в Восточной Пруссии, две крепости, контролировавшие Кёнигсберг, вследствие чего в герцогстве упали доходы от морской торговли. Затем в 1631 г. шведская армия высадилась в Померании и вторглась в Бранденбург. Георг-Вильгельм не получил помощи от Габсбургов и отплыл в Восточную Пруссию, где Густав Адольф вынудил его переменить лагерь и выступить против имперского дела. Четыре года спустя он снова поменял фронт и заключил сепаратный мир с императором. Но на протяжении Тридцатилетней войны шведские войска всегда оставались в Электорате, который оказался жертвой постоянных поборов и реквизиций. Оккупационная власть, естественно, не обращала внимания на сословия. Бранденбург закончил долгий конфликт так же бездеятельно, как и начал его. Но парадоксальным образом он выиграл от Вестфальского договора. В ходе войны Померания после смерти ее герцога перешла во владение Гогенцоллернов. Шведское завоевание Померании – главной балтийской базы скандинавских операций в границах Нижней Саксонии – помешало наследованию в результате войны, но по настоянию Франции беднейшая восточная половина провинции была уступлена Бранденбургу, который также получил небольшие компенсации к югу и западу от Электората. Из Тридцатилетней войны государство Гогенцоллернов вышло с плохой политической и военной репутацией, но увеличившимся территориально благодаря мирному договору. Его традиционные институты были глубоко расшатаны, но новые, взамен прежних, еще не появились.
Новый и молодой электор Фридрих-Вильгельм I, получивший образование в Голландии, вступил в наследство вскоре после заключения мира. Два незабываемых урока были извлечены из опыта десятилетий оккупации: настоятельная необходимость создать армию, способную противостоять шведской имперской экспансии на Балтике, и вывод об эффективности шведской административной модели принудительных налоговых сборов в Бранденбурге и Восточной Пруссии, невзирая на протесты местных сословий. Первым же занятием электора стало создание стабильной финансовой основы для постоянного военного аппарата для обороны и объединения его владений. На деле, вплоть до 1654 г. войска династии Ваза оставались в Восточной Померании. Поэтому в 1652 г. электор собрал генеральный ландтаг в Бранденбурге, призвав все дворянство и представителей всех городов Марка учредить новую финансовую систему для создания княжеской армии. Затянувшиеся пререкания с представителями сословий в конце концов прекратились на следующий год знаменитым Перерывом ( Recess) 1653 г., освятившим заключение общественного договора между электором и аристократией, который должен был обеспечить устойчивый фундамент прусского абсолютизма. Сословия отказались вотировать генеральный акцизный сбор, но проголосовали за субсидию в полмиллиона талеров на шесть лет для создания армии, которой суждено было стать ядром будущего бюрократического государства. В ответ электор издал указ, по которому все крестьяне Бранденбурга считались крепостными (Leibeigene ), если не докажут иное; сеньориальная юрисдикция была подтверждена; свободное приобретение дворянства запрещено, а фискальный иммунитет аристократии сохранен [321] . В течение двух лет проблема была решена. После нападения Швеции на Польшу в 1655 г. на Балтике снова началась война. Фридрих-Вильгельм предпочел шведскую сторону в этом конфликте, и в 1656 г. его неопытная армия вступила в Варшаву бок о бок с войсками Карла X. Военное возрождение Польши, поддержанной вмешательством России и Австрии, вскоре ослабило позиции Швеции, которая в свою очередь была атакована с тыла Данией. Тогда Бранденбург ловко переметнулся на другую сторону в обмен на отказ Польши от сюзеренитета над Восточной Пруссией. Договор 1657 г. в Лабиау впервые установил безусловный суверенитет Гогенцоллернов над герцогством. Затем электор быстро оккупировал Западную Померанию объединенными силами Польши, Австрии и Бранденбурга. Тем не менее после восстановления мира Оливский договор 1660 г. по настоянию Франции вернул эту провинцию Швеции.
Между тем война 1656–1660 гг. на Балтике резко и быстро изменила внутренний баланс сил во владениях Гогенцоллернов. В Бранденбурге, Восточной Пруссии и Клеве-Марке электор аннулировал все конституционные ограничения под предлогом военного положения, собрал налоги без согласия местных собраний и создал вооруженные силы численностью около 22 тысячи человек, которые были сокращены наполовину, но не распущены после прекращения конфликта. Теперь стала возможной еще более резкая конфронтация с сословным партикуляризмом. Восточная Пруссия, где знать до тех пор привыкла опираться на польский сюзеренитет для противодействия претензиям Гогенцоллернов, а города открыто выражали недовольство во время войны, стала первым полем применения новой власти в электорате. В 1661–1663 гг. был созван «долгий» ландтаг. Отказ бюргеров Кёнигсберга согласиться с полным суверенитетом династии в герцогстве был преодолен с помощью быстрого ареста вожака городского сопротивления, а согласие на введение налога вырвано поддержкой армии. Электор должен был пообещать проводить каждые три года сессии сословий и впредь не взимать налоги без их согласия: но эти уступки на практике были большей частью формальными. Тем временем в Клеве-Марке сословия вынуждены были признать право государя вводить войска и назначать чиновников по своему усмотрению.
В 1672 г. государство Гогенцоллернов, дипломатический союзник и финансовый клиент Соединенных провинций, оказалось втянутым во франко-голландскую войну – возобновившийся военный конфликт, по тому времени общеевропейского масштаба. К 1674 г. электор стал номинальным командующим объединенных германских войск, действовавших против Франции в Пфальце и Эльзасе. На следующий год в отсутствие электора шведы, как союзники Франции, вторглись в Бранденбург. Поспешив домой, Фридрих-Вильгельм нанес ответный удар в битве при Фербеллине в 1675 г., когда впервые войска Бранденбурга победили скандинавских ветеранов на болотистой местности к северо-западу от Берлина. К 1678 г. вся шведская Померания была захвачена электором. Но французское вторжение снова лишило его этого завоевания: армии Бурбонов вторглись в Клеве-Марк и угрожали Миндену – отдаленным территориям Гогенцоллернов на западе, и в 1679 г. Франция смогла продиктовать возвращение Западной Померании Швеции. Географически бесплодная война, тем не менее, в институциональном плане была полезной для укрепления княжеского абсолютизма. Восточная Пруссия была принуждена выплачивать земельный налог и акцизный сбор без согласия представителей сословий, несмотря на ворчание дворянской оппозиции и явную угрозу бюргерского мятежа. Кёнигсберг стал центром сопротивления; тогда в 1674 г. в город вошли войска, и его муниципальная автономия была навеки уничтожена. Поэтому прусские сословия покорно проголосовали за огромные налоги, которые от них потребовали для продолжения войны [322] .
Заключение мира не остановило процесс концентрации власти в руках электора. В 1680 г. взимание налогов с городов стало обязательным в Бранденбурге, однако это решение сознательно не распространялось на сельскую местность, раскалывая союз дворянства и городов. Годом позже такой же фискальный сепаратизм был учрежден для Восточной Пруссии, а к концу правления электора он распространился на Померанию, Магдебург и Минден. За пределами городов налоги платились в Бранденбурге и Клеве-Марке только крестьянством; в Восточной Пруссии дворянство платило незначительную часть, но основное бремя несли их арендаторы. Административное деление городов и сельской местности, созданное таким дуализмом, окончательно раскололо потенциальную социальную оппозицию нарождавшемуся абсолютизму. Налоги были распределены между городами и крестьянством в соотношении %. Новое налоговое бремя особенно угрожало городам, потому что от налогов были освобождены пивоварни и другие предприятия, разрешенные в имениях помещиков, которые безнаказанно конкурировали с городскими производителями. Экономическая мощь городов Бранденбурга и Восточной Пруссии, уже сильно подорванная общей депрессией XVII в., стала еще меньше вследствие государственной политики: однажды введенный налог на потребление становился постоянным, города были, в сущности, отстранены от представительства в ландтаге. Дворянство же, напротив, получило «бархатное» обращение в финансовом и юридическом отношении. Были подтверждены его традиционные привилегии не только в основных восточных провинциях. В западных анклавах Клеве и Марке электор даже пожаловал местной аристократии новый сеньориальный юридический и фискальный иммунитет, которым она до тех пор не обладала [323] . Неблагоприятный экономический климат конца XVII в. создавал дополнительный мотив для землевладельческого класса поддерживать политическое здание княжеской власти, которое теперь возводилось в государстве Гогенцоллернов: перспективы найти работу в его структурах стали в дальнейшем хорошим поводом отказаться от традиционных извилистых карьерных путей.
Тем временем сословная система постепенно разрушалась; быстро и неуклонно рос военно-бюрократический аппарат централизованного абсолютизма. Тайный совет Бранденбургской марки существовал с 1604 г., но вскоре он был заполнен местной знатью и превратился в незначительный и местнический орган, деятельность которого прекратилась во время Тридцатилетней войны. После Вестфальского мира Фридрих-Вильгельм восстановил его, когда начал формировать центральное управление доменами Гогенцоллернов, в то время как в сознании большинства сохранялся партикуляризм, а в администрировании – примитивизм. Однако в ходе войны 1665–1670 гг. для решения военных вопросов во всех землях династии был создан специальный департамент – Генеральный военный комиссариат (Generalkriegskommissariat). С наступлением мира роль и численный состав этого комиссариата уменьшились, но он не был ликвидирован, оставаясь под формальным контролем Тайного совета. Абсолютизм шел по административному пути, похожему на тот, который ранее прошли западные монархии. Начало войны 1672–1678 гг. отмечено внезапным и решительным разрывом с этой моделью. Генеральный военный комиссариат теперь начал в действительности осуществлять руководство всей машиной самого государства. В 1674 г. была создана Генеральная военная касса (Generalkriegskas.se ), которая в течение десятилетия превратилась в центральное казначейство Гогенцоллернов, так как сбор налогов все больше поручался чиновникам комиссариата. В 1679 г. руководителем Генерального военного комиссариата был назначен профессиональный солдат, померанский аристократ фон Грумбков; штат комиссариата был увеличен; внутри была создана стройная бюрократическая иерархия, а ее полномочия были расширены за пределы первоначальной компетенции. В ходе следующего десятилетия были созданы поселения беженцев-гугенотов и налажена иммиграционная политика, контролировалась система городских гильдий, под наблюдением находились торговля и ремесло и начаты морские и колониальные предприятия государства. Сам Генеральный военный комиссар теперь на деле вдруг превратился в главу генерального штаба, военного министра и министра финансов. Этот громадный рост его влияния уменьшил значение Тайного совета. Чиновники комиссариата рекрутировались на единой, межпровинциальной основе, и он использовался как главное оружие династии против местного партикуляризма или сопротивления собраний [324] . Тем не менее Генеральный военный комиссариат не был своего рода дубинкой, направленной против аристократии. Напротив, его верхний эшелон пополнялся из знатнейших дворян как на центральном, так и на провинциальном уровне; простые люди были собраны в сравнительно незначительном департаменте по сбору городских налогов.
Конечно, первоначальная функция подобного щупальцам аппарата комиссариата заключалась в обеспечении и росте вооруженных сил государства Гогенцоллернов. Общие государственные расходы на эти цели были утроены за 1640–1688 гг., подушные фискальные выплаты достигли уровня, почти вдвое превышавшего установленный во Франции эпохи Людовика XIV, намного более богатой стране. При вступлении на престол Фридриха-Вильгельма Бранденбург имел почти четырехтысячную армию; к концу правления государя, которого современники стали называть Великим электором, постоянная армия достигла 30 тысяч хорошо обученных солдат, ведомых офицерским корпусом, рекрутировавшимся из юнкерского класса и проникнутого крайней преданностью династии [325] . Смерть Великого электора открыла, как хорошо он выполнил свою работу. Его тщеславный и непоследовательный наследник Фридрих после 1688 г. вовлек дом Гогенцоллернов в европейскую коалицию против Франции. Бранденбургские контингенты во время войны Аугсбургской лиги и войны за Испанское наследство выполняли союзные обязательства, в то время как правящий князь проматывал иностранные субсидии на свои сумасбродства дома и не смог обеспечить новые территориальные приобретения в награду за свою внешнюю политику. Единственным заметным приобретением этого правления стало получение династией титула короля Пруссии – дипломатическая уступка, сделанная императором Карлом VI в 1701 г. в обмен на формальный союз Габсбургов и Гогенцоллернов и юридически оправданная тем фактом, что Восточная Пруссия находилась за пределами границ Империи (Reich), в которой ни один королевский титул не мог принадлежать никому, кроме самого императора. Тем не менее прусская монархия оставалась маленьким отсталым государством на северо-восточной окраине Германии. В последние годы Великого электора все население земель Гогенцоллернов насчитывало около 1 миллиона человек: 270 тысяч в Бранденбурге, 400 тысяч в Восточной Пруссии, 150 тысяч в Клеве-Марке и, вероятно, около 180 тысяч в мелких владениях. Накануне смерти Фридриха I в 1713 г. Прусское королевство все еще составляло не более 1600 тысяч жителей.
Скромное наследство было значительно увеличено новым монархом– Фридрихом-Вильгельмом I, «фельдфебелем на троне», который посвятил свою деятельность созданию прусской армии (в его правление удвоенной с 40 до 80 тысяч), и который, что символично, первым из европейских государей постоянно носил военную форму. Военные маневры и муштра были королевской страстью. Без устали работали мастерские по производству амуниции и суконные мануфактуры для снабжения полевой армии; был введен рекрутский набор; основан кадетский корпус для молодых дворян, а офицерская служба в иностранных армиях строго запрещена; военный комиссариат реорганизован под управлением сына фон Грумбкова. Подготовка новых войск оказалась весьма предусмотрительным делом: в 1719 г. у Швеции была окончательно отобрана Западная Померания, после того как на завершающей стадии Великой Северной войны Пруссия присоединилась к союзу России и Дании, направленному против Карла XII. В других случаях армия использовалась крайне осторожно и только после мирной дипломатии. Тем временем бюрократия была модернизирована и рационализирована. Государственный аппарат был до тех пор разделен на категории «доменного» и «комиссариатского», то есть на частные и общественные финансовые учреждения монархии, соответственно обязанные управлять королевскими владениями и сбором налогов с подданных. Теперь оба были объединены в одно учреждение – незабываемое Главное общее управление финансов, военных дел и доменов ( General-Ober-Finanz-Kriegs-und-Domänen-Direktorium ) с ответственностью за все административные обязанности, кроме иностранных дел, юстиции и церкви. Для наблюдения за гражданской службой был создан корпус тайной полиции или специальные «фискалы» [326] . Не менее тщательно осуществлялось управление экономикой. В сельской местности финансировались проекты дамб, канализации и поселений, создаваемые голландским искусством и специалистами. Французские и немецкие иммигранты привлекались на местные мануфактуры под государственным контролем. Королевский меркантилизм способствовал экспорту текстиля и других товаров. В то же время расходы двора были сведены к скудному минимуму. В результате к концу своего правления «фельдфебель на троне» располагал ежегодным доходом в 7 миллионов талеров, а своему наследнику оставил 8 миллионов талеров в государственной казне. Возможно, еще более важно то, что население его королевства увеличилось до 2 250 тысяч человек, или почти на 40 % за менее чем три десятилетия [327] . Пруссия к 1740 г. подготовила социальные и материальные условия, которые превратили ее в великую европейскую державу в правление Фридриха II и в конце концов обеспечили лидерство в объединении Германии.
Теперь можно поставить вопрос: какая особенность политической конфигурации Германии сделала возможным и логичным доминирование в ней Пруссии? И наоборот, каковы характерные черты, отличающие абсолютизм Гогенцоллернов от соперничавших территориальных государств в Священной Римской империи с равно обоснованными претензиями на власть в Германии в раннее Новое время? Для начала давайте проведем через всю империю линию, отделяющую ее западные области от восточных. Западная Германия была, в общем и целом, плотно усеяна городами. Начиная с Высокого Средневековья Рейнланд был одной из самых процветающих торговых зон Европы, располагавшейся вдоль торговых путей между двумя городскими цивилизациями – Фландрией и Италией и получавшей доходы от естественного водного пути, используемого на континенте. В центре и на севере Германии на Северном море и в балтийских экономиках господствовала Ганзейская лига, простираясь от Вестфалии через все пространство до колониальных поселений Риги и Ревеля в Ливонии и до Стокгольма и Бергена в Скандинавии, одновременно имея привилегированное положение в Брюгге и Лондоне. На юго-западе швабские города получали доходы от трансальпийской торговли и от исключительных горных промыслов на зависимых от них землях. Собственный вес этих многочисленных городов был недостаточным для создания городов-государств итальянского типа с большими зависимыми от них аграрными округами; такие из них, как Нюрнберг, которые владели скромными сельскохозяйственными округами, скорее были исключением, чем правилом. По размеру они были в среднем меньше, чем итальянские города. К 1500 г. из 3 тысяч немецких городов только 15 имели численность населения более чем 10 тысяч жителей и 2 —более 30 тысяч: Аугсбург – самый большой город, насчитывал 50 тысяч, в то время как Венеция или Милан – свыше 100 тысяч [328] Тем не менее собственная сила и жизнеспособность обеспечили им в Средние века положение свободных имперских городов, подчиненных только номинальной власти императора (всего было 85 таких городов), и они продемонстрировали политические возможности для коллективных действий на региональном уровне, что тревожило территориальных князей империи. В 1254 г. рейнские города сформировали оборонительную военную лигу; в 1358 г. ганзейские города завершили создание экономической федерации; в 1376 г. швабские города создали вооруженное объединение против графа Вюртембергского. «Золотая булла» середины XIV в. официально запретила городские объединения, но это не предотвратило оформления рейнскими и швабскими городами общего южногерманского союза 1381 г., который окончательно был разбит армией князей семь лет спустя в наиболее тяжелый период позднефеодальной депрессии и сопутствующей ему анархии в Империи. Однако во второй половине XV в. наметился новый быстрый экономический рост тевтонских городов, который достиг своего апогея в 1480–1530 гг., когда Германия превратилась в нечто вроде диверсифицированного центра общеевропейской торговой системы. Ганзейская лига была преимущественно торговым объединением, не имевшим собственного производства в городах: ее доходы складывались от транзитной по своему характеру торговли зерном и контроля над ловлей сельди, соединенной с международными финансовыми операциями. Рейнланд, в котором были сосредоточены старейшие города Германии, располагал традиционными льняными, шерстяными и металлообрабатывающими производствами помимо контроля над торговыми маршрутами из Фландрии в Ломбардию. Процветание швабских городов было новейшим и доходнейшим из всех: текстиль, горная добыча и металлургия давали им развитую производственную базу, к которой добавлялись банковские доходы Фуггеров и Вельзеров в эпоху Карла V. К началу XVI в. южногерманские города опередили своих итальянских конкурентов в технических нововведениях и промышленном прогрессе. Именно они возглавили на первом этапе народное движение Реформации.
Однако рост городской экономики в Германии неожиданно замедлился в середине столетия. Затруднения приобрели многочисленные и взаимосвязанные формы. Прежде всего, наметилось постепенное изменение соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, так как спрос опережал предложение продуктов питания и цены на зерновые быстро росли. Отсутствие структурной интеграции стало еще более очевидным в торговой сети самой Германии. Северная и южная окраины длинной дуги городов, простиравшейся от Альп до Северного моря, никогда не были связаны четкой системой [329] . Ганзейская лига и рейнско-швабские города всегда составляли отдельные торговые секторы с различными округами и рынками. Собственно морская торговля-козырь средневековой коммерции – контролировалась Ганзой, которая когда-то господствовала на морях от Англии до России. Но с середины XV в. конкуренция со стороны торговых судов Голландии и Зеландии – лучше подготовленных и экипированных – нарушила монополистический контроль ганзейских портов в северных водах. Голландские селедочные флоты захватили рыбные места, которые мигрировали из Балтики к норвежскому побережью, в то время как голландские грузовые суда вмешались в торговлю Данцига зерном. К 1500 г. голландские суда, проходящие Зунд, численно превосходили немецкие в соотношении 5 к 4. К тому времени богатство Ганзы уже прошло свой пик, пришедшийся на период максимальной немецкой торговой экспансии. Лига все еще оставалась богатой и мощной: в 1520-е гг., как мы видели, Любек послужил инструментом для воцарения Густава Вазы в Швеции и свержения Кристиана II в Дании. Увеличение в абсолютных показателях морской торговли на Балтике в XVI в. в некотором отношении компенсировало быстрое падение доли в ней Ганзы. Но лига потеряла выгодные позиции во Фландрии, была лишена привилегий в Англии (1556 г.), и ее торговля в конце века уменьшилась, составив всего четверть от объема голландской морской торговли через Зунд [330] . Усиливавшийся раскол между вестфальским и вендским крыльями оставил ее силу в прошлом. Тем временем рейнские города также стали жертвой голландского динамизма, но другим образом. Восстание в Нидерландах привело к закрытию в 1585 г. Шельды после захвата испанцами Антверпена – традиционного конечного пункта речной торговли – и ужесточению контроля Соединенных провинций над устьем Рейна. Великая экспансия морского и промышленного могущества Нидерландов в конце XVI – начале XVII в. тем самым еще больше сократила или подорвала рейнскую экономику выше по течению, поскольку голландский капитал контролировал ее выходы к морю. Поэтому старейшие города Рейнланда стали склоняться к рутинному консерватизму, их архаичная цеховая система сдерживала приспособление к новым обстоятельствам: наиболее яркий пример Кельн – один из немногих крупных городов Германии, который оставался бастионом традиционного католицизма на протяжении всего столетия. Новые производства в регионе появлялись в основном в меньших и скорее сельских населенных пунктах, свободных от корпоративных ограничений.
С другой стороны, юго-западные города располагали сильной производственной базой, и их благоденствие продолжалось дольше. Но по мере масштабного расширения международной океанской торговли со времен Великих географических открытий их внутреннее положение стало серьезным экономическим препятствием, в то время как торговля по Дунаю, ранее компенсировавшая этот недостаток, была заблокирована турками. Впечатляющие операции аугсбургских банковских домов в имперской системе Габсбургов, финансировавших успешные военные предприятия Карла V и Филиппа II, стали причиной их краха. Фуггеры и Вельзеры в конце концов были разорены своими займами династии. Парадоксальным образом итальянские города, относительный упадок которых начался раньше, в конце XVI в. были фактически более процветающими, чем германские города, чье будущее казалось гораздо лучше обеспеченным в период разграбления Рима армией ландскнехтов (Landsknechten). Средиземноморская экономика сопротивлялась последствиям роста атлантической торговли дольше, чем окруженная сушей Швабия. Конечно, ограниченность городских центров Германии была в ту эпоху неодинаковой. Отдельные города – в особенности Гамбург, Франкфурт и в меньшей степени Лейпциг – получили быструю прибыль и раньше других достигли важного экономического значения в 1500–1600 гг. В начале XVII в. западная Германия по стандартам того времени все еще оставалась в общем богатой и урбанизированной зоной, хотя и прекратила демонстрировать существенный рост. Соответственно, сравнительная густота городов намечала сложную политическую структуру, подобную Северной Италии. К тому же именно из-за мощи и множества торговых городов отсутствовало пространство для аристократического абсолютизма. Социальная среда всей этой зоны была неблагоприятной по отношению к основным монархическим государствам, и ни одна заметная территориальная монархия не смогла здесь появиться. Отсутствовала необходимая для этого господствующая знать. Но в то же время сами города Рейнланда и Швабии, несмотря на их количество, были слабее городов Тосканы и Ломбардии. В средневековый период они, как правило, никогда не имели сельской округи ( contado) итальянского типа, а в начале Нового времени показали свою неспособность превратиться в настоящие города-государства, сравнимые с сеньориями Милана и Флоренции или олигархиями Венеции и Генуи [331] . Поэтому политические отношения сеньориального класса с городами были совершенно иными в западной Германии. Вместо упрощенной карты, на которой существовало бы нескольких средних по размеру городов-государств, управляемых неоаристократическими авантюристами или патрициатом, здесь царило многообразие маленьких свободных городов среди беспорядочно расположенных карликовых княжеств.
Среди мелких территориальных государств Западной Германии заметное количество составляли церковные княжества. Из четырех западных электоров Империи трое являлись архиепископами Кельна, Майнца и Трира. Эти курьезные конституционные реликты сохранились с раннефеодальной эпохи, когда саксонская и швабская династии императоров использовали церковный аппарат в Германии как один из важных инструментов регионального управления. Если в североитальянских городах епископальное правление было рано отменено и главной опасностью для коммун стали политические замыслы успешных императоров, а их главным союзником в борьбе с ними – папство; то в Германии императоры, наоборот, в целом помогали городской автономии и епископальной власти в борьбе против претензий светских баронов и князей и в столкновении с папскими интригами. Результатом же стало то, что как крошечные церковные государства, так и свободные города продолжали существовать в раннее Новое время. В деревне собственность на землю почти повсюду приняла форму помещичьего землевладения (Grundherrschaft ), при котором свободный крестьянин-арендатор платил натуральный или денежный оброк за свое держание феодалам-землевладельцам, которые часто жили где-то далеко. На юго-западе Германии большое число мелких дворян успешно сопротивлялись включению в состав территориальных княжеств, приобретая статус «имперских рыцарей», сохранявших скорее непосредственный вассалитет самому императору, чем верность феодалу местного происхождения. К XVI в. насчитывалось около 2500 таких имперских рыцарей, земельные владения которых составляли не более 250 квадратных миль. Конечно, многие из них становились жестокими или безразличными наемниками, но немало было и тех, кто глубоко проникали в территориальные церковно-политические сети, которые усеивали всю Западную Германию, занимая в нихдолжности и пребенды – две анахроничные общественные формы, увековечившие друг друга [332] . Среди этого беспорядочного ландшафта не было места для роста прочного и нормального абсолютистского государства даже на региональном уровне. Двумя самыми значительными светскими княжествами на западе были Рейнланд-Пфальц (рейнский Палатинат) и герцогство Вюртемберг. В обоих было много имперских рыцарей и маленьких городов, но отсутствовала значительная территориальная знать. Вюртемберг с его 400–500 тысячами жителей никогда не играл важной роли в германской политике в целом и не рассматривался как такой игрок в будущем. Пфальц, давший четвертого электора Империи и контролировавший пошлины от торговли на среднем Рейне, был более богатым и значительным государством, правители которого сравнительно рано установили абсолютную власть в XVI в. [333] Но его единственная попытка более серьезной экспансии – фатальные претензии Фридриха V на корону Богемии в начале XVII в., ставшие поводом к Тридцатилетней войне, – вызвала длительные бедствия; некоторые районы Германии в результате были выжжены сражающимися в европейском военном конфликте армиями. Конец XVII – начало XVIII в. принесли небольшую передышку для восстановления. И в Пфальце, и в Вюртемберге в 1672–1714 гг. проходила передовая линия войн Людовика XIV, и оба княжества были варварски опустошены французскими и имперскими войсками. Стратегическая уязвимость этих двух западных княжеств стала территориальной причиной ограниченности их возможностей. К середине XVIII в. они почти не изменили своего положения в международной дипломатии и не имели политического веса в самой Германии.
Таким образом, исторический пейзаж Западной Германии оказался неподходящим для появления там ведущего абсолютистского государства. Однако та же социологическая необходимость, которая предопределила отсутствие абсолютизма на Западе, стала причиной того, что важнейший опыт построения абсолютистского государства, показавший реальную возможность установления полной гегемонии в Империи, пришел с Востока. Исключив на время из рассмотрения земли Габсбургов в Австрии и Богемии, которые рассмотрим позднее, мы увидим, что возможность будущего германского единства ковалась в трех восточных государствах, сформировавших полосу от Тироля до Балтики, – Баварии, Саксонии и Бранденбурге. Начиная с XVI в. только они, не считая австрийского дома, были реальными конкурентами в борьбе за лидерство в национально– объединенной Германии. Именно на относительно недавно колонизированным и отсталом Востоке, где городов было меньше и они были намного слабее, оказалась возможной сильная машина абсолютизма, не скованная урбанизацией и поддержанная сильной знатью. Чтобы увидеть, почему самое северное из трех государств выиграло борьбу за окончательную власть над Германией, необходимо взглянуть на внутреннюю структуру каждого. Бавария была старейшим крупным образованием Каролингской империи и одним из стержневых герцогств X в. В конце XII в. Баварией начал править дом Виттельсбахов. Никакая другая семья больше не занимала этот трон: династия Виттельсбахов смогла обеспечить самую долгую непрерывную линию правления своей наследственной областью среди других царствующих фамилий Европы (1180–1918). В Средние века их владения часто делились, но к 1505 г. они были вновь объединены Альбертом IV в единое и мощное герцогство, почти в 3 раза превосходившее Бранденбургскую марку. Во время религиозных войн XVI в. баварские герцоги без колебаний предпочли католицизм и превратили свое государство в наиболее мощный передовой пост Контрреформации в Германии. Быстрое подавление лютеранства сопровождалось жестким подчинением местных сословий – главного очага протестантского сопротивления в герцогстве. Династический контроль был установлен над Кельнским архиепископством, которое в течение почти двух столетий после 1583 г. оставалось важным инструментом династических связей с Рейнландом. Виттельсбахи, проводившие эту религиозную и политическую программу, также ввели в Баварии первые бюрократические элементы абсолютизма: к 1580-м гг. там существовали Финансовая палата, Тайный совет и Военный совет, созданные по австрийской модели.
Административное влияние Австрии не означало, однако, что Бавария была в ту эпоху в каком-либо смысле сателлитом Габсбургов. В действительности, баварская контрреформация даже опережала австрийскую и была примером и кузницей кадров для рекатолизации земель Габсбургов: будущий император Фердинанд II сам был продуктом иезуитского образования в Инголынтадте в тот период, когда протестантизм все еще господствовал среди дворянства Богемии и Австрии. В 1597 г. на герцогский престол вступил Максимилиан I и вскоре показал себя наиболее решительным и способным правителем в Германии. Собрав покорный ландтаг только дважды накануне Тридцатилетней войны, он сконцентрировал все судебные, финансовые, политические и дипломатические полномочия в своих руках, удвоив налоги и собрав 2 миллиона, гульденов в качестве резерва на военные нужды. Поэтому, когда разразилась Тридцатилетняя война, Бавария оказалась фактическим лидером немецких католических государств в их противостоянии кальвинистской угрозе в Богемии. Максимилиан I набрал и вооружил для Католической лиги армию в 24 тысяч солдат, которая сыграла важную роль в победе у Белой горы в 1620 г., а в следующем году атаковала и захватила Пфальц. В ходе долгой войны герцог сильно истощил свое государство налогами, полностью игнорируя протесты сословных собраний против такой цены его военных усилий; к 1648 г. Бавария выплатила не менее 70 % общих расходов армий Католической лиги за время Тридцатилетней войны, что разорило местную экономику, сократило население, вызвав глубокую депрессию в герцогстве [334] . Тем не менее после Вестфальского мира Максимилиан стал сильнейшим князем в Германии, установив еще менее ограниченный и более жесткий абсолютистский режим, чем позднее создаст в Бранденбурге Фридрих-Вильгельм. Бавария увеличила свою территорию, захватив Верхний Пфальц, и ее правители получили титул электоров. Она казалась мощнейшим этнически немецким государством в Империи.
Однако будущее разоблачило эту видимость. Баварский абсолютизм рано достиг совершенства, но он покоился на весьма ограниченной и негибкой основе. Социальная структура герцогства в действительности не позволяла осуществить дальнейшую важную экспансию, остановив подъем государства Виттельсбахов прежде, чем оно приобрело общегерманскую роль. В Баварии, в отличие от Вюртемберга и Пфальца, было мало свободных городов и имперских рыцарей. Она была гораздо менее урбанизирована, чем эти западные княжества; почти все ее города были маленькими по размерам: например, главный город Мюнхен насчитывал только 12 тысяч жителей в 1500 г. и менее 14 тысяч в 1700 г. Местная аристократия состояла из традиционных землевладельцев, которые напрямую подчинялись герцогской власти. Конечно, такая общественная конфигурация создавала условия для скорейшего возникновения абсолютистского государства в Баварии и его последующей стабильности и долговечности. С другой стороны, природа баварского аграрного общества не располагала к динамичному расширению государства. Если знать была многочисленной, то ее имения были маленькими и сильно разбросанными. Крестьянство состояло из свободных арендаторов, несших сравнительно легкие обязательства перед своими помещиками: трудовые повинности никогда не занимали много времени, составляя в XVI в. не более 4–6 дней в году. Знать не располагала правом верховного суда над собственными работниками. Консолидация аристократических поместий была незначительной, частично, вероятно, из-за отсутствия возможности экспорта зерновых, обусловленного географическим положением Баварии – глубоко в центральноевропейском континентальном массиве без речных выходов в море. Наиболее значительной особенностью помещичьего сельского хозяйства юго-восточной Германии была заметная роль Церкви, которая к середине XVIII в. владела не менее чем 56 % всех крестьянских хозяйств по сравнению со всего 24 % земель, контролируемыми аристократией и 13 % – династией [335] . Относительная слабость дворянского класса, очевидная в этой структуре собственности, отражалась и на его юридическом положении. У него не было полного фискального иммунитета, хотя, разумеется, выплачиваемые им налоги были намного меньше, чем у любого другого сословия; а его попытки предотвратить приобретение владений знати лицами неблагородного звания, нашедшие свое выражение в запрещающем законе последнего ландтага XVII в., успешно саботировались скрытыми операциями Церкви на земельном рынке. Более того, острый дефицит рабочих рук, вызванный депопуляцией периода Тридцатилетней войны, нанес ущерб баварской аристократии, из-за отсутствия у нее юридического оформления собственности в деревне. Это означало, что на практике крестьяне могли успешно торговаться об облегчении повинностей и улучшении условий аренды, в то время как значительная часть дворянской собственности оказалось отягощена долговыми обязательствами. Такие социальные предпосылки налагали узкие политические рамки на потенциал баварского абсолютизма, что вскоре и стало очевидным. Та же модель – «мелкая дворянская собственность, маленькие города и мелкие крестьяне» [336] , —которая не смогла оказать сопротивления зарождавшемуся герцогскому абсолютизму, не смогла и обеспечить движущие силы для его дальнейшего развития.
Герцогство завершило Тридцатилетнюю войну с населением, равным тому, которым располагал на севере электор из династии Гогенцоллернов, – около 1 миллиона подданных. Наследник Максимилиана I Фердинанд-Мария укрепил гражданский аппарат правления Виттельсбахов, учредив верховенство Тайного совета и используя казначея ( Rentmeister) в качестве ключевого чиновника для внутреннего административного управления. Последний ландтаг был распущен в 1669 г., хотя его «постоянный комитет» почти без результатов функционировал и в следующем столетии. Но в то время, когда Великий электор постепенно создавал постоянную армию в Бранденбурге, баварские войска были распущены после Вестфальского мира. Только в 1679 г. баварские вооруженные силы воссоздал новый герцог Макс-Иммануил. Но даже после этого они не смогли стать привлекательными для баварской знати: местная аристократия составляла меньшинство на офицерских должностях армии, которая оставалась чрезвычайно скромной по размерам (около 14 тысяч солдат в середине XVIII в.). Макс-Иммануил – честолюбивый и бесстрашный генерал, который отличился, воюя против турок под Веной, стал регентом Испанских Нидерландов после женитьбы в 1672 г. и кандидатом на испанский престол на рубеже XVII–XVIII вв. Свою самую высокую ставку он сделал в 1702 г., поддержав Людовика XIV в начале войны за Испанское наследство. Некоторое время франко-баварский альянс господствовал в Южной Германии, угрожая самой Вене, но битва при Бленхейме разбила все надежды на победу в Центральной Европе. Бавария была оккупирована австрийскими войсками вплоть до окончания конфликта, в то время как Макс-Иммануил, лишенный своего титула и изгнанный из Империи, бежал в Бельгию. Попытка Виттельсбахов опереться на французскую мощь для установления своего господства в Германии катастрофически провалилась. Во время мирных переговоров в Утрехте герцог, не видя перспектив для своей баварской вотчины, предложил Австрии обменять ее на Южные Нидерланды – схема была отвергнута Англией и Францией, но снова всплыла позднее. Династия вернулась на родину, ослабленную десятилетием грабежей и разрушений. Послевоенная Бавария постепенно впадала в полукоматозное состояние самоизоляции и разложения. Расточительство мюнхенского двора, поглощавшего значительную часть бюджета, приняло, вероятно, большие размеры, чем в любом другом государстве Германии того времени. Долги государства постепенно увеличивались, в то время как откупщики проматывали собранные налоги, сельское население оставалось в тисках религиозных предрассудков, знать была больше склонна получать церковные пребенды, чем нести военную службу [337] . Размеры герцогства и поддержание небольшой армии сохраняли дипломатическое влияние Баварии в рамках Империи. Но к 1740 г. она больше не была убедительным кандидатом на политическое лидерство в Германии.
Саксония – следующее государство к северу – представляла несколько иной вариант развития абсолютизма в восточной тройке германских государств. Местный правящий дом – династия Веттинов получила герцогство и электорат Саксонию в 1425 г., на несколько лет позже, чем династия Гогенцоллернов Бранденбургскую марку, и во многих отношениях тем же путем – как дарение императора Сигизмунда в возмещение за военную службу в войнах против гуситов, во время которых Фридрих Майсенский– первый электор из династии Веттинов – был одним из главных помощников императора. Разделенные в 1485 г. между Эрнестинами и Альбертинами – двумя ветвями династии, – со столицами соответственно в Виттенберге и Дрездене-Лейпциге, саксонские земли, тем не менее, оставались богатейшими и наиболее развитыми во всем восточногерманском регионе. Они получили свое преимущество благодаря огромным залежам серебра и олова в горах и развивавшимся в городах текстильным производствам. Перекресток торговых путей – Лейпциг, как мы уже видели, был одним из немногих непрерывно растущих городов Германии в течение всего XVI в. Относительно высокая степень урбанизации в Саксонии, в сравнении с Баварией или Бранденбургом, и привилегированные права местных князей на горные промыслы создали общественную и политическую модель, отличную от южных и северных соседей. Здесь не было феодальной реакции в позднее Средневековье и раннее Новое время, сравнимой с той, что поразила Пруссию; власть саксонского дворянства была не столь велика, чтобы низвести крестьян в крепостное состояние, принимая во внимание вес городов в общественной структуре. Феодальные поместья были больше, чем в Баварии, частично потому, что церковные землевладения были намного меньше. Но основная тенденция развития деревни вела к свободным крестьянам-арендаторам и к замене трудовых повинностей денежной рентой, – другими словами, к мягкому варианту режима помещиков (Grundherrschaft ). Знать не имела полного фискального иммунитета (ее частная собственность подвергалась налогообложению) и была не в состоянии обеспечить законодательное запрещение людям неблагородного происхождения приобретать аристократическую собственность. Однако она была широко представлена в сословной системе, которая стала более стабильной и влиятельной в XVI в. С другой стороны, города были также значительно представлены в ландтаге, хотя они, в отличие от знати, были обязаны нести основную тяжесть акцизов на алкоголь, который обеспечивал основную часть княжеских доходов; представители городов были также исключены из Главной налоговой коллегии (Obersteuercollegium ), которая с 1570-х гг. осуществляла сбор налогов в Электорате.
В таком социально-экономическом контексте династия Веттинов была в состоянии накопить богатства и силу без прямой атаки на сословия или значительного развития бюрократического правительства. Она никогда не отказывалась от верховных судебных прерогатив и контролировала большой и независимый доход от горных промыслов, составлявший около 2/3 камеральных поступлений Альбертинов в 1530-е гг., в то время как процветание региона позволяло с самого начала собирать одновременно выгодные и умеренные налоги [338] . Поэтому неудивительно, что Саксония стала первым княжеским государством, которое в эпоху Реформации политически доминировало на германской арене. Электорат Эрнестинов был религиозной колыбелью лютеранства начиная с 1517 г., но именно герцогство Альбертинов, которое не переходило в протестантский лагерь до 1539 г., стало центром сложной драмы, разыгравшейся на политических подмостках в Германии с началом Реформации. Мориц Саксонский, который наследовал герцогство в 1541 г., искусной тактикой добился быстрого преимущества над всеми соперничавшими князьями и самим императором в стремлении к династическим преимуществам и территориальным приращениям. Присоединившись к Карлу V при нападении императора на Шмалькальденскую лигу, он участвовал в уничтожении протестантских армий в битве при Мюльберге и поэтому получил большую часть земель Эрнестинов и титул электора. Организовав франко-лютеранское наступление на Карла V пять лет спустя, он разрушил надежды Габсбургов на возвращение Германии к католичеству и завершил объединение Саксонии под своим правлением. Накануне его смерти новое саксонское государство было самым мощным и процветающим княжеством в Германии. Последовали 50 лет мирного развития, в течение которых в Электорате регулярно созывались сословные собрания, а налоги постепенно увеличивались.
Однако вспышка в начале XVII в. Тридцатилетней войны застала Саксонию неподготовленной в военном и дипломатическом отношении. В то время как Бавария играла во время конфликта ведущую роль среди немецких государств, Саксония проявляла колебания и слабость, весьма напоминая в этом отношении Бранденбург. Хотя оба электора – Веттин и Гогенцоллерн – были протестантами, на начальной стадии войны они оказались в имперском лагере Габсбургов; оба княжества были впоследствии оккупированы и опустошены шведами и вынуждены войти в антигабсбургский блок; оба изменили ради сепаратного мира с императором. По Вестфальскому миру Саксония присоединила Лужицу, а князья учредили военный налог, который использовался ими для создания небольшой постоянной армии. Богатство страны позволило сравнительно быстро ликвидировать негативные последствия Тридцатилетней войны. В 1660–1690 гг. прямые налоги возросли в 5–6 раз. Военная машина государства Веттинов увеличилась до 20 тысяч человек к концу века, когда она вместе с аналогичным баварским контингентом участвовала в освобождении Вены от турок. В 1700 г. Саксония как восточногерманское государство все еще имела преимущество перед Бранденбургом. Ее армия была несколько меньше, а ее система сословий не была сокрушена. Однако ее население было вдвое больше, она была лучше промышленно развита и обладала пропорционально большей казной. В начале XVIII в. Саксония попыталась претендовать на политическое господство в системе германских государств. В 1697 г. электор Фридрих Август I принял католичество, чтобы заручиться поддержкой Австрии своей кандидатуры на польский престол. Это оказалось успешным ходом. Электор стал первым немецким правителем, получившим королевский титул как Август II, и обрел политические права на соседнюю Польшу, отделенную от Саксонии только узкой лентой Силезии. В тот же период в Саксонии был успешно введен налог с продаж, несмотря на сопротивление сословий. Важно и то, что саксонский акциз – в отличие от бранденбургского – был распространен с городов также на село, за счет аристократии [339] . Армия увеличилась до 30 тысяч человек, что близко к размерам армии Бранденбурга.
Однако польско-саксонский союз был достигнут как раз в такой момент, чтобы последняя конвульсия шведского империализма разбила его. Карл XII вступил в Польшу, изгнал Августа II из страны и затем в 1706 г. сам вторгся в Саксонию, сокрушив армию Веттинов и подвергнув герцогство безжалостной оккупации. Победа России над Швецией на Украине все же восстановила международные позиции Саксонии к концу Великой Северной войны. Августу II был возвращен королевский трон в Польше; в 1730 гг. была восстановлена армия; сословия заметно теряли свое влияние. Но показной блеск государства Веттинов, имевший место в барочном изяществе их столицы Дрездена, больше не соотносился с внутренней мощью. Связь с Польшей была лишь красивой приманкой, которая принесла больше расходов, чем приобретений, из-за фиктивного характера шляхетской монархии; Саксонское правление было приемлемым только потому, что Россия и Австрия точно рассчитали: дом Веттинов – слишком незначительный, чтобы быть опасным соперником. Война нанесла огромный ущерб экономике герцогства. Более того, в отличие от «фельдфебеля на троне» в Берлине, Август II был печально известен расточительностью своего двора наряду с военными амбициями. Это бремя в крайней степени ослабило Саксонию в те годы, когда Пруссия аккумулировала материальные средства для спора за лидерство в Германии. Население Саксонии, составлявшее в 1700 г. 2 миллиона человек, к 1720 г. уменьшилось до 1700 тысяч или около того, в то время как в Пруссии оно увеличилось с 1200 тысяч в 1688 г. до 2250 тысяч в 1740 г.: демографическое соотношение между двумя государствами изменилось на противоположное [340] . В течение столетия саксонская знать демонстрировала весьма скромное рвение к поддержке предприятий электора заграницей и проигрывала земельный рынок бюргерам дома. Сословия выжили, частично из-за отвлечения внимания династии на Польшу, а внутри них выросло значение городов. Бюрократическая машина государства оставалась нестройной, менее развитой, чем в Баварии. При отсутствии финансовой дисциплины княжеские финансы были обременены долгами. Результатом стало то, что саксонский абсолютизм, несмотря на его многообещающее начало и склонность к автократии сменявших друг друга правителей династии Веттинов, никогда не достигал настоящей прочности и устойчивости; социальная структура была очень нестабильной и смешанной по характеру.
Теперь становится возможным понять, почему именно Бранденбург был избран для господства в Германии. Происходило последовательное устранение альтернатив. Повсюду в Европе абсолютистское государство в своей основе было политическим механизмом аристократического правления: социальная власть знати была основным источником его существования. На раздробленном пространстве постсредневековой Империи (Reich) достигнуть когда-либо дипломатического или военного лидерства в Германии могли только те регионы, в которых имелся экономически сильный и стабильный класс землевладельцев: они одни могли породить абсолютизм, способный сравниться с великими европейскими монархиями. Поэтому западная Германия была отстранена от соревнования с самого начала из-за плотности ее городской цивилизации. Бавария не имела городов чрезвычайной важности и развивала ранний абсолютизм под знаком Контрреформации; однако для того, чтобы основать динамичное княжество, баварская знать была слишком слабой, клир слишком богатым, а крестьяне – слишком свободными. В Саксонии была более крупная аристократия, но ее города также были весьма сильными, а ее крестьяне – не более готовыми к крепостничеству. К 1740 г. Оба государства прошли пик своего могущества. Напротив, в Пруссии юнкерский класс поддерживал железное рабство своих сословий и неусыпный патронаж над городами; в землях Гогенцоллернов, в самых отдаленных немецких поселениях на востоке, власть феодалов достигла своего чистейшего выражения. Поэтому не внешняя граница Пруссии с Польшей предопределила ее подъем внутри Германии, как считал Энгельс [341] . В действительности, как мы уже видели, связь с Польшей (по выражению Энгельса) была одной из причин упадка Саксонии; поздняя роль Пруссии в разделах Польши была скорее эпилогом решающих военных побед, которые уже были одержаны внутри самой Германии, и мало повлияла на укрепление ее международного положения. Существовала внутренняя природа прусского социального порядка, которая объясняет неожиданное затмение ею всех прочих германских государств в эпоху Просвещения и конечное главенство в объединении Германии. Это восхождение было предопределено комплексом исторических условий Империи, которые предотвратили возникновение западного типа абсолютизма в Рейнланде, раскололи территорию Империи почти на 2 тысячи политических единиц и оттеснили Австрийский дом к его негерманским границам. Ключевой внешней силой, определившей соответствующие судьбы Пруссии и Австрии внутри Германии, была не Польша, а Швеция. Именно шведская мощь разрушила надежды на габсбургское объединение Империи в период Тридцатилетней войны, и именно близость Швеции, главной внешней угрозы, создавала центростремительное давление на конструкцию государства Гогенцоллернов. Ни Бавария, ни Саксония, ни другие восточногерманские государства никогда не испытывали этого давления в такой же степени, хотя Саксония не избежала участи стать последней жертвой северного милитаризма. Способность Пруссии противостоять шведской экспансии и победить любого соперника внутри Германии должна быть, в свою очередь, отнесена к особенностям самого юнкерского класса, консолидированного на прозрачной классовой основе династического абсолютизма Великим электором и «фельдфебелем на троне».
Начнем с того, что сами размеры страны в конце XVII – начале XVIII в. оказали свое влияние на прусскую аристократию. Объединенные земли Гогенцоллернов на Востоке – Бранденбург, Восточная Пруссия и позднее Западная Померания – были все еще малы по размеру и редко населены. Их совокупное население в 1740 г. было меньше 2 миллионов человек, если исключить западные анклавы династии; относительная плотность населения была, вероятно, в 2 раза меньше, чем в Саксонии. Одним из наиболее постоянных мотивов государственной политики, начиная с Великого электора, был поиск иммигрантов для колонизации малонаселенного региона. В этом отношении протестантский характер Пруссии оказался крайне важным качеством. В первые годы ее заселяли беженцами из Южной Германии после Тридцатилетней войны и гугенотами после Нантского эдикта, затем голландцами, немцами и снова французами в правление Фридриха II. Однако нельзя забывать, что по сравнению с основными европейскими монархиями того времени вплоть до завоевания Силезии Пруссия была крайне бедной страной. Этот провинциальный масштаб усиливал некоторые характерные черты юнкерского класса. Прусская аристократия отличалась от европейской знати преимущественно тем, что она не включала спектра разнообразных уровней богатства; мы увидим, как польская шляхта, похожая во многих других отношениях, была в этом ее полной противоположностью. Так, среднее рыцарское имение (Rittergüter) – феодальное, ориентированное на рынок, землевладение прусского дворянства – было среднего размера. Не существовало слоя великих магнатов с огромными латифундиями, намного превосходящими собственность мелкого дворянства, как это было в большинстве европейских стран [342] . К середине XVI в. старое сословие господ (Herrenstand ) – высшей знати – утратило свою доминирующую роль в общей массе рыцарства [343] . Единственным действительно крупным земельным собственником была сама монархия: в XVIII в. королевские поместья занимали треть всех пахотных земель [344] . Для юнкерского класса это положение имело два важных следствия. С одной стороны, он был в социальном плане разделен меньше, чем большая часть европейской аристократии; он образовал в целом сплоченный блок средних землевладельцев, не имевших серьезных региональных различий. С другой стороны, это означало, что обычно юнкер выполнял непосредственную функцию в организации производства в тот период, когда он не был призван на службу. Другими словами, он был почти всегда реальным, а не номинальным, управляющим своего поместья (особенности местожительства прусского дворянства естественным образом способствовали этой тенденции, так как городов было мало, и они были далеко расположены). Феномен отсутствующих землевладельцев, делегировавших административные полномочия в поместьях управляющим и дворецким, не был здесь распространен. Если относительное равенство богатства отличало юнкеров от их польских коллег, то бережливость в управлении имениями отделяла их от русской знати. Дисциплина экспортного рынка, несомненно, стимулировала к более рациональному управлению имением (Gutherschaft). Таким образом, в конце XVII – начале XVIII в. прусские юнкеры были компактным общественным классом в маленькой стране с суровыми традициями аграрного предпринимательства. Поэтому, когда Великий электор и Фридрих-Вильгельм I строили новое абсолютистское государство, оригинальные черты прусского дворянства произвели на свет единственную в своем роде (sui generis) административную структуру.
В отличие от любого другого абсолютизма прусская модель оказалась способна продуктивно использовать традиционные представительские институты аристократии после уничтожения их центрального института. Представительный орган провинциальных сословий, Ландтаг, как мы уже видели, постепенно терял силу после 1650-х гг.; последняя настоящая сессия бранденбургского ландтага 1683 г. была в основном посвящена стенаниям по поводу всемогущества Главного военного комиссариата. Но местные «окружные» сословия или Kreistage превратились в основной бюрократический элемент в сельской округе. Начиная с 1702 г. эти юнкерские советы избирали кандидатов из местной знати на пост начальника окружного управления (Landrat), один из которых затем формально назначался монархией. Институт ландрата, который наделялся всеми административными, фискальными и военными полномочиями в сельских округах в некоторой степени похож на институт мирового судьи в Англии в его ученом компромиссе между автономным самоуправлением мелкого дворянства и унитарной властью централизованного государства. Но сходство вводит в заблуждение, так как разделение сфер в Пруссии было основано на крепостном труде.
Формально крепостничество могло принимать в Пруссии две формы. Крепостное состояние (Leibeigenschaft) было наследственным личным подчинением для крестьян без каких-либо гражданских прав и прав на собственность; крепостные могли быть проданы без земли. Другая форма крепостного права —Erbuntertänigkeit – была состоянием наследственной зависимости имущества с минимальными юридическими правами, но прикреплением к имению и обязательными повинностями господину дома и в поле. На практике между обеими было мало различий. Поэтому государство не имело прямой юрисдикции над всей массой сельского населения, которым управляли юнкеры в своих поместьях (Gutsbezirke) под наблюдением ландрата; их налоги – 2/5 крестьянского дохода – собирались напрямую их господами [345] . С другой стороны, города и собственно королевские поместья управлялись профессиональной бюрократией, которая была инструментом абсолютизма. Тщательная система сборов и контроля миграции регулировала передвижение людей и товаров из одного сектора в другой этой двойной администрации.
Сама военная каста, как мы видели, в подавляющем большинстве сформирована из дворянства: в 1739 г. все 34 генерала, 56 из 57 полковников, 44 из 46 подполковников и 106 из 108 майоров были аристократами [346] . Высшая гражданская бюрократия также все больше и больше рекрутировалась из юнкерского класса. «Фельдфебель на троне» заботился о балансе между знатью и бюргерами в провинциальных палатах, но его сын намеренно продвигал аристократов за счет функционеров из среднего класса. Строго коллегиальные принципы управляли организацией такой гражданской службы, основной ячейкой которой был «совет» ответственных чиновников, а не одно должностное лицо, система, хорошо продуманная, чтобы утвердить коллективную ответственность и неподкупность среди лютеранской знати [347] . Замечательная дисциплина и эффективность этих институтов были отражением единства класса, из которого они формировались. Внутри государственного аппарата не было соперничества грандов и их клиентуры; коррупция среди чиновников была минимальной из-за незначительности городов; до Фридриха II (который импортировал Regie —государственную монополию – из Франции) не было даже откупов, потому что дворянству самому доверялся сбор налогов с их крестьян в деревне, а городское налогообложение контролировалось профессиональными налоговыми инспекторами ( Steuerräte ), в то время как королевские имения сами обеспечивали огромные доходы в казну. Прусские юнкеры столь твердо господствовали в государстве и обществе XVIII в., что они не чувствовали необходимости внедрения его западных аналогов; Фридрих II пытался ввести майорат, чтобы консолидировать аристократические поместья, но его идеологическое рвение не нашло поддержки от землевладельцев, которые сохраняли даже древнее феодальное правило коллективного согласия родственников на семейные займы [348] . Им не угрожало усиление власти буржуазии, постепенно захватывающей открытый земельный рынок, и поэтому они не чувствовали необходимости защищать свой социальный статус путем лишения наследства своих младших детей: поместья юнкеров обычно делились после смерти собственников (что, в свою очередь, помогало сохранять их размеры маленькими). Свободный от внутренних противоречий, возвышающийся над городами, господин своих крестьян, – прусский землевладельческий класс был невозмутим и пребывал в большем согласии со своим государством, чем где-либо в Европе. Бюрократическое единство и сельская автономия совпали в этом капустном раю. Юнкерский абсолютизм, построенный на этом фундаменте, содержал гигантский потенциал для экспансии.
В 1740 г. умерли Фридрих-Вильгельм I и император Карл VI. Прусский наследник Фридрих II немедленно нацелился на Силезию. Эта богатая провинция Габсбургов была быстро занята армией Гогенцоллерна. Франция использовала возможность, чтобы обеспечить прусскую поддержку баварскому кандидату на императорский престол. В 1741 г. герцог Карл-Альберт Виттельсбах был избран императором, а франко-баварские войска вторглись в Богемию. Военные цели Пруссии не включали восстановление баварского главенства в Южной Германии или доминирования Франции в Империи. Фридрих II, одержав победу над Австрией на полях сражений, затем, в 1742 г., подписал сепаратный мир с Веной, оставивший Силезию во владении Пруссии. Военное возрождение Габсбургов в борьбе против Франции и союз Саксонии с Австрией предопределили возвращение Пруссии в военные действия два года спустя, для защиты своих завоеваний. Саксония была разгромлена и разграблена; австрийские армии были остановлены после тяжелых сражений. В 1745 г. международный конфликт исчерпал себя после восстановления имперского достоинства и королевства Богемии за наследницей Габсбургов Марией Терезией и закрепления за Гогенцоллернами силезского завоевания. Победы Фридриха II в войне за Австрийское наследство, долго готовившиеся работой его предшественников, были стратегически поворотным пунктом в европейском возвышении прусского абсолютизма, превратив его впервые в победоносную державу в Германии. В действительности, Берлин одновременно выиграл борьбу у Мюнхена, Дрездена и Вены. Последний шанс Баварии на политическую экспансию был потерян; саксонские армии были разбиты наголову, а Австрийская империя лишилась наиболее развитой в промышленном отношении провинции в Центральной Европе, включавшей центр торговли Бреслау. Напротив, захват Силезии увеличил численность населения Пруссии в одно мгновение на 50 %, доведя его до 4 миллионов Жителей, и впервые сделал ее относительно развитым регионом на востоке с долгой традицией городских текстильных мануфактур. Феодальный порядок в Пруссии в целом не был серьезно изменен этим расширением территории, так как все-таки основная масса сельского населения Силезии находилась, не меньше чем в Бранденбурге, в крепостном состоянии (Erbuntertänigen). Только местная знать владела большими поместьями. В действительности, захват Силезии был, вероятно, в относительном смысле самым важным и выгодным присоединением, которое совершила какая-либо европейская континентальная держава той эпохи [349] .
Именно успехи Пруссии в 1740–1745 гг, которые предвещали решительное изменение баланса сил, объясняют исключительный масштаб коалиции, созданной против нее в следующее десятилетие австрийским канцлером Кауницем. Реванш должен был уравновесить чудовищность переворота: к 1757 г. «дипломатическая революция» Кауница объединила против Пруссии Австрию, Россию, Францию, Швецию, Саксонию и Данию. Общая численность населения этих держав, по меньшей мере, в 20 раз превышала намеченную жертву их альянса; целью коалиции было никак не меньше, чем стереть прусское государство с карты Европы. Окруженный со всех сторон, Фридрих II в отчаянии ударил первым, инициировав вторжением в Саксонию Семилетнюю войну. Последовавшая затем ожесточенная борьба была первой по-настоящему общеевропейской войной, в которую одновременно были вовлечены все великие державы от России до Англии и от Испании до Швеции, так как континентальный конфликт соединился с морским и колониальным конфликтом между Британией и Францией. Прусская военная машина, управляемая Фридрихом II, на этот раз состоявшая из армии в 150 тысяч солдат, пережила крупные неудачи и поражения, но закончила войну с минимальным перевесом побед над всеми противниками. Отвлекающие Францию кампании, финансируемые Англией в Вестфалии, и финальный выход России из коалиции стали ключевыми факторами «чуда» Бранденбургского дома. Но истинный секрет прусской устойчивости заключался в блестящей эффективности ее абсолютизма; государственная структура, которая была предназначена Кауницем для быстрого и полного разрушения, на практике показала гораздо больше возможностей выдержать экономическое и логистическое напряжение войны, чем неупорядоченные империи, выстроившиеся против нее на востоке. По мирному договору 1763 г. ни одна территория не сменила своего владельца. Силезия осталась провинцией Гогенцоллернов, а Вена закончила войну в более тяжелом финансовом состоянии, чем Берлин. Отражение большого наступления Австрии стало доказательством окончательного поражения габсбургского оружия в Германии; более серьезные последствия этих событий стали очевидными только позднее. Саксония, повторно и безжалостно разоренная Фридрихом II, должна была покрыть половину всех военных расходов Пруссии; теперь она погрузилась в непоправимую политическую ничтожность, потеряв через несколько месяцев после мирного договора свой польский медальон. Пруссия, хотя и не приобрела новых территорий и не выиграла решающих кампаний, в германском равновесии стратегически стала сильнее после Семилетней войны, чем была до нее.
Между тем цели внешней политики Фридриха II были достигнуты за счет его деятельности в области внутреннего управления. Монархия сознательно заполнила аристократией высшие эшелоны бюрократии и армии. Фон Кокцеи реформировал суд, и с продажностью в юридической системе в основном было покончено [350] . Экономику поощряли с помощью государственных программ как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Создавались мелиоративные системы в деревне, осваивались и заселялись земли, улучшалась транспортная система. Учреждались государственные мануфактуры, развивалось судостроение и горное дело, а также развивалось текстильное производство. Впервые в Европе проводилась систематическая «переселенческая» политика с зарубежными центрами по привлечению иммигрантов [351] . Фридриху II также принадлежит заслуга одного смелого нововведения прусского абсолютизма, которому было предназначено иметь далеко идущие последствия в следующем столетии, хотя в момент принятия оно осталось на бумаге: учреждение в 1763 г. обязательного начального образования для всего мужского населения введенное Всеобщим школьным уставом (Generallandschulreglement). С другой стороны, действия по защите крестьян от угнетения и сгона с земли со стороны помещиков были мотивированы в основном страхом перед сокращением годных к военной службы людских ресурсов и показали свою неэффективность. Ипотечные банки для оказания помощи стесненным землевладельцам, хотя и подозрительно воспринимавшиеся юнкерским классом при их создании, в будущем стали очень важны. Государственные финансы, тщательно контролировавшиеся и действительно отделенные от любых придворных расходов, значительно увеличились, несмотря на войны этого царствования. Ежегодные королевские доходы выросли в 3 раза с 7 до 23 миллионов талеров (1740–1786), а резервы – в 5 раз с 10 до 54 миллионов [352] . Подавляющая часть государственных расходов, конечно, тратилась на армию, которая в правление Фридриха II выросла с 8о до 200 тысяч – самое высокое соотношение к количеству населения в сравнении с любой европейской страной; количество иностранных полков – нанятых или набранных добровольно за рубежом – намеренно увеличивалось, чтобы сохранить небольшое производительное население дома. Раздел Польши в 1772 г. по соглашению с Россией и Австрией присоединил Западную Пруссию и Эрмланд к владениям Гогенцоллернам на востоке, объединив их в единый территориальный комплекс и увеличив демографический потенциал государства. Совокупное население Пруссии удвоилось с 2,5 до 5,4 миллиона человек к концу правления [353] . В международном плане после Семилетней войны военная репутация прусского абсолютизма была теперь столь внушительной, что Фридрих II смог эффективно диктовать решение двух главных кризисов внутри Германии в следующие десятилетия без какого-либо серьезного столкновения. В 1778–1779 гг. и еще раз в 1784–1785 гг. Австрия попыталась возместить свои потери в Германии за счет обмена Южных Нидерландов на Баварию, дважды достигая взаимопонимания в этом вопросе с электором из династии Виттельсбахов. Объединение Баварии и Австрии могло изменить историю Германии, сделав династию Габсбургов невероятно сильной на Юге, и снова повернуть всю политическую ориентацию Вены исключительно на Империю. В обоих случаях прусского вмешательства было достаточно, чтобы погубить проект. В первом случае хватило нескольких символических столкновений в Богемии. Во втором – дипломатический союз Берлина с Ганновером, Саксонией, Майнцем и другими княжествами в виде общего блока, направленного против Австрии, означал вето: «объединение князей», созданное Фридрихом II в 1785 г., за год до его смерти, провозгласило и закрепило доминирование Гогенцоллернов в Северной Германии.
Четыре года спустя разразилась Французская революция, и жизнестойкость любого старого порядка (ancien regime) в Европе, независимо от того, был ли он в политическом отношении новым, была поставлена под вопрос, когда разные исторические эпохи встретились на полях битв революционных войн. Пруссия, неудачно выступив в первой контрреволюционной коалиции против Франции на западе, не упустила возможность разделить оставшуюся часть Польши с Россией и Австрией на востоке, а затем быстро выйти из борьбы с Республикой в 1795 г. Однако час расплаты был всего лишь отложен нейтралитетом Гогенцоллернов в следующее десятилетие европейской войны. В 1806 г. нападение Наполеона подвергло величайшей проверке прусское абсолютистское государство. Его армии были разбиты под Иеной, и в Тильзите оно вынуждено было подписать мирный договор, который свел его до статуса сателлита. Оно было лишено всех территорий к западу от Эльбы, французские гарнизоны заняли крепости, на Пруссию была наложена огромная контрибуция. Это был кризис, который породил «эпоху реформ». Вот именно в этот момент величайшей угрозы и собственной слабости прусское государство смогло опереться на замечательный запас политических, военных и культурных талантов, чтобы выжить и обновить свою структуру. На самом деле, многие талантливые реформаторы происходили и Западной и центральной Германии, в социальном отношении областей более развитых, чем сама Пруссия. Штейн – политический лидер антинаполеоновского движения – был имперским рыцарем из Рейнланда. Гнейзенау и Шарнхорст – архитекторы новой армии – соответственно из Ганновера и Саксонии. Фихте, философ – идеолог «освободительной войны» против Франции, проживал в Гамбурге. Гарденберг, внесший наибольший вклад в завершение реформ, был ганноверцем [354] . Смешанное происхождение реформаторов было первым знаком новой эпохи. С этого времени прусский абсолютизм испытал возвращение надежд и глубокие изменения в характере благодаря своей культурной и территориальной близости с остальной Германией. С момента появления Наполеона у ворот Берлина больше не было никакой возможности для государства Гогенцоллернов развиваться в замкнутом сосуде (еп vase close). Тем не менее в тот период импульс реформ еще не был столь силен. Штейн – эмигрант-франкофоб под влиянием Монтескье и Берка осуществлял планы гражданского равенства, аграрных реформ, местного самоуправления и националистической мобилизации против Наполеона. За год своей службы (1807–1808) он упразднил теперь ставшее обременительным Верховное управление ( Generaldirektorium) и учредил систему министерств со специальными департаментами, созданную по образцу французской монархии, в то время как особые чиновники были направлены из столицы надзирать за делами в провинции. На практике результатом стала усилившаяся централизация всего государственного аппарата, только номинально ограниченная дарованием городам начал муниципальной автономии. В деревне крепостное право было формально отменено, а трехсословная юридическая система аннулирована. Такая политика из-за своего «радикализма» встретила сильнейшую оппозицию среди юнкерского класса; и, когда Штейн начал бороться с наследственной юрисдикцией и фискальным иммунитетом знати, а также планировать всеобщий призыв для борьбы с Францией, его быстро уволили со службы.
Затем его преемник Гарденберг, придворный политик, приложил отмеренную дозу законов для модернизации прусского абсолютизма и класса, который он представлял, вдохнув в них силы без изменения естественной природы феодального государства. Аграрная «реформа» воплощалась с 1810 по 1816 г. таким образом, что село еще больше впало в нищету. В обмен на юридическое освобождение крестьяне лишились 1 миллиона гектаров земли и 260 миллионов марок в качестве «компенсации» за свою свободу их бывшим господам [355] . Сгон крестьян с земли ( Bauernlegen) объективно был формой их экспроприации. Общинные земли и система трехполья были уничтожены, что повлекло за собой увеличение господских земель и стремительный рост числа безземельных батраков, удерживаемых в распоряжении юнкеров строгими юридическими ограничениями. Одновременно Гарденберг расширил доступ к землевладению для буржуазии (теперь она могла приобретать поместья) и к профессиональным занятиям для знати (теперь они не лишались статуса, занимаясь правом или предпринимательством). Тем самым жизнеспособность и гибкость юнкерского класса повысились без каких-либо потерь в привилегиях. Попытка свести на нет роль ландрата была быстро пресечена аристократией, и традиционные окружные собрания остались переформированными на деле; контроль знати в сельской местности еще и усилился из-за распространения власти ландратов на городки в сельской местности. Феодальные повинности существовали еще долго после отмены крепостного права. Освобождение от земельного налога дворянских поместий сохранялось до 1861 г.; юрисдикция помещичьей полиции – до 1871 г.; юнкерская монополия на окружную администрацию – до 1891 г. В городах Гарденберг отменил цеховые монополии, но не смог уничтожить фискальный дуализм; в это же время Гумбольдт радикально расширил и модернизировал государственную систему образования от начальных народных школ ( Volksschule) до основания нового университета в Берлине. Между тем Шарнхорст и Гнейзенау организовали систему резерва, чтобы обойти послетильзитские статьи, ограничивавшие создание прусской армии, «демократизируя» рекрутский набор, но одновременно тем самым усиливая институциональную милитаризацию всего общественного порядка. Были обновлены полевые уставы и обучение тактике. Командные должности были формально сделаны открытыми для набора из буржуазии, но офицеры могли запретить новые назначения в их полках – гарантия того, что юнкерский контроль не подвергался опасности [356] . Конечным итогом эпохи реформ было укрепление, а не ограничение королевского государства в Пруссии. Тем не менее примечательно, что именно в этот период юнкерский класс – наиболее лояльная знать в Европе периода трудного роста абсолютизма XVII–XVIII вв. (только этот класс никогда не прибегал к гражданскому неповиновению монархии) – впервые стал громко роптать. Угроза реформаторов его привилегиям, хотя вскоре и была устранена, пробудила идеологическую оппозицию сознательно-неофеодального характера. Фон Марвиц, лидер бранденбургской оппозиции Гарденбергу, открыто атаковал и абсолютизм, и парламентаризм во имя давно забытого сословного устройства, существовавшего до Великого электора. С этого времени в Пруссии всегда существовал желчный юнкерский консерватизм, часто противопоставлявший себя монархии – настроение, любопытным образом отсутствовавшее в период между XVII и XIX в.
Общий итог реформ позволил Пруссии полноправным образом участвовать в последней коалиции, которая нанесла поражение наполеоновской Франции. Однако в сущности именно старый порядок (ancien regime) присутствовал на Венском конгрессе в компании своих соседей – Австрии и России. Хотя прусские реформаторы и вызывали неприязнь Меттерниха, как почти «якобинцы», государство Гогенцоллернов было в определенных отношениях все еще менее социально развито, чем Габсбургская империя после реформ Иосифа конца XVIII в. В истории прусского абсолютизма настоящий поворотный пункт должен датироваться не от осуществления реформ, а от результатов, которые были достигнуты в мирном договоре. Чтобы предотвратить захват Саксонии и компенсировать поглощение Россией большей части Польши, союзники отдали Пруссии Рейнланд-Вестфалию на другом конце Германии – во многом против желания берлинского двора. Поступив так, они изменили все историческую траекторию прусского государства. Задуманные Австрией и Британией для того, чтобы задержать территориальное объединение в Восточно-Центральной Германии, рейнские провинции были отделены от Бранденбурга Ганновером и Гессеном, сделав владения династии Гогенцоллернов стратегически разбросанными по всей Северной Германии и возложив на нее трудные оборонительные функции против Франции на западе. Истинные последствия такого решения вопроса не предполагались ни одной стороной. Новые владения Гогенцоллернов имели численность населения, превышавшую все старые провинции, вместе взятые: 5,5 миллиона жителей на западе против 5 миллионов на востоке. Разом демографический вес Пруссии удвоился, превысив 10 миллионов человек; Бавария, второе по размеру германское государство, располагало только 3,7 миллиона человек [357] . Более того, Рейнланд-Вестфалия была одной из самых развитых областей западной Германии. Крестьяне все еще платили традиционные повинности, а землевладельцы обладали привилегией на охоту и другие права; но мелкие сельскохозяйственные предприятия серьезно укрепили свое положение, а дворянский класс обычно отсутствовал в своих поместьях, не являясь управляющими собственными хозяйствами, как это было в Пруссии. В сельских окружных (Amt) ассамблеях были представители крестьян в отличие от юнкерских окружных собраний (Kreistage). Таким образом, модель общественных отношений в деревне была намного мягче. К тому же в новых провинциях имелось большое число процветавших городов с долгими традициями муниципальной автономии, торгового обмена и производственной деятельности. Но гораздо важнее, был, конечно, тот факт, что из-за его природных ресурсов, тогда еще не использовавшихся, региону было предопределено стать самой мощной промышленной зоной в Европе. Тем самым военные приобретения феодального прусского государства включили естественный центр германского капитализма.
Превращение нового сложного государства в объединенную Германию в течение XIX в., в сущности, является частью цикла буржуазных революций, который будет проанализирован в другой работе. Здесь достаточно выделить три ключевых аспекта социально-экономической эволюции Пруссии, которые сделали позже возможным успех программы Бисмарка. Во-первых, на всем востоке аграрная реформа Гарденберга 1816 г. привела к быстрому и впечатляющему развитию всего зернового хозяйства. Освободив земельный рынок, реформа в деревне постепенно отсеяла неумелых и отягощенных долгами юнкеров. Соответственно, число буржуазных инвесторов в земельные владения увеличилось, появился слой процветающих фермеров-крестьян, или Grossbauern, а также заметная рационализация аграрного управления: к 1855 г. 45 % дворянских имений в шести восточных провинциях имели неаристократических владельцев [358] . В то же время те юнкеры, которые остались, отныне превратились во владельцев более крупных и более продуктивных имений, увеличенных покупкой у таких же дворян и сгоном крестьян с общинных земель и мелких владений. В 1880-е гг. 70 % крупнейших аграрных владений (свыше 1000 га) принадлежали дворянству [359] . Весь аграрный сектор вступил в фазу роста и процветания. Одновременно росла урожайность и засевались новые площади; за 1815–1864 гг. в заэльбской Пруссии каждый из этих показателей вырос в 2 раза [360] . Новые латифундии теперь возделывались наемными рабочими и все больше превращались в традиционные капиталистические предприятия. Однако эта работа по найму продолжала регулироваться Положением о дворовых слугах (Gesindeordnung ), которое просуществовало до XX в. и оказало влияние на беспощадную для сельскохозяйственных рабочих и домашней прислуги дисциплину поместья с заключением под стражу за забастовку и строгими ограничениями на передвижение. Сгон крестьян с земли не означал исхода из деревни: он порождал огромный сельскохозяйственный пролетариат, численность которого росла по мере роста производительности, помогая удерживать низкую зарплату. Тем самым юнкерская аристократия достигла успешного перехода к капиталистическому сельскому хозяйству, в то же время используя все патриархальные привилегии, которые она смогла сохранить. «Дворяне легко совершили переход от феодального к капиталистическому сельскому хозяйству, в то время как огромному числу крестьян было позволено тонуть в очистительных водах экономической свободы» [361] .
В тот же период прусская бюрократия выполнила основную работу по наведению мостов между восточной аграрной экономикой и промышленной революцией, происходившей в то же время в западных провинциях. В начале XIX в. гражданская служба (которая в традиционных владениях Гогенцоллернов всегда была профессиональным убежищем для слаборазвитого среднего класса, хотя последний никогда и не доминировал в ее высших эшелонах) способствовала постепенному учреждению Таможенного союза ( Zollverein ), объединившим большую часть Германии с Пруссией в единую торговую зону. Министры финансов Фон Мотц и Маасен являлись архитекторами этой выстраивавшейся с 1818 по 1836 г. системы, которая, в сущности, исключила Австрию из германского экономического развития и коммерчески связала малые государства с Пруссией [362] . Строительство железных дорог после 1830-х гг., в свою очередь, стимулировало быстрый экономический рост внутри Таможенного союза. Бюрократические инициативы также имели некоторое значение в обеспечении технологической и финансовой помощи нарождавшейся прусской промышленности (Бет, Ротер). В 1850-е гг. Таможенный союз был расширен, включив большинство оставшихся северных княжеств; стремление Австрии вступить туда позднее было искусно блокировано министром торговли Дельбрюком. Политика низких тарифов, настойчиво проводившаяся прусской гражданской службой, увенчавшаяся Парижским договором 1864 г. с Францией, была важнейшим оружием в дипломатическом и политическом соперничестве между Берлином и Веной внутри Германии; Австрия не смогла позволить себе экономическую либерализацию, что привело зависевшие от международной торговли южногерманские государства на сторону Пруссии [363] .
Вместе с тем ход германского объединения был определен бурным промышленным ростом Рура, ставшего частью западных провинций Пруссии. Рейнская буржуазия, чьи доходы составлялись из прибыли новых производств и горной добычи на западе, была в политическом отношении более честолюбивой и открытой группой, чем послушные городские жители Остэльбья. Именно выразители ее интересов – Мевиссен, Кампхаузен, Ханземан и другие – организовали и возглавили германский либерализм и боролись за буржуазную конституцию и ответственную ассамблею в Пруссии того времени. В действительности, такая программа означала конец абсолютизма Гогенцоллернов и, естественно, вызывала ожесточенную ненависть правящего юнкерского класса на востоке. Народные восстания 1848 г., поддержанные как ремесленниками, так и крестьянами, на короткое время отдали этой либеральной буржуазии министерское кресло в Берлине и предоставили идеологическую платформу во Франкфурте, до тех пор пока несколько месяцев спустя королевская армия не подавила революцию. Прусская конституция, которая была неудачным результатом кризиса 1848 г., впервые учредила национальное собрание-ландтаг, в котором одна палата была основана на трехклассовой выборной системе, откровенно гарантировав господство большой собственности, а другая формировалась в основном из наследственного дворянства, – обе без каких-либо полномочий в отношении исполнительной власти; собрание было столь ограниченным, что в среднем только около 30 % избирателей участвовали в выборах [364] . В результате рейнский капиталистический класс остался оппозиционным даже тогда, когда он получил большинство в этом символическом институте. Остэльбские юнкеры, внимательно наблюдавшие за любыми признаками слабости монархии, теперь получили полномочия поместной полиции, упраздненной в момент паники Фридрихом-Вильгельмом IV в 1848 г., и восстановленной в 1856 г. Тем самым в 1860-е гг. появился «конституционный конфликт» между либералами и государством, который выглядел как лобовое столкновение за политическую власть между старым и новым порядком.
Однако экономические основы восстановления дружественных отношений между двумя классами были заложены постепенной капитализацией восточного сельского хозяйства в период бума цен на зерно и вертикальным усилением веса тяжелой промышленности в прусском общественном устройстве в целом. К 1865 г. Пруссия производила 9/10 угля и железа, 2/3 паровых двигателей, половину текстиля и 2/3 промышленного труда в Германии [365] . Механизация германской промышленности уже превышала французскую. Бывший крайний реакционер Бисмарк, когда-то агрессивный защитник ультралегитимизма, был первым политическим представителем знати, увидевшим, что эта растущая сила может быть встроена в структуру государства и что под эгидой двух владетельных классов королевства Гогенцоллернов – прусского юнкерства и рейнского капитала– возможно объединение Германии. Победа прусской армии над Австрией в 1866 г. неожиданным образом успокоила конфликт между ними. Сделка Бисмарка с национал-либералами, благодаря которой была принята Северогерманская конституция 1867 г., оформила важный общественный договор, в действительности бывший не по нутру обеим сторонам. Три года спустя франко-прусская война с блеском завершила работу по национальному объединению. Прусское королевство превратилось в Германскую империю. Фундаментальная структура нового государства была абсолютно капиталистической. Конституция имперской Германии 1870-х гг. включала представительное собрание, избираемое всеобщим голосованием мужчин; тайное голосование; гражданское равенство, единое законодательство, единую денежную систему; светское образование и полностью свободную внутреннюю торговлю. Созданное германское государство не было каким-то «чистым» примером этого типа (ничего подобного не было в тот момент в мире) [366] . В нем были сильно заметны отпечатки феодальной природы прусского государства, которое ему предшествовало. В самом деле, в буквальном и явном виде сложное развитие, которое определяло всю конструкцию, воплотилось в архитектуре нового государства. Так, прусская конституция не была отменена; поскольку Пруссия теперь была одним из федеративных элементов Империи, она существовала внутри имперской конституции, имея собственную лишающую гражданских прав «трехклассовую» избирательную систему. Офицерский корпус ее армии, который, разумеется, составлял подавляющее большинство в имперском военном аппарате, не нес ответственности перед канцлером, а приносил клятву непосредственно императору, который контролировал его лично через собственный военный двор [367] . Вершина ее бюрократии, очищенная и реорганизованная фон Путткамером, в десятилетия после 1870 г. стала еще в большей степени прибежищем аристократии, чем когда-либо ранее. Более того, имперский канцлер не нес ответственности перед рейхстагом и мог полагаться на постоянные доходы от таможни и налогов безо всякого парламентского контроля, хотя бюджет и законы должны были одобряться рейхстагом. Некоторые меньшие фискальные и административные права, формально ограничивавшие унитаризм конституции, были оставлены под контролем различных федеральных единиц Империи.
Эти аномалии в конце XIX в. превратили германское государство в сбивающую с толку структуру. Характеристика Марксом бисмарковского государства демонстрирует смесь досады и затруднения. В известной яростной фразе, которую очень любила цитировать Люксембург, он описывает это государство как «нечто иное, как обшитый парламентскими формами, смешанный с феодальными придатками и в то же время уже находящийся под влиянием буржуазии, бюрократически сколоченный, полицейски охраняемый военный деспотизм» [368] . Склеивание эпитетов указывает на концептуальные затруднения, которые Маркс не мог преодолеть. Энгельс видел гораздо лучше, чем Маркс, что германское государство, несмотря на его специфику, теперь вошло в разряд соперников Англии и Франции. Он писал об австро-прусской войне и ее авторе: «Бисмарк считал немецкую гражданскую войну 1866 г. тем, чем она была в действительности, то е сть революцией, и <…> он был готов провести эту революцию революционными средствами» [369] . Историческим результатом войны с Австрией было то, что «именно победы прусской армии произвели решительный сдвиг во всей основе прусского государственного здания», поэтому «в общественных основах старого государства произошел полный переворот» [370] . Сравнивая бисмаркизм и бонапартизм, он прямо утверждал, что конституция, созданная прусским канцлером, была «современной государственной формой, которая предполагает устранение феодализма» [371] . Другими словами, германское государство было теперь капиталистическим механизмом, предопределенным своим феодальным предшественником, но в основе своей соответствовало общественным формам, которые к началу XX в. в большинстве своем подчинялись капиталистическому способу производства; имперская Германия вскоре стала крупнейшей промышленной державой в Европе. Поэтому прусский абсолютизм после многих превратностей превратился в другой тип государства. В географическом и социальном плане, социальном из-за географического, оно медленно продвигалось с востока на запад. Остается определить теоретические условия вероятности такой «мутации»: они будут рассмотрены в дальнейшем.
4. Польша
Противовесом возвышению Пруссии с середины XVII в. был на востоке упадок Польши. Крупнейшая страна региона, которая не смогла создать абсолютистское государство, в итоге исчезла, выразительно доказав от противного историческую рациональность абсолютизма для дворянского класса. Причины, по которым польская шляхта не смогла создать централизованное феодальное государство, кажется, не изучались в достаточной мере; катастрофа этого класса ставит проблему, которая современной историографией еще по-настоящему не решена [372] . На основе имеющихся материалов, предлагающих лишь частичный ответ, можно сделать вывод, самое большее, об отдельных важных элементах.
От позднефеодального кризиса Польша пострадала в меньшей степени, чем другие страны Восточной Европы; «черная смерть» (хотя и не другие эпидемии) в основном обошла ее стороной, в то время как опустошила ее соседей. Монархия Пястов, восстановленная в XIV в., достигла апогея своего развития после 1333 г. в правление Казимира III. С кончиной этого правителя в 1370 г. династия угасла, и королевский титул перешел к Людовику Анжуйскому, королю Венгрии. Живший слишком далеко Людовик был вынужден пожаловать польской знати в 1374 г. «Кошицкий привилей» в обмен на подтверждение права его дочери Ядвиги унаследовать его престол в Польше; в хартии, копирующей раннюю венгерскую модель, аристократии был гарантирован экономический иммунитет от новых налогов и административная автономия в ее владениях [373] . Через 12 лет Ядвига вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло, который стал королем Польши, заложив личную унию между двумя государствами. Этот союз оказал глубокое воздействие на весь последующий ход польской истории. Литовское княжество было одним из самых новых и значительных образований эпохи. Балтийское племенное общество, столь отдаленное в своих болотах и лесах, что в конце XIV в. оставалось еще языческим, вдруг превратилось в государство-завоевателя, ставшее одной из крупнейших территориальных империй в Европе. Западное давление германских военных орденов из Пруссии и Ливонии способствовало быстрому формированию централизованного княжества из племенных конфедераций Литвы; восточный вакуум, созданный подчинением пост-Киевской Руси монголами, позволил начать быструю экспансию в направлении Украины. В период правления сменявших друг друга Гедимина, Ольгерда, Ягайло и Витовта литовская держава достигла Оки и Черного моря. Население этих огромных областей было преимущественно славянским и христианским – белорусами или рутенами; господство Литвы обеспечивалось военным доминированием, превратившим местных феодалов в вассалов. Это мощное, но примитивное государство теперь было связано с меньшей, но более старой и более развитой Польшей. Ягайло принял христианство и переехал в Польшу, чтобы обеспечить унию 1386 г., в то время как его двоюродный брат Витовт остался на востоке, чтобы управлять Литвой; после принятия государя-иностранца польская шляхта добилась установления принципа, по которому монархия должна быть избираемой, хотя на практике она на последующие двести лет закрепилась за династией Ягеллонов.
Новый Польско-Литовский союз вскоре продемонстрировал свою увеличившуюся силу и динамизм. В 1410 г. Ягайло нанес историческое поражение при Грюнвальде тевтонским рыцарям, что стало поворотным моментом в судьбе ордена в Пруссии. В середине века, когда местные немецкие сословия подняли восстание против правления Ордена, Польша возобновила наступление на Пруссию. В 1466 г. решительной победой Ягеллонов завершилась Тринадцатилетняя война. Согласно второму Торуньскому мирному договору, Польша присоединила Западную Пруссию и Эрмланд, Восточная Пруссия стала польским фьефом, которым в качестве вассала управлял Великий магистр Тевтонского ордена, отныне обязанный присягать на верность и военную службу польской монархии. Мощь Ордена была заметно подорвана, а Польша получила территориальный выход к Балтике. Данциг, главный порт всего региона, превратился в автономный город со специальными муниципальными правами, подчинявшийся польской королевской власти. Казимир IV, победитель в войне, правил самым большим на континенте государством.
А тем временем внутри самой Польши, в конце XV в. наблюдается усиление политических и общественных позиций дворянства за счет монархии и крестьян. Чтобы обеспечить наследование своего сына, в 1425 г. Ягайло пожаловал в «Бжецком привилее» принцип neminem captivabimus – юридический иммунитет от ареста по произволу. Казимир IV, в свою очередь, был вынужден пойти на дальнейшие уступки землевладельческому классу. Долгая борьба периода Тринадцатилетней войны сделала необходимым наем войск из всей Европы. Чтобы получить денежные средства для оплаты наемников, в 1454 г. король пожаловал аристократии «Нешавский привил ей», который создавал основу для регулярных conventiones particulares (сеймиков), которые должны были проводиться дворянством в их округах; отныне никакие войска и налоги не могли собираться без их согласия [374] . В правление его сына Яна Ольбрахта в 1492 г. было учреждено общенациональное собрание или сейм, который был связан с провинциальными и окружными собраниями (сеймиками) землевладельческого класса. Сейм представлял двухпалатное собрание, состоявшее из палаты депутатов и сената; первая формировалась путем избрания депутатов от сеймиков, вторая состояла из высших церковных деятелей и светских сановников государства. Города не были представлены ни в одной палате; появившаяся тогда польская сословная система была исключительно аристократической [375] . В 1505 г. Радомская конституция формально освятила власть сейма: закон nihil novi лишил монархию права издавать законы без согласия сословий, а власть королевских чиновников была предусмотрительно ограничена [376] . Но созыв сейма все же остался прерогативой монархии.
Именно в этот период было также введено юридическое закрепощение крестьян. Петрковскиие статуты 1496 г. ограничили трудовое передвижение из деревень одним крестьянином от каждой общины раз в год. Дальнейшие дополнительные меры закрепощения принимались в 1501,1503,1510 и 1511 гг., что было признаком затруднений при их выполнении. Наконец, в 1520 г. последовал указ о феодальных повинностях, который устанавливал барщину для польского włoka, или крепостного, до 6 дней в неделю [377] . Крепостное состояние крестьян, которое в течение XVI в. становилось все более жестким, заложило основу нового процветания шляхты. Дело в том, что польская знать получала большие доходы от бума балтийской торговли зерном, чем какая-либо другая социальная группа в регионе. По мере того как помещичье хозяйство сталкивалось с увеличением спроса на экспортном рынке, крестьянские участки становились все меньше. Во второй половине столетия объем зерновых, экспортируемых из страны, удвоился. В период расцвета торговли зерном в 1550–1620 гг. инфляция на Западе обеспечила землевладельческому классу огромные неожиданные доходы от условий торговли. В более длительной перспективе подсчитано, что в 1600–1750 гг. объем рыночной продукции магнатов утроился, дворянства – удвоился, в то время как у крестьян упал [378] . Однако эти доходы не были полезным образом реинвестированы. Польша превратилась в житницу Европы, но техника пашенного земледелия оставалась примитивной и обрекала на низкие урожаи. Увеличение сельскохозяйственной продукции было достигнуто скорее экстенсивными методами, особенно в пограничных землях юго-востока, чем интенсивными нововведениями в обработке земли. Кроме того, польская аристократия, более чем какой-либо другой правящий класс в Европе, использовала свое экономическое могущество для проведения систематической антигородской политики. В начале XVI в. статутами был закреплен потолок цен для местных производителей в городах, где торговые сообщества были преимущественно немецкими, еврейскими или армянскими. В 1565 г. иностранных купцов пожаловали невероятными привилегиями, результатом чего стало ослабление и разорение местных торговцев [379] . Торговое процветание того времени все еще сопровождалось ростом городов, а богатые господа основывали собственные частные города, в то время как другие дворяне превращали в деревнях кузницы в мельницы. Но в действительности повсюду муниципальная автономия городского патрициата подавлялась, а вместе с ней – и шансы на развитие промышленности. Только германский порт Данциг избежал уничтожения шляхтой средневековых городских привилегий: монополистический контроль над экспортом, который он впоследствии получил, еще сильнее задушил города в глубине материка. Все более монокультурная аграрная экономика, которая импортировала товары ремесленного производства с Запада, создала аристократический прообраз заморских владений, характерных для XIX в.
Дворянский класс, который появился на такой экономической базе, не имел параллелей в Европе. Степень эксплуатации крепостных крестьян – с трудовыми повинностями, разрешенными законом до 6 дней в неделю – уже была чрезвычайной; а в 1574 г. аристократия получила формальное право jus vitae et necis (право жизни и смерти) над своими крепостными, которое, по сути, позволяло казнить их по желанию хозяина [380] .
Знать, которая получила эти полномочия, по составу значительно отличалась от своих соседей. Поскольку в относительно отсталом и аморфном обществе раннефеодальной Польши гораздо дольше, чем где-либо, сохранилась сеть родовых кланов, верный признак дофеодальной общественной структуры, то это повлияло на характер феодальной знати, так как она в конечном итоге появилась в период отсутствия четко выраженной иерархии вассалов [381] . Когда в Средние века с Запада были позаимствованы геральдические символы, то они были приняты не отдельными семьями, а целыми кланами, чьи родовые сети и клиентелы все еще существовали в деревне. Результатом стало появление многочисленного дворянского класса, составлявшего в XVI в. примерно 700 тысяч человек, или 7–8% населения. Внутри этого класса не существовало каких-либо титулов, отличавших одну группу феодалов от другой [382] . Но это юридическое равенство, не имевшее где-либо в Европе раннего Нового времени ничего похожего, сопровождалось таким экономическим неравенством, которое также не имело ничего подобного где-либо в то время. Большая масса шляхты, возможно более половины ее численности, обладала мелкими владениями в размере 10–20 акров, часто не больше, чем средний участок крестьянина. Эта социальная группа была сконцентрирована в старых провинциях западной и центральной Польши; например, в Мазовии она составляла, вероятно, Vs всего населения [383] . Другая значительная часть знати являлась мелкими дворянами с небольшими поместьями, состоявшими не более чем из одной-двух деревень. Однако бок о бок с нею номинально внутри того же сословия существовали самые крупные в Европе магнаты с колоссальными латифундиями, в основном располагавшимися на литовском или украинском востоке страны. Так как в этих новых землях, доставшихся в наследство от литовской экспансии XIV в., не произошло соизмеримой геральдической диффузии, высшая аристократия всегда сохраняла характер касты небольших владетелей, возвышающихся над этнически чуждым крестьянством. Литовская знать в течение XVI в. в культурном и институциональном отношении все больше ассимилировалась польской, по мере того как местное дворянство постепенно приобрело права, сравнимые с правами шляхты [384] . Конституционным итогом этого слияния стала Люблинская уния 1569 г., которая в конечном счете объединила два государства в одно – Речь Посполитую (Rzeczpospolita Polska) с общей денежной системой и парламентом. С другой стороны, среди массы населения восточных провинций, большинство которого оставалось православными по вероисповеданию и белорусами или рутенами по языку, никакого слияния не произошло. В итоге в этническом и языковом отношении поляками в объединенном польском государстве были менее половины жителей. «Колониальный» характер помещичьего класса на востоке и юго-востоке отражался в величине их владений. В конце XVI в. канцлер Ян Замойский был владельцем около 2 миллионов акров земли, в основном в Малой Польше, и обладал юрисдикцией над более чем 80 городами и 800 деревнями [385] . В начале XVII в. империя Вишневецких в Восточной Украине включала земли с 230 тысячами подданных, проживавших на них [386] . В XVIII в. семья Потоцких на Украине владела почти 3 миллионами акров; дом Радзивиллов в Литве обладал поместьями, которые оценивались примерно в 10 миллионов акров [387] . Поэтому в рядах польской аристократии всегда присутствовало противоречие между идеологией юридического равенства и реальностью потрясающего экономического неравенства.
И все же в XVI в., вероятно, вся шляхта получила от революции цен больше выгоды, чем какая-либо другая группа в Восточной Европе. Это была эпоха спячки Бранденбурга и упадка Восточной Пруссии; Россия расширялась, но с ужасными потрясениями и отступлениями. Напротив, Польша стала крупнейшим и богатейшим государством на Востоке. Туда приходило огромное балтийское богатство в самую благоприятную для торговли зерном эпоху. Блестящая культура польского Ренессанса – питательной почвы Коперника – была лишь одним из результатов. Но в политическом отношении трудно избежать подозрения, что ранняя и обильная удача шляхты в некотором смысле парализовала ее способность в более поздний период к конструктивной централизации. Польша, infernus rusticorum (крестьянский ад) для крестьян, представляла aurea libertas (золотую вольность) для знати; в этом дворянском раю не чувствовали никакой крайней необходимости в сильном государстве. Сравнительно безболезненный переход Польши сквозь великий экономический и демографический кризис европейского феодализма в позднее Средневековье, из которого она вышла с меньшими потерями, чем любая другая страна региона, сменился коммерческой манной небесной раннего Нового времени, что, вероятно, и подготовило политическую дезинтеграцию, наступившую позже. Кроме того, в стратегическом плане польское государство в XVI в. не сталкивалось с крупными военными угрозами. Германия погрязла в междоусобных конфликтах эпохи Реформации. Швеция все еще была небольшой державой. Россия больше распространялась в направлении Волги и Невы, чем Днепра; Московское государство, хотя начинало уже выглядеть угрожающим, оставалось незрелым, а его стабильность была хрупкой. На юге сила турецкого натиска была направлена в сторону границ Габсбургов, в Венгрию и Австрию, в то время как Польша граничила с Молдавией – слабым государством-вассалом Османской системы. Татарские набеги из Крыма, хотя и разрушительные, оставались локальной проблемой на юго-востоке. Поэтому крайней необходимости в централизованном королевском государстве, которое бы создало большую военную машину, направленную против внешних врагов, не было. Огромные размеры Польши и традиционная доблесть шляхты в качестве тяжелой кавалерии, казалось, гарантировали географическую безопасность владетельного класса.
Поэтому именно в то время, когда абсолютизм укреплялся повсюду в Европе, аристократия радикально и бесповоротно урезала полномочия польской монархии. В 1572 г. со смертью Сигизмунда Августа, оставившего престол вакантным, угасла династия Ягеллонов. Последовал международный аукцион за королевский престол. В 1573 г. 40 тысяч дворян, собравшихся на равнинах под Варшавой на ассамблею viritim (благородных), избрали королем Генриха Анжуйского. Иностранец без какой-либо связи со страной, французский принц был вынужден подписать знаменитые «Генриховы артикулы», которые отныне становились конституционной хартией Польского государства; в то же время отдельный документ, Pacta Conventa, между монархом и знатью установил прецедент личного соглашения с четкими обязывающими статьями, которые подписывал король при его восшествии на трон. По условиям «Генриховых артикулов» был очевидным образом подтвержден ненаследственный характер монархии. В действительности, сам монарх был лишен каких-либо существенных полномочий по управлению страной. Он не мог отправить в отставку гражданских или военных чиновников своей администрации или увеличить крошечную армию, 3 тысячи человек, по своему усмотрению. Согласие сейма, собиравшегося отныне каждые два года, было необходимо для любого важного политического или фискального решения. Нарушение этих ограничений делало законным восстание против монарха [388] . Другими словами, Польша превратилась во всех отношениях в дворянскую республику с номинальным королем во главе. Государством больше никогда не управляла польская династия: землевладельческий класс сознательно предпочитал французских, венгерских, шведских и саксонских правителей, чтобы сохранить слабость центральной власти. Династия Ягеллонов владела огромными наследственными землями в Литве; иностранные короли, которые стали один за другим править в Польше, не имели экономической базы внутри страны, которая бы их поддерживала. Отныне доходы и войска под командованием крупнейших магнатов были часто такими же большими, как и у самого государя. Хотя иногда избирались удачливые государи-солдаты – Баторий, Собесский, – монархия так никогда и не смогла восстановить постоянную и прочную власть. Помимо династических превратностей и этнической разнородности Польско-Литовского союза, такому аномальному исходу, вероятно, также способствовала длительная политическая традиция. У Польши не было ни имперского наследия Византии, ни государства Каролингов; ее знать не знала естественной интеграции в королевское государство, как в Киевской Руси или средневековой Германии. Клановая генеалогия шляхты была признаком этого отличия. Поэтому ее Ренессанс стал не периодом культа самодержавных монархий Тюдоров, Валуа или Габсбургов, а временем процветающей аристократической республики.
Завершающая фаза XVI в. содержала в себе некоторый намек на предстоящий кризис. Согласительные статьи (Pacta Conventa ) 1573 г. были снова подтверждены через три года, когда после бегства Генриха Французского королем Польши был избран трансильванский князь Стефан Баторий. Способный и опытный мадьярский командующий, Баторий имел личную казну и войска из собственного близлежащего княжества, относительно процветающая и урбанизированная экономика которого обеспечивала его независимыми ресурсами и профессиональной армией. Таким образом, его политическая власть в Польше опиралась на собственную территориальную базу по другую сторону Татр. Будучи католиком, он с большой осторожностью помогал Контрреформации в Польше, избегая религиозных провокаций в отношении тех слоев дворянства, которые приняли протестантизм. Помимо всего прочего, его правление было ознаменовано военными победами над Россией на Балтике. Одержав победу на поле боя над Иваном IV в 1578 г. с помощью смешанной армии из польской кавалерии, трансильванской пехоты и украинских казаков, Баторий завоевал Ливонию и прогнал русские войска за Полоцк. Первенство Польши в Восточной Европе никогда не казалось столь величественным, как к моменту его смерти в 1586 г. Следующий раз шляхта выбрала монархом шведа; им стал Сигизмунд Ваза. В его правление польский экспансионизм, казалось, достиг вершины. Используя политические и социальные волнения в России в период Смуты, Польша поддержала краткое правление Лжедмитрия (1605–1606), узурпатора, державшего в столице с помощью польских войск. Затем в 1610 г. польские войска под командованием гетмана Жолкевского снова захватили Москву и поставили царем сына Сигизмунда Владислава. Реакция русского народа и шведские контрманевры вынудили в 1612 г. польский гарнизон оставить Москву, а через год первый представитель династии Романовых была избран на царство. И все же польская интервенция в период Смуты завершилась большими территориальными приращениями по Деулинскому перемирию 1618 г., согласно которому Польша приобрела огромный пояс Белой Руси. В эти годы Речь Посполитая расширилась до своих самых больших пределов.
Однако две фатальные геополитические проблемы остались нерешенными Польским государством, несмотря на то что доблесть дворянских гусар ( husarja ) не имела себе равных на поле битвы. Обе проблемы были результатами крайнего индивидуализма польского правящего класса. С одной стороны, Польша не смогла покончить с немецким правлением в Восточной Пруссии. Победы Ягеллонов над Тевтонским орденом в XV в. низвели немецких рыцарей до уровня вассалов польской короны. В начале XVI в. была признана секуляризация Ордена его великим магистром в обмен на сохранение сюзеренитета Польши над тем, что теперь стало называться Герцогством Пруссия. В 1563 г. Сигизмунд Август, последний правитель из рода Ягеллонов, одобрил поглощение герцогства маркграфом Бранденбургским ради кратковременных дипломатических выгод. Через 15 лет Баторий продал опекунство над Восточнопрусским герцогством бранденбургскому электору по причине нехватки денежных средств для ведения войны с Россией. Наконец, в 1618 г. польская монархия разрешила династический союз Восточной Пруссии с Бранденбургом под эгидой Гогенцоллернов. Таким образом, через серию юридических уступок, которые, в конце концов, закончились полным отказом Польши от сюзеренитета, герцогство было передано Гогенцоллернам. Стратегическая ошибка такого курса вскоре стала очевидной. Не сумев интегрировать Восточную Пруссию, Польша потеряла шанс контролировать побережье Балтики и не стала морской державой. А отсутствие флота сделало ее уязвимой перед десантными вторжениями с Севера. Причины такой медлительности, без сомнения, можно обнаружить в характере дворянства. Овладение побережьем и создание военно-морского флота требовали мощной государственной машины, способной изгнать юнкеров из Восточной Пруссии и мобилизовать государственное финансирование на строительство крепостей, верфей и портов. Петровское государство в России смогло сделать это, как только достигло Балтики. Польской шляхте это было неинтересно. Она была согласна зависеть от традиционного порядка транспортировки зерна через Данциг голландскими или немецкими грузовыми кораблями. Королевский контроль над торговыми операциями Данцига был потерян в 1570-е гг.; в 1640-е г. были заброшены несколько гаваней, построенные для небольшого флота [389] . Аристократия была равнодушна к судьбе Балтики. Ее экспансия приняла совсем иную форму: продвижение на юго-восток, во фронтирные регионы Украины. Это частное проникновение и колонизация были возможны и доходны; здесь не было государственной системы, чтобы противостоять этому продвижению, и не требовались никакие экономические нововведения для создания новых латифундий на исключительно плодородных почвах по обе стороны Днепра. Поэтому в начале XVII в. польское магнатское землевладение стало чрезвычайно далеко расползаться за пределы Волыни и Подолии, в Восточную Украину. Закрепощение местного рутенского крестьянства, обостренное конфликтами между католической и православной церквями и осложненное беспокойным присутствием поселений казаков, превратило эту дикую область в постоянную проблему безопасности. Экономически наиболее доходный для развития государства регион, в социальном и политическом плане он стал самым взрывоопасным в аристократическом государстве. Поэтому переориентация шляхты с Балтики на Черное море оказалась вдвойне пагубной для Польши. Ее конечными последствиями стали украинская революция и шведский «потоп».
В первые годы XVII в. в Польше уже становились очевидными тревожные признаки нарождающегося кризиса. На рубеже веков начали ощущаться ограничения традиционной аграрной экономики в центральной зоне, которая являлась производительной базой польской мощи. Рост феодальных поместий не сопровождался какими-либо реальными улучшениями в производительности: площади пахотной земли увеличивались, а техника обработки оставалась в основном той же самой. Более того, теперь стала очевидной плата за увеличение обрабатываемых имений за счет крестьянских держаний. Симптомы сельскохозяйственного истощения появились еще до того, как стали падать цены на зерно в связи с европейской депрессией, начавшейся в 1620-е гг. Общее производство зерна сократилось, причем падала и урожайность [390] . В то же самое время политическое единство государства значительно пошатнулось из-за очередного ослабления центральной власти. В 1607–1609 гг. вспыхнувший дворянский мятеж против Сигизмунда III (Зебрыдовский мятеж) вынудил короля отменить планы реформирования королевской власти. Начиная с 1613 г. национальный сейм передал право установления налогов на уровень местных сеймиков, сделав чрезвычайно затруднительным создание эффективной фискальной системы. В 1640-е гг. сеймики получили еще больше финансовой и военной автономии в своих округах. А тем временем революция в военных технологиях обошла шляхту стороной: ее навыки в качестве кавалерийских частей становились все более анахроничными в сражениях, решаемых вымуштрованной пехотой и мобильной артиллерией. Главная армия государства в середине века все еще составляла около 4 тысяч человек, и она вышла из-под королевского контроля под независимое командование несменяемых гетманов; а в это время приграничные магнаты часто содержали такие же по численности армии [391] . В 1620-е гг. стремительное шведское завоевание Ливонии, господство Восточной Пруссии над побережьем и грабительские торговые пошлины на Балтике уже проявили уязвимость польской обороны на севере; в то же время на юге постоянные казацкие выступления в 1630-е гг. усмирялись с трудом. Сцена была подготовлена для впечатляющего краха страны в период правления последнего короля из династии Ваза Яна Казимира.
В 1648 г. восстали украинские казаки под руководством Хмельницкого, началась крестьянская «жакерия» против польского помещичьего класса. В 1654 г., согласно Переяславскому договору, казацкие лидеры увели с собой огромные районы юго-востока в объятия вражеского Русского государства; российские войска двинулись на запад, захватив Минск и Вильно. В 1655 г. Швеция начала опустошительное вторжение через Померанию и Курляндию; Бранденбург объединился со Швецией для совместного вторжения. Варшава и Краков быстро сдались шведским и прусским войскам, в то время как литовские магнаты поспешили переметнуться к Карлу X, а Ян Казимир вынужден был спасаться бегством в Австрию. Шведская оккупация Польши подняла шляхту на отчаянное сопротивление на местах. Последовало международное вмешательство, чтобы остановить расширение Шведской империи: голландский флот блокировал Данциг, австрийская дипломатия оказала помощь бежавшему королю, русские войска вторглись в Ливонию и Ингрию, и, наконец, Дания атаковала шведов с тыла. В результате шведские армии вынуждены были к 1660 г. очистить Польшу после огромных разрушений. Война с Россией продолжалась еще семь лет. К тому времени, когда в 1667 г. Речь Посполитая после двух десятилетий борьбы снова получила мир, она потеряла Восточную Украину с Киевом, обширные приграничные земли со Смоленском, а также все оставшиеся претензии на Восточную Пруссию; в следующем десятилетии турки захватили Подолию. Географические потери составили 1|5 территории Польши. Но намного тяжелее оказались экономические, социальные и политические последствия этих ужасных лет. Шведские армии, которые покинули страну, оставили ее от края и до края разграбленной и обезлюженной: богатая долина Вислы пострадала сильнее всего. Население Польши в 1650–1675 гг. уменьшилось на треть, а экспорт зерна через Данциг – более чем на 8о% в 1618–1691 гг. [392] Урожай зерновых во многих регионах упал из-за опустошений и демографического кризиса; урожаи никогда не восстановились. Уменьшилось количество обрабатываемой земли, так как многие шляхтичи были разорены. Экономический кризис после войны ускорил концентрацию земли в условиях, когда только богатейшие магнаты имели ресурсы для восстановления производства, а многие имения поменьше выставлялись на продажу. Поборы с крепостных усилились в условиях нового застоя. Порча монет и падение заработной платы ослабляли города.
В культурном отношении шляхта взяла реванш в разочаровавшей ее истории с помощью болезненной мифомании: поразительный культ воображаемых «сарматских» предков дофеодального прошлого был соединен с провинциальным фанатизмом Контрреформации в стране, где городская цивилизация ныне приходила в упадок. Псевдоатавистическая идеология сарматизма не была простым помрачением умов; она отражала состояние всего класса, которое нашло свое наиболее яркое выражение в самом конституционном королевстве. Именно в сфере политики объединенное влияние украинской революции и шведского «потопа» разбило вдребезги хрупкое единство Польской республики. Великий раскол в истории и процветании дворянского класса не объединил его для создания централизованного государства, которое могло бы устоять перед дальнейшими иностранными вторжениями: этот класс, напротив, погрузился в самоубийственную безрассудную гонку (fuite en avant). С середины XVII в. анархическая логика Польского государства достигла институционального пароксизма с введением правила парламентского единодушия – знаменитого liberum veto [393] . Единственный голос «против» мог теперь распустить сейм и парализовать государство. Впервые liberum veto было использовано депутатом сейма 1652 г.; после этого оно распространилось на провинциальные сеймики, которых было более семидесяти. Землевладельческий класс, долгое время делавший исполнительную власть беспомощной, теперь точно так же нейтрализовал законодательные органы. Затмение королевской власти отныне дополнялось распадом представительного правления. В действительности, хаоса удавалось избегать только благодаря усилению господства великих восточных магнатов, огромные латифундии которых, обрабатываемые рутенскими и белорусскими крепостными крестьянами, давали им превосходство над менее богатыми дворянами западной и центральной Польши. Система клиентелы задавала некоторые организационные рамки для класса шляхты, хотя соперничество между магнатскими фамилиями – Чарторыйскими, Сапегами, Потоцкими, Радзивиллами и другими – постоянно нарушало единство знати; но в то же время именно они чаще всего использовали liberum veto [394] . Составной конституционной частью «вето» была «конфедерация»– юридический инструмент, который позволял аристократическим фракциям объявить себя находящимися в состоянии вооруженного мятежа против правительства [395] . По иронии судьбы, в мятежных конфедерациях были узаконены решение большинством голосов и военная дисциплина, в то время как национальный сейм был постоянно парализован политическими интригами и единодушным голосованием. Успешный дворянский мятеж под руководством Великого маршала Любомирского, который предотвратил избрание vivente rege (при живом короле) наследника Яна Казимира в 1665–1666 гг. и ускорил отречение короля, предсказал будущее направление магнатской политики. В эпоху Людовика XIV и Петра I на Висле родилось радикальное и тотальное отрицание абсолютизма.
Польша все еще была второй по размерам страной в Европе. В последние десятилетия XVII в. король-солдат Ян Собесский в некотором отношении восстановил ее международные позиции. Получив власть ввиду опасности возобновления турецких вторжений в Подолию, Собесский сумел увеличить национальную армию до 12 тысяч человек, модернизировал ее, дополнив драгунскими и пехотными подразделениями. В 1683 г. польские войска сыграли ведущую роль в освобождении Вены, а продвижение осман в районе Днестра было остановлено. Но главные выгоды от этой последней мобилизации шляхты получил габсбургский император; помощь Польши против Турции позволила австрийскому абсолютизму быстро продвинуться на Балканах. На родине международная репутация Собесского ему мало чем помогла. Были блокированы все его планы установления наследственной монархии; в сейме еще чаще прибегали к liberum veto. В Литве, где огромной властью обладал клан Сапеги, следы королевской власти практически исчезли. В 1696 г. дворянство отвергло его сына в качестве наследника: скандальные выборы закончились воцарением еще одного иностранного принца – Августа II Саксонского, поддержанного Россией. Правитель из династии Веттинов попытался использовать промышленные и военные ресурсы Саксонии, чтобы создать более упорядоченное королевство с более понятной экономической программой. На Балтике планировалось организовать саксонско-польскую торговую компанию, возобновить строительство портов, в то время как войска Веттина подчинили Литву [396] . Вскоре последовала реакция шляхты; в 1699 г. была применена pacta conventa, и Август II был вынужден вывести свою немецкую армию из страны. Затем в союзе с Петром I Август двинул армию на север через границу для нападения на шведскую Ливонию. Эти действия предварили начало Великой Северной войны в 1700 г. Сейм быстро дезавуировал частные планы короля, но вскоре, в 1701–1702 гг., шведское контрнаступление против саксонской армии погрузило страну в водоворот войны. После большого количества победоносных сражений Карл XII оккупировал Польшу, объявил Августа II низложенным и поставил на престол местного претендента – Станислава Лещинского. Столкнувшись с оккупацией, дворянство разделилось: великие восточные магнаты (как и в 1655 г.) предпочли Швецию, в то время как масса мелких западных дворян неохотно присоединились к русско-саксонскому союзу. Поражение Карла XII под Полтавой восстановило Августа II в Польше. Но когда в 1713–1714 гг. саксонский король попытался снова ввести свою армию и усилить королевскую власть, была тотчас образована мятежная конфедерация, а российское военное вмешательство вынудило Августа II подписать в 1717 г. Варшавский договор. Под диктовку русского посла был установлен размер польской армии в 24 тысячи человек, саксонские войска были ограничены в 1200 человек личной королевской гвардии, а немецкие чиновники в администрации должны были вернуться на родину [397] .
Великая Северная война оказалась на практике вторым «потопом». Жестокость шведской оккупации и разрушения, оставленные от следующих одна за другой кампаний скандинавских, немецких и русских армий на польской земле, принесли массовые жертвы. Население Польши, пострадавшее от войны и эпидемий, уменьшилось примерно до 6 миллионов человек. В период конфликта реквизиции трех держав, которые оспаривали стратегический контроль над страной, составили около 6о миллионов талеров, что в 3 раза превысило доходы государственной казны за время конфликта [398] . Но самым тяжелым все же было то, что впервые Польша стала униженным объектом международной борьбы, которая разворачивалась на ее земле. Политическая пассивность шляхты в треугольнике между Карлом XII, Петром I и Августом II была нарушена только ее мрачным сопротивлением любому движению, которое могло усилить королевскую власть и вместе с этим оборонительные возможности Польши. Август II, база которого в Саксонии была богаче и более развитой, чем Трансильвания, не смог столетием спустя повторить опыт Батория. Сорвав достижение хоть какой-нибудь результата от польско-саксонского союза, дворянство приготовилось принять русский протекторат. Приглашение вмешаться, направленное Санкт-Петербургу в 1717 г., начало эпоху увеличивающегося подчинения действиям царей в Восточной Европе.
В 1733 г. снова оспаривались выборы монарха. Франция попыталась водворить на престол кандидатуру Лещинского, природного поляка и союзника Парижа. Россия, поддерживаемая Пруссией и Австрией, предпочла саксонского наследника как слабейшую альтернативу: несмотря на законное избрание Лещинского, с помощью иностранных штыков был навязан Август III. В отличие от своего отца отсутствующий монарх, новый правитель находился в Дрездене и не предпринимал попыток пересмотреть политическую систему Польши. Варшава перестала быть столицей, поскольку страна превратилась в одну огромную отсталую провинцию, время от времени опустошаемую армиями соседних государств. Саксонские министры распределяли доходные места в государстве и Церкви, в то время как магнаты пользовались правом вето в сейме по приказу или за деньги со стороны соперничавших держав: России, Австрии, Пруссии, Франции [399] . Шляхта, которая в периоды подъема Реформации и Контрреформации поддерживала редкие для Европы стандарты религиозной терпимости, теперь, в эпоху Просвещения, находилась во власти забытого католического фанатизма: дворянский пыл преследований стал разрушительным признаком «патриотизма». В экономическом плане конец XVIII в. стал периодом постепенного восстановления. Население вновь выросло, как и во времена, предшествовавшие «потопу», а экспорт зерна через Данциг за 40 лет после Великой Северной войны удвоился, хотя и оставался намного ниже пиковых показателей предшествующего столетия. К выгоде магнатов продолжалась концентрация земли и крепостных [400] .
В 1764 г. новым подобранным Россией монархом стал Понятовский – польский фаворит Екатерины II, связанный с кликой Чарторыйских. Первоначальное позволение Санкт-Петербурга провести реформы по централизации вскоре было отозвано под предлогом преследований Чарторыйскими прав православного и протестантского населения Польши. Русские войска вторглись в 1767 г., в конечном счете спровоцировав дворянскую реакцию против иностранного владычества, но под флагом религиозной нетерпимости, а не политических реформ. В 1768 г. против Понятовского и России во имя католической исключительности поднялась Барская конфедерация. Украинские крестьяне использовали возможность восстать против польских помещиков, а конфедератам была отправлена французская и турецкая помощь. Через четыре года борьбы царская армия разгромила конфедерацию. Дипломатические интриги России с Пруссией и Австрией вокруг этого дела закончились первым разделом Польши в 1772 г. по плану, который должен был примирить три стороны. Габсбургская монархия получила Галицию; монархия Романовых захватила большую часть Белоруссии; монархия Гогенцоллернов получила Западную Пруссию и вместе с ней – полный контроль над южным побережьем Балтики. Польша потеряла 30 % своей территории и 35 % населения. По размерам она все еще была больше Испании. Но теперь ее слабость была продемонстрирована публично.
Потрясение от первого раздела Польши привело к запоздалом)– объединению дворянства с целью пересмотра государственной структуры. Благодаря рост)– городской буржуазии в Варшаве, численность которой выросла в 4 раза в правление Понятовского, удалось секуляризировать идеологию землевладельческого класса. В 1788-1791 гг. при согласии Пруссии было достигнуто новое конституционное решение: в последние часы сейм проголосовал за отмену liberum veto и запрещение права на конфедерацию, установление наследственной монархии, создание армии в 100 тысяч человек, введение поземельного налога и некоторое расширение права голоса [401] . Российское возмездие было быстрым и заслуженным. В 1792 г. солдаты Екатерины II вторглись с тыла, со стороны литовских магнатов, и произошел второй раздел. Польша потеряла 3/5 остававшейся территории в 1793 г., а численность ее населения сократилась до 4 миллионов человек; на этот раз Россия приобрела львиную долю, присоединив всю оставшуюся Украину, в то время как Пруссия захватила Познань. Финал Речи Посполитой наступил через два года посреди апокалипсического беспорядка и взрыва эпох и классов. В 1794 г. вспыхнуло национальное и либеральное восстание под руководством Костюшко, ветерана Американской революции и гражданина Французской республики. Под его знамена встала масса дворянства, несмотря на то что его программа включала освобождение крепостных крестьян и привлечение плебейских масс столицы, смешав сарматизм и якобинство в отчаянном пробуждении знати перед двойным вызовом чужого абсолютизма на Востоке и буржуазной революции на Западе. Радикализм польского восстания 1794 г. вынес шляхетском)– государству смертный приговор. Легитимистские дворы, которые окружали его, неожиданно увидели на Висле отдаленный отраженный блеск огней Сены. Территориальные амбиции трех соседних империй теперь получили идеологическое обоснование в форме контрреволюционной миссии. После того как Костюшко нанес поражение прусскому нападению на Варшаву, для подавления восстания с русской армией был направлен Суворов. Поражение восстания стало концом польской независимости. В 1795 г. страна полностью исчезла в ходе третьего раздела.
Внутренние причины, по которым уникально анархичная и буйная знать, правившая Польшей, не смогла создать национальный абсолютизм, без сомнения, исследованы еще неполно; здесь были предложены только некоторые элементы анализа [402] . Но судьба построенного ею феодального государства предоставляет исчерпывающее объяснение того факта, что абсолютизм был естественной и нормальной формой власти дворянского класса после позднего Средневековья. Поскольку как только связанная цепь частичных суверенитетов, которая составляла средневековую политическую систему, была разрушена, знать потеряла естественный источник объединения. Аристократия была традиционно разделена вертикальной иерархией рангов, которые находились в структурном противоречии с горизонтальным распределением представительства, как это будет характерно для буржуазных политических систем. Поэтому внешний принцип единства был императивом сплавить их вместе; функцией абсолютизма как раз и было навязывание жесткого формального порядка извне. Отсюда – постоянные конфликты между абсолютистскими правителями и их аристократией, которые, как мы видели, имели место повсюду в Европе. Эта напряженность была вписана в саму природу солидарных отношений между обеими сторонами, так как внутри дворянского класса не было присущего ему представительства интересов. Абсолютизм мог править только для аристократии, оставаясь над ней. И только в Польше парадоксальный размер шляхты и формальное отсутствие в ней каких-либо титулов произвели на свет саморазрушительную карикатуру на представительную систему внутри аристократии. Несовместимость обеих была продемонстрирована эксцентричным образом в liberum veto. В рамках такой системы не существовало причины, почему любой отдельный дворянин должен был бы отказаться от собственного суверенитета; провинциальные сеймики могли быть распущены отдельным мелким дворянином, а сейм – делегатом от одного сеймика. Неформальная клиентела не могла обеспечить адекватную замену принципу единства. Неизбежными результатами были анархия, слабость и аннексия. Соседние абсолютистские режимы в конечном итоге уничтожили дворянскую республику. Именно Монтескье написал эпитафию этому опыту за несколько лет до конца: «Нет монархии – нет дворянства; нет дворянства – нет монархии».5. Австрия
Австрийское государство в известном смысле представляло конституционный антипод Речи Посполитой. Оно было в большей степени, нежели любое европейское государство, основано на династическом организующем принципе. Династия Габсбургов имела мало равных себе по длительности правления: она без перерыва удерживала власть в Австрии с конца XIII и до начала XX в. Еще более важно то, что единственным политическим началом, объединявшим различные земли, входившие в Австрийскую империю, была идентичность правящей ими династии. Габсбургское государство всегда оставалось в исключительной степени частным владением царствующего дома (Hausmacht) – конгломератом династических наследств, не имевших общего этнического и территориального названия. Монархия здесь достигла ее наиболее чистого выражения. Тем не менее австрийский абсолютизм именно по этой причине не достиг успеха в формировании всеохватывающих интегрированных государственных структур, сравнимых с созданными его прусским и российским соперниками. Он всегда в некотором отношении представлял гибрид «западных» и «восточных» форм из-за политического и территориального размежевания составлявших его земель, лежавших по обе стороны от линии, соединяющей Балтику с Адриатикой – в геометрическом центре Европы. Поэтому случай Австрии в некоторых важных аспектах пересекает границу региональной типологии европейского абсолютизма. Именно это специфическое географическое и историческое положение вызывает особый интерес к развитию Габсбургского государства: «Центральная Европа» произвела соответствующий абсолютизм, промежуточный по своему характеру, отклонение которого от жестких норм запада или востока лишь подтверждает и детализирует их полярность. Необычные структуры австрийского абсолютизма отражали составную природу территорий, которыми он управлял и которые он так и не смог сколько-нибудь постоянным образом ввести в единые политические рамки. Однако в то же самое время эта смесь различных мотивов исключала наличие доминирующей мелодии. Австрийская империя, которая появилась в XVII в., доказала – несмотря на видимость-сбою способность противостоять распаду, потому что в ней существовало социальное единство, которое придавало ее разным частям совместимость друг с другом. В Габсбургских землях в целом господствовало крепостное сельское хозяйство различных оттенков и моделей. Большая часть крестьянского населения (чехи, словаки, венгры, немцы или австрийцы) управлявшегося династией, была прикреплена к земле, выполняя трудовые повинности перед своими господами и подчиняясь сеньориальной юрисдикции. Естественно, что крестьяне этих земель не представляли однородную крестьянскую массу: в их условиях жизни были существенные различия. Но при этом не может быть никакого сомнения в повсеместном доминировании крепостного права в Австрийской империи в эпоху Контрреформации, когда оно впервые приняло стойкие формы. Следовательно, по важнейшему критерию Габсбургское государство должно классифицироваться в целом как восточный абсолютизм; и на практике, как будет видно, его необычные административные особенности не замаскировали его окончательное падение.
Семья Габсбургов происходила из Верхнего Рейнланда, и ее первое возвышение относится к 1273 г., когда граф Рудольф Габсбург был избран императором германскими князьями, страстно желавшими помешать возвышению короля Богемии Оттокара II из династии Пшемыслидов, который захватил большую часть австрийских земель на востоке и стал ведущим претендентом на императорскую корону. Владения Габсбургов были разбросаны по трем анклавам вдоль Рейна: Зюндгау – к западу от реки; Брейсгау – к востоку от нее; и Ааргау – к югу от Базеля. Рудольф I успешно мобилизовал имперскую коалицию для нападения на Оттокара II, который через пять лет потерпел поражение при Маршфельде; вслед за этим династия Габсбургов захватила контроль над Герцогством Австрия, намного большим, чем их рейнские территории, перенеся туда отныне свой престол. Стратегические цели династии отныне были двуедиными: удержать наследование Империи с его туманным, но значительным политическим и идеологическим влиянием в Германии, а также консолидировать и увеличить территориальную основу их власти. Вновь обретенное Австрийское герцогство сформировало значительный блок наследственных земель (Erblande ), впервые превратив Габсбургов в значительную силу внутригерманской политики. Однако они оставались чем-то вроде периферии по отношению к Империи (Reich). Очевидным направлением расширения владений было связать новые австрийские бастионы со старыми рейнскими землями династии, чтобы сформировать единый географический блок, пересекающий южную Германию с прямым доступом к центрам имперского богатства и мощи. Чтобы обеспечить свое избрание Рудольф I дал обещание не вводить агрессивную политику в Рейнланде [403] , но все первые правители – Габсбурги упорно следовали пути экспансии и унификации своих владений. Однако этот начальный исторический импульс к созданию сильного германского государства натолкнулся на своем пути на фатальное препятствие. Между рейнскими и австрийскими землями располагались швейцарские кантоны. Вторжения Габсбургов в этот центральный регион спровоцировали народное сопротивление, которое вновь и вновь наносило поражения австрийским армиям и в конечном счет привело к созданию Швейцарии в качестве автономной конфедерации вне рамок Империи.
Специфика и значимость швейцарского восстания заключается в том, что оно создало коалицию двух социальных элементов сложной структуры европейского феодализма, не объединявшихся в подобный союз где-либо еще: горы и города. В нем лежал секрет уникального успеха в том столетии, когда повсюду крестьянские восстания терпели поражения. С самого начала Средневековья, как мы уже видели, феодальный способ производства распространялся очень неравномерно: он никогда не проникал в горные районы в той степени, в какой он завоевал равнины и низменности. Горные районы всей Западной Европы представляли отдаленные твердыни мелкой крестьянской собственности, частной или общинной, поскольку их скалистая и скудная почва была малопривлекательной для феодалов. Швейцарские Альпы, самая высокая горная гряда континента, являлись, естественно, самым ярким примером. Вместе с тем они также располагались поперек главных сухопутных торговых путей средневековой Европы между двумя сильно урбанизированными зонами – южной Германией и Северной Италией. Поэтому их долины также были средоточием мелких торговых городов, извлекавших выгоду из стратегического положения между горными перевалами. Швейцарский кантонализм XIV в. был результатом слияния этих сил. Первоначально испытавшее влияние примера соседних ломбардских коммун, боровшихся против Империи, швейцарское восстание против Габсбургов объединило горцев-крестьян и городских бюргеров, сделав их союз победоносным. Политическое руководство было принято тремя «лесными кантонами», крестьянская пехота которых в 1315 г. обратила в бегство австрийскую феодальную кавалерию, блокировав ее в узких долинах при Моргартене. В следующем десятилетии в Ури, Швайце и Унтервальдене было отменено крепостное право [404] . В 1330 г. последовала муниципальная революция в Люцерне, а в 1336 г. – в Цюрихе; обе были направлены против прогабсбургского патрициата. К 1351 г. между этими двумя городами и тремя лесными кантонами существовал формальный союз. Наконец, в 1386 и 1388 гг. их объединенные войска отбили атаку и нанесли поражение габсбургским армиям при Семпахе и Нефельсе. В 1393 г. родилась Швейцарская конфедерация – уникальная независимая республика в Европе [405] . Швейцарские крестьяне-пикинеры стали решающей боевой силой в войнах позднего Средневековья и раннего Нового времени, положив конец долгому господству кавалерии своими победами над бургундскими рыцарями, собранными для помощи Австрии в следующем столетии, и открыв новые возможности наемной пехоты. К началу XV в. династия Габсбургов уступила швейцарцам владения ниже излучины Рейна и не смогла объединить свои земли в Зюндгау и Брейсгау [406] . Их рейнские провинции были не более чем разбросанными анклавами, символически переименованными в Vorderösterreich (Переднюю Австрию) и управляемыми из Инсбрука. Отныне основное направление политики династии было сосредоточено на востоке.
В то же время в самой Австрии власть Габсбургов не сталкивалась с такими же препятствиями. В 1363 г. был захвачен Тироль; одновременно был принят титул эрцгерцога; сословия, активизировавшиеся после 1400 г., в результате недолгой острой борьбы были поставлены под разумный контроль. К 1440 г. императорский титул, утерянный в начале XIV в. после первых поражений в Швейцарии, был восстановлен за династией после утраты власти Люксембургов над Богемией и после этого никогда больше серьезно не выпускался из-под контроля. В 1477 г. брачный союз с Бургундским домом – союзником Австрии в антишвейцарской борьбе – обеспечил временное приобретение Франш-Конте и Нидерландов. Прежде чем в эпоху Карла V они перешли в испанскую орбиту, бургундские владения, вероятно, побудили Австрийский дом к первым шагам на пути административной модернизации. Максимилиан I, окруженный свитой из бургудско-нидерландской знати, организовал в Инсбруке центральное казначейство и впервые создал в Австрии совещательные правительственные учреждения. Последняя атака на Швейцарию оказалась бесплодной; но, когда Максимилиан выстроил итальянскую и имперскую внешнюю политику на юге была присоединена Гориция. Однако именно в правление его наследника Фердинанда I внезапно создались условия для расширения будущей власти Габсбургов над Центральной Европой и был заложен фундамент необычной государственной структуры, которая была возведена впоследствии. В 1526 г. король Богемии и Венгрии Людовик II Ягеллон потерпел поражение от продвигавшихся османских армий и погиб в битве при Мохаче; турецкие войска заняли Венгрию, распространив власть султана вглубь Центральной Европы. Фердинанд удачно предъявил права на опустевшие престолы: брак связывал его с династией Ягеллонов, будучи подкрепленным в глазах чешской и венгерской знати турецкой угрозой. В Моравии и Силезии, двух удаленных провинциях королевства Богемии, Фердинанд был принят как наследственный правитель; но сами чешские и венгерские сословия категорически отказали ему в этом праве, истребовав официальное заявление от эрцгерцога, что он является избранным князем в их землях, Более того, Фердинанд был вынужден вести длительную борьбу с участием трех сторон: против трансильванского претендента Запольяи и турок, которая закончилась в 1547 г. разделом Венгрии натри области: управляемый Габсбургами запад, оккупированный турками центр и Княжество Трансильвания на востоке, которое отныне стало османским вассалом. Война против турок на дунайских равнинах затянулась на следующее десятилетие (1551–1562); все XVI столетие оборона Венгрии обходилась династии Габсбургов в большую сумму, чем собранные с нее доходы [407] .
Однако, несмотря на внутренние и внешние ограничения, новые владения представляли огромный потенциал для увеличения международной мощи Габсбургов. Фердинанд настойчиво прилагал усилия по установлению королевской власти во всех своих землях, создавая новые династические институты и централизируя старые. Различные австрийские ландтаги на этом этапе были относительно уступчивыми, обеспечивая правлению Габсбургов в самом эрцгерцогстве более или менее безопасную политическую базу. Богемские и венгерские сословия никоим образом не были столь же послушными и срывали планы Фердинанда по созыву верховного собрания для всех его владений, способного учредить единую денежную систему и общую систему налогообложения. Но элементы новых правительственных учреждений в Вене сильно расширили сферу влияния династии: среди них Hoflianzlei (Придворная канцелярия) и Hoftiammer (Придворное казначейство). Самым важным из всех учреждений стал Имперский тайный совет, учрежденный в 1527 г., который вскоре стал официальной вершиной всей административной системы Габсбургов в Центральной Европе [408] . «Имперское» происхождение и направление этого совета были показателем неизменной важности германских устремлений Австрийского дома в Империи. Фердинанд пытался продвигать эти устремления, возродив Имперский придворный совет как высший судебный орган в Империи под непосредственным контролем императора. Но поскольку германские князья свели имперскую конституцию к простой законодательной и юридической оболочке без каких-либо исполнительных или принудительных полномочий, эти политические достижения были ограничены [409] . В долгосрочной перспективе гораздо более важным было учреждение постоянного Военного совета (Hofkriegsrat), созданного в 1556 г. и с самого начала сосредоточенного больше на «восточном» фронте действий Габсбургов, а не на «западном». Задуманный для того, чтобы организовать сопротивление туркам, Военный совет был связан с местным Военным советом в Граце, который управлял особыми «Военными границами», созданными вдоль юго-восточного пограничья, где расселялись солдаты-колонисты из свободно рекрутированных сербов и босняков-граничар (Grenzers) [410] . Османская мощь никоим образом не ослабевала. В 1593 г. всю Венгрию захлестнула Тринадцатилетняя война; к ее окончанию, после полного опустошения страны, которое оставило венгерское сельское хозяйство в руинах, а венгерское крестьянство в рабстве, войска Габсбургов были остановлены турками.
К началу XVII в. Австрийский дом добился скромных успехов в государственном строительстве; но политическое единство его владений было еще слабым. Династическое правление в каждом из них имело разную юридическую основу, а других общих институтов, связывавших их вместе, кроме Военного совета, не было. Даже австрийские земли впервые были объявлены неделимыми только в 1602 г. Имперские устремления правителей из династии Габсбургов не могли заменить практическую интеграцию территорий, имевших унию с ними: Венгрия все равно оставалась за пределами Империи, так что между Империей и землями императора не существовало отношений включенности.
Более того, во второй половине XVI в. с приходом Реформации скрытая оппозиция в разных аристократических сословных собраниях габсбургских владений приобрела новую и небывалую остроту. В то время как династия оставалась опорой Римской церкви и тридентской ортодоксии, большинство дворянства в каждой из земель перешло в протестантизм. Сначала подавляющая часть чешского землевладельческого класса, долго исповедовавшего местную ересь, обратилась в лютеранство, затем венгерское дворянство приняло кальвинизм, в конце концов сама австрийская аристократия в сердце габсбургской власти обрела реформированную религию. К 1570-м гг. важнейшие аристократические семьи коренных владений царствующей семьи стали протестантами: Дитрихштейны, Штаремберги, Хефенхюллеры, Цинцендорфы [411] . Эта угрожающая тенденция была явным признаком нараставшего глубокого конфликта. Поэтому приход к власти в Вене Фердинанда II в 1617 г. вызвал превзошедший локальные масштабы взрыв: вскоре Европа погрузилась в Тридцатилетнюю войну. Фердинанд, получивший образование у баварских иезуитов, был решительным и успешным защитником Контрреформации с того времени, когда он в 1595 г. стал герцогом Штирии: в Граце отличительными признаками его провинциального режима были жесткая административная централизация и религиозные репрессии. Международным спонсором его кандидатуры внутри семьи Габсбургов на династическое наследование в Империи и Богемии был испанский абсолютизм; с самого начала его двором руководили воинственные испанские дипломаты и генералы. Робкие и колеблющиеся богемские сословия приняли Фердинанда в качестве монарха, а затем, после первого отступления от религиозной терпимости в чешских землях, подняли знамя мятежа.
Пражская дефенестрация открыла период величайшего кризиса габсбургской государственной системы в Центральной Европе. В Богемии пала сама власть династии; еще более опасным было то, что австрийские и венгерские сословия начали склоняться к договорам солидарности с чешскими сословиями, создавая угрозу всеобщего дворянского мятежа, подогреваемого медленно тлеющим партикуляризмом и протестантизмом. В этой чрезвычайной ситуации дело Габсбургов было спасено воздействием двух решающих факторов. После исторического подавления народных гуситских движений в Богемии чешская аристократия оказалась неспособна использовать большой общественный энтузиазм сельских или городских масс в интересах своего восстания; около % населения были протестантами, но религиозные чувства не стали способом укрепления межклассового блока и отражения австрийского контрнаступления, как это произошло в ходе борьбы голландцев против Испании. Богемские сословия были изолированы в социальном и политическом отношении, а Австрийский дом – нет. Вооруженная солидарность Мадрида и Вены повернула течение вспять, когда были мобилизованы испанские армии, союзники и деньги, чтобы сокрушить чешский сепаратизм [412] . Результатом стала битва у Белой горы, которая уничтожила старый дворянский класс Богемии. В следующем десятилетии имперские армии, ведомые Валленштейном, победоносно маршировали к Балтике, впервые распространяя власть Габсбургов в северную Германию и создав возможность для обновления и централизации Германской империи под управлением Австрийского дома. В 1630-е гг. эти амбиции были искоренены шведским вторжением; агрессивные побуждения габсбургской имперской политики были навсегда утрачены. Вестфальский мир, который завершил Тридцатилетнюю войну, подтвердил вердикт, вынесенный вооруженной борьбой. Австрийский дом не стал господствовать в Империи; но он утвердил свою власть над Богемией, изначальным источником конфликта. Вся внутренняя структура власти Габсбургов на династических землях придунайской Европы стала последствием этого мирного договора.
Благодаря победе над Богемией Хофбург смог значительно продвинуться к абсолютизму. В 1627 г. Фердинанд II провозгласил новую конституцию для завоеванных чешских земель. Новое земельное уложение (Verneuerte Landesordnung) превратило габсбургское правление в наследственную монархию, больше не подчинявшуюся выборам, сделало всех местных чиновников королевскими представителями, а католицизм – единственной религией и восстановило клир в сословных собраниях, наделило династию высшими судебными полномочиями и возвело немецкий в ранг официального языка, равного чешскому [413] . Сейм (Snem) не был отменен, а необходимость его согласия на налогообложение была подтверждена. Однако на деле его сохранение не стало препятствием для насаждения абсолютизма в Богемии. Местные собрания, которые ранее отражали пульс политики землевладельцев, постепенно угасли в 1620-е гг., в то время как с утратой сеймом политического значения резко упало участие сословий в управлении. Процесс был облегчен драматическим поворотом военного времени в социальной структуре и роли самой знати. Военное завоевание Богемии сопровождалось политическими репрессиями против подавляющей части старого феодального класса и экономической экспроприацией их имений. После 1620 г. в Богемии было конфисковано свыше половины феодальных владений; этот огромный аграрный трофей был распределен среди новой пестрой аристократии удачи, – покинувших родину офицеров и эмигрантов-головорезов Контрреформации [414] . В конце XVII в. не более 1/5 или 1/8 всей знати было старонемецкой или старочешской по происхождению; только восемь-девять больших чешских родов, которые сохранили лояльность династии по религиозным причинам, удержались при новом порядке [415] . Отныне подавляющее большинство чешской аристократии было иностранной по происхождению, смешав итальянцев (Пикколомини), немцев (Шварценберг), австрийцев (Траутмансдорф), словенцев (Ауэрсперг), валлонов (Бюкуа), лотарингцев (Дефур) или ирландцев (Тааффе). В результате этого же удара земельная собственность подверглась значительной концентрации: феодалы и Церковь контролировали почти 3/4 всех земель, в то время как доля прежнего мелкого дворянства упала с 1/3 до 1/10. Соответственно положение большей части крестьянства ухудшилось. Уже привязанное к земле и ослабленное войной оно теперь было обременено увеличившимися трудовыми повинностями; в среднем трудовые повинности работника (robot) составляли 3 дня в неделю, но больше четверти крепостных трудились каждый день, кроме воскресенья и дней святых покровителей их господ [416] . Более того, если перед Тридцатилетней войной чешские землевладельцы, в отличие от польских и венгерских, платили налоги вместе с их крепостными, то после 1648 г. новая космополитическая знать на практике добилась фискального иммунитета, возложив все налоговое бремя на плечи своих крепостных. Такой перенос, естественно, сгладил споры в сословных собраниях между монархией и аристократией; с этого времени династия просто требовала определенную сумму от сословий, оставляя на их усмотрение способ установления и сбора налогов для удовлетворения этих требований. При такой системе налоговое давление могло быть легко увеличено, так как большие бюджеты обычно означали, что сословные собрания «просто соглашались увеличить налоговую нагрузку, которую сами они возлагали на своих арендаторов и подданных» [417] . Богемия всегда была самым доходным владением среди габсбургских земель, и новый фискальный контроль монархии над ней значительно укрепил венский абсолютизм.
Тем временем централизованная и самодержавная администрация достигла значительного прогресса в самих коренных землях династии. Фердинанд II учредил Австрийскую придворную канцелярию – расширенную версию его излюбленного инструмента власти в Штирии – как вершину механизма управления в эрцгерцогстве. Этот орган постепенно достиг могущества среди других советов государства за счет Имперского тайного совета, чье значение неизбежно сходило на нет после вынужденного уменьшения власти Габсбургов в Германии. Однако более жизненно важным было то, что после Вестфальского мира в 1650 г. впервые была создана постоянная армия численностью около 50 тысяч солдат (10 полков пехоты и 9 – кавалерии): с этого момента наличие этой силы неизбежно умеряло поведение австрийских и чешских сословий. В то же время абсолютизм Габсбургов добился уникальной культурной и идеологической победы: Богемия, Австрия и Венгрия, три составные зоны правления династии, были постепенно возвращены в лоно Римской церкви. В 1590-е гг. был подавлен протестантизм в Штирии; в 1625 г. были запрещены реформированные церкви в Нижней Австрии, в 1627 г. – в Богемии и в 1628 г. – в Верхней Австрии. В Венгрии авторитарное решение было невозможно, но венгерские примасы Пазмани и Липпай успешно вернули большую часть венгерского магнатского класса в католичество. Австрийские феодалы и крестьяне, богемские города и венгерские землевладельцы в конце концов были возвращены в католицизм умением и энергией Контрреформации под покровительством династии Габсбургов: достижение, не имевшее равных где-либо еще на континенте. Крестоносная мощь дунайского католицизма предстала, чтобы найти свой апофеоз в триумфальном освобождении Вены от турок в 1683 г., а последовавшие за тем победы, которые очистили от османской власти Венгрию и Трансильванию, восстановили для христианства потерянные когда-то территории и впечатляющим образом распространили власть Габсбургов на восток. Военные учреждения, которые добились этих результатов, теперь значительно увеличившись, сыграли в то же время главную роль в альянсе, который сдержал продвижение Бурбонов на Рейне. Война за Испанское наследство продемонстрировала новый международный вес Австрийского дома. По мирному договору в Утрехте ему принадлежали Бельгия и Ломбардия.
Однако неожиданно достигнутый пик австрийского могущества был вскоре пройден. Ни у одного европейского абсолютизма фаза военной самоуверенности и инициативы не была такой чрезвычайно короткой. Начавшись в 1683 г., она завершилась к 1718 г. после кратковременного захвата Белграда и Пожаревацкого мира. После этого Австрии никогда больше не удалось победить в войне с равным государством– противником [418] . Непрекращавшаяся серия поражений уныло растянулась на следующие два столетия, прерываясь только бесславным участием в чужих победах. Эта внешняя вялость была показателем внутреннего тупика и незавершенности австрийского абсолютизма, даже на вершине его могущества. Самым впечатляющим и характерным достижением правления Габсбургов в Центральной Европе было собирание в корне отличных земель под одну династическую крышу и их возвращение в католицизм. И все же идеологические и дипломатические победы Австрийского дома (его кошачье религиозное и брачное чутье) также были заменой более существенным бюрократическим и военным достижениям. В эпоху Контрреформации влияние иезуитов на венский двор всегда было гораздо сильнее, чем на родственный мадридский двор, где католический пыл обычно сочетался с осторожным антипапизмом. В течение XVII в. церковные советники и агенты проникли во всю административную систему Габсбургов в Центральной Европе, выполняя множество самых важных текущих политических задач: создание тридентского бастиона в Штирии в правление Фердинанда II, во многих отношениях пилотного эксперимента для австрийского абсолютизма, было преимущественно их работой. Точно также возвращение венгерского класса магнатов в лоно Римско-католической церкви (Выше была Римская церковь?), без чего, вероятно, не удалось бы в конечном итоге удержать власть Габсбургов над Венгрией, было осуществлено терпеливой и искусной миссионерской работой священников. Но такой успех имел и свои границы. Католические университеты и школы оторвали венгерское дворянство от протестантизма, но лишь при подтверждении традиционных корпоративных привилегий мадьярской «нации», обеспечили церковный духовный контроль, но не затронули государство, обремененное труднопреодолимыми препятствиями. Таким образом, опора Габсбургов во внутриполитических вопросах на клир имела свою цену: как бы ни были проницательными священники, они никогда не могли в функциональном отношении сравниться с чиновниками и помещиками в качестве строительных блоков абсолютизма. Вена не стала центром по продаже должностей или столицей служилого дворянства; ее отличительными признаками оставались мягкий клерикализм и беспорядочная администрация.
Точно так же невероятная удача династической брачной политики Габсбургов всегда опережала их военные возможности без всякой компенсации за это. Брачная ловкость, с которой вначале были приобретены Венгрия или Богемия, привела к затруднениям в навязывании австрийского централизма в первой и к полной неспособности установить его во второй; в качестве последнего спасительного средства дипломатия не могла заменить оружие. Даже военные достижения австрийского абсолютизма всегда выглядели какими-то несовершенными и аномальными. Тремя величайшими успехами династии стали первоначальное приобретение Богемии и Венгрии в 1526 г., подчинение Богемии в 1620 г. и победа над турками в 1683 г., закончившаяся завоеванием Венгрии и Трансильвании. Однако первое было последствием поражения Ягеллона при Мохаче, а не результатом победы Габсбургов: это турки выиграли первую и наиболее важную битву австрийского абсолютизма. Сражение при Белой горе также было в большей степени баварской победой Католической лиги, а войска, собранные под имперским командованием, включали итальянские, валлонские, фламандские и испанские контингенты [419] . Даже освобождение Вены было, в сущности, достигнуто польскими и немецкими армиями после того, как император Леопольд I поспешно покинул свою столицу; войска Габсбургов насчитывали только 1/6 сил, которые в 1683 г. принесли славу Собесскому [420] .
Эта повторяющаяся опора на союзные армии получила любопытное дополнение в самом австрийском генералитете. Большинство командующих, которые служили Австрийскому дому до XIX в., были независимыми наемниками или иностранными солдатами удачи: Валленштейн, Пикколомини, Монтекукколи, Евгений (Савойский), Лаудун, Дорн. Руководство Валленштейна было в сравнительной перспективе, возможно, самым успешным за все время существования австрийского флага; однако, на деле, это была частная военная машина, созданная чешским генералом, которую династия наняла, но не контролировала (отсюда – убийство Валленштейна). Евгений, напротив, был полностью лояльным Вене, но савойцем без каких-либо корней в габсбургских землях; итальянец Монтекукколи и рейнландец Дорн – представители той же модели, но в меньшей степени. Постоянное использование иностранных наемников было, конечно, нормальной и универсальной чертой абсолютизма, но обычно это были рядовые солдаты, а не главнокомандующие вооруженными силами государства. Последние, естественно, набирались из правящего класса своих земель – местной знати. Однако в габсбургских владениях не было единого феодального класса, а только ряд территориально различных землевладельческих групп. Именно отсутствие объединенной аристократии сказывалось на всей способности габсбургского государства к ведению войны. Феодальная знать, как мы уже видели, изначально никогда не была «национальной» по характеру; она могла переезжать из одной страны в другую и выполнять свою роль в качестве землевладельческого класса, не обязательно имея какие-либо общие этнические или языковые связи с подчиненным ей населением. Культурное разобщение из-за языкового барьера часто сохранялось для повышения естественного барьера между правителями и управляемыми. С другой стороны, этническая или языковая разнородность внутри земельной аристократии единого феодального государства была обычно источником потенциальной слабости и дезинтеграции, потому что она вела к подрыву политической солидарности самого господствующего класса. Беспорядочные и случайные элементы габсбургского государства, без сомнения, во многом были следствием сложного и несогласованного характера составлявшей его знати. Недостатки аристократического многообразия были предсказуемыми и очевидными в самом чувствительном отделе государственной машины – армии. Из-за отсутствия социально единого дворянства габсбургские армии редко достигали тактико-технических данных их конкурентов Гогенцоллернов и Романовых.
Поэтому даже в наивысшей точке своего развития у австрийского абсолютизма отсутствовала структурная согласованность и определенность из-за фрагментарного характера социальных структур, над которыми он осуществлял правление. Собственно германские земли – старейшие и самые лояльные владения династии в Центральной Европе – всегда представляли надежное ядро Габсбургской империи. Дворянство и города сохраняли много традиционных привилегий в ландтагах Нижней и Верхней Австрии, Штирии и Каринтии; в Тироле и Форальберге крестьянство имело своих представителей в сословных собраниях – исключительный признак альпийского характера этих провинций. «Переходные» институты, унаследованные от средневековой эпохи, никогда не подавлялись, как в Пруссии, но к началу XVII в. они стали послушным инструментом габсбургской власти; их существование никогда серьезно не создавало препятствий к выражению воли династии. Таким образом, эрцгерцогские земли составили безопасную центральную базу правящего дома. К сожалению, они были слишком скромными и ограниченными, чтобы наделить единым королевским динамизмом габсбургское государство в целом. Уже в середине XVI в. они в экономическом и демографическом отношении уступали более богатым чешским землям: в 1541 г. налоговые поступления Австрии в имперскую казну составляли только половину чешских, и это соотношение 12 сохранялось до конца XVIII в. [421]
Поражение армий Валленштейна от шведов во время Тридцатилетней войны блокировало расширение германской базы династии, фактически изолировав эрцгерцогство от традиционной Империи. Более того, аграрное общество Австрии было в наименьшей степени образцом господствовавшей в габсбургских землях аграрной модели. Наполовину горный характер большей части региона делал местность неблагоприятной для крупных феодальных поместий. Результатом было сохранение мелкой крестьянской собственности в высокогорных областях и доминирование западного типа господского хозяйства на равнинах, окоченевших в восточных нормах эксплуатации; общими были наследственная юрисдикция и феодальные повинности, во многих областях барщина была тяжелой, но возможности для зернового хозяйства в консолидированных имениях и огромных латифундиях оставались сравнительно ограниченными [422] . Отвлекающее воздействие главного города на рабочую силу сельскохозяйственной округи позднее стало важным сдерживающим средством для появления помещичьего хозяйства [423] . Таким образом, «критическая масса» австрийской аристократии была слишком незначительна, чтобы стать эффективным притягательным центром для всего землевладельческого класса Империи.
С другой стороны, разгром чешских сословий в период Тридцатилетней войны, принес габсбургскому абсолютизму самый главный политический успех; богатые и плодородные чешский земли теперь, без сомнения, находились в его власти. Ни одно мятежное дворянство в Европе не постигла такая скорая печальная участь, как богемскую аристократию: после ее разорения в ее поместьях поселился новый землевладельческий класс, всем обязанный династии. История европейского абсолютизма не знает подобных эпизодов. Однако в габсбургском устройстве Богемии все же обнаруживается странность. Новая знать, созданная здесь династией, в основном происходила не из домов австрийского оплота Габсбургов; за исключением немногих католических чешских семей, вся она была импортирована из-за границы. Чуждое происхождение этого слоя указывало на отсутствие местной аристократии для ее переселения в Богемию, что увеличивало власть Габсбургов в чешской области на краткосрочный период, но было симптомом слабости в долговременной перспективе. Чешские земли были самыми богатыми и самыми густонаселенными в Центральной Европе, поэтому в следующем столетии и даже больше крупнейшие магнаты Габсбургской империи почти всегда владели огромными поместьями, обрабатываемыми крепостными, в Богемии или Моравии, а экономический центр основной массы правящего класса сместился к северу. Однако новая богемская аристократия с неохотой демонстрировала корпоративный дух и даже лояльность династии: в 1740-е гг. во время войны за Австрийское наследство подавляющая ее часть сразу же перебежала к баварским оккупантам. Этот класс был ближайшим эквивалентом служилого дворянства в государственной системе австрийского абсолютизма; но он был скорее случайным продуктом прошлой службы, чем носителем органических и непрерывных общественных функций; и, хотя он предоставлял много административных кадров габсбургской монархии, внутри нее он не смог стать господствующей или организующей силой.
Какими бы ни были ограничения землевладельческого класса в каждом секторе, консолидация имперской власти в австрийской и чешской частях габсбургских владений к середине XVII в., кажется, создала предпосылки для более однородного централизованного абсолютизма. Оставалась Венгрия, которая стала непреодолимым препятствием для унитарного королевского государства. Если можно было бы провести аналогию между двумя габсбургскими империями – с центрами в Мадриде и в Вене, то Австрию можно было бы уподобить Кастилии, а Богемию – Андалузии. Венгрия же была чем-то вроде восточного Арагона. Тем не менее сравнение очень неточное, потому что Австрия никогда не обладала экономическим и демографическим преобладанием Кастилии в качестве центра имперской системы, в то время как власть и привилегии венгерского дворянства превосходили даже те, которыми обладала арагонская аристократия, а важнейшая унифицирующая черта – общий язык – всегда отсутствовала. Венгерский землевладельческий класс был крайне многочисленным, составляя около 3–7% всего населения Венгрии. В то время как большинство из них были мелкими помещиками («мокасиновыми» помещиками) с крохотными участками земли, определенная часть венгерского дворянства представляла слой так называемых bene possesionati, которые владели средней по размеру собственностью и господствовали в политической жизни провинций: именно они характерным образом придавали венгерской знати в целом социальное лидерство и единство [424] . Система венгерских сословных собраний полностью действовала и никогда не уступала важных королевских полномочий габсбургской династии, которая правила в Венгрии лишь в силу «личной унии» и власть которой была там выборной и могла быть отозвана; феодальная конституция открыто включала jus resistendi, закреплявшим право дворянства восставать против посягательств короны на священные свободы мадьярской «нации». Еще со времен позднего Средневековья дворянство контролировало собственный элемент окружной администрации —комитаты ( comitatus ); собрания, постоянные комитеты которых были наделены судебными, финансовыми и бюрократическими функциями, были всесильны в деревне и обеспечивали высокую степень политического единства среди землевладельческого класса. Габсбурги пытались внести раскол в венгерскую аристократию, наделяя его самую богатую часть почестями и привилегиями; так, в XVI в. они учредили титулы, неизвестные до того времени в Венгрии (так же, как и в Польше), и в начале XVII в. способствовали юридическому отделению магнатов от мелкого дворянства [425] . Такая тактика не повлияла заметным образом на венгерский партикуляризм, в это время как раз укрепленный распространением протестантизма. Ко всему прочему близость турецкой военной мощи после Мохача управлявшей 2/з венгерских земель, была решающей объективной помехой к распространению централизованного австрийского абсолютизма на Венгрию. В XVI–XVII вв. в центральной Венгрии проживали дворяне, подчинявшиеся турецкому правлению; на востоке же в Трансильвании в рамках Османской империи было создано автономное княжество под управлением местных венгерских правителей, многие из которых были кальвинистами. Любая попытка Вены уничтожить древние прерогативы венгерской аристократии всегда могла поэтому натолкнуться на союз венгров с турками; в то же время честолюбивые трансильванские правители в своих интересах постоянно подстрекали своих соотечественников на габсбургской территории против Хофбурга, часто с хорошо подготовленной армией в своем распоряжении и с целью создания великой Трансильвании. Поэтому прочность мадьярского партикуляризма была также обусловлена мощной поддержкой из-за османской границы, которая снова и снова позволяла дворянству «христианской» Венгрии привлекать военную помощь, превышавшую ее местные силы.
На XVII столетие – великую эпоху дворянского беспокойства и трансформации Запада с цепью аристократических заговоров и мятежей, также пришлось одно единственное упорное и успешное феодальное сопротивление усиливавшейся монархической власти на Востоке в рамках развивавшегося абсолютизма. Первый важный раунд борьбы имел место в период Тринадцатилетней (австро-османской) войны. Военные успехи Габсбургов против турок сопровождались религиозными преследованиями и административной централизацией в завоеванных областях. В 1604 г., объединив мадьярское дворянство и разбойников гайдуков приграничья, в союзе с турками против имперских оккупационных сил восстал кальвинистский магнат Бочкаи; в 1606 г. Порта обеспечила себе выгодный мир, венгерская аристократия – религиозную терпимость Вены, а Бочкаи – княжескую власть в Трансильвании. В 1619–1620 гг. новый трансильванский правитель Габор Бетлен извлек пользу из чешского восстания, вторгшись и захватив большую часть габсбургской Венгрии, в союзе с местными протестантскими землевладельцами. В 1670 г. Леопольд I подавил заговор магнатов и направил военные силы в Венгрию; там была ликвидирована старая конституция и навязана новая централистская администрация под руководством немецкого лейтенант-губернатора с экстраординарными трибуналами для вынесения приговоров. Вскоре, после 1678 г., началась борьба под руководством графа Имре Текели, и в 1681 г. Леопольд был вынужден отказаться от своего конституционного переворота и подтвердить традиционные мадьярские привилегии, как только Текели призвал на помощь турок. В определенное время прибыли турецкие армии, и началась знаменитая осада Вены (1683). В итоге в 1687 г. турецкие силы были полностью вытеснены из Венгрии, а Текели отправился в изгнание. Леопольд не был достаточно силен, чтобы восстановить прежний централистский режим gubernium, но теперь смог обеспечить принятие венгерским сословным собранием в Братиславе династии Габсбургов в качестве наследственной, а не избираемой, монархии в Венгрии и аннулирование права на сопротивление (jus resistendi). Более того, австрийское завоевание Трансильвании в 1690–1691 гг. отныне окружило венгерское дворянство с тыла стратегическим блоком территорий, напрямую подчиненных Вене. Особые военные пограничные области, подчиненные Придворному военному совету (Hofkriegsrat ), простирались от Адриатики до Карпат; в то же время турецкая мощь в дунайском бассейне к началу XVIII в. была истощена. Вновь завоеванные земли были распределены между удачливыми иностранцами-военными и избранным кругом венгерских господ, чья политическая лояльность была теперь укреплена огромными поместьями на востоке.
Тем не менее первая же возможность для вооруженного мятежа, предоставленная международным конфликтом, была полностью использована венгерским дворянством. В 1703 г. военные налоги и религиозные преследования вынудили крестьянство северо-запада восстать; используя это народное восстание, магнат Ференц Ракоши возглавил последний мятеж в союзе с Францией и Баварией, двойная атака которых на Вену была остановлена только битвой при Бленхейме. К 1711 г. войска Габсбургов подавили восстание, и четыре года спустя венгерский землевладельческий класс впервые вынужден был согласиться с имперским налогообложением своих крепостных и созданием военных поселений в своих округах, в то время как за их пределами военные границы управлялись Придворным военным советом. Отныне Венгерская канцелярия была размещена в Вене. Но мирным договором в Затмаре традиционные социальные и политические привилегии венгерских землевладельцев были подтверждены: администрация страны осталась под их контролем [426] . После этого замирения следующие 150 лет больше восстаний не было; но в эпоху абсолютизма отношение объединившегося венгерского дворянства к династии Габсбургов было не похоже на отношения между любой другой восточной аристократией и монархией. Крайняя аристократическая децентрализация, закрепленная в средневековых законах и институтах, оказалась непреодолимой в степи (puszta). Австрийская основа имперской системы была слишком маленькой, чешская надстройка – слишком хрупкой, сопротивление венгерского общества слишком сильным, чтобы на Дунае появился типично восточный абсолютизм. Результатом стало блокирование любой окончательной строгости или единообразия в сложных государственных структурах, возглавляемых Хофбургом.
Через го лет после Пожаревацкого мира – высшей точки экспансии на Балканах и европейского престижа – габсбургский абсолютизм испытал унизительное поражение от своего гораздо меньшего соперника– Гогенцоллернов. Завоевание Пруссией Силезии во время войны за Австрийское наследство отобрало самую процветающую и промышленно развитую провинцию центральноевропейской империи: Бреслау превратился в ведущий коммерческий центр традиционных династических земель. Временно был потерян контроль над титулом императора, перешедшим к Баварии, и подавляющее большинство богемской аристократии переметнулось к новому баварскому императору. В конечном счете Богемия была возвращена; но десятилетие спустя австрийский абсолютизм был снова глубоко потрясен Семилетней войной, в которой, несмотря на альянс с Россией и Францией, подавляющее численное превосходство и колоссальные расходы, он не смог вернуть Силезию. Пруссия с казной, составлявшей 1/3 казны Австрии, и населением в 1/6 от австрийского, дважды одержала победу над ней. Двойной шок ускорил решительные шаги реформ в габсбургском государстве в правление Марии Терезии, проводимые канцлерами Гаугвицем и Кауницем с целью модернизировать и обновить весь аппарат правительства [427] . Богемская и австрийская канцелярии были слиты в единый орган, соответствующие апелляционные суды объединены, а отдельный законодательный порядок для чешского дворянства полностью отменен. Впервые налогами были обложены аристократия и клир обеих земель (но не Венгрии), их сословия были принуждены поступиться десятилетними доходами для содержания возросшей постоянной армии в 100 тысяч солдат. Придворный военный совет был реорганизован и получил неограниченные полномочия по всей Империи. Был создан Высший государственный совет, чтобы интегрировать и направить механизм абсолютизма. Постоянные королевские чиновники —kreis hauptmänner— были назначены в каждый округ Богемии и Австрии, чтобы осуществлять централизованную юстицию и управление. Таможенные барьеры между Богемией и Австрией были отменены, а в отношении иностранного импорта введены протекционистские тарифы. Закон ограничил трудовые повинности крестьян. Чтобы увеличить поступления в имперскую казну, неумолимо осуществлялись королевские фискальные полномочия. Была подготовлена организованная эмиграция для колонизации Трансильвании и Баната. Однако вскоре меры Марии Терезии были превзойдены широкой программой дальнейших реформ, осуществленной Иосифом II.
Новый император эффектно нарушил австрийскую традицию, основанную преимущественно на фициальном клерикализме. Была провозглашена религиозная терпимость, отменены церковные владения, сокращено количество монастырей, регламентированы церковные службы, а университеты подчинены государству. Был введен новый уголовный кодекс, реформированы суды и отменена цензура. Государство всемерно поощряло светское образование, к концу правления примерно один из трех детей учился в начальной школе. Был разработан модернизированный курс обучения для подготовки хорошо образованных инженеров и чиновников. Гражданская служба стала профессиональной, а на ее должности назначались на основе заслуг, одновременно за ней осуществляла тайное наблюдение сеть полицейских агентов, созданная по прусской системе. Было прекращено управление налогообложением со стороны сословных собраний, впредь этим напрямую занималась монархия. Постоянно увеличивалось налоговое бремя. Ежегодные сессии сословных собраний были запрещены: теперь ландтаг мог быть созван только династией. Был введен рекрутский набор, а армия увеличилась почти до 300 тысяч солдат [428] . Тарифы неумолимо повышались, чтобы обеспечить управление внутренним рынком, в то же время были уничтожены городские цехи и корпорации, чтобы расширить свободную конкуренцию внутри Империи. Совершенствовалась транспортная система. Эти шаги были радикальными, но они не выходили за рамки обычных мер абсолютистского государства в эпоху Просвещения. Однако программа Иосифа этим не исчерпывалась. После серьезных крестьянских выступлений в Богемии в предшествующее десятилетие в 1781 г. серией уникальных для истории абсолютистской монархии декретов было отменено крепостничество и всем подданным гарантировано право на свободный брачный выбор, передвижение, работу, профессию и собственность. Крестьянам была предоставлена гарантия их собственности там, где они не обладали ею ранее, а дворянам запрещено захватывать крестьянские участки. Наконец, все трудовые повинности были отменены для крестьян, обрабатывающих землю (т. е. прикрепленных к земле), заплативших 2 флорина или больше годового налога, налоговые ставки уравнены и учреждены официальные нормы для распределения общего количества продукции для таких арендаторов: 12,2 % в налогах для государства, 17,8 % ренты и десятины в пользу господ и Церкви и 70 % должно оставаться самим крестьянам. Несмотря на не слишком большой охват – чуть более 1/5 чешских крестьян смогли воспользоваться этим [429] , – последняя мера угрожала крутыми переменами в общественных отношениях на селе и прямо била по жизненно важным экономическим интересам землевладельческой знати всей Империи. В среднем в тот период доля аграрного продукта, остававшегося в распоряжении производителя, составляла около 30 % [430] ; новый закон одним ударом уменьшал вдвое доходы, извлекаемые феодальным классом. Гневный протест аристократии был громким и всеобщим, подкрепленный повсюду саботажем и сопротивлением.
Тем временем централизм Иосифа II вызвал политические волнения в двух окраинах Империи. Городские корпорации и средневековые хартии отдаленных бельгийских провинций были растоптаны Веной; оскорбленные религиозные чувства, патрицианская враждебность и народный патриотизм соединились, чтобы породить вооруженное восстание, совпавшее по времени с Французской революцией. Еще более угрожающими были волнения в Венгрии. Иосиф II также был первым габсбургским правителем, силой интегрировавшим Венгрию в унитарные имперские рамки. Евгений Савойский убеждал династию превратить ее разнородные земли в организационное целое —ein Totum; этот идеал теперь наконец-то был методично воплощен. Все главные реформы Иосифа (церковная, социальная, экономическая и военная) были навязаны Венгрии, несмотря на протесты венгерского дворянства. На Венгрию была распространена окружная бюрократия, и ей подчинена древняя окружная система; отменен фискальный иммунитет землевладельческого класса; введено королевское судопроизводство. К 1789 г. венгерские сословия были явно готовы к восстанию. В то же самое время потерпела неудачу внешняя политика монархии. Иосиф II дважды предпринимал попытки захватить Баварию, во второй раз предложив обменять ее на Бельгию; эта логичная и рациональная цель, достижение которой изменило бы стратегические позиции и внутреннюю структуру Австрийской империи, решительно повернув ее обратно на запад в Германию, была блокирована Пруссией. Примечательно, что Австрия не смогла пойти на риск войны с Пруссией по этому вопросу, даже после большого военного строительства в правление Иосифа II. Результатом стало возвращение австрийской экспансии на Балканы, где османские армии тотчас же нанесли несколько поражений императору. Конечная цель всей напряженной капитальной перестройки австрийского абсолютизма – восстановление его международного военного статуса – тем самым была сорвана. Правление Иосифа закончилось крушением иллюзий и поражением. Среди крестьян были непопулярны военные налоги и рекрутские наборы, инфляция привела к большим затруднениям в городах; снова была введена цензура [431] . Наиболее показательно, что отношения между монархией и аристократией достигли критической точки. Чтобы предотвратить мятеж в Венгрии, здесь отказались от централизации. Смерть Иосифа II стала сигналом для быстрой и общей феодальной реакции. Его преемник Леопольд II был вынужден немедленно отменить Земельные законы 1789 г. и восстановить политическую власть венгерского дворянства. Венгерские сословия законным образом отменили реформы Иосифа и прекратили налогообложение дворянских земель. Начало Французской революции и Наполеоновские войны объединили династию и аристократию всей империи, скрепив их в общем консерватизме. Уникальный эпизод слишком «просвещенного» деспотизма завершился.
Парадоксально, но возможным его сделала самая неразрешимая проблема австрийского абсолютизма. Огромной слабостью и ограниченностью Габсбургской империи являлось отсутствие какой-либо объединенной аристократии, чтобы образовать полностью служилую знать восточного типа. Однако именно этот общественный недостаток позволял «безответственную» свободу взглядов самодержавия Иосифа. Именно из-за того, что землевладельческий класс не был встроен в аппарат австрийского государства так же, как в Пруссии и России, абсолютная монархия могла осуществлять программы, эффективно наносившие ему ущерб. Не имевшая корней ни в одной территориальной знати, которая обладала бы классовой сплоченностью, монархия могла получить недолговечную автономию, неизвестную ее соседям. Отсюда уникально «антифеодальный» характер указов Иосифа в сравнении с более поздними реформами других восточных абсолютистских режимов [432] . Инструментом королевского обновления в Габсбургской империи также выступала бюрократия, сильнее отчужденная от аристократии, чем в любой другой стране региона; она набиралась главным образом из верхушки немецкого среднего городского класса, в культурном и социальном отношении далекого от землевладельцев. Но относительная отчужденность монархии от разнородных землевладельцев своей страны также была причиной ее внутренней слабости. В международном отношении программа Иосифа завершилась полным фиаско. Внутри социальная природа абсолютистского государства неумолимо подтверждалась красноречивой демонстрацией недостаточности личной воли правителя, если он пошел против коллективных интересов того класса, который абсолютизм исторически должен был защищать.
Вот почему Австрийская империя вышла из Наполеоновских войн в качестве опоры европейской реакции, а Меттерних – главой монархической и клерикальной контрреволюции на континенте. Габсбургский абсолютизм медленно дрейфовал всю первую половину XIX в. Тем временем зарождавшаяся индустриализация породила новое городское население (рабочий класс и средний класс), а коммерческое сельское хозяйство распространялось с Запада на Восток с приходом новых культур (сахарной свеклы, картофеля, клевера) и ростом производства шерсти. Крестьяне были освобождены от личной зависимости, но все еще повсюду в Империи подчинялись наследственной юрисдикции своих помещиков и почти везде несли тяжелые трудовые повинности в пользу знати. В этом отношении наследственное крепостное право ( Erbuntertänigkeit) традиционного типа все еще господствовало почти на 8о% территории Империи, включая все основные области Центральной Европы: Верхнюю Австрию, Нижнюю Австрию, Штирию, Каринтию, Богемию, Моравию, Галицию, Венгрию и Трансильванию; a robot (крестьянин, обязанный нести повинности) оставался главным источником труда в аграрной экономике [433] . В 1840-е гг. типичный немецкий или славянский крестьянин все еще удерживал только около 30 % своей продукции после уплаты налогов и обязательных платежей. В то же время все больше землевладельцев понимали, что средняя производительность наемного труда намного выше, чем принудительный труд robot’ ов, и стремились перейти к первому; статистически это изменение взглядов основывается на их согласии произвести коммутацию барщины по цене значительно меньшей, чем минимальная оплата за равный наемный труд [434] . Одновременно увеличившееся количество безземельных крестьян переезжало в города, где многие из них становились городскими безработными. Теперь, в после-наполеоновскую эпоху, неизбежно поднималось национальное самосознание: сначала в городах, а позднее и в деревне. Политические требования буржуазии вскоре стали больше национальными, чем либеральными; Австрийская империя превратилась в «тюрьму народов».
Эти накопившиеся противоречия смешались и воспламенили революции 1848 г. В конце концов, династия подавила городские восстания и национальные выступления во всех землях. Но крестьянские выступления, которые придали революциям их массовость, можно было усмирить, только удовлетворив основные требования деревни. Собрание 1848 г. выполнило эту обязанность за монархию, прежде чем оно было разогнано победой контрреволюции. Феодальная юрисдикция была отменена, уничтожено разделение земли на крестьянскую и господскую; всем держателям земли была гарантирована равная безопасность их собственности, и формально отменены феодальные повинности: трудовые, натуральные или денежные, с возмещением господам, одна половина которых должна была быть уплачена держателем земли, а другая-государством. Австрийский и чешский землевладельческий класс, уже знавший блага свободного труда, не противостоял этому решению: его интересы были щедро удовлетворены путем компенсационных статей, проведенных несмотря на сопротивление крестьянских представителей [435] . Венгерское сословное собрание под руководством Кошута отменило повинности даже на более выгодных условиях для дворянства: компенсация в Венгрии полностью выплачивалась крестьянами. Аграрный закон от 7 сентября 1848 г. гарантировал господство капиталистических отношений в деревне. Земельная собственность стала еще более сконцентрированной, так как мелкое дворянство продавало ее, а бедные крестьяне стекались в города, в то время как крупные знатные магнаты увеличивали свои латифундии и рационализировали управление и производство за счет компенсационных фондов. Ниже их, особенно в австрийских землях, формировался слой зажиточных крестьян (Grossbauern ), но с приходом капиталистического сельского хозяйства распределение земли, возможно, было более поляризованным, чем когда-либо. В 1860-е гг. 0,16 % имений в Богемии – крупных магнатских поместий – покрывали 34 % земли [436] .
Теперь все более капиталистическое сельское хозяйство подпирало габсбургскую политическую систему. Однако абсолютистское государство вышло нереконструированным из тяжелых испытаний 1848 г. Либеральные требования гражданских свобод и избирательных прав выполнены не были, национальные устремления подавлены. Феодальный династический порядок пережил «весну народов» Европы. Но его способность к активной эволюции или адаптации была утеряна. Австрийские аграрные реформы были заслугой недолговечного революционного собрания, а не инициативой королевского правительства, в отличие от прусских реформ 1808–1811 гг.; Хофбург лишь признал их после событий. Точно так же военное поражение наиболее мощного национального восстания в Центральной Европе, создавшего отдельное государство венгерских дворян, с утверждением собственных министров, бюджета, армии и внешней политики, которое снова было бы связано с Австрией лишь «личной унией», – было заслугой не австрийских, а русских армий (мрачный повтор династических традиций). Отныне габсбургская монархия становилась все более и более пассивным объектом событий и конфликтов за ее пределами. Хрупкая реставрация 1849 г. позволила ей на короткое десятилетие достичь давно задуманной цели полной административной централизации. Система Баха ввела единую бюрократию, законодательство, налогообложение и таможенную зону во всей Империи; в Венгрию были введены гусары, чтобы заставить ее подчиниться. Но стабилизация такой централистской автократии была невозможна; она была слишком слаба в международном отношении. Поражение от Франции при Сольферино и потеря в 1859 г. Ломбардии потрясли монархию столь сильно, что потребовалось внутриполитическое отступление. Жалованная грамота 1861 г. разрешила непрямое избрание провинциальными ландтагами имперского парламента, или рейхсрата (имперского совета), по четырем куриям, с ограниченным избирательным правом и гарантией немецкого превосходства. Имперский совет не имел контроля над министрами, рекрутскими наборами или сбором существующих налогов; он был беспомощным и существовал символически, не сопровождаемый какой-либо свободой прессы или даже иммунитетом депутатов [437] . Мадьярское дворянство отказалось принять это, и в Венгрии было восстановлено полное военное правление. Поражение, нанесенное Пруссией при Садовой, еще больше ослабившее монархию, через шесть лет уничтожило этот временный режим.
Вся традиционная структура абсолютистского государства теперь подверглась неожиданному и резкому удару. В течение трех столетий старейшим и самым грозным врагом габсбургского централизма всегда было венгерское дворянство – самый непреклонно партикуляристский, солидарный в культурном отношении и репрессивный в социальном плане землевладельческий класс Империи. Окончательное изгнание турок из Венгрии и Трансильвании в XVIII в., как мы видели, временно прекратило венгерскую нестабильность. Но следующие сто лет, период очевидной политической интеграции Венгрии в Австрийскую империю, стали, в действительности, подготовкой окончательной и впечатляющей смены ролей. Отвоевание оттоманской Венгрии и Трансильвании, а также освоение и колонизация огромных пространств на востоке решительно увеличили экономический вес венгерского правящего класса внутри Империи в целом. Крестьянская миграция на центральновенгерскую равнину вначале стимулировалась выгодными владениями; но как только она была снова заселена, немедленно усилилось давление землевладельцев, господские имения увеличивались, а крестьянские участки отбирались [438] . Сельскохозяйственный бум эпохи Просвещения, несмотря на дискриминационную тарифную политику Вены [439] , весьма обогатил большую часть дворянства и заложил основы магнатских состояний, которым не было равных. Исторически, дворянство, имевшее владения в Чехии, было самым богатым в габсбургских владениях; к XIX в. это было уже не так. Семья Шварценбергов могла владеть 479 тысячами акров в Чехии; а семья Эстергази обладала 7 миллионами акров в Венгрии [440] . Таким образом, самоуверенность и агрессивность мадьярского землевладельческого класса в целом, как мелкого дворянства, так и магнатов, постепенно усиливались новым увеличением их владений и ростом их значимости в центрально-европейской экономике.
И все же в XVIII – начале XIX в. венгерская аристократия никогда не допускалась в высший совет габсбургского государства; ее всегда держали на расстоянии от имперского политического аппарата. Ее оппозиция Вене оставалась самой большой внутренней опасностью для династии; революция 1848 г. показала ее характер, когда она одновременно навязала более жесткое аграрное законодательство для крестьян, чем могла себе позволить австрийская и чешская аристократия, и в то же время успешно сопротивлялась карательным королевским войскам, пока не была разгромлена экспедицией, направленной против нее царем. Поэтому по мере постепенного ослабления австрийского абсолютизма в результате последовавших одна за другой внешнеполитических катастроф и постепенного усиления народного движения в Империи династию логично и неумолимо влекло в объятия к ее наследственному врагу – самому агрессивному феодальному дворянству, оставшемуся в Центральной Европе, единственному земельному классу, способному оказать ей поддержку. Победа Пруссии над Австрией в 1866 г. обеспечила приход господства Венгрии в Империи. Чтобы избежать распада, монархия приняла формальное партнерство. Дуализм, который создал в 1867 г. «Австро-Венгрию», обеспечил мадьярскому землевладельческому классу полную внутреннюю власть в Венгрии с собственным правительством, бюджетом, собранием и бюрократией, сохранив лишь общую армию и внешнюю политику, а также возобновляемый Таможенный союз. В то время как в Австрии монархия вынуждена была даровать гражданское равенство, свободу слова и светское образование, в Венгрии дворянство не делало таких уступок. Отныне венгерская знать представляла воинствующее и деспотическое крыло аристократической реакции в Империи, которое все больше господствовало в кадровом составе и политике абсолютистского аппарата самой Вены [441] .
Что касается Австрии, то политические партии, общественная агитация и национальные конфликты постепенно подрывали жизнеспособность самодержавного правления. Через 40 лет, в 1907 г., в разгар городских забастовок и народных откликов на русскую революцию 1905 г., династия была вынуждена разрешить всеобщее избирательное право мужчин в Австрии. В Венгрии землевладельцы твердо удерживали свою классовую монополию на право голосовать. Таким образом, Австрийская империя так и не смогла преобразоваться, как это сделала Германская империя, в капиталистическое государство. Когда началась Первая мировая война, в ней все еще не было парламентского контроля за имперским правительством, не было премьер-министра, не было единой системы выборов. Имперский совет «не имел никакого влияния на политику, а его депутаты не имели надежд на государственную карьеру» [442] . Свыше 40 % населения – жители Венгрии, Хорватии и Трансильвании– были исключены из системы тайного голосования или всеобщего избирательного права для мужчин; для тех 6о %, кто обладал этим правом в австрийских землях, оно оставалось номинальным, так как их голоса не влияли на государственные дела. По иронии судьбы, несмотря на вопиющие подтасовки, самый влиятельный электорат и ответственное министерство существовали в Венгрии, но только потому, что оба были ограничены рамками землевладельческого класса. В основном, конечно, Австрийская империя была разрушающейся противоположностью буржуазного национального государства; она представляла собой полное отрицание принципов капиталистического политического порядка в Европе. Ее германский конкурент достиг структурной трансформации, как раз руководя национальным строительством, что было отвергнуто Австрийским государством. Противоположная направленность общественной эволюции каждого из двух абсолютистских режимов имела соответствие в их геополитической эволюции. В течение XIX столетия Прусское государство медленно, но неумолимо двигалось на запад, вместе с индустриализацией Рура и капиталистическим развитием Рейнланда. Австрийское государство в ту же эпоху двигалось в противоположном направлении, на восток, с растущим влиянием Венгрии, последнего прибежища идеологии крупных землевладельцев. Соответственно последним приобретением династии стала самая отсталая территория во всей Империи – балканские провинции Босния и Герцеговина, захваченные в 1909 г., где традиционное крепостное право местных крестьян ( кметей) никогда серьезно не изменялось [443] . Начало Первой мировой войны привело к завершению траекторию австрийского абсолютизма: германские армии сражались в битвах, а венгерские политики определяли ее дипломатию. В то время как прусский генерал Маккензен командовал на поле боя, мадьярский лидер Тиса стал канцлером Империи. Поражение разрушило тюрьму народов до основания.
6. Россия
Теперь мы подошли к самому последнему и самому долговечному абсолютизму в Европе. Царизм пережил всех своих предшественников и современников, и Россия осталась единственным абсолютистским государством на континенте, в неизменном виде попавшим в XX в. Испытания, выпавшие этому государству, привели к раздробленности в ранний период его истории. Экономический спад, обозначивший начало позднего феодального кризиса, начался там, как известно, в тени татарского ига. Войны, гражданские конфликты, эпидемии, депопуляция и заброшенные поселения были характерной картиной XIV – первой половины XV в. С 1450 г. началась новая эра экономического возрождения и экспансии. В течение последующего столетия численность населения выросла, сельское хозяйство окрепло, резко возросла внутренняя торговля и денежный оборот, в то же время территория Московского государства увеличилась более чем в 6 раз. Трехпольная система, до тех пор фактически неизвестная в России, начала замещать традиционное и затратное подсечно-огневое земледелие с господством сохи; несколько позже мельницы стали обычным явлением в деревнях [444] . Сельское хозяйство не было экспортно-ориентированным, и хозяйства все еще были по большей части закрытыми, но наличие крупных городов, управляемых великим князем, создавало рынок сбыта для поместной продукции; особенно преуспели в этом монастырские поместья. Появление городских мануфактур и рост товарооборота сопровождались территориальной унификацией Московии и стандартизацией денег. Объем наемного труда в городе и в деревне резко вырос, а международная торговля через территорию России процветала [445] . Именно на этом этапе экономического роста Иван III заложил основания русского абсолютизма введением системы поместий.
Ранее российский землевладельческий класс состоял в основном из автономных и тяготевших к сепаратизму князей и боярской знати (преимущественно татарского или восточного происхождения), владевших значительным количеством рабов и обширными аллодиальными имениями. Эти магнаты постепенно стекались к восстановившемуся московскому двору где они и формировали окружение монарха, сохраняя за собой право взимания собственных налогов и поборов. Завоевание Иваном III Новгорода в 1478 г. позволило крепнувшему княжескому государству экспроприировать обширные земли и создать на этих территориях новое мелкопоместное дворянство, которое с тех пор формировало военный класс Московии. Жалование поместья было обусловлено участием в военных кампаниях в армии правителя; владелец поместья по закону был обязан нести эту службу, а его статус был четко закреплен. Помещики были кавалеристами, вооруженными луками и мечами для хаотичного сражения; подобно татарским всадникам, которым они должны были противостоять, они не использовали огнестрельного оружия. Большая часть земель, получаемых ими от князя, находились в центре и на юге страны, вблизи постоянного фронта войны с татарами. В то время как типичная боярская вотчина была крупным имением со значительными доходом, получаемым от зависимых крестьян и рабского труда (в начале XVII в. среднее число крестьянских хозяйств на одну вотчину в Московском регионе составляло 520), дворянское же поместье было небольшим владением с 5–6 принадлежавшими им крестьянскими хозяйствами [446] . Ограниченный размер помещичьих землевладений и изначально строгий контроль над их эксплуатацией, вероятно, означали, что их производительность была в основном ниже, чем на наследственных боярских и монастырских землях. Экономическая зависимость дворян от пожалования земель великим князем была настолько сильной, что практически не оставляла им возможностей для развития социальных и политических инициатив. Но уже к 1497 г, вероятно под их давлением, Иван III издал Судебник, ограничивший свободу перехода крестьян по всему Московскому государству до двух недель в течение года до и после Юрьева дня в ноябре; это был первый решительный шаг к полному закрепощению русского крестьянства, хотя до завершения этого процесса оставалось еще далеко. Василий III, ставший великим князем в 1505 г., продолжил политику своего предшественника: был присоединен Псков, и система поместий расширилась, так же как и их политическое и военное значение для династии. В некоторых случаях наследственные земли князей или бояр брались под контроль и их владельцев переселяли на другие земли, уже на условиях военной службы государству. Иван IV, объявивший себя царем, ускорил этот процесс путем полной экспроприации земель враждебных землевладельцев и создания террористического охранного корпуса (опричников ), которые за службу получали конфискованные поместья.
Хотя деятельность Ивана IV явилась значительным шагом на пути к созданию самодержавия, часто ей в ретроспективе придается отсутствовавшая на деле логичность. В самом деле, его правление создало три важных условия для развития русского абсолютизма. Татарская власть на востоке была ликвидирована с освобождением Казани в 1556 г. и присоединением Астраханского ханства, что ликвидировало вековые препоны для расширения Московского государства. Этой значимой победе предшествовало развитие двух важных новшеств в русской военной системе: масштабное использование тяжелой артиллерии и минирования крепостей (решающий фактор при взятии Казани) и формирование первой постоянной пехоты м ушкетеров-стрельцов; оба фактора имели большое значение для будущей экспансии. В то же время система поместий была унифицирована на новом уровне, что окончательно нарушило баланс сил между боярами и царем. Опричные конфискации впервые сделали условные землевладения основной формой держания земли в России, в то время как от владельцев вотчин стали также требовать несения обязательной службы, а рост монастырских землевладений был ограничен. Результаты этих изменений были очевидны в принижении значения Боярской думы в период правления Ивана IV и в созыве первого Земского собора, где было широко представлено дворянство [447] . Но важнее всего то, что Иван IV предоставил помещикам право самим определять уровень оброка, взимаемого с крестьян, проживающих на их землях, и самим его собирать – впервые сделав их, таким образом, хозяевами над рабочей силой в своих имениях [448] . В то же время с отменой системы кормлений для провинциальных чиновников и созданием центральной казны для сбора фискальных поступлений были модернизированы административная и налоговая системы. Система органов местного самоуправления (губы), составленная в основном из служилых дворян, еще сильнее интегрировала этот класс в правительственный аппарат российской монархии. В совокупности эти военные, экономические и административные меры значительно усилили политическую мощь центрального царского государства.
С другой стороны, и внешнеполитические, и внутренние достижения царствования были в значительной мере подорваны пагубным влиянием бесконечных Ливонских войн, которые обескровили государство и экономику, и террором опричнины. Опричному «государству в государстве» [449] , которое насчитывало около 6 тысяч человек военной полиции, было вверено управление Центральной Россией. Его репрессии не имели рациональной причины: они обычно выполняли безумные поручения Ивана IV, обоснованные только личной местью. Они не угрожали боярам как классу, они только отбирали среди них конкретных людей; их произвол в городах, подрыв земельной системы и сверхэксплуатация крестьян стали непосредственной причиной центробежного коллапса московского общества в последние годы правления Ивана IV [450] . В то же время Иван совершил значительную ошибку после своей победы на востоке: вместо того чтобы развернуться на юг и ликвидировать постоянную угрозу безопасности и стабильности России, источник которой находился в Крымском ханстве, он продолжил политику западной экспансии в направлении Балтийского моря. Способные нанести поражение сравнительно примитивным, хотя и отважным, восточным кочевникам, новые русские вооруженные силы не могли противостоять более обученным польской и шведской армиям, экипированным западным оружием и владеющим западной тактикой. Двадцатипятилетняя Ливонская война закончилась крахом для московского общества из-за огромных расходов и дезорганизации сельскохозяйственной экономики. Поражение в Ливонской войне и внутренняя деморализация от плети опричников спровоцировали гибельный исход крестьян Центральной и Северо-Западной России на недавно приобретенные окраины страны, оставлявший опустошенными целые регионы. Отныне бедствия следовали одно за другим в знакомом цикле налоговых изъятий, неурожаев, эпидемий, внутреннего мародерства и иностранных интервенций. В 1571 г. татары разграбили Москву, а опричники – Новгород.
В отчаянной попытке усмирить социальный хаос, в 1581 г. Иван IV запретил все крестьянские перемещения, впервые закрыв возможность перехода в Юрьев день; указ носил исключительный характер, распространяясь лишь на один заповедный год, но в следующем десятилетии к этой мере периодически возвращались. Эти запреты были не в состоянии решить непосредственную проблему массовых побегов, поскольку огромные просторы московских земель лежали в запустении. В наиболее пострадавших районах количество обрабатываемой земли на одно хозяйство снизилось до Уз или Vs от предыдущих показателей; в сельском хозяйстве воцарился упадок; в Московском регионе, по разным оценкам, от 76 до 96 % поселений оказались заброшены [451] . Посреди этого провала в деревенском порядке, выработанном в течение предыдущего века, внезапно возродилось рабство: многие крестьяне продавали себя как имущество, чтобы избежать голода. Общим итогом правления Ивана IV стало замедление политического и экономического развития русского феодального общества на десятилетия вперед, разрушившее его собственные первые успехи [452] . Жестокость правления Ивана была признаком истерического и искусственного характера его стремления к абсолютизму в условиях, когда создание самодержавной системы было еще преждевременно.
Последующее десятилетие сопровождалось некоторым ослаблением глубокого экономического кризиса, в который была погружена Россия, но дворянство испытывало недостаток крестьянского труда для обработки собственной земли, а теперь страдало еще и от высокой инфляции. Борис Годунов, магнат, получивший власть после смерти Ивана, переориентировал внешнюю политику России на заключение мира с Польшей на западе, войну с Крымскими татарами на юге и, помимо прочего, приобретение Сибири на востоке: для выполнения всего этого он нуждался в лояльности военного служилого класса. Для того чтобы получить поддержку дворян Годунов в 1592 или 1593 г. издал указ, запретивший любое крестьянское перемещение до последующего уведомления, таким образом отменив любые временные ограничения на прикрепление к земле. Указ стал кульминационным пунктом политики закрепощения конца XVI – начала XVII в. [453] За этим последовал рост трудовых повинностей и юридические меры, прекратившие переход из низших социальных групп в класс помещиков. Устранение Годуновым последнего наследника династии Рюриковичей предопределило и его скорое падение. Русское государство было ввергнуто в состояние хаоса, получившего название Смутного времени (1605–1613) – отсроченное политическое последствие экономического коллапса 1580-х гг. Страну сотрясали интриги из-за престолонаследия, узурпация власти, конфликты между боярами и иностранная интервенция Польши и Швеции. Кризис власти создал условия для ведомого казачеством крестьянского восстания в 1606–1607 гг. под предводительством Ивана Болотникова. Такие казачьи бунты перемежали события последующих двух столетий. Возглавляемая сбежавшим холопом, ставшим бандитом, пестрая масса людей двинулась из городов и деревень юго-запада на Москву с целью поднять городскую бедноту против бояр, узурпировавших власть. Эта угроза быстро объединила враждебные прежде друг другу силы дворян и бояр против мятежников, которые в конце концов были разбиты в Туле [454] . Но первый социальный взрыв низов против роста феодальных репрессий и закрепощения стал предупреждением правящим классам о возможных будущих штормах.
К 1613 г. аристократия сплотила свои ряды для того, чтобы избрать молодого боярина Михаила Романова императором. Воцарение династии Романовых создало условия для постепенного восстановления абсолютизма в России, который продлится в течение последующих 300 лет. Центральная группа бояр и дьяков, обеспечивших возвышение Михаила I, сохранила в течение переходного периода Земский собор, который формально и проголосовал за него. С оживлением экономики в стране в ответ на требования дворян новое правительство обеспечило активное возвращение беглых крестьян, включая и тех, кто входил в состав народного ополчения в Смутное время. Патриарх Филарет, отец Михаила, фактически возглавил страну в 1619 г. и пошел на дальнейшие уступки помещикам, пожаловав им территории черносошных крестьян на севере.
Но режим Романовых был в основе своей боярским, выражавшим интересы столичных магнатов и коррумпированного московского чиновничества, а не провинциального дворянства [455] . Начиная с XVII в. нарастал конфликт между классом помещиков – самой многочисленной в России группой землевладельцев (около 25 тысяч человек) – и абсолютистским государством, которое в тот период приобрело черты, сближавшие его с европейскими странами, но имело и особые признаки, выдававшие его восточный характер. Маленькая боярская элита российской аристократии (40–60 семей) жила значительно богаче, чем рядовые дворяне. Она была крайне неоднородна по своему составу: его основу составляли татары, к которым в течение XVII в. примешались польские, литовские, немецкие и шведские фамилии. Бояре были тесно связаны с высшими эшелонами центральной бюрократии и соседствовали с ними в системе рангов московской иерархии службы. Позиции, занимаемые этими двумя группами, ставили их высоко над дворянством. Таким образом, это был союз бояр и чиновников, постоянно раскалываемый личными и групповыми конфликтами, из-за которых правительственный курс в начале эпохи Романовых непредсказуемо корректировался.
Между этой группой и служилым дворянством существовали два главных противоречия. Во-первых, военное превосходство Швеции и Польши, доказанное в Ливонских войнах и подтвержденное в Смутное время, заставляло восстановить и модернизировать российскую армию. Неорганизованная помещичья кавалерия, не обученная ни согласованной дисциплине, ни ведению огня, как и деморализованные городские стрельцы, была анахронизмом в годы Тридцатилетней войны в Европе. Будущее было за пехотными соединениями, обученными строю и маневрам и экипированными легкими мушкетами; их подкрепляли отборные драгуны. Поэтому в правление Филарета власти приступили к созданию регулярного войска по этому образцу, привлекая иностранных офицеров и наемников. Однако служилое дворянство отказалось принять современные формы ведения войны и присоединиться к полкам западного типа, которые были впервые использованы в безуспешной Смоленской войне (1632–1634) [456] . В результате увеличилось расхождение между номинальной служилой ролью класса помещиков и фактическим составом российских вооруженных сил, которые все больше состояли из профессиональных полков обновленной пехоты и кавалерии, а не периодических сборов верховых дворян. Весь военный смысл существования последних, начиная с 1630 г., оказался под сомнением. В то же время внутри самого класса землевладельцев усилились противоречия между боярами и дворянами по поводу размещения рабочей силы в деревне. Несмотря на то что российское крестьянство теперь было законом привязано к земле, оно по-прежнему продолжало убегать от своих хозяев, пользуясь наличием обширных и невозделанных просторов страны, не имевшей четко очерченных границ на севере, востоке и юге. На практике крупные землевладельцы могли привлекать крепостных из бедных поместий на свои территории, где условия сельскохозяйственного труда были более стабильными и благополучными, а феодальные повинности сравнительно менее обременительными. Поэтому дворянство требовало отмены всех ограничений на возвращение беглых крестьян, а крупные бояре успешно интриговали, чтобы сохранить ограничения по времени, после которого насильственные возвращения были невозможны: 10 лет после 1615 г. и 5 лет после 1642 г. Трения между боярами и дворянами по поводу законов против беглых были одним из лейтмотивов эпохи, и дворянские возмущения в столице периодически становились поводом, чтобы добиться уступок от царя и высшей знати [457] . С другой стороны, ни военные, ни экономические конфликты, иногда даже очень острые, не могли разрушить фундаментальное единство класса землевладельцев перед лицом эксплуатируемых деревенских и городских масс. Народные бунты XVII–XVIII вв. только усиливали солидарность феодальной аристократии [458] .
К окончательной кодификации российского крепостничества привело стечение обстоятельств. В 1648 г. подъем налогов и цен спровоцировал бунт ремесленников в Москве, который совпал со вспышкой крестьянских восстаний в провинциях и мятежом стрельцов. Обеспокоенное возникшей опасностью, боярское правительство приняло решение о созыве чрезвычайного Земского собора, который отменил все ограничения насильственного возвращения беглых крестьян, выполнив, таким образом, требования провинциального дворянства и сплотив его вокруг центральной власти. На земском соборе был принят всеобъемлющий свод законов, который стал общественной хартией русского абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. окончательно кодифицировало и завершило закрепощение крестьян, которые теперь полностью были привязаны к земле. И вотчина, и поместье объявлялись наследственными землями, продажа и покупка последнего запрещалась; все виды имений были теперь обусловлены военной службой хозяев [459] . Города подвергались более жесткому контролю со стороны царя и резко отделялись от остальной страны: их посадская беднота приравнивалась к государственным крепостным, выплата налогов стала условием проживания в городе, и никто из жителей не мог покинуть город без царского разрешения. Высшая прослойка торговцев – гости получили монопольные привилегии на торговлю и мануфактуры, но последующий рост городов был пресечен прекращением миграции в них из села после повсеместного прикрепления крестьян к земле, что неминуемо создало нехватку рабочей силы в маленьком городском секторе экономики. Сходство российского Уложения и прусского рецесса (Recess), обнаруженное спустя четыре года, не нуждается в комментариях. Оба события заложили основы абсолютизма договором между монархией и знатью, в котором политическая верность, необходимая для первой, была обменена на наследственное крепостное право, которой требовала вторая.
Вторая половина века демонстрирует стойкость этого союза перед многочисленными политическими кризисами. Земский собор, вскоре потерявший свое значение, ушел в тень после 1653 г. В следующем году украинские казаки формально объявили о своей верности России на Переяславской раде; результатом стала Тринадцатилетняя война с Польшей. Царские войска сначала успешно наступали, взяв Смоленск и войдя в Литву, где был захвачен Вильно. Однако шведское вторжение в Польшу в 1655 г. усложнило ситуацию; процесс освобождения Польши от России затянулся на 10 лет тяжелых боев, и в итоге российские территориальные приобретения оказались ограниченны. По Андрусовскому договору 1667 г. царское государство получило восточную часть Украины до Днепра, включая Киев, и вернуло район Смоленска на севере. В следующем десятилетии турецкие вторжения на юг со стороны моря были с трудом остановлены, ценой сокращения населения большей части Украины. Этот небольшой внешний успех был между тем дополнен радикальными внутренними изменениями природы военного аппарата нарождавшегося российского абсолютизма. Именно в это время, когда сословное представительство отмирало, постоянно увеличивалась численность армии, удвоившейся с 1630 по 1681 г., достигнув 200 тысяч, что сравнимо с численностью самой большой западной армии того времени [460] . Роль нереформированных помещичьих подразделений пропорционально снижалась. Новая укрепленная Белгородская линия все лучше защищала южные границы от набегов крымских татар, против которых эти подразделения изначально создавались. Помимо прочего, полурегулярные полки нового строя стали главным компонентом российской армии во время Тринадцатилетней войны с Польшей. К 1674 г. дворянство выставляло только 2/5 частей от численности кавалерии, стратегически проигрывая вооруженной огнестрельным оружием пехоте. Между тем помещиков постепенно вытесняли и из гражданской администрации. Преобладая в центральных канцеляриях в течение XVI в., они постепенно теряли свои позиции в бюрократическом аппарате XVII в., основу которого составляли квазинаследственная каста клерков на низших уровнях и коррумпированные высокопоставленные чиновники, связанные с магнатами, в высших кругах [461] . Более того, в 1679 г. династия Романовых отменила местную губную систему администрации, которая ранее управлялась провинциальными помещиками, и интегрировала ее в систему централизованного управления посредством воевод, назначаемых из Москвы.
Трудовая ситуация в помещичьих имениях также не была удовлетворительной. В 1658 г. были приняты законы, сделавшие крестьянский побег уголовным преступлением, но наличие южных рубежей и сибирских неосвоенных пространств создавало существенные территориальные дыры в юридической консолидации крепостничества, хотя в центральных районах страны угнетение крестьян было все заметнее: в то время как налоги в XVII в. утроились, площадь среднего крестьянского участка сократилась с 1550 по 1660 г. в 2 раза, то есть до 4–5 акров [462] . Безжалостное ущемление крестьян вылилось в 1670 г. в крупное восстание казаков, крепостных, городской бедноты и рабов на юго-востоке, возглавленное Разиным и сплотившее обездоленных чувашей, мари, мордву, а также вызвавшее мятежи в приволжских городах. Чрезвычайная социальная опасность, которую распространение восстания несло для всего правящего класса, моментально объединила бояр и дворян: острые противоречия прошлых десятилетий между землевладельцами были забыты в совместном и безжалостном преследовании бедноты. Военная победа царского государства над восстанием Разина, существенный вклад в которую внесли новые регулярные войска, вновь связала монархию и знать. В последние два десятилетия века пришел черед бояр – до той поры движущая сила при сменявших друг друга ленивых царях, они теперь были обузданы чрезвычайными мерами поднимавшегося абсолютизма. Крупные магнаты, вышедшие из Смутного времени, зачастую имели смешанное происхождение и не могли похвастать длинной родословной. У них почти не было причин держаться за древнюю и вызывавшую разногласия иерархию местничества или запутанную систему рангов боярских фамилий, которые вели происхождение с XIV в. Эти ранги мешали и командной системе нового военного аппарата государства. В 1682 г. царь Федор церемониально сжег почтенные книги родового старшинства бояр, в которых была записана эта иерархия, таким образом отменив ее. Это событие стало предпосылкой для расширения аристократического единства [463] . Были созданы условия для реконструкции всей политической системы российского абсолютизма.
Государственная машина, сооруженная на этом новом социальном фундаменте, стала монументальной работой Петра I. Первое, что он сделал при вступлении на престол, – расформировал старое и ненадежное войско стрельцов в Москве, чьи выступления часто становились источником беспорядков при его предшественниках, и создал ударные Преображенский и Семеновский гвардейские полки, которые стали элитными корпусами царского репрессивного аппарата [464] . Традиционный дуализм дворянской и боярской частей класса землевладельцев ушел в прошлое с созданием новой комплексной системы рангов и универсализацией принципов службы, установившей для знати и помещиков единые политические рамки. Из Дании и Пруссии были импортированы новые титулы (граф, барон), чтобы ввести более сложную и современную иерархию в рядах аристократии, которая отныне социально и этимологически стала определяться службой при дворе (дворянство). Власть независимых бояр подвергалась жестокому подавлению; Боярская дума была ликвидирована, и ей на смену пришел назначаемый Сенат. Дворянство снова было инкорпорировано в усовершенствованную армию и администрацию, где они вновь стали центральными фигурами [465] . Вотчина и поместье были объединены в единую систему наследственного землевладения, и знать оказалась привязанной к государству универсальными обязательствами несения службы с 14-летнего возраста в армии и в бюрократии. Для финансирования этих институтов была проведена новая перепись населения, и бывшие рабы были объединены с классом крепостных, а крепостные с этих пор были прикреплены лично к своему землевладельцу, а не к земле, которую они обрабатывали. Таким образом, они могли теперь быть проданы как прусские крепостные (Leibeigene) своим хозяином. Бывшие свободные черносошные общины на севере и колонисты в Сибири стали по тому же закону «государственными крестьянами», и, хотя условия их существования были лучше, чем у частных крепостных, но они быстро деградировали в том же направлении. Патриархат был отменен, а Церковь напрямую подчинена государству с учреждением Священного Синода, чьим высшим чиновником был светский функционер. Была построена новая столица западного стиля – Санкт-Петербург. Административная система была реорганизована в губернии, провинции, дистрикты, а количество чиновников удвоилось [466] .
Государственное управление было сосредоточено в g центральных коллегиях, управляемых коллективно. На Урале была создана современная железорудная промышленность, что сделало Россию одним из ведущих производителей металла в ту эпоху. Бюджет вырос в 4 раза, в основном за счет подушного налога на крепостных. Средние налоги на крестьян выросли в 5 раз с 1700 по 1707–1708 гг.
Большая часть этого выросшего государственного дохода (от 2/з до 4/5) была направлена на сооружение профессиональной армии и современного морского флота [467] – этим двум наиглавнейшим задачам всей петровской программы были подчинены все остальные мероприятия. Во время великой Северной войны 1700–1721 гг. шведское наступление на Россию было сначала успешным: Карл XII разгромил царские войска под Нарвой, захватил Польшу и спровоцировал выступление казачьего гетмана Мазепы на Украине против Петра I. Российская победа под Полтавой в 1709 г., дополненная морским триумфом в Финском заливе и вторжением в саму Швецию, изменила баланс сил в Восточнойждена; с ее крушением царской империей Россия решила две важнейшие геополитические задачи. По Ннштадтскому договору 1721 г. российские границы наконец достигли Балтийского моря. Ливония, Эстония, Ингрия и Карелия были аннексированы, у страны появился прямой морской доступ в западные страны. На юге турецкие войска почти разгромили в отдельном конфликте чрезмерно растянутые российские войска, но царю удалось выйти из войны без серьезных потерь. Вдоль Черного моря России не удалось добиться территориальных приобретений; но опасность, создаваемая вольной Сечью запорожских казаков, которые всегда препятствовали постоянному заселению внутренних украинских районов, была ликвидирована с подавлением восстания Мазепы. Российский абсолютизм вышел из двадцатилетней великой Северной войны как сильнейшая держава на всем восточноевропейском пространстве. Внутри страны было успешно подавлено восстание Булавина в низовьях Дона, направленное против возвращения беглых крепостных и введения трудовой повинности, а затянувшееся восстание башкир против российской колонизации в Волго-Уральском регионе было изолировано и также подавлено. Все же характеристика Петровского государства с его неустанным насилием и территориальными приращениями должна быть дополнена мрачной картиной отсталости общества, в котором оно существовало и которое оказывало сильное воздействие на его реальный характер. Все реорганизации и репрессии, осуществленные Петром I, сопровождались коррупцией и казнокрадством: можно предположить, что только треть всех налоговых сборов доходили до казны [468] . Идея привлечь всю знать к пожизненной государственной службе доказала свою ненужность вскоре после смерти Петра. Поскольку аристократия, приученная к абсолютизму, была сформирована и закреплена, наследники Петра могли позволить себе расслабиться и отменить ее обязательства, что и было сделано в 1762 г. его внуком Петром III. К тому времени дворянство спокойно и безопасно интегрировалось в государственный аппарат.
Гвардейские полки, которые создал Петр I, после его смерти в период слабых правителей на престоле – Екатерины I, Петра II, Анны и Елизаветы – стали инструментом борьбы магнатов за власть в Санкт-Петербурге. Дворцовые перевороты явились данью консолидации царского институционального комплекса: с тех пор знать интриговала внутри самодержавия, а не против него [469] . Восшествие на престол другого решительного суверена в 1762 г., таким образом, отметило не новую волну противоречий между монархией и аристократией, а их более гармоничное взаимодействие. Екатерина II была одной из немногих правителей России, придерживавшейся осознанной идеологии, и самой великодушной по отношению к своему классу. Жаждущая европейской славы сторонницы политического Просвещения, она создала новую образовательную систему, секуляризировала церковные земли и способствовала развитию меркантилизма в российской экономике. Денежное обращение было стабилизировано, развивалась металлургическая промышленность, вырос объем внешней торговли. Однако двумя важными вехами правления Екатерины II стало распространение крепостного сельского хозяйства на всю территорию Украины и обнародование жалованной грамоты дворянству. Условием выполнения первого мероприятия было разрушение татарского Крымского ханства и ликвидация Оттоманской власти над северным побережьем Черного моря. Крымское ханство, вассальное турецкое государство, преграждало России доступ к Черному морю, а его постоянные набеги будоражили и разоряли внутренние районы Причерноморья, делая большую часть Украины опасной и безлюдной «ничейной землей» на протяжении долгого времени после ее формального вхождения в государство Романовых. Новая императрица направила всю силу российской армии против исламского контроля над Черным морем. К 1774 г. ханство было оторвано от Порты и оттоманская граница отодвинулись к Бугу. В 1783 г. Крым был аннексирован. Спустя 10 лет российская граница достигла Днестра. На новых царских прибрежных территориях были основаны города Севастополь и Одесса; казалось, что вот-вот Россия получит доступ к Средиземному морю через проливы.
Последствия приобретения южных территорий в краткосрочной перспективе оказались гораздо более важными для российского сельского хозяйства. Окончательная ликвидация Крымского ханства позволила заселить и окультурить обширные украинские степи, которые впервые были превращены в обрабатываемые земли, заселенные многочисленным постоянным крестьянским населением. Управлявшаяся Потемкиным аграрная колонизация Украины представила собой величайшую распродажу земель в истории европейского феодального сельского хозяйства. Это территориальное приращение не сопровождалось, однако, техническим прогрессом в сельской экономике: это был экстенсивный рост. В социальном отношении свободные и полусвободные жители приграничных регионов были низведены до крепостного статуса крестьян центральной части России, резко увеличив численность крепостного населения страны. В период правления Екатерины II объем денежных оброков, выплачиваемых крепостными, вырос более чем в 5 раз; правительство отказалось от любых ограничений барщины; огромное количество государственных крестьян было передано в руки ведущих магнатов для более интенсивной частной эксплуатации. Этот драматический заключительный эпизод закрепощения крестьянских масс был встречен последним и самым большим восстанием под предводительством казаков, возглавленным Пугачевым. Это был сейсмический бунт, который потряс Приволжский и Уральский регионы, мобилизовав огромные разнородные массы крестьян, металлургических рабочих, кочевников, горцев, раскольников и поселенцев в финальной, безысходной атаке на воцарившийся порядок [470] . Царские города и гарнизоны, однако, выстояли, пока имперская армия разворачивалась, чтобы подавить восстание. Его поражение означало, что восточный фронтир теперь был закрыт. Российские деревни с тех пор погрузились в спокойствие. Жалованная грамота дворянству дарованная императрицей в 1785 г., завершила длинное путешествие крестьян в крепостное состояние. Этим документом Екатерина II гарантировала аристократии все ее привилегии, освободила от обязательной службы и обеспечила ее полный юридический контроль над крестьянами: часть провинциальных административных функций была делегирована местной знати [471] . Типичная парабола восходящего абсолютизма теперь была завершена. В XVI в. монархия поднималась в согласии с дворянством (эпоха Ивана IV); в XVII в. они время от времени сталкивались в жестокой схватке, при этом доминировало боярство, происходили комплексные сдвиги в государственном аппарате и социальные волнения вне его (эпоха Михаила I); монархия достигла уровня безжалостного самодержавия к началу XVIII в. (эпоха Петра I); впоследствии монархия и знать восстановили спокойствие и взаимное согласие (эпоха Екатерины II).
Мощь российского самодержавия вскоре была закреплена и его международными успехами. Екатерина II, главный инициатор разделов Польши, получила и главные приобретения от их завершения в 1795 г. Царская империя увеличилась примерно на 200 тысяч квадратных миль и почти достигла Вислы. В течение следующих 10 лет на Кавказе была присоединена Грузия. Однако превосходство самодержавного государства было продемонстрировано всей Европе в период грандиозной проверки сил Наполеоновскими войнами. С точки зрения социального и экономического развития российский абсолютизм был самым отсталым на Востоке, тем не менее на всем континенте он оказался единственным старым порядком (ancien regime), который смог политически и на поле боя успешно сопротивляться французским атакам. Уже в конце XVIII в. российская армия впервые проникла в глубь Запада – в Италию, Швейцарию и Голландию, чтобы потушить языки пламени буржуазной революции, распространявшиеся Консульством. Новый царь Александр I принял участие в неудачных Третьей и Четвертой антинаполеоновских коалициях. Но в то время как австрийский и прусский абсолютизм потерпели поражение при Ульме и Ваграме, Иене и Ауэрштадте, российский абсолютизм получил передышку по условиям Тильзитского мира. Разделение сфер влияния, закрепленное соглашением между двумя императорами в 1807 г., позволило России приступить к покорению Финляндии (1809 г.) и Бессарабии (1812 г.) за счет Швеции и Турции. Наконец, когда Наполеон начал свое полномасштабное вторжение в Россию, оказалось, что «великая армия» была не в состоянии разрушить структуру самодержавного государства. Победоносная в начале своего похода, французская армия была абсолютно разбита российским климатом и инфраструктурой; а на самом деле – необъяснимым сопротивлением феодальной среды, которая была настолько первобытной, что оказалась нечувствительной перед лезвием буржуазной экспансии и раскрепощения, пришедшего с Запада, хотя и притупленного бонапартизмом [472] . Отступление из Москвы означало, что французскому доминированию на континенте пришел конец: через два года российские войска раскинули бивуаки в Париже. Царизм вошел в XIX в. как успешный жандарм Европы, охраняющий ее от революций. Венский конгресс закрепил его триумф: еще один «кусок» Польши был аннексирован, и Варшава стала русским городом. Спустя три месяца по настоянию Александра I был создан Священный Союз для обеспечения королевской и церковной реставрации от Гвадарамы до Уральских гор.
Система царского государства, сложившаяся после Венского конгресса, не затронутая никакими реформами, сравнимыми с австрийскими или прусскими, не имела аналогов нигде в Европе. Государство было официально объявлено самодержавным: царь управлял в интересах всей аристократии от своего имени [473] . Феодальная иерархия при нем была скреплена самими карьерными ступенями государственной службы. Указом Николая I от 1831 г. была создана современная система рангов для аристократии, привязанная к иерархии государственной бюрократии, и наоборот. Те, кто занимал определенные позиции в системе государственной службы, получали соответствующее аристократическое звание, которое, начиная с определенной ступени, становилось наследственным. Аристократические титулы и привилегии оставались связанными политической системой с различными административными функциями вплоть до 1917 г. Класс землевладельцев, тесно связанный с государством, контролировал около 21 миллиона крепостных. Он также был весьма сильно стратифицирован: 4 /5 крестьян были прикреплены к землям, принадлежавшим 1 /5 собственников, в то время как высшая знать – не более 1 % дворян как таковых – владели поместьями, населенными Уз всех крепостных крестьян. Мелкие собственники, владевшие менее чем 21 душой, были исключены из дворянских собраний с 1831–1832 гг. Российская аристократия продолжала ориентироваться на службу государству в течение XIX в. и с неохотой занималась управлением своими поместьями. Немногие дворянские семьи имели местные корни более чем во втором-третьем поколениях; отсутствующие владельцы были обычным делом: дом в городе, столичный или провинциальный, был идеалом для средней и высшей аристократии [474] . Положение в государственном аппарате к тому времени стало традиционным способом достичь этого идеала.
Само государство владело землей с 20 миллионами крепостных, что составляло 2 /5 крестьянского населения России. Таким образом, это был самый гигантский феодальный собственник в стране. Армия формировалась рекрутским набором из крепостных, наследственная аристократия занимала офицерские должности в соответствии со своим рангом. Великие князья занимали должности Главных инспекторов армии и в Генеральном штабе. Вплоть до Первой мировой войны главнокомандующими были кузены и дяди царя. Церковь являлась частью государства, подчиненной бюрократическому аппарату (Священный Синод), чей глава, обер-прокурор, был гражданским чиновником, подчиненным царю. Синод имел статус министерства, с экономическим отделом, управляющим церковной собственностью, где служили в основном вне штата. Со священниками обходились как с функционерами, которые имели обязанности перед государством (они должны были сообщать о признаниях на исповеди о «злоумышлениях» против государства). Государство контролировало систему образования, ректоры и профессора университетов к середине века назначались непосредственно царем или его министрами. Огромная и разрастающаяся бюрократия была интегрирована на самом верху личностью самодержца и правилами его личной канцелярии [475] . Были министры, но не было кабинета министров, существовали три конкурирующих полицейских «роя» и объединявшее всех казнокрадство. Идеология клерикальной и шовинистической реакции, которая господствовала в этой системе, была заявлена в теории «официальной народности»: самодержавие, православие, народность. Военная и политическая власть царского государства в первой половине XIX в. продолжала демонстрировать успехи внешней экспансии и интервенционизма. Были присоединены Азербайджан и Армения, постепенно сломлено сопротивление горцев в Черкессии и Дагестане; ни Персия, ни Турция не были в состоянии оказать сопротивление российской аннексии Кавказа. В самой Европе российские армии подавили национальное движение в Польше в 1830 г. и революцию в Венгрии в 1849 г. Николай I, главный палач монархической реакции за рубежом, управлял единственной большой страной на континенте, не затронутой народными выступлениями 1848 г. Международная мощь царизма никогда не казалась столь великой.
На самом деле, индустриализация Западной Европы сделала эту самоуверенность анахроничной. Первый серьезный шок российский абсолютизм испытал от унизительного поражения, понесенного им от капиталистических государств Великобритании и Франции в Крымской войне 1854–1856 гг. Падение Севастополя по его последствиям внутри государства может быть сравнимо с разгромом при Иене. Военное поражение, нанесенное Западом, привело к отмене крепостного права Александром II как самой элементарной социальной модернизации основы старого порядка. Но эту параллель нельзя преувеличивать. Удар по царизму был намного мягче и более ограниченным: Парижский мир не был Тильзитским соглашением. Российская «эра реформ» 1860-х гг., таким образом, была только слабым отголоском своего прусского предшественника. Юридические процедуры были немного либерализированы; сельская знать получила земство как орган самоуправления; городам дарованы муниципальные советы; введена всеобщая воинская повинность. Александр II осуществил освобождение крестьян в 1861 г. таким образом, что дворянство приобрело не меньше, чем юнкеры от реформ Гарденберга. Крепостные получили землю, которую обрабатывали раньше в дворянских поместьях, в обмен на денежную компенсацию своим господам. Государство авансировало эти выплаты аристократии и затем в течение многих лет получало эти деньги назад с крестьян в форме «долговых выплат». В северной России, где стоимость земли была меньше и повинности осуществлялись в форме оброка, землевладельцы получили за землю плату выше рыночной в 2 раза. В южной России, где повинности принимали в основном форму барщины, а плодородный чернозем обеспечивал выгодный экспорт пшеницы, дворянство обманом лишило крестьян до 25 % лучших земель, принадлежавших им (так называемые отрезки) [476] . Крестьяне, отягощенные кредитом, таким образом, получили меньше земли, чем они раньше обрабатывали для своих семей. Более того, сама по себе отмена крепостного права не означала, что феодальные отношения в стране завершились, – не более того, чем это произошло ранее в Западной Европе. На практике лабиринт традиционных форм экстраэкономического извлечения излишков, воплощенный в обычных правах и обязанностях, продолжал доминировать в российских имениях.
В своей передовой работе «Развитие капитализма в России» Ленин писал, что после отмены крепостного права «капиталистическое хозяйство не могло сразу возникнуть, барщинное хозяйство не могло сразу исчезнуть. Единственно возможной системой хозяйства была, следовательно, переходная система, система, соединявшая в себе черты и барщинной и капиталистической системы. И действительно, пореформенный строй хозяйства помещиков характеризуется именно этими чертами. При всем бесконечном разнообразии форм, свойственном переходной эпохе, экономическая организация современного помещичьего хозяйства сводится к двум основным системам в самых различных сочетаниях, именно к системе отработочной и капиталистической. <…> Названные системы переплетаются в действительности самым разнообразным и причудливым образом: в массе помещичьих имений соединяются обе системы, применяемые по отношению к различным хозяйственным работам» [477] . Проанализировав сферу действия двух систем, Ленин определил, что к 1899 г. «если в чисто русских губерниях преобладают отработки, то вообще по Евр. России капиталистическая система помещичьего хозяйства должна быть признана в настоящее время преобладающей» [478] . Однако спустя 10 лет мощные крестьянские выступления против феодальных поборов и притеснения российской глубинки во время революции 1905 г. заставили Ленина кардинально изменить свое мнение. В своем главном труде 1907 г. «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции» он отметил, что «крупное капиталистическое земледелие стоит в чисто русских губерниях безусловно на заднем плане. Преобладает мелкая культура на крупных латифундиях: различные формы крепостнически-кабальной аренды, отработочного (барщинного) хозяйства, „зимней наемки“, кабалы за потравы, кабалы за отрезки и так далее без конца» [479] . После тщательного статистического анализа аграрной ситуации в целом, включая распределение земли во время первого года столыпинской реакции, Ленин суммировал свое наблюдение в заключение: «Десять с половиной миллионов крестьянских дворов в Европейской России имеют 75 миллионов десятин земли. Тридцать тысяч преимущественно благородных, а частью также чумазых лэндлордов, имеют свыше 500 дес. каждый, всего 70 милл. дес. Таков основной фон картины. Таковы основные условия преобладания крепостников-помещиков в земледельческом строе России, а следовательно, в русском государстве вообще и во всей русской жизни. Крепостники являются владельцами латифундий в экономическом смысле этого слова: основа их землевладения создана историей крепостного права, историей векового грабежа земель благородным дворянством. Основой их современного хозяйничанья является отработочная система, т.-е. прямое переживание барщины, хозяйство посредством крестьянского инвентаря, посредством бесконечно разнообразных форм закабаления мелких земледельцев – зимняя наемка, погодная аренда, аренда исполу, аренда за отработки, кабала за долги, кабала за отрезные земли, за лес, за луга, за водопой и так далее, и так далее без конца» [480] . Спустя пять лет, в преддверии Первой мировой войны, Ленин подтвердил свое суждение в более категоричной форме: «Различие между „Европой“ и Россией происходит от чрезвычайной отсталости России. На Западе аграрно-буржуазный строй уже вполне сложился, крепостничество давно сметено, остатки его ничтожны и не играют серьезной роли. Главным общественным отношением в области сельского хозяйства на Западе является отношение наемного рабочего к предпринимателю, фермеру или собственнику земли. <…> В России, несомненно, уже упрочилось и неуклонно развивается столь же капиталистическое устройство земледелия. И помещичье и крестьянское хозяйство эволюционируют именно в этом направлении. Но чисто капиталистические отношения придавлены еще у нас в громадных размерах отношениями крепостническими » [481] .
Если бы царизму удалось прочно восстановить свою власть в период контрреволюции 1907 г., то развитие капиталистических отношений в российском селе, как это предсказывал Ленин и другие социалисты, пошло бы по «прусскому пути» с появлением на селе хозяйств «юнкерского типа», которые используют наемный труд и вовлечены в мировою торговлю, и вспомогательного слоя кулаков (Grossbauern). В своих записках, сделанных в 1906–1914 гг., Ленин постоянно предупреждал, что такое развитие вполне возможно в царской России, что являлось серьезной опасностью для революционного движения. Столыпинские реформы, в особенности, проводились, чтобы ускорить подобную эволюцию, сделав ставку на крепкие хозяйства: переход от переделов земли к наследованию крестьянских землевладений в деревнях, чтобы увеличить класс кулаков. На самом деле, столыпинская программа не смогла достичь своих целей на уровне самого крестьянства. В то время как половина всех крестьянских хозяйств к 1915 г. имела право наследования наделов, только 1/10 часть из них имела наделы, которые были единым целым: сохранение системы изолированных и неогороженных наделов обеспечивали сильное влияние общинных ограничений деревенского мира [482] . В то же время из года в год росла нагрузка задолженностей и налогов. Инстинктивная солидарность российского крестьянства против класса землевладельцев от реформ существенно не пострадала. Как позже свидетельствовал Троцкий, большевики были поражены страстным единством народных антифеодальных чувств на селе в 1917 г. [483] . Перенаселенность в деревнях стала серьезной проблемой эпохи позднего царизма. В последние четыре десятилетия перед 1917 г. доля крестьянских хозяйств во всей земельной собственности выросла в 1,5 раза – в основном за счет покупки земли кулаками – в то же время подушевая доля собственности крестьян упала на треть [484] . Крестьянские массы погрязли в трясине вековой отсталости и бедности.
С другой стороны, само самодержавие в последние десятилетия не демонстрировало быстрого преобразования землевладельческой аристократии в капиталистов. Опасения «прусского пути» не оправдались. Дворянство продемонстрировало органическую неспособность последовать за юнкерами. На начальном этапе сокращение аристократической земельной собственности выглядело так, словно прусский опыт модернизации землевладельческого класса может повториться. Площадь земель, принадлежавших дворянству, в течение 30 лет, до 1905 г., сократилась, возможно, на треть, и главными покупателями – как и в Пруссии – были богатые купцы и буржуа. Однако после 1880 г. объем покупок земли, совершаемый богатыми крестьянами, превзошел объем покупок городских инвесторов. К 1905 г. средняя площадь купеческого имения была больше, чему знати, но площадь земли, приобретенной кулаками, была в 2 раза меньше, чем площадь земли, приобретенной городскими жителями [485] . Таким образом, слой Grossbauern в самом деле начал зарождаться в России перед Первой мировой войной. Но увеличения объемов капиталистического производства по прусскому примеру не произошло. Конечно, экспорт зерна в Европу рос в течение всего века, и до, и после реформы 1861 г.: Россия в XIX веке заняла ту же позицию на мировом рынке, что и Польша, и Восточная Германия в XVI–XVIII вв., хотя международные цены на зерно с 1870 г. стали падать. Однако производительность и урожайность оставались низкими в России, так как сельское хозяйство было чрезвычайно технически отсталым. По-прежнему доминировала трехпольная система, практически не было фуражного зерна, и половина крестьян использовала деревянную соху. Более того, как мы уже видели, разнообразные феодальные экономические отношения сохранились и в сумеречный пореформенный период, препятствуя экономическому развитию больших имений Центральной России. Аристократия так и не перешла к современному и рациональному капиталистическому сельскому хозяйству. Симптоматично, что если созданные в пореформенный период земельные банки в Пруссии были успешным механизмом получения кредитов и инвестирования для юнкеров, то земельный банк, созданный в России для дворян в 1885 г., потерпел печальное фиаско: его кредиты были растрачены, а их получатели запутались в долгах [486] . Таким образом, несмотря на неуклонное распространение капиталистических отношений производства перед Первой мировой войной, они так и не получили полноценного воплощения, и так и остались смешанными с докапиталистическими формами. Господствующий в российской экономике сектор – сельское хозяйство – в 1917 г. содержал в себе многочисленные признаки феодальных производственных отношений.
Конечно же, тем временем в городах быстрыми темпами развивалась индустриализация. К началу XX в. в России уже существовала крупная угольная, металлургическая, нефтяная и текстильная промышленности, обширная железнодорожная сеть. Многие металлургические предприятия были самыми высокотехнологичными в мире. Нет нужды подчеркивать внутренние противоречия царской индустриализации: инвестиции финансировались в основном государством, которое зависело от иностранных займов; чтобы их получить, необходимо было обеспечить платежеспособность бюджета, что реализовывалось увеличением налоговых сборов с крестьян, а это, в свою очередь, уменьшало возможность для роста внутреннего рынка, нуждающегося в инвестициях [487] . Для нас важен тот факт, что, несмотря на все эти препятствия, российский индустриальный сектор, базирующийся непосредственно на капиталистических отношениях производства, утроился в объеме в течение двух десятилетий до 1914 г., продемонстрировав один из лучших показателей роста в Европе [488] . Накануне Первой мировой войны Россия была четвертым производителем стали (выше Франции) в мире. Абсолютный объем индустриального сектора был пятым в мире. Доля сельского хозяйства составляла 50 % национального дохода, доля промышленности – 20 %, исключая обширную железнодорожную систему [489] . Таким образом, подсчитав долю городской и сельской экономики к 1914 г., мы видим, что российская социальная формация, несомненно, представляла собой сложную структуру, включавшую феодальный аграрный сектор, но объединенный агро-индустриальный капиталистический сектор в целом уже преобладал. Ленин выразил это лаконично накануне своего отъезда из Швейцарии, отметив, что к 1917 г. буржуазия уже несколько лет управляет экономикой страны [490] .
И все же, в то время как в российской социальной формации доминировал капиталистический способ производства, в российском государстве сохранялся так называемый феодальный абсолютизм. В период правления Николая II не произошло никаких существенных изменений в его классовом характере или в политической структуре. Феодальная знать по-прежнему оставалась правящим классом в императорской России; царизм был политическим аппаратом, обеспечивавшим ее доминирование. Буржуазия по-прежнему была слишком слаба, чтобы предложить серьезные изменения, и так и не преуспела в попытке занять командные позиции в управлении страной. Самодержавие ассоциировалось с «феодальным абсолютизмом», который дожил до XX в. Поражение, понесенное в войне с Японией, и масштабный народный взрыв против режима, который произошел сразу же в 1905 г., заставили приступить к модификации царизма, что дало надежду российским либералам на эволюцию по направлению к буржуазной монархии. Формальная возможность подобного комплексного изменения существовала, как мы видим на примере Пруссии. Но на самом деле, неуверенные шаги царизма так и не приблизили его к этой цели. В результате революции 1905 г. появились бессильная Дума и бумажная Конституция. Последняя была отменена через год, после разгона первой и пересмотра избирательного ценза, предоставившего землевладельцам право голоса, равное голосам 500 рабочих. Царь имел право вето на любой законодательный акт, созданный этой прирученной ассамблеей, а министры, теперь объединенные в условный кабинет, не были ответственны перед ней. Самодержавие могло издавать законы по собственному усмотрению и по собственному усмотрению прерывать работу этого представительного фасада. Поэтому невозможно сравнивать российскую действительность с ситуацией в имперской Германии, где было введено избирательное право для всех мужчин, регулярно происходили выборы, парламент осуществлял контроль над бюджетом, и существовала неограниченная политическая свобода. Качественные политические преобразования феодального прусского государства, создавшие капиталистическую Германию, так и не произошли в России. Организующие принципы и кадровая опора царизма остались неизменными до самого конца.
Ленин в своем споре с меньшевиками в 1911 г. постоянно указывал на эту разницу: «Говорить, что в России власть уже переродилась в буржуазную (как говорит Ларин), что о крепостническом характере власти у нас теперь нечего и говорить (см. у того же Ларина) – и вместе с тем ссылаться на Австрию и Пруссию значит побивать самого себя!» Невозможно было, по мнению Ленина, перенести в Россию германский результат буржуазной революции, историю немецкой демократии, немецкую революцию «сверху» 1860 г. и существующую немецкую законность [491] . Ленин, конечно же, не упустил значимость автономии царского государственного аппарата от феодального класса землевладельцев – автономии, встроенной в саму структуру абсолютизма. «Классовый характер царской монархии нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и „бюрократии“, от Николая II до любого урядника» [492] . В своих работах Владимир Ильич отмечал возраставшее влияние промышленного и аграрного капитализма на политику царизма и роль буржуазии как прослойки. Но он всегда был категоричен в своих характеристиках фундаментальной социальной природы российского абсолютизма. В апреле 1917 г. он заявил: «До февральско-мартовской революции 1917 г. государственная власть в России была в руках одного старого класса, именно: крепостнически-дворянски-помещичьего, возглавляемого Николаем Романовым» [493] . В самом начале работы «Задачи пролетариата в нашей революции» , написанной сразу после его прибытия в Петроград, читаем: «Старая царская власть, представлявшая только кучку крепостников-помещиков, командующую всей государственной машиной (армией, полицией, чиновничеством)…» [494] . Эта простая формулировка была чистой правдой. Однако ее последствия еще нуждаются в исследовании. Резюмируя вышесказанное, скажем, что в последние годы царизма существовало серьезное несоответствие между социальной формацией и государством. В российской социальной формации доминировал капиталистический способ производства, но российское государство оставалось феодальным абсолютизмом. Такое сочетание элементов нуждается в теоретическом осмыслении и объяснении.
В настоящий момент необходимо рассмотреть практические последствия этого сочетания для структур российского государства. Вплоть до своего последнего часа царизм оставался, по сути, феодальным абсолютизмом. Даже на завершающем этапе своего существования он продолжал политику территориальной экспансии. Сибирь вышла за пределы реки Амур, в 1861 г. был основан Владивосток. После 20 лет кровопролития в 1884 г. была присоединена Центральная Азия. В Польше и Финляндии была усилена административная и культурная русификация. Более того, институционально государство в некоторых значимых отношениях было мощнее, чем когда-либо было любое западное абсолютистское государство, потому что оно дожило до эпохи европейской индустриализации и смогло импортировать и применить к своей пользе наиболее современные мировые технологии. Государство освободилось от сельского хозяйства, продав свои земли, только лишь для того, чтобы укрепить свое значение в промышленности. Традиционно оно обладало шахтами и металлургическим производством на Урале. Теперь оно финансировало и сооружало большинство железнодорожных систем, которые заняли второе место в расходах государственного бюджета после вооруженных сил. В российской промышленности преобладали государственные контракты—2/з инженерной продукции было заказано государством. Тарифы были чрезмерно высокими (в 4 раза выше немецкого или французского уровня и в 2 раза – американского), так что местный капитал критически зависел от государственного надзора и защиты. Министерство финансов управляло заемной политикой Государственного банка для частных предпринимателей и установило контроль над ним и над золотыми запасами. Таким образом, абсолютистское государство стало основным двигателем быстрой индустриализации «сверху». В эпоху laissez-faire начала 1900 гг. такому чрезмерному экономическому влиянию не было аналогов на развитом Западе. Комбинированное и неравномерное развитие создало в России колоссальный государственный аппарат, контролировавший и удушающий все общество ниже уровня правящего класса. Именно государство интегрировало феодальную иерархию в бюрократическую систему, инкорпорировало Церковь и образование, а также подконтрольную промышленность, породив колоссальную армию и полицейскую систему.
Этот позднефеодальный аппарат, конечно же, был детерминирован ростом промышленного капитализма в конце XIX в., так же как и абсолютистские монархии на Западе в свое время были детерминированы ростом торгового капитала. Однако парадоксально, что российская буржуазия оказалась политически намного слабее, чем ее предшественники на Западе, хотя она опиралась на гораздо более сильную экономку, чем та, которую имела западная буржуазия в переходный период в своих государствах. Исторические причины этой слабости хорошо известны и рассматривались снова и снова в работах Троцкого и Ленина: отсутствие ремесленного сословия, несколько крупных предприятий, страх перед беспокойным рабочим классом, зависимость от государственных тарифов, займов и контрактов. «Чем дольше на восток Европы, тем в политическом отношении и слабее, трусливее и подлее становится буржуазия», – объявлено в первом манифесте РСДРП. Российское абсолютистское государство, однако, не избежало влияния класса, который стал его замкнутым и робким приложением, вместо того чтобы стать его антагонистом. Точно так же, как продажа постов в предыдущую эпоху была чутким показателем подчиненного присутствия торгового класса в западных социальных формациях, так и пресловутые бюрократические противоречия между двумя столпами российского государства – министерством внутренних дел и министерством финансов-стали показателем влияния промышленного капитала в России. Уже к 1890 г. между этими двумя центральными институтами существовал постоянный конфликт [495] . Министерство финансов проводило политику, которая была созвучна ортодоксальным буржуазным целям. Его фабричные инспекторы поддерживали работодателей, которые не шли на уступки требованиям рабочих о повышении зарплаты; они были враждебны по отношению к деревенским коммунам, которые являлись помехой на пути к свободному земельному рынку. Вынужденное бороться с министерством финансов, министерство внутренних дел было озабочено сохранением политической стабильности в феодальном государстве. Помимо прочего оно должно было предотвращать общественные беспорядки или социальную борьбу. И для достижения этих целей была создана огромная репрессивная система шпионов и провокаторов. Вместе с тем МВД мало сочувствовало корпоративным интересам промышленного капитала. Поэтому оно заставляло работодателей идти на экономические уступки рабочим, чтобы те не предъявляли политических требований. Они пресекали любые забастовки, которые в любом случае были незаконными, но хотели, чтобы полицейские офицеры постоянно находились на фабриках, чтобы знать условия работы на них и удостовериться, что они не спровоцируют взрыв. Естественно, работодатели и министерство финансов сопротивлялись этому. В результате началась борьба за контроль над фабричной инспекцией, который министерство финансов удержало только после достижения договоренности о сотрудничестве с полицией. Министерство внутренних дел с бюрократическим патернализмом присматривало за сельскими общинами, с которых оно, а не министерство финансов, собирало налоги, и рассматривало их как оплот традиционной лояльности и барьер против революционной агитации. Комедийной кульминацией этих контрастов стало изобретение министерством внутренних дел полицейских профсоюзов и институционализация трудового права палачом Плеве. Бумерангом этого эксперимента вернулась зубатовщина, которая породила Гапона. Примечательно и важно, что в этой бредовой финальной попытке абсолютистское государство, которое в разное время включило знать, буржуазию, крестьянство, образование, армию и промышленность, создало даже собственные профсоюзы под эгидой самодержавия. Грамши резко заметил: «В России государство было всем, гражданское общество было первобытным и студенистым» [496] , что являлось сущей правдой.
Однако Грамши так и не удалось понять, почему так произошло: ему осталось недоступным научное определение исторического характера абсолютистского государства в России. Сейчас мы в состоянии исправить этот пробел. Поскольку мы рассматриваем российский абсолютизм в контексте общего процесса европейского развития, все становится на свои места. Его очертания сразу делаются очевидными. Самодержавие было феодальным государством, хотя сама Россия к XX в. представляла собой сплав социальной формации, в которой доминировал капиталистический способ производства; влияние капитализма на структуру царизма вполне заметно. Его настоящее время – это не время империи Вильгельма или Третьей республики, их конкурентов и партнеров: его настоящими современниками были абсолютистские монархии на Западе на этапе перехода от феодализма к капитализму. Кризис феодализма на Западе привел к абсолютизму, который отменил крепостное право, кризис феодализма на Востоке привел к абсолютизму, который институционализировал крепостничество. Российский старый порядок пережил свои аналоги на Западе, несмотря на их общую классовую природу и функции, потому что имел другую исходную точку. В конце концов, он только усилился с приходом индустриального капитализма, бюрократически внедряя его «сверху», как его западные предшественники когда-то поддерживали меркантилизм. Предком Витте был Кольбер или Оливарес. Международное развитие капиталистического империализма, распространившегося на Российскую империю с Запада, создало условия для этого сочетания самой продвинутой технологии в промышленном мире и самой архаичной монархии в Европе. Империализм, который сначала укрепил российский абсолютизм, в конечном счете поглотил и разрушил его: суровое испытание Первой мировой войны оказалось слишком сильным для него [497] . Можно сказать, что у него не было шансов при прямом столкновении с индустриальными империалистическим государствами. В феврале 1917 г. он был свергнут массами за неделю.
Если все это так, необходимо иметь смелость определить последствия. Российская революция абсолютно не была направлена против капиталистического государства. Царизм, который пал в 1917 г., был феодальным: Временное правительство так и не успело заменить его новым или стабильным буржуазным аппаратом. Большевики совершили социалистическую революцию, но с самого начала у них не было того главного врага, с которым столкнулось рабочее движение на Западе. В этом смысле глубокое предположение Грамши было верным: современное капиталистическое государство западной Европы осталось после Октябрьской революции новой политической целью для марксистской теории и революционной практики. Глубокий кризис, который потряс послевоенный континент в 1917–1920 гг., оставил значительное и разное наследие. Первая мировая война положила конец длинной истории европейского абсолютизма. Российское империалистическое государство было разрушено пролетарской революцией. Австрийское империалистическое государство было стерто с лица земли буржуазными национальными революциями. Уничтожение и исчезновение обоих государств было окончательным. Социализм победил в России в 1917 г. и вспыхнул на короткое время в Венгрии в 1919 г. Однако в Германии, ключевом государстве Европы, капиталистические изменения прусской монархии обеспечили сохранность старого государственного аппарата в версальскую эпоху. Два великих феодальных государства Восточной Европы пали от революций «снизу», но разного характера. Капиталистическое государство, которое было когда-то их легитимистским соратником, сопротивлялось любой революционной активности в условиях отчаяния и разрухи из-за собственного поражения в войне с Антантой. Провал ноябрьской революции в Германии, так же важный для истории Европы, как и успех Октябрьской революции в России, основывался на разной природе государственных машин, против которых они боролись. Механизм социалистической победы и поражения в эти годы ведет к основам глубочайших проблем буржуазии и пролетарской демократии, которые еще и во второй половине XX в. нуждаются в теоретическом и практическом решении. Политические уроки и последствия падения царизма до настоящего времени остаются неизученными с точки зрения сравнительного исследования современных социальных формаций. Исторический некролог абсолютизму, который испустил последний вздох в 1917 г., еще должен быть дописан.
7. Земля ислама
Первая мировая война, которая столкнула друг с другом ведущие капиталистические государства Запада и разрушила последние феодальные государства Востока, началась в единственном уголке Европы, которому абсолютизм никогда не был свойствен. Балканы представляли собой отдельный геополитический субрегион, все предшествовавшее развитие которого полностью отделяло его от остальной части континента; фактически именно недостаток стабильной и традиционной интеграции в международную систему в конце XIX – начале XX в. превратил его в пороховую бочку Европы, которая в конечном итоге и стала детонатором гигантского конфликта 1914 г. Анализ модели развития этой части континента, таким образом, предоставляет собой естественный эпилог исследования абсолютизма. Османская империя на протяжении всего своего существования на континенте оставалась отдельной общественной формацией. Балканы под управлением Порты оказались отгороженными от общеевропейского развития из-за мусульманского ига. Но управляющая структура и динамика развития турецкого государства сохраняют большое значение хотя бы как образец для сравнения в силу того контраста, который они представляют по отношению к любому варианту европейского абсолютизма. Более того, характер османской системы в основном объясняет, почему Балканский полуостров после позднесредневекового кризиса развивался по модели, отличавшейся от образца, свойственного остальной части Восточной Европы, с последствиями, длившимися до самого XX в.
Тюркские завоеватели, которые вторглись в Восточную Анатолию в XI в., были пустынными кочевниками. Они достигли успеха в Малой Азии, что не удалось арабам, частично благодаря сходству климатической и географической среды полуострова с холодными и сухими центральноазиатскими плоскогорьями, откуда они пришли: бактрийский верблюд, их основное транспортное средство, идеально подходил для Анатолийского нагорья, которое оказалось непроходимым для тропического арабского верблюда-дромадера [498] . Они, однако, не были простыми обитателями степей. Тюркские рабы – солдаты из Центральной Азии – служили династиям Аббасидов и Фатимидов с IX в. как в качестве рядовых, так и офицеров, зачастую самого высокого ранга. На сходство их роли с ролью германских приграничных племен в поздней Римской империи часто обращают внимание. За 50 лет до битвы при Манцикерте сельджуки пришли в Персию и Месопотамию из своих оазисов в Туркестане, низвергнув слабеющее государство Буидов и создав Великую Сельджукскую империю со столицей в Багдаде. Основная часть этих тюркских завоевателей быстро осели, составив профессиональную армию и администрацию нового Султаната, который унаследовал и усвоил существовавшие долгое время городские традиции «старого ислама», с пропитавшими его персидскими влияниями, передававшимися благодаря наследию халифата Аббасидов. В то же время, однако, постоянная периферия неумиротворенных тюркских кочевников беспорядочными атаками тревожила окраины новой империи. С целью подчинить эти нерегулярные силы и дисциплинировать их Али Арслан отправился на Кавказ и по пути нанес судьбоносное поражение византийской армии при Манцикерте [499] . Как мы уже знаем, за этой победой не последовало никакого организованного вторжения в Анатолию со стороны Сельджукского султаната: его военные интересы были направлены в другое место – в сторону Нила, а не Босфора. Результатами битвы при Манцикерте воспользовались тюркские пастухи; с этого времени они могли практически без всякого сопротивления вторгаться во внутреннюю Анатолию. Эти приграничные воины не просто искали земли для своих отар; благодаря самоотбору, они, как правило, проникались мировоззрением гази – воинов, боровшихся за мусульманскую веру, которые отрицали возможность примирения с неверными, что было характерно для государств традиционного ислама [500] . Как только Анатолия была благополучно занята, последующие волны миграции с XI по XIII в. воспроизвели тот же конфликт в Малой Азии. Возникший в результате сельджукский Румский султанат с центром в городе Конья, вскоре воссоздал процветающее государство по персидскому образцу, которое постоянно находилось в конфликте с гораздо более анархичными соседними эмиратами с идеологией гази, особенно с Данишмендом, над которым он в итоге одержал верх. Однако все противоборствующие тюркские государства Анатолии были разгромлены в ходе монгольского нашествия в XIII в. Регион вновь превратился в мозаику мелких эмиратов и кочующих пастухов. Благодаря этой сумятице возник Османский султанат, который с 1302 г. становится доминирующей силой не только в Турции, но и во всем исламском мире.
Особая динамика, приводившая в движение Османское государство и возвысившая его над соперниками в Анатолии, состояла в уникальной комбинации принципов ислама гази и традиционного ислама [501] . Волею судеб государство оказалось у края Никейской равнины рядом с остатками Византийской империи. Близость его границ к христианскому миру способствовала поддержанию религиозного и воинственного настроения в предельном напряжении, в то время как другие эмираты, находившиеся во внутренних районах, были относительно расслаблены. Османские правители с самого начала позиционировали себя как миссионеры- гази в «священной войне» против неверных. В то же время через их территорию проходил самый главный сухопутный торговый путь в Малой Азии, что привлекало купцов и ремесленников, также как и улемов (богословов), которые были необходимыми социальными элементами для традиционного исламского государства, в основе которого лежали некочевые, невоенные институциональные элементы. Непрерывные войны, которые Османский султанат вел с 1300 по 1350 г., привели к объединению сложной законодательной и административной системы городов традиционного ислама с военным и прозелитическим рвением приграничных гази. Вместе с тем основные стимулы его развития по-прежнему включали погоню за землями, которая была движущей силой первоначального тюркского завоевания Анатолии [502] . Территориальная экспансия также была процессом экономической и демографической колонизации.
Взрывоопасный потенциал этой политической формулы вскоре почувствовали в христианской Европе. Триумфальное продвижение турецких армий по Балканам, вглубь полуострова, и окружение Константинополя в итоге хорошо известны. В 1354 г. турки захватили Галлиполи. В 1361 г. был занят Адрианополь. В 1389 сербские, боснийские и болгарские силы были разбиты на Косовом поле, что прекратило дальнейшее сопротивление славян в большей части региона. Вскоре после этого были захвачены Фессалия, Морея и Добруджа. В 1396 г. крестовый поход, организованный для того, чтобы приостановить продвижение турок, был разгромлен под Никополем. Короткая передышка наступила, когда армия Баязета, занимавшаяся присоединением мусульманских эмиратов в Анатолии, столкнулась с разгромившими регион полчищами Тамерлана и сама была разбита у Анкары, в основном из-за того, что ее контингент гази дезертировал, считая такую войну богопротивным и братоубийственным делом. Грубо возвращенное к своему религиозному призванию Османское государство медленно перестраивалось на протяжении следующих пятидесяти лет на другой стороне Босфора, перенеся столицу в Адрианополь, на переднюю линию войны с христианским миром [503] . В 1453 г. Константинополь был взят Мехметом II. В 1460-х гг. были захвачены Босния на севере и эмират Караманидов в Киликии. В 1470-х гг. Крымское ханство признало себя зависимым, и турецкий гарнизон высадился в Каффе. В первые два десятилетия XVI в. Сирия, Египет и Хиджаз были захвачены Селимом I. В следующее десятилетие был занят Белград, покорена большая часть Венгрии и сама Вена осаждена. Теперь почти весь Балканский полуостров был завоеван. Греция, Сербия, Болгария, Босния и Восточная Венгрия стали османскими провинциями. Молдавия, Валахия и Трансильвания превратились в зависимые княжества под управлением христианских правителей-вассалов. Они были окружены территориями на Дунае и Днестре под прямым турецким правлением. Черное море стало Оттоманским озером. Тем временем на Среднем Востоке был захвачен Ирак, следом поглощен Кавказ. В Магрибе Алжир, Триполи и Тунис были подчинены турецкому суверену. С этого времени султан стал халифом надо всеми суннитскими землями. Османское государство достигло своего апогея при Сулеймане I в середине XVI в., когда оно стало самой могущественной империей в мире.
Затмевая своего ближайшего европейского соперника, Сулейман I получал доходы, вдвое превосходившие доступные Карлу V.
Какова же была природа этого азиатского колосса? Его контуры составляют необычный контраст с очертаниями современного ему европейского абсолютизма. Экономическое основание османского деспотизма состояло в практически полном отсутствии частной собственности на землю [504] . Все орошаемые и пригодные для выпаса территории империи считались личным наследственным имуществом султана, за исключением вакуфных земель [505] . Для политической теории Оттоманской империи главным признаком суверенитета было неограниченное право султана эксплуатировать все источники богатства в своих владениях как свою императорскую собственность [506] . Следовательно, в империи не могло быть постоянной наследственной знати, потому что не существовало неприкосновенности собственности, на которой она могла бы основываться. Богатство и знатность ассоциировались с государством, а положение в обществе соответствовало должности, занимаемой в государственных структурах. Государство делилось на параллельные вертикали, впоследствии выделенные европейскими историками (интересно, что не самими османскими мыслителями) – «институт светского правления» и «исламский институт», хотя между ними никогда не было абсолютного барьера [507] . Институт светского правления включал военный и бюрократический аппараты империи. Его верхушка рекрутировалась главным образом из бывших рабов-христиан, костяк которых попал в нее благодаря изобретению дев-ширме. Этот институт, созданный примерно в 1380-х гг., был самым заметным проявлением взаимопроникновения принципов гази и традиционного ислама, которые в целом определяли оттоманскую систему власти [508] . Был введен ежегодный отбор мальчиков из христианских семей покоренного населения Балкан. Оторванных от родителей детей посылали в Константинополь или Анатолию и воспитывали как мусульман, обучали для работы на командных должностях в армии или администрации, в качестве непосредственных представителей султана. Таким способом была примирена традиция гази —религиозного обращения и военной экспансии – со старой исламской традицией терпимости и сбора дани от неверных.
Набор девширме обеспечивал от 1 до 3 тысяч рекрутов в год для светских учреждений. К ним добавлялись 4–5 тысяч плененных в войнах или купленных за границей. Все они проходили через тот же процесс обучения для последующего возвышения и службы [509] . Этот корпус рабов султана составлял верхушку бюрократии империи, от канцелярии Великого визиря до провинциальных бейлербеев и санджакбеев, а также всю постоянную армию Порты, состоявшую из особой столичной кавалерии и знаменитых янычар, из которых формировались элитные пехотные и артиллерийские войска Оттоманской империи. (Поначалу одной из ключевых функций девширме было обеспечение армии дисциплинированными и надежными пехотинцами в эпоху, когда доминирование кавалерии в военных действиях повсюду в мире подходило к концу, а конные тюрки не очень подходили для трансформации в профессиональную пехоту.) Удивительный парадокс совместного с рабами управления, немыслимый для европейского феодализма, имеет свое разумное объяснение в социальной системе османского деспотизма [510] . Существовала структурная связь между отсутствием частной собственности на землю и высокой ролью государственной собственности на людей. Короче говоря, поскольку чисто юридически понятие собственности было изъято из фундаментальной области основного богатства общества, постольку и традиционные дополнительные значения обладания людскими ресурсами оказались выхолощены и трансформированы. Так как вся земельная собственность принадлежала Порте, то и быть личной собственностью султана не было более унизительным, «рабство» определялось отныне не как противоположность «свободе», а как близость доступа к императорской власти, которая предполагала как полное подчинение, так и огромные привилегии и власть. Таким образом, парадокс девширме изначально был в османском обществе совершенно логичным и функциональным.
В то же время институты светского правления состояли не только из рабских войск султана. Последние сосуществовали со слоем местных мусульманских воинов сипахов, которые занимали особое дополнительное положение в системе. Эти верховые солдаты-мусульмане формировали местную кавалерию в провинциях. Они были расположены на земельных владениях султаната или тимарах (в некоторых случаях это могли быть более крупные единицы —зиаметы), с которых они имели право собирать строго определенные подати в обмен на военную службу. Доход от тимара определял масштаб обязательств его владельца: на каждые 3 тысячи асперов (денежная единица ) тимариот должен был выставлять дополнительного всадника. Впервые введенный Мурадом I в 1360-х гг., он насчитывал к 1475 г. 22 тысячи сипахов в Румелии и 17 тысяч в Анатолии, где размеры тимаров, как правило, были меньше [511] . Общий кавалерийский резерв, мобилизованный через эту систему, мог быть, конечно, гораздо больше. Существовала постоянная конкуренция за тимары в европейских приграничных областях империи. Помимо других, тимарами вознаграждали за службу наиболее успешных янычар. Эта система никогда полностью на распространялась Портой на отдаленные арабские земли, захваченные в XVI в. на задворках империи, где она могла позволить себе обходиться без кавалеристов, необходимых лишь на границах с христианскими землями и в турецких внутренних районах, расположенных неподалеку. Поэтому провинции в Египте, Багдаде, Басре и в Персидском заливе не имели тимаров, однако в них были расположены гарнизоны янычар, и провинции ежегодно выплачивали определенную сумму налогов в центральное казначейство. Эти регионы играли гораздо более важную экономическую, нежели военную роль в империи. Первоначальная ось османского порядка пролегала через проливы, и именно институты, которые доминировали в сердце страны – в Румелии и Анатолии, особенно в Румелии, определяли его основную форму.
Тимариоты и займы в Османской империи были наиболее близки аналогичному классу рыцарства. Но поместья- тимары не были подлинными феодальными владениями. Хотя сипахи осуществляли определенные административные и полицейские функции для султаната на его территориях, у них не было феодальных полномочий или феодальной юрисдикции над крестьянами, которые работали в их тимарах. Тимариоты не играли практически никакой роли в сельскохозяйственном производстве, они не были включены в аграрную экономику. В действительности, крестьяне имели право неприкосновенности наследственной собственности на участки, которые они обрабатывали, в то время как тимариоты его не имели. Тимары не наследовались, и с появлением каждого нового султана их доли перегруппировывались, чтобы они не закреплялись в своих владениях. Тимары были ближе к системе византийской иронии, которая юридически и этимологически предшествовала им; они были гораздо меньше по размеру и строже контролировались из центра, чем греческая система до них [512] . В Османской империи они составляли менее половины обрабатываемых земель в Румелии и Анатолии, оставшаяся часть которых (за исключением вакуфных земель) использовалась непосредственно для нужд султана, императорской семьи, высокопоставленных придворных чиновников [513] . Таким образом, слой тимариотов в ту эпоху находился в подчиненном положении в экономическом и политическом смысле, хотя и был важным компонентом системы управления.
«Исламский институт» стоял немного в стороне от военно-бюрократического комплекса системы управления. Его составляли религиозные, правовые и образовательные структуры государственного аппарата, которые, естественно, управлялись (за некоторыми исключениями) ортодоксальными местными мусульманами. Судьи кади, теологи улемы, преподаватели медресе и многие другие религиозные должностные лица выполняли существенные идеологические и юридические задачи в системе Османского господства. На вершине исламского института находился муфтий Стамбула, или шейх-уль-ислам, верховный религиозный деятель, который толковал священные законы шариата для верующих. Исламская доктрина не допускала разделения между Церковью и государством; эти понятия едва ли имели какое-либо значение для нее. Османская империя стала первой мусульманской политической системой, создавшей особым образом организованную религиозную иерархию с духовенством, сравнимым с любой Церковью. Более того, эта иерархия обеспечивала государственный аппарат ключевым юридическим и гражданским персоналом; кади, которые рекрутировались из улематов, были опорой османской администрации в провинциях. Таким образом работала новая смесь из гази и традиционного ислама. Религиозное рвение первого проявилось в фанатичном обскурантизме турецкого улемата, в то время как социальное значение второго определялось его сильной интеграцией в государственный аппарат султаната. Одним из следствий было право шейха-уль-ислама при определенных обстоятельствах блокировать инициативы Порты, ссылаясь на нормы шариата, официальным защитником которых он являлся [514] . Это формальное ограничение полномочий султана было в определенном смысле противовесом системе власти, возникшим в Османской империи путем создания профессионального клерикального аппарата. Оно никоим образом не отменяло политического деспотизма, осуществляемого султаном в своих владениях, что полностью соответствует определению Вебером наследственной бюрократии, при которой правовые проблемы всегда становятся просто вопросами администрации, ограниченной установившимися традициями [515] .
С учетом того, что вся обрабатываемая территория империи считалась собственностью султана, главной внутренней целью деятельности Оттоманского государства, предопределявшей организацию и разделение управления, была налоговая эксплуатация владений империи. С этой целью население делилось на османский правящий класс, включавший светский и исламский институты, и класс подданных райя, состоявший как из мусульман, так и из неверных. Значительное число последних были крестьянами, христианами по вероисповеданию, жившими на Балканах. При Оттоманском правлении никогда не предпринимались попытки принудить христианское население Балкан к массовому переходу в другую веру. Для этого надо было бы отвергнуть экономические преимущества существования немусульманского класса. райя, который в соответствии с устоями традиционного ислама и шариата выплачивал особые налоги, не распространявшиеся на подданных мусульман; это был прямой конфликт между толерантностью, ориентированной на получение налогов, и миссионерскими попытками склонить к обращению в другую веру. Девширме, как мы видели, разрешало конфликт, отбирая дань детьми для исламизации, сохраняя оставшемуся христианскому населению его традиционную веру и традиционную плату за нее. Все христиане райя должны были платить особую подушную подать султану и десятину для обеспечения работы улемата. Кроме того, те крестьяне, которые возделывали земли в тимарах и зиаметах, должны были платить денежный налог держателям этих земельных владений. Уровень этих налогов строго определялся Портой и не мог быть произвольно изменен тимариотом или займом. Арендаторам даровалось право неприкосновенности имущества для обеспечения стабильности налоговых поступлений, они были защищены от чрезмерных поборов землевладельцев, чтобы предотвратить уход излишков куда-либо за исключением центра империи. Барщина, которая существовала во времена правления христианских князей, была сокращена или отменена [516] . Право крестьян менять место жительства контролировалось, хотя не отменялось полностью; на практике, напротив, конкуренция между тимариотами за рабочую силу способствовала неформальной мобильности на землях. Таким образом, в течение XV–XVI вв. положение балканских крестьян изменилось: вместо растущей крепостной зависимости и феодальной эксплуатации под управлением христианских феодалов они оказались в социальных условиях, во многих отношениях парадоксальным образом более мягких и свободных, нежели те, что существовали где-либо еще в Восточной Европе в то время.
Судьба балканских крестьян отличалась от выпавшей на долю их традиционных хозяев. На начальном этапе турецкого завоевания группы местных аристократов-христиан переходили на сторону османов, часто воюя на их стороне в качестве союзников-данников и наемников. Коллаборационизм имел место в Сербии, Болгарии, Валахии и на других территориях. По мере консолидации оттоманской императорской власти в Румелии остаткам автономии этих вельмож пришел конец. Некоторые обратились в мусульманство и стали частью османского правящего класса, главным образом в Боснии. Некоторым были дарованы тимары на новых сельскохозяйственных районах без обращения в другую веру. Но христианские тимариоты были немногочисленными, их владения и доходы были скромными по размеру. В течение нескольких поколений они полностью исчезли [517] . Таким образом, на территории большей части Балкан местная знать была вскоре уничтожена. Этот фактор оказал огромное влияние на последующее социальное развитие региона. Только за Дунаем, в Валахии, Молдавии и Трансильвании султанат никогда не осуществлял прямой оккупации или управления. В Валахии и Молдавии недавно сформировавшемуся классу румынских бояр, который сам только подошел к фазе политического объединения и экономического угнетения местного крестьянства, было разрешено сохранить свои земли и власть на местном уровне, но при этом он выплачивал Стамбулу тяжелую ежегодную дань в натуральной форме. В Трансильвании мадьярским землевладельцам оставили власть над населением, этнически не родственным им – над румынами, саксонцами и секеями (Szekle г). Во всех остальных регионах Юго-Восточной Европы приход османов очистил Балканы от местной знати. Окончательные результаты этих глубоких изменений в местных социальных системах были сложными и противоречивыми.
С одной стороны, как мы видели, это привело к определенному улучшению материальных условий жизни крестьянства после турецкого завоевания. Дело было не только в снижении сельскохозяйственных сборов и налогов; длительный мир на покоренном османами юго-востоке позади линии фронта, проходившей в Центральной Европе, освободил село от проклятия постоянной войны между аристократами. С другой стороны, социальные и культурные результаты полного уничтожения местного правящего класса были несомненно регрессивны. Балканские аристократы эксплуатировали крестьянство более жестоко, чем османская администрация времен расцвета. Но сам по себе состав этой земельной аристократии конца Средневековья и начала Нового времени представлял собой очевидный исторический прогресс для этих неповоротливых социальных систем, он свидетельствовал о разрыве с клановыми принципами организации, племенной фрагментацией и рудиментарными культурными и политическими формами, сопутствующими им. Ценой этого прогресса была классовая стратификация и рост экономической эксплуатации. Балканские государства эпохи позднего Средневековья были известны своей слабостью и уязвимостью. Но их кризис накануне турецкого вторжения не означал, что у них не было потенциала для развития: модель «фальстарта» и последующего восстановления была типичной для Европы (западной и восточной) эпохи раннего феодализма, как мы видели, и обычно она принимала форму преждевременно централизованных административных структур, именно таких, какие развивались на Балканах в эпоху позднего Средневековья. Уничтожение местного землевладельческого класса турками исключило такую внутренне обусловленную динамику. Напротив, ее главным культурным и политическим результатом было реальное возвращение сельского населения Балкан к клановым институтам и партикуляристским традициям. Так, на сербских землях, где этот феномен подробно изучен, племена, правитель- кнез и сообщество родственников задруга, которые находились в процессе быстрого исчезновения накануне османского завоевания, теперь возродились в качестве доминирующей единицы социальной организации в сельской местности [518] . Общее возвращение к патриархальному локализму сопровождалось значительным падением уровня грамотности. Культура покоренного населения стала в основном монополией православного духовенства, чья сервильность перед турецкими правителями соперничала только с его невежеством и предрассудками. Города потеряли свое торговое и интеллектуальное значение, став военными и административными центрами османской системы, заселенными турецкими ремесленниками и лавочниками [519] . Таким образом, хотя огромное число сельских жителей материально выиграли от первоначальных эффектов турецкого завоевания, так как оно привело к уменьшению объема излишков, отбираемых у непосредственных производителей в сельской местности, оборотной стороной того же самого исторического процесса были остановка местного социального развития по направлению к более развитому феодальному порядку, возвращение к дофеодальным патриархальным формам и длительный застой всей исторической эволюции на Балканском полуострове.
Однако азиатские провинции турецкой империи переживали период возрождения и прогресса во время апогея османского могущества в XVI в. В то время как Румелия оставалась главным театром военных действий для армий султана, Анатолия, Сирия и Египет пользовались преимуществами мира и единства, принесенного на Ближний восток османским завоеванием. Отсутствие безопасности, вызванное упадком мамлюкских государств в Леванте, сменилось строгим и централизованным управлением, благодаря которому были пресечены грабежи и стимулирована региональная торговля. Позднесредневековый спад в сирийской и египетской экономиках, по которым ударили вторжение и эпидемии, сменился восстановлением сельского хозяйства и ростом населения. Эти две провинции стали обеспечивать треть всех поступлений казначейства империи [520] .
Особо можно отметить демографический рост в Анатолии, который был явным признаком аграрного расширения: сельское население увеличилось, вероятно, на Уь в течение одного столетия. Процветала торговля как внутри восточных провинций, так и вдоль международных торговых путей, соединяющих Западную Европу и Западную Азию по Средиземному и Черному морям. В хорошем состоянии поддерживались дороги, вдоль них строились места для стоянок, для борьбы с пиратством воды патрулировались османским флотом. Специи, шелк, хлопок, рабы, бархат, квасцы и другие товары перевозились на кораблях и караванами по территории империи в огромных количествах. Ближневосточная транзитная торговля процветала под защитой Порты с выгодой для Османского государства.
Это торговое процветание, в свою очередь, привело к росту городов. Население городов, по всей видимости, почти удвоилось в XVI в. [521] Османское общество в период его расцвета создало несколько преуспевающих центров мануфактурного производства в Бурсе, Едирне и других городах, где производился или перерабатывался шелк, бархат и другие экспортные товары [522] . Завоевав Византию, Мехмет II стал проводить более просвещенную политику, чем императоры династии Комнинов или Палеологов, отменив венецианские и генуэзские торговые привилегии и введя очень мягкую протекционистскую пошлину для стимулирования местной торговли. В течение столетия турецкого правления население самого Стамбула увеличилось с 40 до 400 тысяч человек. В XVI в. это был самый большой город в Европе.
Однако экономический рост империи во времена ее господства имел вполне определенные с самого начала границы. Аграрное возрождение азиатских провинций в XVI в. не сопровождалось серьезными техническими усовершенствованиями в сельском хозяйстве. Самая значительная инновация в сельской местности на Ближнем Востоке в раннее Новое время – начало выращивания американской кукурузы – была внедрена в более поздний период, когда уже начался общий закат империи. Демографический рост в Анатолии можно связать в большей степени с восстановлением мира и оседанием племен кочевников, так как стабилизация Османского правления позволила сельским поселениям снова расширяться после поздневизантийской депопуляции. Они вскоре достигли предельных границ, так как доступность земель на существующем уровне техники была исчерпана. В то же время восстановление торговли в империи не обязательно находило адекватное отражение в деятельности местных мануфактур или даже важности местных купцов. Ограничения, наложенные султанатом, влияли на особенности городской экономики и управление османскими землями. Ни провинциальные мастерские, ни крупный капитал, ни возникавшая время от времени озабоченность отдельных правителей не могли изменить враждебного отношения османского государства к городам и промышленности. Исламские политические традиции не включали понятия городских свобод. Города не имели корпоративной или муниципальной автономии: фактически в юридическом смысле они не существовали вовсе, «так как там не было государства, были лишь правитель и его доверенные лица, не было судов, были лишь судья и его помощники, там не было и города, был лишь конгломерат семей, кварталов и гильдий, каждая со своими руководителями или лидерами» [523] . Другими словами, города были беззащитны перед волей Повелителя правоверных и его слуг. Официальное регулирование цен на товары и принудительная закупка сырья обеспечивали контроль над городскими рынками. Государство внимательно следило за гильдиями ремесленников, что усиливало их технический консерватизм. Более того, султанат почти всегда выступал против интересов местных сообществ купцов в городах, на которых улемат взирал со стойким подозрением, а городские низы ненавидели. Экономическая политика государства имела тенденцию к дискриминации крупного торгового капитала и к оказанию покровительства мелкому производству с его архаичными гильдиями и религиозным фанатизмом. В типичном турецком городе в итоге доминировали вялые, косные и отсталые простолюдины (menu peuple), которые препятствовали инновациям или накоплению. Природа Османского государства не предполагала наличия защищенного пространства, в котором могла бы развиваться турецкая торговая буржуазия, и с XVII в. торговые функции все больше переходили сообществам немусульманских меньшинств – грекам, евреям или армянам, которые, впрочем, и ранее контролировали экспортную торговлю с Западом. Мусульманские торговцы и производители впоследствии ограничились в основном содержанием мелких магазинов и ремесленных мастерских.
Даже на своем пике уровень османской экономики никогда не достигал степени развития, сопоставимой с османской политической системой. В основе движущих сил экспансии империи оставался ее непреклонно военный характер. Идеологически структура турецкого доминирования не знала естественных географических границ. В османской космогонии планета была разделена на две части: «земля ислама» и «земля войны». «Земля ислама» состояла из территорий, населенных правоверными, постепенно объединявшимися под знаменами султана. Земля войны включала оставшуюся часть мира, населенную неверными, чья судьба состояла в том, чтобы быть покоренными солдатами пророка [524] . На практике это означало христианскую Европу, у ворот которой турки основали свою столицу. На протяжении всей истории империи, реальным центром тяжести для османского правящего класса была Румелия – сам Балканский полуостров, а не Анатолия, родина турок. Именно отсюда армия за армией отправлялись на север, в «землю войны» для расширения исламских территорий. Рвение, величина и искусство войск султана делали их непобедимыми в Европе на протяжении двухсот лет после того, как они впервые высадились в Галлиполи. Кавалерия сипахов, которая выезжала в сезонные кампании или совершала неожиданные набеги, и отборная пехота, состоявшая из янычар, были смертоносным оружием османской экспансии в Юго-Восточной Европе. Более того, султаны без колебаний использовали христианские людские ресурсы и знания, другими способами, чем девширме, обеспечивавшее набор в пехотные батальоны. Турецкая артиллерия была одной из самых лучших в Европе, и в ее создании для Порты участвовали западные инженеры-перебежчики. Благодаря опыту греческих капитанов и экипажей, турецкий флот вскоре соперничал с венецианским [525] . Жадно присвоив достижения европейских военных мастеров и ремесленников, османская военная машина на пике своего развития объединила качественные новинки лучших христианских армий с количественной мобилизацией, выходившей далеко за рамки возможностей любого отдельного христианского государства. Лишь коалиции могли сопротивляться ей вдоль дунайских границ. Только при осаде Вены в 1529 г. испанские и австрийские пики смогли противостоять саблям янычар.
Со времени остановки экспансии, однако, постепенно начался упадок турецкого деспотизма. Закрытие османских границ в Румелии привело к цепочке последствий для самой империи. По сравнению с абсолютистскими государствами Европы конца XVI в. и начала XVII в., она была отсталой в коммерческом, культурном и технологическом смыслах. Она проложила себе путь в Европу через ее самое слабое место с точки зрения обороны – хрупкие социальные редуты позднесредневековых Балкан. Вступив в противостояние с более сильными и представительными монархиями Габсбургов, она оказалась в конечном итоге неспособна доминировать как на суше (Вена), так и на море (Лепанто). Начиная с эпохи Возрождения европейский феодализм порождал торговый капитализм, который не мог быть воспроизведен ни одним азиатским деспотизмом, и менее всего на это была способна Порта, с ее полным отсутствием изобретений и презрением к мануфактурам. Остановка турецкой экспансии предопределялась постоянно растущим экономическим, социальным, политическим превосходством «земли войны». Для «земли ислама» результаты этой перемены в соотношении сил были многообразными. В основе структуры османского правящего класса лежали нескончаемые военные завоевания. Именно они позволяли аномальное доминирование в государственном аппарате элиты, состоявшей из рабов немусульманского происхождения. Пока границы отодвигались благодаря походам османских армий, необходимость и рациональность янычарского войска и девширме подтверждала практика: победы при Варне, Белграде, Мохаче и на Родосе были их заслугой. Именно это устройство сделало возможным первоначально низкий уровень эксплуатации сельского населения на Балканах и строгий централизованный контроль над ним. Османский класс мог ожидать богатства за счет экстенсивных захватов все большего количества территорий в «земле войны», так как новые тимары и зиаметы появлялись по мере продвижения на север. Социальные механизмы трофеев были основой неизменного единства и дисциплины турецкого государства эпохи расцвета.
Однако когда территориальная экспансия прекратилась, медленный разворот всей огромной структуры стал неизбежным. Привилегии чуждых рабских войск, лишенных их военных функций, постепенно стали нестерпимыми для доминирующего класса империи, который, в конце концов, использовал свою неповоротливую силу для нормализации системы и возвращения себе руководства политическим аппаратом светского правления. Избыточное сельское население, которое ранее призывалось на военную службу в качестве наемников в армии Порты, обратилось к восстаниям и разбою, как только военная машина перестала их использовать. К тому же прекращение экстенсивного приобретения земель и богатств неизбежно вело к более интенсивным формам эксплуатации в пределах границ турецкой власти за счет покоренного класса райа. История Османской империи конца XVI – начала XIX в. состоит главным образом в дезинтеграции центрального имперского государства, консолидации провинциального землевладельческого класса и ухудшении положения крестьянства. Этот длительный временной процесс, в котором были свои временные политические и военные успехи и восстановления, проходил вовсе не в условиях изоляции Балкан от остальной части европейского континента. Он, напротив, был углублен и усилен международным воздействием европейского экономического превосходства, в зависимость от которого Османская империя, застоявшаяся в своем технологическом паразитизме и теологическом обскурантизме, все больше и больше попадала. От революции цен XVI в. и до промышленной революции XIX в. на балканское общество все больше и больше влияло развитие капитализма на западе.
Длительный упадок Османской империи предопределялся военным и экономическим превосходством абсолютистской Европы. В краткосрочной перспективе наиболее тяжелые отступления пришлось испытать в Азии. Тринадцатилетняя война с Австрией (1593–1606) привела к дорогостоящей ничьей. Но более длительные и разрушительные войны с Персией, которые продолжались с краткими перерывами с 1578 по 1639 г., закончились разочарованием и поражением. Именно победоносная консолидация государства Сефевидов в Персии стала поворотным пунктом в судьбах Османского государства. Персидские войны, которые привели к окончательной потере Кавказа, нанесли удар по армии и бюрократии Порты. Анатолия – родина этнически турецкого населения империи, как мы видели, никогда не была ее политическим центром. Именно в Румелии в XIV–XV вв. была насаждена новая оттоманская социальная система, сформировались особая собственность на землю и военная администрация для обеспечения международных потребностей империи. Анатолия, напротив, сохранила более традиционную социальную и религиозную структуры с пережитками кочевнической и клановой организации в бейликах с внутренней и латентной враждебностью к космополитичной вседозволенности Стамбула. Анатолийские тимары обычно были меньше и беднее, чем в Румелии. Местный класс сипахов, страдавший от растущих расходов на участие в сезонных кампаниях в связи с высокой инфляцией конца XVI в., демонстрировал все меньший энтузиазм по отношению к войне с единоверцами-персами. В то же время аграрная экспансия в сельской Анатолии прекратилась; существенное увеличение населения привело к появлению растущего класса безземельных крестьян или левандатов (levandat) на нагорьях. Массово рекрутируемые провинциальными губернаторами в армию для нужд персидского фронта левандаты приобретали воинские умения, но не подчинение дисциплине. Напряженность, вызванная войнами, победы врагов на восточной границе постепенно низвергали гражданский порядок в Анатолии в состояние коллапса. Недовольство тимариотов в сочетании с бедственным положением крестьян вылилось в серию громких мятежей, так называемых восстаний джелали, в 1594–1610 и 1622–1628 гг. В них смешались провинциальный бунт, бандитизм и религиозное возрождение [526] . В эти же годы казачьи рейды через
Черное море увенчались оскорбительным успехом у Варны, Синопа, Трабзона, казаки даже разграбили окраины Стамбула. В конечном итоге сипахские лидеры восстаний джелали в Анатолии были подкуплены, а их последователи левандаты репрессированы. Но урон настроениям в Османской империи, нанесенный распространением бандитизма и анархии в Анатолии, был очень силен. В конце XVII в. еще слышались отзвуки восстаний джелали на селе, где умиротворение полностью так и не наступило.
Между тем в самой Порте расходы на длительное противостояние с Персией резко увеличились из-за растущей инфляции, пришедшей с запада. Поток золотых и серебряных слитков из Америки в Европу эпохи Возрождения дошел до турецкой империи к последним десятилетиям XVI в. Соотношение стоимости золота и серебра в османских владениях было ниже, чем на западе, делая экспорт серебряной валюты сюда высоко прибыльным для европейских торговцев, производивших расчеты золотом. Результатом массового ввоза серебра, естественно, стал резкий рост цен, которому султанат тщетно пытался противостоять, понижая стоимость аспера. За 1534–1591 гг. доходы казначейства снизились вдвое [527] , в результате чего годовые бюджеты находились в состоянии постоянного и глубокого дефицита, тогда как войны с Австрией и Персией затягивались. Следствием этого явился гигантский рост налогового давления на всех подданных империи. За 1574–1630 гг. налоги райа, выплачиваемые христианским крестьянством, увеличились в 6 раз [528] . Эти меры, однако, смогли лишь временно облегчить ситуацию, в которой сам государственный аппарат демонстрировал признаки углублявшихся дискомфорта и кризиса. Войска, состоявшие из янычар, и слой девширме, которые формировали верхушку аппарата Оттоманской империи во время правления Мехмета II, одними из первых продемонстрировали симптомы общего разложения. В начале XVI в., во время правления Сулеймана I, янычары добились права жениться и воспитывать детей, что первоначально было им запрещено. Естественно, это увеличило стоимость их содержания, которая и так возросла вследствие инфляции, вызванной притоком серебра из Западной Европы благодаря средиземноморской торговле империи, которая фактически не создавала собственных мануфактур. С 1350 по 1600 г. жалованье янычар увеличилось в 4 раза в постоянно девальвировавшихся турецких серебряных асперах, а цены выросли в целом в 10 раз [529] . В результате янычарам, чтобы они могли себя обеспечить, было разрешено заниматься ремеслами и торговлей в те периоды, когда они не участвовали в военных действиях. В 1574 г., при вступлении на престол Селима II, они добились права записывать своих сыновей в полки янычар. Так профессиональная, отобранная по способностям военная элита постепенно трансформировались в наследственное полуремесленное ополчение. Вместе с этим падала и ее дисциплина. В 1589 г. поднятый янычарами мятеж с требованием увеличения содержания повлек за собой отстранение от должности Великого визиря и создание модели, которая легко вписалась в политическую жизнь Стамбула; в 1622 г. в результате восстания янычар был свергнут первый султан. Между тем ослабление герметичной ранее изоляции слоя девширме от остальной части османского правящего класса предсказуемо привело и к разложению особой идентичности девширме. Во время правления Мурада III в конце XVI в. местные мусульмане получили право вступать в янычары. Наконец, к периоду правления Мурада IV в 1630-х гг. рекрутские наборы девширме вовсе прекратились. Однако подразделения янычар по-прежнему имели право на освобождение от налогов и обладали другими традиционными привилегиями. Таким образом, со стороны мусульманского населения существовал постоянный спрос на включение в их ряды, а общественные беспорядки периода восстаний джелали привели к распространению гарнизонов янычар в провинциальных городах империи для поддержания внутренней безопасности. Таким образом, с середины XVII в. янычары превращались во все более крупные подразделения полуобученных и необученных городских ополченцев, многие из которых теперь проживали не в казармах, а в своих торговых помещениях или мастерских, будучи мелкими торговцами и ремесленниками (при этом их членство в гильдиях часто понижало стандарты ремесленного производства), в то же время наиболее процветающие из них получали права на местные земли. Ценность янычар в военном смысле вскоре стала минимальной: их главной политической задачей в столице было формирование фанатичной ударной силы для нетерпимых улемов или дворцовых интриганов.
Между тем система тимаров не менее сильно деградировала. В связи с модернизацией европейского оружия и комплектованием постоянных армий в христианских государствах легкая кавалерия, обеспечиваемая сипахами, устарела в военном отношении: вынужденность летних походов кавалеристов-тимариотов, ослабление силы их духа на полях сражений из-за понижения доходов – все это делало их неравными противниками германских стрелков-фузилеров с их мощными огневыми возможностями. В условиях коррупции в Стамбуле государство все больше и больше выделяло тимары высокопоставленным чиновникам для их личного использования, не связанного с военной службой, или просто возвращало их в казну. Результатом стало резкое падение эффективности сипахов к началу XVII в. С тех пор оттоманские армии начали заменять их в основном на оплачиваемых мушкетеров или подразделений секбанов —первоначально нерегулярных провинциальных наемников, теперь ставших главными военными формированиями империи [530] . В сочетании с экономической рецессией в большей части Восточного Средиземноморья, содержание войск секбанов как постоянной силы усилило и монетизировало налоговое бремя на османских территориях. В Анатолии исчерпались земельные ресурсы, пригодные для обработки. Был утерян контроль над торговлей специями и шелком, который перешел к английским и голландским судам, торговавшим в Индийском океане, обогнув Османскую империю. С другой стороны, Египет с его хорошо развитым традиционным сельским хозяйством [531] постепенно возвращался под контроль местных мамелюков. Финансовые и политические проблемы государства сопровождались деградацией правящей династии. В течение XVII в. калибр правителей империи, деспотическая власть которых ранее осуществлялась довольно умело, резко упал из-за внедрения новой системы наследования. Начиная с 1617 г. трон султана переходил к самому старшему мужчине из рода Османов, который, как правило, был изолирован с рождения в «клетке принцев», золоченом каземате, фактически созданном для доведения до патологической неуравновешенности или слабоумия. Такие султаны были не в состоянии осуществлять контроль или обратить вспять постоянно ухудшавшуюся ситуацию в своем государстве. Именно в этот период с помощью интриг шейх-уль-ислам начал вторгаться в систему принятия политических решений [532] , которая становилась все более коррумпированной и нестабильной.
Тем не менее Османская империя доказала свою способность на последний крупный бросок в Европу во второй половине XVII в. За поражением в Персидских войнах, беспорядками анатолийских грабежей, оскорбительными казачьими рейдами, деморализацией янычар последовало эффектное, хотя и недолговременное возрождение Порты. В период пребывания на посту визиря Кёпрюлю с 1656 по 1676 г. энергичная и жесткая администрация была восстановлена в Стамбуле. Османская финансовая система была укреплена благодаря насильственным займам и дополнительным поборам; расходные статьи были урезаны за счет сокращения синекур; была произведена модернизация системы обучения и снаряжения постоянной пехоты; определенная польза была извлечена из все еще эффективной татарской кавалерии на Черноморском театре военных действий. Одновременный упадок режима Сефевидов в Персии уменьшил напряженность на востоке и позволил Турции нанести последний удар по Западу. Дунайские княжества, чьи правители становились все более непокорными, были приведены в состояние повиновения. Двадцатилетняя война с Венецией успешно завершилась аннексией Крита в 1669 г. В 1672 г., мобилизовав конные подразделения Крымского ханства, османские силы отобрали Подолье у Польши. В течение следующего десятилетия велась длительная и жестокая война с Россией за обладание Украиной. В конечном итоге этот конфликт завершился после почти полного опустошения Украины перемирием 1682 г., восстановившим статус-кво, и в 1683 г. турецкие власти вновь направили войска в Австрию. Новый и даже более агрессивный визирь Кара Мустафа, который сменил Мехмета Кёпрюлю, собрал большую армию для атаки Вены. Спустя 150 лет после осады столицы Габсбургов Сулейманом II начался ее новый штурм османами. Провал первой попытки обозначил предел продвижения турок в христианские страны. Второе поражение османов, благодаря помощи Вене со стороны объединенных имперских, польских, саксонских и баварских войск в 1683 г., привело к коллапсу всего положения Порты в Центральной Европе. Таким образом, возрождение времен Кёпрюлю оказалось кратковременным и искусственным: его первоначальный успех привел Порту к перенапряжению своих сил, последствия которого были гибельными и необратимыми. За фиаско под Веной последовало длительное отступление, закончившееся в 1699 г. полной передачей Габсбургам Венгрии и Трансильвании, одновременно Польша вернула Подолье, а Венеция захватила Морею. Начиная с этого времени «земля ислама» постоянно держала оборону на Балканах, будучи способной в лучшем случае временно приостанавливать продвижение неверных, а в худшем – постоянно и бесповоротно отступать перед ними.
Основное бремя вытеснения турецкой империи из Европы в течение последующего века легло на российской, а не на австрийский абсолютизм. Натиск военной машины империи Габсбургов иссяк относительно быстро, после завоевания Баната в 1716–1718 гг. Османские силы остановили австрийские армии в 179 ,( 1-179,9 гг., вернув себе Белград. Но на севере экспансия Романовых в черноморской зоне была неудержима. Победа России в 1768–1774 гг. закончилась потерей земель между Бугом и Днестром и установлением прав царя на вмешательство в дела Молдавии и Валахии. В 1783 г. Крым был присоединен к России; в 1791 г. был аннексирован Едисан. Между тем вся административная система Оттоманского государства постепенно разрушалась. Диван стал пешкой в руках алчных столичных клик, нацеленных на максимизацию прибыли от коррупции и злоупотреблений. Турецкие гражданские бюрократы и греческие купцы-фанариоты из Стамбула приобретали все большую власть и влияние в Порте после 1700 г., тогда как военная мощь Османского государства продолжала ослабевать; причем влияние первых возрастало – они становились пашами и губернаторами провинций [533] , а вторые получили контроль над прибыльными позициями в казначействе и румынских княжествах. Должности, набор на которые ранее осуществлялся с помощью системы девширме по личным качествам, теперь оптом продавались лицам, предлагавшим наивысшую цену: но, в отличие от европейских систем, покупка должности не давала гарантий продолжения обладания ею; следовательно, покупатели вынуждены были буквально выжимать прибыль из таких инвестиций с наибольшей скоростью, прежде чем придет их черед ее лишиться. В результате сильно возросли объемы изъятий у населения, которое вынуждено было терпеть бремя подобного управления. Торговля должностями распространилась среди янычар, которые стали покупать и продавать их фиктивным лицам в условиях всеобщей коррупции. К концу века зарегистрированы были 100 тысяч янычар, лишь небольшая часть которых обладала боевыми навыками, гораздо большее число имело доступ к оружию и могло использовать его для вымогательства и запугивания [534] . Теперь янычары стали похожи на гангренозную массу, распространившуюся в городах империи. Самые могущественные из янычар зачастую занимались снабжением местной аристократии айанов, что с тех пор стало заметным явлением в жизни провинциального османского общества.
Тем временем трансформировалась вся земельная система. Институт тимаров уже долгое время находился в состоянии упадка, вместе с деградацией кавалерии сипахов, которую он поддерживал. Порта проводила сознательную политику возвращения поместий бывших тимариотов, либо конфискуя их во владение династии, либо передавая спекулянтам для увеличения притока денежных доходов, либо просто распределяя их между подставными лицами, за которыми стояли придворные. Таким образом, произошел общий сдвиг в форме османской эксплуатации от тимара к илтизаму: условные военные держания конвертировались в систему откупов, благодаря которой все возраставшие денежные потоки направлялись в казначейство. Система илтизамов впервые была внедрена в Порте в отдаленных азиатских провинциях, таких как Египет, в которых не было нужды в конных войсках того типа, который широко применялся в Румелии [535] . Распространение этих откупов по всей империи, однако, отвечало не только финансовым нуждам Османского государства, но и гомогенизации правящего класса в связи с упадком и исчезновением девширме. Одной из важных структурных причин для последнего из указанных процессов было изменение состава империи в связи с завоеванием арабских провинций. Распространение фискальных единиц илти-замов, пришедших из исламских провинций, вместо тимаров, завершило разрушение этого института, который функционально дополнял девширме в рамках первоначальной системы оттоманского экспансионизма. Сопутствующим феноменом был рост вакуфных земель, номинально бывших корпоративными религиозными поместьями благочестивых верующих, которые являлись единственной значимой формой землевладения; форма эта не была собственностью султаната [536] . Обычно они использовались для маскировки передачи земли по наследству в рамках одной семьи, «управляющей» вакуфом. Первые османские правители бдительно контролировали этот религиозный институт; Мехмет II даже произвел масштабное возвращение вакуфных земель государству. В эпоху оттоманского упадка, однако, число вакуфных владений вновь увеличилось, причем главным образом в Анатолии и арабских провинциях.
Появление и усиление системы илтизам изменило положение крестьянства. Тимариоты не могли сгонять крестьян с земель или взыскивать сборы, выходящие за определенные пределы, установленные султаном. Землевладельцы новой эпохи не признавали таких ограничений: сама краткость периода их владения побуждала их к сверхэксплуатации крестьян в своих поместьях. В течение XVIII в. Порта жаловала всё больше и больше пожизненных владений или маликане (malikane ), которые сдерживали краткосрочные требования этой сельской знати, но, с другой стороны, способствовали удержанию ими долговременной власти над деревнями [537] . Таким образом, на Балканах тимары в итоге уступили место системе чифликов. Держатель чифлика имел практически неограниченную власть над рабочей силой, находившейся в его распоряжении: он мог согнать крестьян с земли или запретить им уходить с нее, опутав долговыми обязательствами. Он мог расширить свой относящийся к поместью резерв или хассачифлик ( hassa-chiflik) за счет делянок арендаторов, и такая система стала общепринятой. Обычно он мог изымать половину урожая у непосредственных производителей, которым оставалась лишь треть продукции после выплаты налога на землю и оплаты за его сбор [538] . Другими словами, положение балканского крестьянства ухудшалось вместе с положением их собратьев в остальной части Восточной Европы, доходя до полной нищеты. На практике крестьяне теперь были привязаны к земле, и сельских жителей можно было по закону возвращать владельцам, если они уходили с земель. Также как торговля зерновыми с Западной Европой привела к усилению эксплуатации в Польше или Восточной Германии, коммерческое производство хлопка или кукурузы на экспорт вдоль побережья и в долинах Греции, Болгарии и Сербии увеличило давление землевладельцев на чифлики и внесло вклад в их распространение. Отличительной чертой сельскохозяйственных отношений на юго-востоке было разрушение строгого гражданского порядка, навязанного сверху: бандитизм расцвел пышным цветом, чему немало способствовал гористый рельеф региона, что делало его средиземноморским аналогом побегов крестьян на Балтийских равнинах. Землевладельцы, напротив, содержали банды вооруженных разбойников или нерегулярных солдат кирджалиев в своих поместьях, чтобы защитить себя от бунтов и усмирять арендаторов [539] . Последней стадией деградации Оттоманского государства был фактически полный паралич Порты и узурпация провинциальной власти сначала военными пашами в Сирии и Египте, потом деребеями или местными руководителями в Анатолии, а затем айанами или династиями местной знати в Румелии. К концу XVIII в. султанат контролировал только часть из 26 вилайетов, на которые формально подразделялась империя.
Однако длительное разложение османского деспотизма не породило феодализма. Право собственности империи на все светские земли не было отменено, однако многие маликане были пожалованы с целью узуфрукта. Система чифлика так и не получила законной формы, а крестьяне не были юридически прикреплены к земле. До самого 1826 г. состояния бюрократов и откупщиков, которые богатели за счет угнетения населения, могли быть произвольно конфискованы султаном после их смерти [540] . Отсутствовали реальная неприкосновенность собственности и титулованная знать. Разжижение старого социального и политического порядка не привело к появлению приемлемого нового. Османское государство в XIX в. оставалось вязким болотом, искусственно поддерживаемым соперничающими за его наследство европейскими державами. Польшу можно было разделить между Австрией, Пруссией и Россией, так как все три страны были сухопутными державами, равно граничащими с Польшей и имевшими интерес к ней. Балканы нельзя было разделить, так как между тремя основными соперниками в борьбе за доминирование в регионе – Британией, Австрией и Россией – не было согласия. Британия господствовала в Средиземноморье и первенствовала в торговле с Турцией; на османский рынок к 1850 г. из Англии поступало больше товаров, чем из Франции, Италии, Австрии или России, что делало регион жизненно важным для викторианского экономического империализма. Британская военно-морская и промышленная мощь мешала сколько-нибудь гармоничному соглашению о судьбе Османской империи, препятствуя российским усилиям по ее разделу. В то же время пробуждение национального самосознания балканских народов после эпохи Наполеона препятствовало стабилизации политической ситуации в Юго-Восточной Европе. В 1804 г. разразилось сербское восстание. Вслед за ним последовало восстание в Греции в 1821 г. Вторжение царя в 1828–1829 гг. обратило в бегство турецкие армии и создало формальную автономию от Порты Сербии, Молдавии и Валахии; благодаря англо-французскому и российскому вмешательству была гарантирована и одновременно ограничена независимость Греции в 1830 г. Эти потери, вызванные движением в тех местах, которые Лондон и Вена не могли контролировать, все еще оставляли Турцию с Балканской империей, простиравшейся от Боснии до Фессалии и от Албании до Болгарии.
Защита со стороны международного сообщества отложила окончательную гибель Оттоманского государства почти на столетие, способствуя предпринимаемым время от времени попыткам «либерального» обновления в духе западных капиталистических норм. Они были инициированы Махмудом II в 1820-х гг., когда он попытался модернизировать административный и экономический аппарат султаната. Были распущены янычары, ликвидированы тимары, вакуфные земли номинально переданы в ведение казначейства империи, иностранные офицеры призваны для обучения новой армии. Был восстановлен контроль центра над провинциями, правлению деребеев положен конец. Эти меры быстро доказали свою неэффективность в попытке остановить упадок имперской системы. Армии Махмуда были разбиты египетскими войсками Мехмета Али, в то время как его губернаторы и чиновники часто были даже более коррумпированными и жестокими, чем местная знать до них. За этим разгромом возобновилось англо-французское давление по поводу либерализации и реорганизации оттоманского правления. Результатом этого в середине века стали реформы Танзимата, которые в большей степени соотносились с западными представлениями о законах и торговле. Рескрипт Розовой палаты 1839 г. юридически подтвердил неприкосновенность частной собственности на территории империи и равенство религий перед законом [541] . Этих мер настойчиво требовали представители дипломатического корпуса в Стамбуле. Государственная собственность, однако, продолжала преобладать во внутренней части империи. Только в 1858 г. был принят аграрный закон, предоставивший ограниченные права наследования тем, кто контролировал земли или обладал узуфруктом. Неудовлетворенные этой мерой западные державы в 1867 г. добились расширения этих прав. Землевладельцы наконец-то приобрели юридическое право собственности на свои поместья [542] . Но искусственный характер нового политического курса вскоре стал очевидным. Когда турецкие националисты попытались навязать введение конституции, султан Абдул Гамид в 1878 г. без малейших колебаний восстановил жесткий, хотя и хрупкий личный деспотизм. К концу века произошла стабилизация чиновничьего и землевладельческого классов и была гарантирована неприкосновенность собственности, допущенной реформами Танзимата. Однако в Оттоманской империи не возникло нового социального и политического порядка, и ситуация осложнялась из-за последовавшей борьбы балканских народов за освобождение и маневров европейских великих держав, направленных на то, чтобы помешать им или использовать для своей выгоды. В 1875 г. было подавлено народное восстание в Болгарии. Россия вмешалась, и Турция опять потерпела поражение, в то время как Англия снова взялась спасать ее от последствий этого фиаско. Результатом этого стало соглашение между европейскими державами, которое даровало полную независимость Сербии, Румынии и Черногории, создавало автономию в Болгарии под остаточным сюзеренитетом Оттоманской империи и передало Боснию под австрийский контроль. В течение следующего десятилетия Греция купила Фессалию, а Болгария добилась независимости.
Во время правления Абдул Гамида соединение разочарования из-за усиливавшегося упадка империи и непривычной незыблемости позиций бюрократии привело к тому, что офицеры, которые стали известны как младотурки, захватили власть во время государственного переворота 1908 г. Когда карьерные амбиции были удовлетворены, а лозунги в духе Конта забыты, политическая программа младотурок оказалась сведена к продолжению диктаторского централизма и подавлению покоренных наций империи [543] . Поражение в Первой Балканской войне и распад в Первую мировую стали постыдным концом этого режима. Таким образом, Османское государство перенесло отделение частей и модификации в течение последнего века своего существования, но о не обрело новой социальной основы. Просто старая постоянно искажалась и ломалась. Безрезультатные реформы против злоупотреблений не могли привести к реальной реконструкции империи ни в форме новой политической системы, ни в форме реставрации старой. Феодализм не господствовал при создании османской системы, абсолютизм не был связан с ее упадком. Попытки европейских держав перестроить Порту в соответствии с различными институциональными нормами, принятыми в Вене, Санкт-Петербурге или Лондоне, были в равной степени бесполезными: она принадлежала к другой вселенной. Безуспешные реформы Махмуда II и эпохи Танзимата, реакция периода Абдул Гамида, фиаско младотурок не привели ни к турецкому неодеспотизму, ни к восточному абсолютизму, ни, естественно, к западному парламентаризму. Рождения новой формы государства не произошло, пока дипломатическая консервация пережитков старой не закончилась с Первой мировой войной, которая наконец освободила Османское государство от его невзгод.
Балканы избавились от османского господства до исхода событий в самой Турции. Освобождение от османского владычества одной страны за другой с начала XIX в. привело к складыванию неожиданной аграрной модели на полуострове, отличной от принятой в остальной части Восточной и Западной Европы. Румыния, исторически наиболее поздно заселенная земля, находившаяся между балканским и заэльбским типами регионального развития, испытала на себе самые странные исторические повороты из всех новых стран, появившихся после 1815 г. Она стала единственной страной в Европе, в которой произошло настоящее вторичное закрепощение крестьянства, после того как первому уже был положен конец; что, безусловно, было обусловлено хлебной торговлей. Румынские земли, как мы видели, были уникальным образом оставлены в распоряжении собственных бояр Оттоманским государством, завоевавшим их в XVI в. Формирование стратифицированного сельского общества с сеньорами-хозяевами и подданным крестьянством было там очень недавним из-за длительной отсталости, принесенной на эти земли хищническим правлением кочевников, завершившимся лишь с постепенным изгнанием половцев и татар в XIII в. [544] Собственность сельской общины была широко распространена до XIV в., земельная аристократия сформировалась только с появлением Молдавского и Валахского княжеств в XV в. Она сначала эксплуатировала сельских тружеников скорее в налоговом отношении, нежели в феодальном смысле, – способом, перенятым у тюркских кочевников [545] . Краткое объединение двух государств под властью Михая I в конце XVI в. отметило закрепощение румынского крестьянства. Крепостное право затем усилилось под оттоманским гнетом. В XVIII в. Порта поручила управление этими провинциями греческим фанариотам из Стамбула, которые стали формировать промежуточную правящую династию так называемых господарей в княжествах, где сбор налогов и торговля уже контролировались греческими эмигрантами.
Боярская поместная система испытывала все большие проблемы из-за крестьянского сопротивления в форме характерных для востока Европы массовых побегов, чтобы избежать пошлин и налогов. Австрийские чиновники, озабоченные заселением вновь завоеванных приграничных территорий в Юго-Восточной Европе, умышленно предлагали румынским эмигрантам находить убежище за границей [546] . Серьезно встревоженный ухудшавшейся ситуацией с рабочей силой в княжествах, в 1744 г. султан приказал одному из господарей Константину Маврокор-дату умиротворить и вновь заселить княжества. Под влиянием европейского Просвещения Маврокордат издал декрет о постепенной отмене крепостничества в Валахии (1746) и Молдавии (1749), пожаловав каждому крестьянину право купить себе вольную [547] . Эту меру облегчало отсутствие какой-либо юридической категории эквивалентной крепостному праву в управляемых турками провинциях империи. В том столетии не было экспортной торговли зерновыми, потому что Порта обладала государственной монополией на торговлю; дань зерном просто отправлялась в Стамбул. Однако Адрианопольский договор 1829 г., предоставивший России фактический сюзеренитет над румынскими землями совместно с Турцией, сделал недействительным контроль Порты над экспортом. Результатом стал неожиданный и впечатляюще резкий рост производства пшеницы на берегах Дуная. К середине XIX в. наступление промышленной революции в Западной Европе создало капиталистический мировой рынок такого типа, которого не существовало в XVI–XVII вв., и его привлекательность смогла трансформировать отсталые аграрные регионы в течение несколькихдесятилетий. Производство пшеницы в румынских княжествах удвоилось с 1829 по 1832 г., а ее экспортная стоимость – с 1831 по 1833 г. Посевные площади под зерновыми выросли в 10 раз в течение десятилетия с 1830 по 1840 г. [548] Рабочая сила для этого феноменального роста была изыскана благодаря повторному закрепощению румынского крестьянства и увеличению объема барщины до уровня, большего, чем существовавший до декретов Маврокордата в предыдущем веке. Таким образом, этот случай подлинного повторного закрепощения в Европе был следствием воздействия промышленного, а не торгового капитализма, и он мог быть только таким. Теперь стала возможной прямая и гигантская экономическая причинность, действовавшая по всему пространству континента, что было невероятным за два-три столетия до этого. Впоследствии румынское крестьянство осталось в подчиненном положении и с недостатком собственной земли, в условиях, очень близких к положению русского крестьянства. Крепостное право было вновь отменено по реформе 1864 г., прямо скопированной с царского манифеста 1861 г.; и, как и в России, вплоть до Первой мировой войны в деревне продолжили править феодальные землевладельцы.
Румыния, однако, была исключительным случаем на Балканах. Во всех остальных странах происходили противоположные процессы. В Хорватии, Сербии, Болгарии и Греции местная аристократия была истреблена во время османского завоевания, земля напрямую захвачена султанатом, турецкие завоеватели расположились на ней, и к XIX в. стали наиболее мощным и паразитическим классом местной знати – айанами. Последовавшие национальные восстания и войны за независимость привели к вытеснению турецких армий из Сербии (1804–1913), Греции (1821–1913) и Болгарии (1875–1913). Политическая независимость этих стран автоматически сопровождалась экономическими переменами в деревне. Очевидно, турецкие землевладельцы обычно уходили вместе с войсками, которые охраняли их, оставляя свои поместья крестьянам, возделывавшим в них землю. Эта схема варьировалась в зависимости от длительности борьбы за независимость. Если она была длительной и затягивалась, как в Сербии и Греции, у местного землевладельческого слоя было время, чтобы появиться и захватить землю в ходе борьбы, полностью присваивая чифлики на более позднем этапе: богатые греческие семьи, например, купили множество неповрежденных турецких владений в Фессалии, когда Порта вернула ее в 1881 г. [549] С другой стороны, в Болгарии стремительность и жестокость войны за независимость почти не оставили возможностей для подобного перехода. Но во всех трех странах итоговое положение дел на селе было практически одинаковым [550] . Независимые Болгария, Греция и Сербия, в сущности, стали странами, где доминировали мелкие собственники-крестьяне, в то время как Пруссия, Польша, Венгрия и Россия все еще были странами с обширными помещичьими владениями. Сельская эксплуатация, естественно, не прекратилась: в независимых государствах ростовщики, купцы, чиновники осуществляли ее в новых формах. Но фундаментальная аграрная модель Балканских государств по-прежнему основывалась на мелком производстве в условиях растущей перенаселенности, раздела земель и долгов деревень. Окончание турецкого правления означало конец традиционного землевладения. Восточная Европа переживала общую социально-экономическую отсталость в начале XX в., отделявшую ее от Западной Европы; но юго-восток в ней оставался особым полуостровом.
Заключение
Османская империя, захватившая на 500 лет Юго-Восточную Европу, обосновалась на континенте, так никогда и не став частью его социальной и политической системы. Она всегда оставалась чужой для европейской культуры, как исламское вторжение в христианский мир, а само ее существование вплоть до наших дней затрудняет создание единой истории континента. В то же время долгое и глубокое проникновение в европейскую почву общественной формации и государственной структуры, представлявшей резкий контраст с доминировавшей на континенте моделью, создало удобную меру, в сравнении с которой можно оценить историческую специфику европейского общества до наступления промышленного капитализма. Действительно, начиная с эпохи Возрождения, европейские политические мыслители эпохи абсолютизма постоянно стремились выявить характерные черты их собственного мира, противопоставляя его турецкому порядку, столь близкому и одновременно столь далекому для них; никто из них не сводил эту дистанцию просто или главным образом к религии.
В Италии начала XVI в. Макиавелли был первым мыслителем, который использовал Османское государство как антитезу европейской монархии. В двух основных сюжетах «Государя» он выделил самодержавную бюрократию Порты как институциональный порядок, который отделяет ее от всех государств Европы: «Турецкая монархия повинуется одному властелину; все прочие в государстве – его слуги; страна поделена на округи-санджаки, куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет как ему вздумается» [551] . Он добавлял, что в распоряжении османских правителей находится такой тип постоянной армии, который в то время был неизвестен где-либо еще на континенте: «Турецкий султан отличается от других государей тем, что он окружен двенадцатитысячным пешим войском и пятнадцатитысячной конницей, от которых зависит крепость и безопасность его державы. Такой государь поневоле должен, отложив прочие заботы, стараться быть в дружбе с войском» [552] . Эти размышления, как справедливо отмечал Ф. Чабод, составили один из первых неявных подходов к самоопределению «Европы» [553] . Шестьдесят лет спустя, в муках французских религиозных войн Боден делал политические сравнения между монархиями, связанными уважением к личности и имуществу своих подданных и империями, неограниченными в своем господстве над ними; первые представляли «королевский» суверенитет европейских государств, а вторые – «господскую» власть деспотизма, как в Османском государстве, которое, в сущности, было чужим для Европы. «Король турок, называемый Великий Господин не из-за размера его царства, так как король Испании в десять раз больше, а из-за того, что он полный господин своих людей и собственности. Но тимариоты, подчиненные которых являются арендаторами, почти наделены собственными тимарами за его поддержку; их пожалования возобновляются каждые десять лет, а когда они умирают, их наследники могут получить только их движимое имущество. Нигде в Европе нет таких деспотических монархий… Со времени венгерских вторжений люди в Европе, более гордые и воинственные, чем в Азии или Африке, никогда бы не потерпели или не знали деспотической монархии» [554] . В Англии начала XVII в. Бэкон подчеркивал, что фундаментальным различием европейской и турецкой систем было отсутствие в османском обществе наследственной аристократии. «Монархия, в которой вообще нет аристократии, всегда является чистой и абсолютной тиранией, как это есть у турок. Потому что знать умеряет верховную власть и отводит внимание народа в сторону от королевской династии [555] . Два десятилетия спустя, после свержения монархии Стюартов, республиканец Гаррингтон переместил фокус сравнения на экономические основы Османской империи в качестве главной линии, разделяющей Турцию и европейские государства: юридическая монополия султана на земельную собственность была явной отличительной чертой Порты: «Если один человек будет единственным владыкой земли или превосходить народ, например, на три четверти, то это Великий Господин: потому что так Турка называют из-за его собственности; и его Империя – абсолютная монархия… В Турции нет законов, чтобы кто-то кроме Великого Господина мог владеть землей» [556] .
К концу XVII в. могущество Османского государства прошло свою высшую точку; тон комментариев теперь ощутимо изменился. Впервые тема исторического превосходства Европы стала главной в дискуссии о турецкой системе, а недостатки последней теперь приписывались всем азиатским империям. Такой новый решительный шаг был сделан в сочинениях французского доктора Бернье, который путешествовал по Турецкой, Персидской и Могольской империям и стал личным врачом императора Аурангзеба в Индии. После возвращения во Францию он изобразил Индию Моголов как еще более крайний вариант османской Турции: причиной безнадежной тирании в обеих, сообщал он, является отсутствие частной собственности на землю, результат которого он наглядно сравнивал с благословенной сельской местностью под управлением Людовика XIV. «Сколь незначительно богатство и сила Турции в сравнении с ее естественными преимуществами! Позвольте только предположить, какой могла бы стать столь населенная и развитая страна, если бы было признано право частной собственности, и мы не сомневаемся, что она могла бы выставлять такие же огромные армии, как и прежде. Я объехал почти все части этой империи и был свидетелем, сколь прискорбно она разорена и обезлюжена. <…> Уничтожьте право частной собственности на землю, и вы узнаете, как верное следствие, тиранию, рабство, беззаконие, нищету и варварство; земля не будет обрабатываться и придет в запустение; откроется путь к уничтожению народов, разрушению королей и государств. Надежда, которая воодушевляет человека, – что он сохранит плоды своего труда и передаст их своим наследникам, – составляет главную основу всего самого совершенного и благословенного в этом мире; и, если мы посмотрим на различные королевства мира, мы обнаружим, что они процветают или угасают в зависимости от того, признают ли они право или отвергают; одним словом, признание или пренебрежение этим принципом изменяет и делает разнообразным лицо земли» [557] . Едкое описание Востока Бернье оказало глубокое влияние на последующие поколения мыслителей периода Просвещения. В начале XVIII в. Монтескье близко повторил его описание турецкого государства: «Великий Господин наделяет большей частью земель своих солдат и лишает ее по своей прихоти; он захватил все наследство чиновников своей империи; когда подданный умирает, не имея наследника мужского пола, его дочери могут только пользоваться его вещами; так как турецкий правитель захватывает владение над ними; то в конечном счете владение большей частью имуществ является непрочным… Из всех деспотических государств нет ни одного, которое обременяло бы самого себя как то, где государь объявляет себя собственником всех земель и наследником всех своих подданных. Неизбежным следствием этого бывает то, что земли перестают обрабатываться, а если государь к тому же занимается торговлей, то оказывается разрушенной и вся промышленность» [558] .
К этому времени, конечно, европейская колониальная экспансия преодолела и изучила весь мир, и спектр политических представлений, изначально полученных от специфического взаимодействия с Османским государством на Балканах, был соответственно распространен к границам Китая и далее. Поэтому труд Монтескье превратился в первую полномасштабную компаративную теорию того, что он категорично назвал «деспотизмом» в качестве общей неевропейской формы правления, вся структура которой в «Духе законов» противопоставлялась принципам рожденного в Европе «феодализма». Однако обобщенность концепции сохраняла традиционную географическую детерминированность, объясняемую влиянием климата и почвы: «Азия – это та область мира, где деспотизм, так сказать, пребывает естественным образом» [559] . Судьба завещанного Просвещением термина «восточный деспотизм» в XIX в. известна и не должна нас здесь занимать [560] ; достаточно сказать, что, начиная с Гегеля, сохранялись неизменными большинство концепций азиатского общества, интеллектуальной функцией которых являлось выведение радикального контраста между европейской историей, оригинальная специфика которой была найдена Монтескье в феодализме и его современном наследнике-абсолютизме, и судьбой других континентов.
В этом веке ученые-марксисты, убежденные в универсальности последовательных фаз социально-экономического развития, отмеченных в Европе, напротив, как правило, утверждали, что феодализм был глобальным феноменом, охватившим азиатские или африканские государства в той же мере, что и европейские. Выделялись и изучались османский, египетский, марокканский, персидский, индийский, монгольский или китайский варианты феодализма. Политическая реакция против имперских идеологий европейского превосходства привела к интеллектуальному расширению области применения историографических концепций, созданных на основании изучения прошлого одного континента, на объяснение эволюции других или всех. Ни один термин не подвергался такому неразборчивому и широкому распространению, как «феодализм», который на практике часто применялся к любой общественной формации между родоплеменным и капиталистическим полюсами идентичности, в которой не было рабства. Феодальный способ производства определялся при таком применении как сочетание крупного землевладения с мелким крестьянским производством, при котором класс эксплуататоров получает прибавочный продукт от непосредственного производителя с помощью традиционных форм неэкономического принуждения: трудовых повинностей, натурального оброка или денежных платежей; и где, соответственно, ограничены обмен продукцией и мобильность рабочей силы [561] . Этот комплекс представляли как экономическое ядро феодализма, которое может существовать в различных политических оболочках. Иными словами, юридические и конституционные системы становятся необязательными и внешними производными на основе неизменного производительного центра. Политические и юридические надстройки отделялись от экономической инфраструктуры, которая единственно и составляла как таковая подлинный феодальный способ производства. При таком взгляде, ныне широко распространенном среди современных ученых-марксистов, тип аграрной собственности, природа владельческого класса и форма государства могут невероятно различаться на фоне общего сельского порядка, лежащего в основе всей общественной формации. В частности, раздробленный суверенитет, вассальная иерархия и поместная система средневековой Европы перестали быть во всех отношениях изначальными или существенными характеристиками феодализма. Их полное отсутствие стало совместимым с существованием феодальной общественной формации при условии, что существует сочетание масштабной аграрной эксплуатации и крестьянского производства, основанного на неэкономических отношениях принуждения и зависимости. Таким образом, Китай династии Мин, Турция сельджуков, Монголия Чингизидов, сефевидская Персия, Индия Моголов, Египет Тулунидов, Сирия Омеядов, Марокко
Альморавидов, ваххабитская Аравия – все в равной степени подходили под классификацию феодальных наравне с Францией Капетингов, Англией норманнов или Германии Гогенштауфенов. В ходе этого исследования мы встречали три типичных примера такой классификации: как мы уже видели, в трудах авторитетных ученых кочевнические объединения татар, Византийская империя и Османский султанат рассматривались как феодальные государства [562] . Эти историки утверждали, что очевидные отличия в их надстройке от западных норм скрывают лежащее в основе сходство базовых отношений производства. Тем самым все привилегии западного пути развития сводились на нет в многообразном процессе мировой истории, изначально таинственно едином. В этой версии материалистической историографии феодализм превращался в очистительный океан, в котором в действительности любое общество могло получить свое крещение.
Научная несостоятельность такого теоретического экуменизма очевидна из логического парадокса, в котором он заключается. Если в действительности можно выявить феодальный способ производства независимо от варианта юридической и политической надстройки, которая ему соответствует, а значит, это присутствие можно зафиксировать повсюду в мире, где вытеснены первобытные и племенные общественные структуры, – то тогда возникает проблема: как можно объяснить уникальный динамизм европейской части международного феодализма? До сих пор ни один историк не утверждал, будто промышленный капитализм спонтанно появился где-либо еще, кроме Европы и ее американского продолжения, которые затем буквально завоевали остальной мир в силу своего экономического превосходства, насадив за рубежом капиталистический способ производства в соответствии с нуждами и целями своей собственной имперской системы. Если на всей земле от Атлантического до Тихого океана существовал общий экономический базис феодализма, разделенный только юридическими и конституционными формами, и только одна зона произвела промышленную революцию, которая в конечном итоге привела к трансформации всех обществ в мире, то определяющие факторы такого необыкновенного успеха должны находиться в политической и юридической надстройке, только и отличавших ее. Законы и государства, игнорировавшиеся как вторичные и несущественные, мстительно возвращаются как очевидная причина самого важного прорыва в современной истории. Иными словами, если целостная структура суверенитета и закона отделяется от экономики универсального феодализма, ее тень парадоксальным образом управляет миром; так как она остается единственным принципом, способным объяснить столь различное развитие всего способа производства. То самое всеобщее присутствие феодализма в этой концепции сводит судьбу всех континентов к поверхностной игре простых местных традиций. Не различающий цветов материализм, не способный воспринимать настоящий и богатый спектр различных социальных общностей в рамках одного и того же временного пояса истории, тем самым неизбежно превращается в извращенный идеализм.
Решение этого парадокса, очевидное, но до сих пор незамеченное, находится в самом определении, данном Марксом докапиталистическим общественным формациям. Все способы производства в классовых обществах, предшествующих капитализму, извлекают прибавочный продукт труда от непосредственных производителей средствами неэкономического принуждения. Капитализм – первый способ производства в истории, в котором средство по изъятию прибавочного продукта у непосредственного производителя является по форме «чисто» экономическим, трудовым контрактом; —равный обмен между свободными агентами, ежечасно и ежедневно воспроизводящий неравенство и угнетение. Все иные предшествующие способы эксплуатации осуществлялись с помощью внеэкономических способов: родовых, традиционных, религиозных, юридических или политических. Вот почему, в принципе, невозможно объяснить их из собственно экономических отношений. «Надстройки» родства, религии, права или государства с необходимостью входят в основополагающую структуру способа производства в докапиталистических общественных формациях. Они прямо внедряются во «внутренние» связи процесса извлечения прибавочного продукта, в то время как в капиталистических общественных формациях, впервые в истории отделивших экономику как формально самодостаточный порядок, они, напротив, обеспечивают его «внешние» предпосылки. Следовательно, докапиталистические способы производства могут быть определены исключительно через их политические, юридические и идеологические надстройки, поскольку именно они определяют тип внеэкономического принуждения, который придает им особый характер. Конкретные формы юридической зависимости, отношений собственности и верховной власти, которые характеризуют докапиталистическую общественную формацию, вовсе не второстепенные или случайные сопутствующие явления; наоборот, они составляют главные индикаторы, указывающие на доминирующий способ производства. Поэтому детальная и точная систематизация таких юридических и политических форм является необходимой предпосылкой для составления всеобъемлющей типологии докапиталистических способов производства [563] . В действительности очевидно, что сложное переплетение экономической эксплуатации с внеэкономическими институтами и идеологиями создает гораздо более широкий диапазон возможных способов производства, предшествовавших капитализму, чем можно было бы заключить из самого относительно простого и всеобъемлющего капиталистического способа производства, который стал их общим и недобровольным конечным пунктом (;terminus ad quem) в эпоху промышленного капитализма.
Таким образом, любое априорное искушение привести первое в единообразие со вторым должно встретить возражение. Вероятность многообразия постпервобытных и нерабовладельческих, докапиталистических способов производства встроена в механизм извлечения прибавочного продукта. Непосредственные производители и средства производства, включая орудия труда и объекты труда, например землю, всегда находились в руках класса эксплуататоров посредством преобладавшей системы собственности, основного пересечения между правом и экономикой. Но поскольку отношения собственности сами по себе артикулируются политическим и идеологическим порядком, который в действительности часто открыто управляет их распределением (например, ограничивая землевладение аристократией или исключая дворян из торговых операций), весь аппарат эксплуатации всегда простирается в сферу надстройки. Так, Маркс писал П. В. Анненкову, что «общественные отношения <…> в совокупности образуют то, что в настоящее время называется собственностью» [564] . Это не значит, что юридическое право собственности само по себе является фикцией или иллюзией, от изучения которой можно отказаться, заменив его непосредственным анализом экономической структуры, находящейся ниже, – процедурой, которая ведет, как было указано, прямым путем к логическому краху. С точки зрения исторического материализма, напротив, это значит, что юридическая собственность вообще не может быть отделена каким-либо образом от экономического производства или политико-идеологической власти; внутри любого способа производства ее безусловно центральное положение происходит из взаимосвязей между ними, которые в докапиталистических общественных формациях становятся открытым и официальным политическим образованием. Поэтому неслучайно Маркс посвятил целую рукопись о докапиталистических обществах в «Набросках к критике политической экономии» (Grundrisse) – единственной своей работе по систематическому теоретическому сравнению различных способов производства – глубокому анализу форм аграрной собственности в сменявших друг друга современных способах производства в Европе, Азии и Америке. Направляющая нить всего текста – это изменяющийся характер и положение землевладения и его переплетающиеся отношения с политическими системами, начиная с первобытного родоплеменного общества и до кануна капитализма.
Мы уже видели, что Маркс, в отличие от позднейших авторов-марксистов, специально отделял кочевое скотоводство от всех форм оседлого сельского хозяйства как особый способ производства, основанный на коллективной собственности на недвижимое богатство (землю) и индивидуальной собственности на движимое богатство (стада) [565] . Поэтому нет ничего удивительного в том, что Маркс подчеркивал, что основополагающей характеристикой, определяющей феодализм, является частная собственность аристократии на землю. В этом отношении особенно показательны комментарии Маркса к исследованию М. М. Ковалевского о разложении деревенской общины. Молодой русский историк Ковалевский, который восхищался Марксом и переписывался с ним, посвятил значительную часть своей работы тому, что он назвал «медленным появлением феодализма в Индии после мусульманских завоеваний». Он не отрицал политических и юридических различий между могольской и европейскими аграрными системами и признавал, что юридическая неизменность исключительного императорского права собственности на землю привела к «меньшей интенсивности» феодализации в Индии по сравнению с Европой. И тем не менее он утверждал, что в реальности расширенная система феодов с полной иерархией вассалитета превратилась в индийский вариант феодализма накануне британского завоевания, прервавшего его консолидацию [566] . Поразительно, что Маркс постоянно критиковал те места в работе Ковалевского, где тот уподоблял индийские или исламские социально-экономические институты европейским, хотя исследование Ковалевского было написано в значительной степени под влиянием собственных работ Маркса, а тон его неопубликованных пометок на копиях, отправленных ему русским ученым, был в общем благожелательным. Самая резкая и показательная из этих пометок, отрицавших наличие феодального способа производства в могольской Индии, гласит: «Под предлогом того, что в Индии можно обнаружить „бенефициарную систему“, «продажу должностей» (хотя последняя ни в коем случае не является чисто феодальной, как доказано Римом) и «коммендации», Ковалевский рассматривает это как феодализм в западноевропейском смысле. Ковалевский забывает, среди прочего, что крепостничество, которое представляет важный элемент в феодализме, не существовало в Индии. Более того, например, индивидуальная роль феодальных помещиков (выполняющих функцию графов) в качестве защитников не только несвободных, но и свободных крестьян была незначительной в Индии, за исключением вакуфов. Мы также не сталкиваемся в Индии, как и в Риме, с поэзией почвы (Bodenpoesie) , столь характерной для романо-германского феодализма. В Индии земля нигде не является благородной в смысле, например, запрета ее передачи простолюдинам. С другой стороны, Ковалевский сам видит существенную разницу: отсутствие в империи Великих Моголов наследственной юстиции в сфере гражданского права» [567] . В другом месте Маркс снова остро критикует утверждение Ковалевского о том, что мусульманское завоевание Индии повлекло взимание исламского поземельного налога, или хараджа, с крестьянства, тем самым превратив наследственную собственность в феодальную: «Выплата хараджа не трансформировала их земли в феодальную собственность, не более чем поземельный налог сделал французскую земельную собственность феодальной. Все описания Ковалевского здесь – в высшей степени бесполезны» [568] . Природа государства также не была сходной с феодальными княжествами Европы: «Согласно индийскому праву, политическая власть не подлежала разделу между сыновьями; тем самым важный источник европейского феодализма был перекрыт» [569] .
Эти критические отрывки наглядно показывают, что сам Маркс очень хорошо понимал опасность неразборчивого распространения термина «феодализм» за пределы Европы и отказывался рассматривать Индию Делийского султаната или Могольской империи в качестве феодальной общественной формации. Более того, его заметки показывают глубокое проникновение и щепетильность по отношению именно к тем «надстроечным» формам, значимость которых для классификации докапиталистических способов производства уже подчеркивалась. Вот почему его возражения на признание Ковалевским феодальным индийского аграрного общества после исламского завоевания, в действительности, охватывает весь спектр юридических, политических, военных, судебных, налоговых и идеологических сфер. Поэтому их можно обобщить следующим образом: типичный феодализм включал юридически оформленное крепостничество и военную защиту крестьян общественным классом дворян, обладавших личной властью и собственностью и пользовавшихся исключительной монополией на закон и правосудие в политических рамках раздробленного суверенитета и налогового иммунитета, а также аристократической идеологии, превозносившей сельскую жизнь. И сразу же будет видно, как далек этот всеобъемлющий эвристический перечень от немногих простых ярлыков, часто используемых для наименования общественной формации феодальной. Возвращаясь к нашей начальной точке рассуждений, не подлежит сомнению, что собственный взгляд Маркса на феодализм в этом концентрированном определении исключал Турецкий султанат – государство, которое было во многих отношениях источником вдохновения и образцом для Могольской Индии.
Таким образом, контраст между европейскими и османскими историческими формами, столь сильно ощущаемый современниками, был хорошо обоснован. Турецкий социально-политический порядок радикально отличался от того, который в целом характеризовал Европу, как в ее западных, так и в восточных регионах. Европейский феодализм, не имел подобия ни в одной соседней географической зоне; он существовал только на крайней западной оконечности евразийского материка. Изначальный феодальный способ производства, который господствовал в раннее Средневековье, не сводился к простому набору экономических признаков. Разумеется, крепостное право составляло важнейшую основу всей системы присвоения прибавочного продукта. Но сочетание крупной аграрной собственности, контролируемой эксплуататорским классом, с мелким производством несвободного крестьянства, при котором прибавочный труд изымался посредством барщины или оброка, было моделью, весьма распространенной во всем доиндустриальном мире. Фактически любая постпервобытная общественная формация, которая не была основана на рабстве или кочевничестве, содержала подобные формы землевладения. Уникальность феодализма никогда не исчерпывалась только существованием феодального и зависимого классов как таковых [570] . Именно специфическая организация вертикально оформленной системы раздробленного суверенитета и условной собственности отличали феодальный способ производства в Европе. Именно эта ось определяла конкретный тип неэкономического принуждения, применявшегося по отношению к прямому производителю. Сплав вассалитета – бенефиций – иммунитета в систему феодов создал уникальную (sui generis) модель, по словам Маркса, «суверенитета и зависимости». Особенность этой системы заключалась в двойном характере отношений, которые были установлены как между непосредственными производителями и слоем непроизводителей, присваивающих прибавочный труд первых, так и внутри самого класса непроизводителей. В сущности, феод был, прежде всего, экономическим земельным пожалованием, обусловленным военной службой, и включавшим юридические полномочия по отношению к возделывавшим его крестьянам. Поэтому он всегда являлся сплавом собственности и суверенитета, в котором частичная природа первой дополнялась частным характером второго: условное держание было структурно связано с индивидуальной юрисдикцией. Тем самым изначальное ослабление абсолютного владения землей было дополнено фрагментацией публичной власти в форме ступенчатой иерархии. На уровне собственно деревни в результате появился класс дворян, имевших освященное законом личное право эксплуатации и юрисдикции над зависимыми крестьянами.
Неотъемлемой частью такой конфигурации было проживание владетельного класса в сельской местности, в противоположность городскому пребыванию аристократии классической древности; осуществление феодального покровительства и правосудия предполагало непосредственное присутствие феодальной знати в селе, символически выраженное в замках средневекового периода и идеализированное в «поэзии почвы» последующей эпохи. Индивидуальная собственность и власть, которые являлись характерным признаком феодального класса, могли, следовательно, сопровождаться его организующей ролью в самом производстве, типичной формой которого в Европе было феодальное поместье. Разделение феодального поместья на владения помещика и участки арендаторов воспроизводило внизу, как мы видели, экономическую иерархию, характерную для феодальной системы в целом. Наверху распространение феодов создало уникальные внутренние связи внутри знати, поскольку сочетание вассалитета, бенефиция и иммунитета внутри единого комплекса создало двойственную смесь договорной «взаимности» и зависимого «подчинения», которые всегда отличали истинную феодальную аристократию от любой разновидности эксплуататорского класса воинов, существовавшей при других способах производства. Наделение поместьем было двусторонним договором [571] : клятва верности и акт наделения связывали две стороны особыми обязательствами. Причиной разрыва такого договора могло стать преступление, совершенное как вассалом, так и сеньором; оно освобождало пострадавшую сторону от ее обязательств. В то же время двусторонний договор также олицетворял иерархическую власть вышестоящего над нижестоящим: вассал был ленником своего господина, обязанным ему личной, физической верностью. Тем самым сложная этика феодальной знати ставила рядом «честь» и «верность» в активном противоречии, чуждом свободному гражданину классической древности, который в Греции или Риме знал только первое, или слуге деспотической власти в Турецком султанате, которому было известно только второе. Договорная взаимность и неравенство в положении слились в феодальном поместье. В результате появилась аристократическая идеология, которая делала совместимыми гордость своим положением и смирение клятвы, законодательное оформление обязательств и личную верность [572] . Моральный дуализм этого феодального кодекса коренился в сплаве и распределении экономической и политической власти в рамках всего способа производства. Условное держание порождало вассальную субординацию внутри социальной иерархии господ; с другой стороны, распределенный суверенитет облекал ленника автономной юрисдикцией над стоящими ниже его. Оба института скреплялись взаимосвязями между отдельными индивидами внутри самого дворянского сословия. На всех уровнях цепочки покровительства и зависимости аристократическая власть и собственность были в высшей степени персональными.
Такая политико-юридическая структура, в свою очередь, имела важные последствия. Всеобщая фрагментация суверенитета позволила вырасти независимым городам в пространстве между различными феодальными поместьями. Самостоятельная и универсальная церковь могла присутствовать во всех светских княжествах, объединяя в рамках собственной независимой клерикальной организации культурные навыки и религиозные санкции. Более того, внутри каждого отдельного государства средневековой Европы развивалась система сословий, которая характерным образом была представлена в трехпалатном собрании знати, клира и горожан как различных групп внутри феодальной политической системы. Главным условием такой системы сословий тоже было распределение суверенитета, который передавал членам аристократического правящего класса общества частные прерогативы суда и управления таким образом, что требовалось их коллективное согласие на действия высшего сюзерена – монархии – на вершине феодальной иерархии за пределами цепочки личных обязательств и прав. Поэтому средневековые парламенты были необходимым и логическим расширением традиционного предоставления auxilium et consilium —помощи и совета вассала своему сюзерену. Двусмысленность их функции – орудия королевской воли или средства баронского сопротивления ей – была следствием противоречивого единства самого феодального договора, одновременно взаимного и неравного.
Как мы видели, в географическом отношении «полный» феодальный комплекс сложился в континентальной Западной Европе, в бывших землях Каролингов. Впоследствии он медленно и неравномерно распространился сначала на Англию, Испанию и Скандинавию, затем, не в полной мере, он проник в Восточную Европу, где его основные элементы и этапы подверглись многочисленным местным влияниям и изменениям, однако без потери регионом очевидной близости с Западной Европой в качестве его сравнительно неразвитой периферии. Таким образом, формировавшиеся границы европейского феодализма в основе своей устанавливались не религией или топографией, хотя та и другая очевидным образом предопределяли их. Христианство никогда не совпадало с этим способом производства: в средневековых Эфиопии или Ливане не было феодализма. Кочевое скотоводство, адаптировавшееся к засушливым равнинам большей части Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, долгое время окружало Европу со всех сторон, кроме Атлантики, через которую она в конце концов и вырвалась, чтобы установить господство над миром. Но границы между феодализмом и кочевничеством не были линейно топографическими: Паннонская равнина и украинская степь, классическая естественная среда для хищного кочевничества, были включены в оседлую аграрную культуру Европы. Феодализм, рожденный в западной части Европы, распространился в ее восточную часть путем заселения и примера. Завоевание играло дополнительную, но подчиненную роль: его наиболее яркий пример – Левант также оказался самым эфемерным. В отличие от предшествовавшего ему рабовладельческого способа производства и последовавшего капиталистического, феодальный способ производства как таковой не прибегал к империалистическому экспансионизму в широких масштабах [573] . Хотя любой баронский класс стремился непрерывно расширять сферу своего могущества путем военной агрессии, созданию огромных территориальных империй препятствовал систематический раскол власти, который характеризовал феодализм средневековой Европы. Как следствие, на континенте не существовало высшего политического объединения различных этнических общностей. Общая религия и ученый язык связывали государства, которые в культурном плане и по существу были отделены друг от друга. После прекращения германских и славянских миграций рассредоточение суверенитета в европейском феодализме способствовало великому разнообразию народов и языков на континенте. Ни одно средневековое государство не было основано на национальном принципе, а аристократия была очень подвижной, переселяясь с одной территории на другую; но сами разделы династической карты Европы позволяли консолидировать лежащее в ее основе этническое и лингвистическое многообразие. Феодальный способ производства, по своему характеру «донациональный», объективно подготовил возможность многонациональной государственной системы в эпоху, последовавшую на переходе к капитализму. Поэтому последней характерной чертой европейского феодализма, рожденного в результате конфликта и синтеза двух предшествовавших способов производства, являлась крайняя дифференциация и внутреннее ветвление его культурной и политической вселенной. В любой сравнительной перспективе это было немаловажным элементом особенностей континента.
Феодализм как историческая категория создан в эпоху Просвещения. С того времени, как он впервые был введен в оборот, обсуждается вопрос о том, существовал ли этот феномен за пределами Европы, в которой он получил свое имя. Хорошо известно, что Монтескье утверждал, что феодализм был уникальным явлением: это было «событие, которое случается единожды в мире и, возможно, никогда не повторится снова» [574] . Столь же общеизвестно возражение Вольтера: «Феодализм – это не событие, это очень старая форма того, что с различными системами управления существует в трех четвертях нашего полушария» [575] . Очевидно, что феодализм в действительности был больше институциональной «формой», чем моментальным «событием»; но широта «различий в системах управления» приписываемая ему, как мы видели, часто вела к полному выхолащиванию из него какой-либо определенной идентичности [576] . С учетом всего вышесказанного, сегодня нет сомнения, что Монтескье с его более глубоким историческим чутьем был ближе к истине. Современные исследования открыли лишь один важный регион мира, помимо Европы, где, без сомнения, господствовал феодальный способ производства. На другой крайней оконечности евразийского континента, за пределами восточных империй, известных Просвещению, Японские острова открыли социальную панораму, которая живо напомнила европейским путешественникам и наблюдателям конца XIX в. их средневековое прошлое, после того как прибытие коммодора Перри в 1853 г. в Иокогамскую бухту положило конец долгой изоляции японцев от остального мира. Меньше чем через десятилетие сам Маркс замечал в «Капитале», опубликованном за год до Реставрации Мэйдзи: «Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее широко развитым мелкокрестьянским хозяйством дает гораздо более верную картину европейского средневековья, чем все наши исторические книги» [577] . В нашем столетии научное мнение в подавляющем большинстве согласилось рассматривать Японию в качестве исторического примера настоящего феодализма [578] . Для наших целей основной интерес к такому дальневосточному феодализму лежит в его характерной комбинации структурных сходств и динамических отличий от европейской эволюции.
Японский феодализм, который появился в качестве развитого способа производства в XIV–XV вв. после долгого периода предшествующей инкубации, в основных чертах представлял такую же систему, как и европейский феодализм: сплав вассалитета, бенефициев и иммунитета в ленной системе, которая образовывала базовые политико-юридические рамки, в которых прибавочный труд изымался непосредственно у производителя. В Японии точно были воспроизведены связи между военной службой, условным держанием и сеньориальной юрисдикцией. Также была представлена ступенчатая иерархия сеньора, вассала и подвассала, формировавшая цепочку сюзеренитета и зависимости. Аристократия конных рыцарей составляла наследственный правящий класс; крестьянство было юридически прикреплено к земле в варианте, близком к поземельному крепостному состоянию. Естественно, японский феодализм также содержал в себе местные особенности, которые контрастировали с европейским феодализмом. Технологические условия возделывания риса обусловливали иную структуру деревни, в которой отсутствовала система трехполья. Японское поместье, со своей стороны, редко включало домен или земли сеньора. Еще более важно, что в рамках внутрифеодальных отношений между господином и его сеньором, над уровнем деревни, вассалитет доминировал над пожалованием: «личная» связь в виде клятвы верности была традиционно сильнее, чем «материальная» связь пожалования. Феодальный контракт менее походил на договор, чем в Европе: обязанности вассала были более разнообразными, а права его сюзерена более императивными. Внутри характерного баланса чести и подчинения, взаимности и неравенства, которые свойственны феодальным узам, японский вариант был существенно более склонен ко второму условию. Хотя клановая организация, как во всех феодальных общественных формациях, была вытеснена, ярко выраженный «кодекс» отношений сеньор – вассал поддерживался языком рода больше, чем элементами права: власть господина над подчиненным была более патриархальной и непререкаемой, чем в Европе. Сеньориальное преступление было чуждо как концепция; не было вассальных судов; приверженность букве закона была в целом очень ограничена. Самым важным общим следствием более авторитарной и асимметричной структуры внутрифеодальной иерархии в Японии стало отсутствие какой-либо сословной системы как на региональном, так и на национальном уровне. Это, без сомнения, самая важная политическая черта, разделяющая японский и европейский феодализм, рассматриваемые как изолированные структуры.
Несмотря на имеющиеся значительные различия второго порядка, фундаментальное сходство между двумя историческими моделями в целом очевидно. Прежде всего, для японского феодализма также была характерна строгая фрагментация суверенитета и условная частная собственность на землю. В действительности, в Японии эпохи Токугавы фрагментация суверенитета приняла более организованные, систематические и устойчивые формы, чем где-либо в средневековой Европе, в то время как условная собственность на землю была даже более распространена в феодальной Японии, чем в средневековой Европе, потому что в деревне не было свободных держаний. Параллельность двух примеров феодализма на противоположных концах Евразии в конечном счете получила самое впечатляющее подтверждение в последующих судьбах обеих зон. Как мы видели, европейский феодализм оказался прологом к капитализму. Именно экономическая динамика феодального способа производства в Европе освободила элементы, необходимые для первоначального накопления капитала в масштабе континента; и именно социальный порядок Средневековья предвосхитил и подготовил восхождение буржуазного класса, который его и похоронил. Запущенный промышленной революцией, полноценный капиталистический способ производства стал даром и проклятием Европы миру. Сегодня, во второй половине XX в. только один главный регион за пределами Европы или ее заморских территорий достиг развитого индустриального капитализма – Япония. Социально-экономические предпосылки японского капитализма, как хорошо показывают современные исторические исследования, лежат глубоко в японском феодализме, который в конце XIX в. столь поразил Маркса и европейцев. Ибо ни один другой регион мира не имел таких благоприятных внутренних составляющих для быстрой индустриализации. Так же как и в Западной Европе, феодальное сельское хозяйство достигло замечательного уровня производительности – возможно, большего, чем в современной муссонной Азии. Там также возникло и распространилось ориентированное на рынок землевладение, а общий показатель коммерциализации деревни был поразительно высок: вероятно, половина или более совокупного продукта. К тому же позднефеодальная Япония была местом такой урбанизации, возможно не имевшей ничего подобного нигде, кроме современной Европы: в начале XVIII в. столица Эдо была больше, чем Лондон и Париж, а, видимо, каждый десятый японец проживал в городе, насчитывавшем более 10 тысяч жителей. Наконец, образовательный уровень страны мог сравниться с наиболее развитыми нациями Западной Европы: накануне западного «открытия» Японии примерно 40–50 % взрослого мужского населения были грамотными. Впечатляющая скорость и успех, с которыми и в эпоху Реставрации Мэйдзи в Японии укоренялся промышленный капитализм, были обусловлены историческими предпосылками уникального развития общества, наследием феодализма Токугавы.
Но в то же время между европейским и японским развитием существует явное различие. Хотя Япония в конечном счете достигла более высоких темпов индустриализации, чем в любой капиталистической стране Европы или Северной Америки, основной импульс для ее бурного перехода к капиталистическому способу производства в конце XIX–XX в. носил внешний характер. Именно воздействие западного империализма на японский феодализм внезапно побудило внутренние силы к тотальной трансформации традиционного порядка. Глубина этих перемен еще не ощущалась в границах государства Токугавы. Когда в 1853 г. эскадра Перри бросила якорь в Иокогаме, исторический разрыв между Японией и угрожающими ей евро-американскими странами был, несмотря ни на что, громадным. Японское сельское хозяйство было в значительной степени коммерциализировано на уровне распределения, но не на уровне самого производства. Вот почему феодальные повинности, в преобладающем большинстве собиравшиеся в натуральной форме, все еще составляли большую часть прибавочного продукта, даже если они, в конце концов, превращались в деньги: во всем сельском хозяйстве непосредственное производство на рынок оставалось второстепенным. Японские города представляли собой огромные агломерации с весьма изощренными финансовыми институтами и институтами обмена. Но мануфактуры все еще носили зачаточный характер, представленные в основном ремесленным производством, организованным в рамках традиционных гильдий; фабрики были вообще неизвестны; не было организованного наемного труда в сколько-нибудь заметном масштабе; техника была простой и архаичной. Японское образование носило массовый характер, делая грамотным каждого второго. Но в культурном отношении по сравнению с западными конкурентами страна была все еще чрезвычайно отсталой; здесь не развивались науки, было слабо развито право, едва-едва – философия; еще меньше – политическая и экономическая теория и, наконец, полностью отсутствовала критическая история. Иными словами, ничего сравнимого с Возрождением на берегах Японии не было. Поэтому логично, что структура государства носила фрагментарную и застывшую форму. Япония знала богатый исторический опыт феодализма, но у нее никогда не было абсолютизма. Сегунат Токугавы, который господствовал над островами два с половиной столетия перед проникновением промышленного Запада, обеспечивал длительный мир и поддерживал строгий порядок, но этот режим был отрицанием абсолютистского государства. Сегунат не имел в Японии монополии на применение силы; региональные правители содержали собственные армии, численность которых была больше, чем войска самого дома Токугава. Режим не поддерживал единого законодательства: его судебные решения имели силу только на 1/5 или 1/4 территории страны. У сегуна не было бюрократии, имевшей полномочия в рамках его сюзеренитета; каждый большой лен имел собственную и независимую администрацию. Не было общенациональных налогов: 3/4 страны лежали за пределами фискальных полномочий сегуна. Он не проводил общей внешней политики: официальная изоляция запрещала устанавливать регулярные сношения с внешним миром. Армия, налоги, бюрократия, законодательство и дипломатия – ключевые институциональные составляющие европейского абсолютизма – были неразвиты или отсутствовали. В этом смысле политическая дистанция между Японией и Европой – двумя родинами феодализма – показывает и символизирует глубокое различие в их историческом развитии. Здесь необходимо и поучительно провести сравнение не «природы», а «положения» феодализма на его собственной траектории развития.
Как мы видели, феодальный способ производства в Европе был результатом сплава элементов, освобожденных в результате крушения и распада двух предшествовавших ему антагонистических способов производства: рабовладельческого способа производства классической древности и первобытнообщинного способа производства племен, населявших его периферию. В период раннего Средневековья медленный романогерманский синтез в конце концов породил новую цивилизацию европейского феодализма. В Европе Средневековья и периода раннего Нового времени конкретная история каждой общественной формации отличалась различной степенью этого изначального синтеза, который и дал рождение феодализму. Анализ полностью самостоятельного опыта японского феодализма подчеркивает важную общую истину, которую мы обнаруживаем у Маркса: генезис способа производства всегда необходимо отличать от его структуры [579] . Одна и та же структура может возникнуть большим количеством различных «путей»; составляющие ее элементы могут быть освобождены различными обстоятельствами из предшествующих способов производства, прежде чем они снова переплетутся в связной и самовоспроизводящейся системе. Так, японский феодализм не имел ни «рабского», ни «племенного» прошлого. Это был результат медленного распада китаизированной имперской системы, основанной на государственной монополии на землю. Государство Тайхо, образованное в VII–VIII вв. под китайским влиянием, было абсолютно отличавшимся от Рима по типу империи. Рабство в нем играло минимальную роль; там не существовало муниципальных свобод, было отменено частное землевладение. Постепенное нарастание беспорядка в централизованной бюрократической политической системе, созданной Кодексом Тайхо, было спонтанным процессом, который был обусловлен внутренними причинами и который растянулся с IX по XVI в. Не было иностранных вторжений, сравнимых с переселением варваров в Европе; единственная серьезная внешняя угроза – морская экспедиция монголов в XIII в, – была решительно отражена. В Японии механизм перехода к феодализму разительно отличался от европейского. Здесь не было катастрофического коллапса и распада двух конфликтующих способов производства, сопровождаемого глубоким экономическим, политическим и культурным упадком, которые, однако, расчистили путь для последовавшего энергичного развития нового способа производства, рожденного в результате этого распада. Здесь, наоборот, присутствовал затянувшийся упадок централизованного имперского государства, в рамках которого местная воинственная знать незаметно захватила провинциальные земли и приватизировала военную власть, в результате чего после продолжительной семивековой эволюции наступила полная феодальная фрагментация страны. Этот сложный процесс феодализации «изнутри» был в конце концов завершен превращением независимых территориальных владений в организованную пирамиду феодального сюзеренитета. Сегунат Токугавы представлял собой окончательный продукт такой светской истории.
Другими словами, вся генеалогия феодализма в Японии представляет собой очевидный контраст с происхождением феодализма в Европе. Гинце, труд которого остается наиболее глубоким исследованием природы и сферы распространения феодализма, был все же неправ, считая, что в этом отношении существует близкая аналогия между японским и европейским опытом. По его мнению, везде феодализм был результатом того, что он называл «отклонением» (Ablenkung ), вызванным проникновением родоплеменного общества сквозь оболочку бывшей империи, которое исказило его естественный путь к формированию государства, создав уникальную конфигурацию. Отвергая любой линейный эволюционизм, он настаивал на необходимости «переплетения» (Verflechtung) имперских и племенных элементов для появления настоящего феодализма. Таким образом, появление западноевропейского феодализма после Римской империи можно сравнить с появлением японского феодализма после империи Тайхо: в обоих случаях это было «внешней» комбинацией (Германия/Рим и Япония/Китай) элементов, которые определили формирование порядка. «Феодализм является результатом не внутреннего национального развития, а всемирно-исторического сочетания» [580] . Ошибочность такого сравнения заключается в предположении, что кроме простого названия «империя» между Китайской и Римской империями вообще существует сходство. Рим династии Антонинов и Китай династии Хань, с его дополнением – Японией эпохи Тайхо, – в действительности были совершенно непохожими цивилизациями, основанными на различных способах производства. Именно различие путей развития феодализма, а не их совпадение является главным уроком появления одной и той же исторической формы на двух концах Евразии. На фоне этого радикального различия в происхождении еще более поразительной выглядит структурная схожесть европейского и японского феодализма– самое яркое доказательство того, что способ производства, единожды установленный, воспроизводит собственное строгое единство в качестве интегрированной системы, «очищенной» от разнородных предпосылок, которые изначально дали ему рождение. Феодальный способ производства имел собственный необходимый порядок, который после окончания переходных процессов воспроизводился в двух противоположных средах по одной и той же тесной логике. Важно не только то, что в Японии сформировались такие же основные структуры управления, как те, что впервые появились в Европе; вероятно, еще более показательным является то, что эти структуры имели одинаковые исторические последствия. Развитие землевладения, рост торгового капитала, распространение грамотности в Японии были настолько высокими, что страна, как мы видели, утвердила себя в качестве единственного крупного региона за пределами Европы, который смог вместе с Европой, Северной Америкой и Австралазией выйти на путь промышленного капитализма.
И все же, после того как подчеркнута фундаментальная схожесть между европейским и японским феодализмом, как внутренне определенным способом производства, остается отметить простое и важное обстоятельство их различного финала. Начиная с эпохи Возрождения Европа завершила переход к капитализму под воздействием внутренних сил в процессе постоянной глобальной экспансии. Промышленная революция, которая была вызвана первоначальным накоплением капитала в международном масштабе в эпоху раннего Нового времени, стала спонтанным, гигантским взрывом производительных сил, беспрецедентным по его силе и всемирным по размаху. Ничего сравнительно похожего не было в Японии, и, несмотря на все достижения эпохи Токугавы, не было ни одного признака того, что это могло произойти. Именно влияние европейско-американского империализма разрушило старый политический порядок в Японии, и именно импорт западных технологий сделал возможной местную индустриализацию на материале ее социоэкономического наследия. Феодализм позволил Японии – единственной среди азиатских, африканских и индейских обществ – занять место в ряду стран развитого капитализма, как только империализм превратился в охватывающую весь мир систему; однако он не стал внутренним источником местного японского капитализма в тихоокеанской изоляции страны. Следовательно, в феодальном способе производства не было внутренней неизбежности его превращения в капиталистический способ производства. Конкретные факты сравнительной истории не предполагают простой эволюции.
В чем же тогда заключается специфика европейской истории, которая столь глубоко отделена от истории японской, несмотря на общий цикл феодализма, который, в иных отношениях, столь близко их объединяет? Безусловно, ответ лежит в очень прочном наследии классической античности. Римская империя – ее последняя историческая форма – была, естественно, не только сама не способна на переход к капитализму. Само расширение классического мира обрекло его на катастрофический упадок такого плана, что в анналах цивилизации не найти другого примера. Результатом этого распада стал гораздо более первобытный общественный мир раннего феодализма, подготовленный изнутри и завершенный извне. Затем средневековая Европа после долгого созревания высвободила элементы для будущего медленного перехода к капиталистическому способу производства в эпоху раннего Нового времени. Но этот уникальный переход к капитализму в Европе сделала возможным связь античности и феодализма. Иными словами, чтобы раскрыть секрет появления капиталистического способа производства в Европе, необходимо самым радикальным способом отказаться от представления, будто это была просто эволюционная смена низшего способа производства высшим, порожденным автоматически и исключительно внутри предшествовавшего путем органичного внутреннего развития, в конце концов уничтожившего предшественника. Маркс правомерно настаивал на различии между генезисом и структурой способов производства. Но он также ошибочно склонялся к дополнению, что воспроизводство последнего, однажды установившегося, абсорбирует или полностью стирает следы предшествующего. Так, он писал, что предшествовавшие «предпосылки» способа производства, «а именно такие, как исторические предпосылки – прошли и исчезли, а поэтому принадлежат истории своего формирования, но никоим образом не современной истории, то есть не принадлежат реальной системе способа производства <…> как историческая прелюдия наступающего, они лежат позади нее, так же как процесс, посредством которого Земля совершила эволюцию от жидкого моря огня и пара к ее настоящей форме, отныне находится за пределами ее существования как завершенной Земли» [581] .
В действительности, даже сам победивший капитализм, ставший первым глобальным по масштабам способом производства, нисколько не завершил и не включил в себя все предыдущие способы производства, встреченные и побежденные им на своем пути. Еще меньше это удалось ранее феодализму в Европе. Нет единой телеологии, которая таким образом определяла бы спирали и разделяла направления истории. Ибо в разное время конкретные общественные формации, как мы видели, обычно включали несколько сосуществующих и конфликтующих способов производства. Как следствие, победу в Европе капиталистического способа производства можно понять, только отказавшись от чисто линейного понимания исторического времени. Вместо того чтобы представлять собой последовательную хронологию, в которой одна фаза сменяет и вытесняет другую, чтобы произвести последующую, которая, в свою очередь, сменит ее, движение к капитализму обнаруживает остатки наследия одного способа производства в эпохе, в которой господствует другой, и их реактивацию при переходе к третьей. «Превосходство» Европы над Японией уходит корнями в классическое прошлое, которое даже после «темных веков» раннего Средневековья не исчезло, оставшись «позади них», но сохранилось в определенных важных отношениях «впереди него». В этом смысле конкретный исторический генезис феодализма в Европе, далекий от исчезновения, как огонь или пар в законченной структуре земной тверди, имел ощутимые последствия своего окончательного распада. Реальное историческое время, определявшее три великих исторических способа производства, которые господствовали в Европе до настоящего столетия, тем самым радикальным образом отличалось от континуума эволюционной хронологии. Вопреки всем историцистским предположениям, время на определенных уровнях как бы развернулось между первыми двумя, чтобы открыть дорогу третьему. Вопреки всем структуралистским предположениям, не было самодвижущегося механизма смены феодального способа производства капиталистическим способом производства, как соседних и закрытых систем. Сочетание античного и феодального способов производства было необходимым, чтобы перейти в Европе к капиталистическому способу производства – соотношению, которое имеет не только диахронную последовательность, но и определенный уровень синхронного выражения [582] . Классическое прошлое пробудилось вновь в феодальном настоящем, чтобы оказать помощь наступлению капиталистического будущего, – одновременно невообразимо далекого и странно близкого к нему. Ибо рождение капитала совпало, как мы знаем, с возрождением античности. Ренессанс остается, несмотря на любую критику и пересмотр, ключевым во всей европейской истории: двойной момент одинаково беспрецедентной экспансии в пространстве и возврата во времени. Именно с этого момента обретения античного мира и открытия Нового Света европейская система государств приобрела свою уникальность. Вездесущая глобальная мощь в конечном итоге стала результатом этого своеобразия и его концом.
Связь античного и феодального способов производства, которая отличала европейское развитие, можно проследить в серии характерных черт Средневековья и раннего Нового времени, что отделяет его от японского (не говоря уже об исламском или китайском) опыта. Начнем с того, насколько сильно отличалось положение и эволюция городов. Феодализм как способ производства, как мы видели, впервые в истории сделал возможным энергичное противостояние между городом и деревней; фрагментация суверенитета, свойственная его структурам, позволила автономным городским анклавам расти в качестве центров производства в рамках полностью сельскохозяйственной экономики, а не привилегированных или паразитических центров потребления или управления (модели, которая, по мнению Маркса, была типично азиатской). Поэтому феодальный порядок развивал тип городской жизни, отличавшийся от городов любой другой цивилизации, общие результаты которой можно видеть как в Японии, так и в Европе. И тем не менее одновременно существовало важнейшее различие между городами средневековой Европы и Японии. Первые обладали концентрацией населения и автономией, неизвестной последней: их особый вес в рамках феодального порядка был в целом намного больше. Основная волна урбанизации в Японии началась сравнительно поздно, после XVI в., и ограничилась несколькими огромными агломерациями. Более того, ни один из японских городов не получил длительного муниципального самоуправления: апогей их развития совпал по времени с максимальным контролем над ними баронов или правителей – сегунов. С другой стороны, в Европе общая структура феодализма позволяла расти производительным городам, основанным также на ремесленном производстве, но специфические общественные формации, которые появились из особых местных форм перехода к феодализму, обеспечили гораздо больший урбанизированный муниципальный «вклад» на старте. Дело в том, как мы видели, действительное движение истории никогда не представляет собой простой смены одного чистого способа производства другим; оно всегда состоит из сложных серий общественных формаций, в которых множество способов производства смешано при одном доминирующем. Вот, разумеется, почему определяющие «факторы» античного и первобытнообщинного способов производства, предшествовавших феодальному способу производства, могли сохраниться внутри средневековых общественных формаций Европы спустя долгое время после исчезновения собственно римского и германского миров. Поэтому европейский феодализм с самого начала энергично пользовался муниципальным наследием, которое «заполнило» пространство, оставленное новым способом производства для городского развития. Отметим самое впечатляющее свидетельство непосредственного значения античности в появлении особых городских форм средневековой Европы: первенство Италии в этом развитии и восприятие римской символики в первых муниципальных образованиях, начиная с «консулатов» XI в. Вся общественная и юридическая концепция городского гражданства как таковая является по происхождению античной и не имеет никаких параллелей за пределами Европы. Естественно, что в рамках некогда установленного феодального способа производства вся социально-экономическая база городских республик, которые постепенно развивались в Италии и на Севере, радикально отличалась от рабовладельческого способа производства, от которого они унаследовали столь много надстроечных традиций: свободный ремесленный труд навсегда сделал их иными по сравнению с их предшественниками, одновременно более грубыми и способными к более широкому творчеству. Как Антей (по выражению Вебера), городская культура классического мира, которая ушла в глубины возделываемой земли раннего Средневековья, возродилась снова более сильной и свободной в городских коммунах раннего Нового времени [583] . Ничего подобного этому историческому процессу не происходило в Японии и тем более (a fortiori) в великих азиатских империях, которые никогда не знали феодализма: арабской, турецкой, индийской или китайской. Города Европы (коммуны, республики, тирании) были уникальным продуктом комбинированного развития, которое отличало континент.
Одновременно и сельское хозяйство периода европейского феодализма также претерпело эволюцию, которая не имела ничего похожего в других местах. Уже подчеркивалась крайняя редкость бенефициарной системы как типа сельскохозяйственной собственности. Она совершенно не была известна в великих исламских государствах или в землях китайских династий, хотя оба варианта имели собственные характерные формы держания сельскохозяйственной земли. Зато японский феодализм знал такой же комплекс вассалитета, бенефициев и иммунитета, который определял средневековый порядок в Европе. Но, с другой стороны, он смог продемонстрировать и критически важную трансформацию аграрной собственности, такую же, как та, что отличала Европу раннего Нового времени. Чистый феодальный способ производства характеризовался условной частной собственностью на землю, даруемой классу наследственной аристократии. Как считал Маркс, частная или индивидуальная природа этого землевладения отличала его от широкого спектра альтернативных аграрных систем за пределами Европы и Японии, где государственная монополия на землю создавала гораздо менее «аристократический», чем рыцари или самураи, владельческий класс. Но, повторюсь, в эпоху Возрождения европейское развитие пошло дальше, чем в Японии, перейдя от условной к абсолютной частной собственности на землю. И снова, именно классическое наследие римского права облегчило и кодифицировало этот решающий прорыв. Законное владение —высшее юридическое выражение товарной экономики античности – ожидало своего нового открытия и применения на практике, как только распространение товарных отношений в феодальной Европе достигнет уровня, на котором снова будут востребованы его строгость и ясность [584] . Пытаясь определить специфику европейского пути к капитализму по сравнению с развитием остального мира, Маркс писал Засулич, что в «совершающемся на Западе процессе дело идет, таким образом, о превращении одной формы частной собственности в другую форму частной собственности» [585] . Под этим он подразумевал экспроприацию мелких крестьянских держаний капиталистическим сельским хозяйством, которого, как он (ошибочно) считал, можно было избежать в России путем прямого перехода от общинной крестьянской собственности к социализму. И все же формула содержит глубокую истину, применимую в несколько ином смысле: переход одной формы частной собственности (условной) в другую форму частной собственности (абсолютную) у дворян-землевладельцев был обязательной подготовкой к наступлению капитализма и означал момент, в который Европа оставила позади все другие аграрные системы. В длительную переходную эпоху, в период которой земля оставалась в количественном отношении ведущим источником богатства на континенте, консолидация неограниченной и наследственной частной собственности стала главным шагом к высвобождению необходимых факторов производства для накопления собственно капитала. Те самые усилия по закреплению за собой наследственных земель с помощью разных форм майората, которые европейская аристократия предпринимала в раннее Новое время, уже стали признаками объективного давления по направлению к свободному рынку земли, который в конечном итоге и породил капиталистическое сельское хозяйство. В самом деле, рожденный из римского права юридический порядок создал общие легальные предпосылки для успешного перехода к капиталистическому способу производства как таковому как в городе, так и в деревне. Безопасность частной собственности, соблюдение договора, защита и предсказуемость экономического обмена между отдельными сторонами, гарантированные писаным гражданским правом, нигде больше не существовали. Исламское право было, в лучшем случае, неопределенным и неконкретным в вопросах недвижимости; оно было переплетено с религиозным, а поэтому сложным и спорным в интерпретации. Китайское право было изначально карательным и репрессивным; оно едва касалось гражданских отношений в целом и не создавало прочных рамок для экономической деятельности. Японское право было архаичным и фрагментарным с только наметившимися робкими зачатками судопроизводства, коммерческое право появилось на основе противоречивых положений различных владельческих указов [586] . Римское право, по контрасту со всем этим, обеспечивало понятные и систематические рамки для приобретения, продажи, аренды, найма, заимствования и завещания вещей: вновь возникшее в новых европейских условиях и обобщенное корпусом профессиональных юристов, неизвестных самой античности, оно было одной из фундаментальных институциональных предпосылок для ускорения капиталистических отношений производства на континенте.
Более того, возрождение римского права сопровождалось новым обретением всего культурного наследия классического мира. Философская, историческая, политическая и научная мысль античности, не говоря уже о ее литературе или архитектуре, неожиданно приобрела новый потенциал и непосредственность в раннее Новое время. Критические и рациональные составляющие классической культуры, сравнимые с аналогами в любой другой древней цивилизации, создали благоприятное поле для возвращения к нему. Они были не только действительно более развитыми, чем что-либо подобное в прошлом других континентов, но и отделены от настоящего громадной пропастью религии, разделявшей две эпохи. Поэтому классическая мысль никогда не могла быть предана забвению, как освященная веками и безобидная традиция, даже в период ее избирательной ассимиляции в Средние века: она всегда сохраняла антагонистическое и разрушительное содержание, как нехристианская Вселенная. Радикальный потенциал ее величайших трудов был полностью осознан, когда новые общественные условия постепенно позволили европейским умам смотреть без головокружения сквозь бездну, отделявшую их от античности. Результатом, как мы видели, была интеллектуальная и художественная революция такого рода, которая могла произойти только из-за особого исторического превосходства классики над средневековым миром. Астрономия Коперника, философия Монтеня, политика Макиавелли, историография Кларендона, юриспруденция Гроция, – все различным образом были обязаны античному наследию. Само по себе рождение современной физики частично приняло форму отвержения одного классического наследия – аристотелизма – под знаменем другого – неоплатонизма, который пробудил ее «динамическую» концепцию природы [587] . Постепенно развивавшаяся, со многими богословскими поправками, но все более аналитическая и светская культура стала еще одним историческим явлением, которое в доиндустриальную эпоху выделило Европу из других важных районов цивилизаций. Умиротворенный традиционализм японского феодального общества, совершенно незнакомый с противоположными идеологиями в эпоху Токугавы, представляет собой особенно поразительный контраст. Интеллектуальная стагнация Японии посреди ее экономического подъема, конечно, в значительной степени была результатом намеренной изоляции страны. Но и в этом отношении европейский феодализм по сравнению с японским имел преимущество с самого его зарождения.
В то время как в Японии феодальный способ производства стал результатом медленного распада имперского порядка, структуры которого были позаимствованы из за рубежа, и, в конце концов, стабилизировался в условиях полной изоляции от внешнего мира, в Европе феодальный способ производства появился в результате фронтального столкновения двух конфликтующих предыдущих порядков на огромном материке, последствия чего распространились в гораздо большем географическом масштабе. В Японии островной феодализм развивался внутрь, подальше от всей дальневосточной основы первоначального государства Тайхо. В Европе континентальный феодализм двигался вовне, так как этническое разнообразие, которое было заложено в изначальном синтезе, давшем ему жизнь, только усиливалось с распространением способа производства за пределы его каролингской родины и, в конце концов, породило династическую и протонациональную мозаику большой сложности. В Средние века это великое разнообразие обеспечило автономию Церкви, которая никогда не подчинялась единой имперской власти, как это было в античный период, и вдохновило появление сословных ассамблей, характерным образом собиравших местную знать под флагом одной монархии или княжества против нападения другого, в ходе военных конфликтов той эпохи [588] . И церковная независимость, и сословное представительство были, в свою очередь, особенностями средневекового общества Европы, которые не повторялись в японском варианте феодализма. В этом смысле они были функциями международного характера европейского феодализма, что стало не менее глубокой причиной того, почему их судьба столь отличалась от японской. Случайное разнообразие политических элементов в позднесредневековой Европе превратилось в раннее Новое время в организованную и взаимосвязанную систему государств; рождение дипломатии формализовало нововведение в виде множества наборов партнеров (для войны, союза, торговли, брака или пропаганды) на единой политической арене, рамки и правила которой наконец стали яснее и более определенными. Кросс-культурное плодородие, возникшее из этой высокоинтегрированной, но крайне диверсифицированной системы, было одним из особых признаков до-индустриальной Европы. Интеллектуальные достижения раннего Нового времени, вероятно, были неотделимы от него. Нигде больше в мире не существовало такого же политического набора; институционализация дипломатического обмена была изобретением Возрождения и надолго осталась европейской особенностью.
Возрождение стало тем моментом, в котором сочетание античности и феодализма неожиданно произвело оригинальные и удивительные плоды и знаменовало исторический поворот, в ходе которого Европа оторвалась от всех других континентов в энергии и экспансии. Новым и уникальным типом государства, которое появилось в ту эпоху, стал абсолютизм. Абсолютные монархии раннего Нового времени были исключительно европейским явлением. Действительно, они отражали точную политическую форму будущего всего региона. Ибо, как мы видели, именно в этой точке остановилась эволюция Японии; дальневосточный феодализм никогда не перешел в абсолютизм. Другими словами, рождение абсолютизма из европейского феодализма было итогом его политического развития. Порождение Ренессанса, абсолютизм сделался возможным благодаря долгой предыдущей истории, которая началась до феодализма, и обрел плоть в эпоху раннего Нового времени. Влияние этой господствовавшей в Европе до конца эпохи Просвещения государственной структуры совпало с исследованием мира европейскими державами и началом их господства над ним. По природе и структуре европейские абсолютные монархии были все еще феодальными государствами – механизмом управления того же аристократического класса, который доминировал в Средневековье. Но в Западной Европе, где они родились, общественные формации, которыми они управляли, были сложным соединением феодального и капиталистического способов производства, с постепенным подъемом городской буржуазии и растущим первоначальным накоплением капитала в международном масштабе. Именно переплетение двух антагонистических способов производства внутри одного общества привело к переходной форме абсолютизма. Королевские государства новой эпохи положили конец раздробленному суверенитету, который был вписан в феодальный способ производства как таковой, хотя сами никогда не достигали полностью централизованной политической системы. В последнем случае эти изменения определялись увеличением товарного производства и обмена, сопровождаемого распространением торгового и мануфактурного капитализма, который вел к разрушению феодальных отношений в деревне. Но в то же время исчезновение крепостного права не означало отмену частного внеэкономического принуждения для изъятия прибавочного продукта у непосредственного производителя. Земельная аристократия продолжала владеть наибольшим количеством средств производства и занимать большинство позиций внутри всего аппарата политической власти. С определенного момента феодальное принуждение было делегировано наверх, централизованной монархии; и в обновленных структурах государства аристократия обычно была вынуждена сменить сословное представительство на бюрократическую должность. Высокое напряжение этого процесса породило множество феодальных мятежей; часто королевская власть действовала безжалостно против членов дворянского класса. Сам термин «абсолютизм», в действительности всегда неверный в буквальном смысле, является свидетельством превосходства нового монархического комплекса над собственно аристократическим порядком.
Но все же была одна существенная особенность, которая отделяла абсолютные монархии Европы от несметного числа всех других типов деспотического, автократического или тиранического правления, воплощенного или контролировавшегося лично государем, которые были распространены повсюду в мире. Усиление политической власти короля сопровождалось не уменьшением экономической безопасности дворянского землевладения, а соответствующим увеличением прав частной собственности. Эпоха, в которую распространилась «абсолютистская» публичная власть, была также эпохой, в которую быстро укреплялась «абсолютная» частная собственность. Это было важнейшее социальное различие, отделявшее монархии Бурбонов, Габсбургов, Тюдоров или Ваза от султанатов, империй или сегунатов вне Европы. Современники, сталкивавшиеся с Османским государством на собственно европейской почве, были хорошо осведомлены об этой глубочайшей пропасти. Абсолютизм не означал конца аристократического правления; напротив, в Европе он защищал и укреплял социальное господство наследственного дворянского класса. Короли, правившие в новых монархиях, никогда не могли перейти невидимые границы своей власти – материальные условия воспроизводства класса, к которому они сами принадлежали. Обычно эти правители знали о своей принадлежности к окружавшей их аристократии; их личная гордость за положение была основана на коллективном чувстве солидарности. Вот почему, в то время как капитал медленно накапливался под пышными надстройками абсолютизма, проявляя нарастающее давление на них, знатные землевладельцы европейского раннего Нового времени сохраняли свое историческое господство с помощью тех самых монархий, которым они теперь подчинялись. Экономически защищенная, социально привилегированная и культурно зрелая аристократия все еще правила; абсолютистское государство примирило свое превосходство с постепенным ростом капитала внутри сложных общественных формаций Западной Европы.
Впоследствии, как мы видели, абсолютизм также появился и в Восточной Европе – более отсталой части континента, которая не имела опыта изначального романо-германского синтеза, давшего рождение средневековому феодализму. Противоположные особенности и временные рамки двух вариантов абсолютизма в Европе, Западного и Восточного, которые создали главную тему этого исследования, каждый по-своему подчеркивают общий конечный характер и контекст обоих вариантов. Ибо в Восточной Европе социальное могущество дворянства не было уравновешено каким-либо влиянием городской буржуазии, как это отмечено в Западной Европе; феодальное господство не было ликвидировано. Поэтому восточный абсолютизм более открыто и недвусмысленно, чем на Западе, отражал состав и функции своего класса. Построенный на крепостном праве феодальный уклад его государственной структуры был груб и очевиден; закрепощенное крестьянство внизу было постоянным напоминанием о формах притеснения и эксплуатации его сохранившегося аппарата насилия. Но в то же время генезис абсолютизма в Восточной Европе был фундаментально отличным от того же процесса в Западной Европе. Точнее сказать, он совсем не был прямым результатом роста производства и обмена, за Эльбой до капитализма было все еще далеко. Именно две взаимопересекающиеся силы незавершенного процесса феодализации, который начался хронологически позднее, не располагая благами античного наследия, и в более сложных географических и демографических условиях, а также усилившееся военное давление со стороны более развитого Запада привели к парадоксальному преждевременному формированию абсолютизма на востоке. С установлением абсолютистских режимов в Восточной Европе, в свою очередь, в целом сформировалась международная система государств, которая определила и провела границы на континенте. Рождение многостороннего политического порядка, как единого поля конкуренции и конфликтов между соперничающими государствами, было само по себе и причиной и последствием победы абсолютизма по всей Европе. Создание такой международной системы, начиная с Вестфальского мирного договора, естественно, не сделало обе половины континента однородными. Напротив, имея с самого начала разные исторические родословные, к собственным финалам абсолютистские государства Западной и Восточной Европы следовали по различным траекториям. Диапазон этих итогов хорошо известен. На Западе испанская, английская и французская монархии потерпели поражение или были свергнуты буржуазными революциями «снизу»; в то же время итальянские и германские княжества были уничтожены запоздалой буржуазной революцией «сверху». С другой стороны, на востоке Российская империя в конце концов была разрушена пролетарской революцией. Последствия раскола континента, символизированные в этих успешных или нет восстаниях, все еще с нами.
Два замечания
А. Японский феодализм
В VII в. Япония под сильным китайским влиянием пережила централизацию: реформы Тайка 646 г. положили конец существованию свободных общин, состоявших из групп родовой знати и зависимых землепашцев, и впервые создали единое государство. В административном отношении оно строилось по модели современной ему империи Тан в Китае; новое японское государство, которое стало регулироваться созданным в начале VIII в. (702 г.) Кодексом Тайхо, опиралось на монопольную государственную собственность на землю. Земля делилась на мелкие участки, периодически перераспределяемые среди землепашцев-арендаторов, которые должны были выплачивать государству натуральный налог или отрабатывать барщину. Первоначально используемая в пределах владений императорской семьи, система участков в течение следующего столетия постепенно распространилась на всю страну. Многочисленная центральная бюрократия, состоявшая из гражданского аристократического класса, рекрутируемого на должности по наследству, а не через систему отбора, поддерживала единый политический контроль над страной. Государство было разделено на округа, провинции, районы и деревни, находившиеся под жестким правительственным контролем. Была создана постоянная призывная армия, несмотря на рискованность этого шага для элит. В империи были построены симметрично спроектированные города по китайскому образцу. Буддизм, синкретически перемешанный с местными синтоистскими культами, стал официальной религией, формально интегрированной в государственный аппарат [589] . Однако примерно с 800 г. эта китаизированная империя начала разрушаться под воздействием центробежных сил.
С самого начала отсутствие системы отбора бюрократии, подобной той, что утвердилась у китайских мандаринов, делало государственные должности лакомым куском для их приватизации знатью. Буддистские религиозные ордены сохраняли на пожалованных им землях особые привилегии. В 792 г. была отменена воинская повинность, около 844 г. запрещено перераспределение земельных участков. В провинциях появились «наполовину частные» поместья или сёэны, владения знати или монастырей; первоначально изъятые из государственной собственности, они со временем получили освобождение от налогов и в итоге полную свободу от кадастровых проверок центральных властей. Более крупные из таких владений, часто находившиеся на только что освоенных землях, занимали несколько сотен акров. Крестьяне, возделывавшие сёэны, теперь платили подати непосредственно своим хозяевам, в то время как внутри этой зарождавшейся манориальной системы права на продукцию (главным образом, конечно, рис) приобрели промежуточные слои управляющих или бейлифов. Внутренняя организация японских поместий сильно зависела от особенностей рисоводства, основной отрасли сельского хозяйства. Здесь не было трехполья европейского типа и общинные земли не играли особой роли ввиду отсутствия скота. Крестьянские наделы были намного меньшими, чем в Европе, меньше было и скоплений деревень в условиях относительно высокой плотности сельского населения и нехватки земли. Кроме того, не было настоящей системы разделения на господскую и крестьянскую землю; шики ( shiki ), или право на произведенную на земле продукцию, относилось ко всему сёэну [590] . Тем временем придворная аристократия кюге развивала изысканную светскую культуру в столице, где клан Фудзивара надолго установил контроль над самой императорской династией. Но за пределами Киото администрация империи все больше деградировала. В то же время с отменой воинской повинности вооруженные силы в провинциях постепенно становились частью новой военной знати – воинами-самурая-ми или буси, которые впервые стали заметным явлением в XI в. [591] Как чиновники центрального правительственного аппарата, так и владельцы сёэнов на местах собирали отряды таких воинов для обороны и нападений. Междоусобица обострялась по мере приватизации аппарата насилия, так как провинциальные войска буси вмешивались в борьбу придворных клик за контроль над столицей империи и административной системой.
Разрушение старой системы Тайхо достигло кульминации с основанием в конце XII в. сёгуната Камакура Минамотоно Иоритомо. Императорская династия и двор в Киото, а также традиционная гражданская администрация были сохранены новым правителем, который вырос в Киото и демонстрировал большое уважение к их наследию [592] . Но бок о бок с ними был создан новый военизированный аппарат под командованием сёгуна или «генералиссимуса» с центром в собственной столице Камакуре и укомплектованный буси. Реальная власть в Японии с тех пор находилась в руках именно этого правительства. Сёгунат, который стали называть бакуфу (буквально означает «палатка или полевая ставка»), в начале опиравшийся на поддержку 2 тысяч гокэнин— «домашних людей» или личных вассалов Иоритомо, присвоил или конфисковал множество сёэнов для собственного использования. В провинциях были назначены военные губернаторы сюго и земельные управляющие или дзито, отобранные из его вассалов. Первые стали на практике основной местной властью в своих регионах, в то время как на вторых была возложена ответственность за сбор податей с сёэнов, благодаря чему они сами постепенно стали приобретать все больше прав шики за счет их бывших собственников [593] . Новая система сюго-дзито, созданная сёгунатом и ответственная перед ним, представляла собой черновой вариант бенефициарной системы: буси выполняли репрессивные и налоговые функции в обмен на право получения дохода с земель. Формальные письма-подтверждения даровали местным вассалам права как на доходы с земель, так и на воинов [594] . Законы и бюрократия империи, однако, все еще существовали: формально сёгун назначался императором, сёзн оставался объектом государственного права, большая часть земли и населения оставались под властью старой гражданской администрации.
Господство правителей Камакура, ослабленное в финансовом и военном отношении нашествием монголов в конце XIII в., в итоге закончилось междоусобицей. Во время сменившего его сёгуната Асикага был сделан следующий решительный шаг на пути к полной феодализации японского общества и строя. Теперь сёгунат переехал в Киото, с этим прекратилась затянувшаяся автономия императорского двора. Священная династия и аристократия кюге были лишены большей части своих земель и богатства, их роль была низведена до чисто церемониальной. Военные губернаторства сюго в провинциях полностью оттеснили гражданскую администрацию. Но в то же время сёгунат Асикага был гораздо слабее, чем его предшественник Камакура: как следствие, сами сюго все больше превращались в неуправляемых региональных властителей, подчинивших дзито, назначавших собственную барщину и отбиравших половину доходов местных сёэнов во всей провинции, порой «получая» весь сёэну его отсутствующего владельца [595] . К этому моменту была разработана система настоящих феодальных поместий или чигио ( chigyo ), которая впервые прямо объединила вассальную зависимость и бенефиций, военную службу и условное землевладение: сами сюго владели такими феодами и распределяли их среди своих сторонников. Введение права старшего сына на наследование среди аристократии консолидировало новую феодальную иерархию в сельской местности [596] . Соответственно, положение крестьянства ухудшилось, так как свобода передвижения этого класса была ограничена, а их повинности возросли: сельские воины невысокого ранга из слоя буси были более расположены к изъятию излишков у прямых производителей, чем отсутствовавшая в своих владениях знать кюге. На селе распространилось производство товаров на продажу, особенно в центральных регионах вокруг Киото, где было сконцентрировано изготовление саке и возрос объем денежного обращения. Производительность сельскохозяйственного труда повышалась по мере совершенствования инструментов, увеличения спроса на использование тягловой силы скота; объем производства сельскохозяйственной продукции резко возрос во многих областях [597] . Росла внешняя торговля, так как в городах развивались гильдии купцов и ремесленников, подобные существовавшим в средневековой Европе. Но архаичная система империи продолжала свое существование, хотя и пронизанная ячейками новых феодальных иерархий при относительно слабом центральном сёгунате. Губернаторские полномочия сюго по-прежнему распространялись на гораздо большую территорию, чем занимали земли их феодов, и отнюдь не все буси на ней были их личными вассалами.
Именно коллапс сёгуната Асикага после начала войны Онин (1467–1477) окончательно ликвидировал остатки административной системы Тайхо и завершил процесс феодализации в масштабах страны. На волне анархии, когда «низы» правили «верхами», региональные сюго были низвергнуты своими вассалами-узурпаторами, зачастую их бывшими заместителями, а сёэны и юрисдикция над провинцией были потеряны.
Порожденные войной искатели приключений новой эпохи Сенгоку нарезали свои собственные княжества, которыми они управляли как чисто феодальными территориями, в то время как центральная власть в стране практически исчезла. Даймё или магнаты в конце XV – начале XVI в. контролировали компактные районы, в которых все воины были их вассалами или подвассалами, а вся земля была их собственностью как сюзерена. Разделенные права шики концентрировались в отдельных единицах чигио. В территориальном отношении феодализация была более полной, чем в средневековой Европе, так как аллоды были неизвестны в деревне. Вассалы-самураи приносили клятву военной преданности своим господам и получали от них полные феодальные поместья – пожалованные земли вместе с правами управления [598] . Размер феода рассчитывался в «деревнях» или мура (административные единицы несколько большие, чем село), а владение на правах аренды осуществлялось под прямым контролем буси. Города-крепости и субинфеодация развивались во владениях даймё, которые регулировались новыми феодальными династическими законами, кодифицирующими прерогативы их сюзеренов и иерархию личной зависимости под ними. Связь между лордом и вассалом в японском феодализме по-прежнему отличалась двумя особенностями. Личная связь между сеньором и вассалом была сильнее, чем экономическая привязанность вассала к земле: вассалитет преобладал над бенефицием в системе связей феода [599] . В то же время отношения между лордом и вассалом были более асимметричными, чем в Европе. Договорной компонент клятвы вассала был гораздо слабее; вассалитет носил скорее «семейный» и сакральный, нежели юридический, характер. Понятие сеньориального преступления или разрыва связи со стороны господина было неизвестно, у одного вассала не могло быть нескольких господ. Собственно внутрифеодальные отношения в связи с этим были односторонне иерархичными; их терминология была заимствована из отцовской власти и системы родства. Европейский феодализм всегда изобиловал внутрисемейными ссорами и характеризовался излишним сутяжничеством; японскому феодализму, однако, не хватало юридической составляющей, а его квазипатриархальный тип характеризовался большей авторитарностью благодаря широким отцовским правам усыновления и лишения наследства, которые эффективно удерживали сыновей от неповиновения, столь обычного в Европе [600] . С другой стороны, интенсивность феодальных войн, усугублявшихся бесстрашием и личными умениями вооруженных рыцарей, была на уровне аналогичной в современной им позднесредневековой Европе. Жестокая борьба между соперничающими княжествами даймё не прекращалась. Более того, в зазорах, оставленных политической раздробленностью Японии, появились и процветали автономные купеческие города, напоминающие средневековые европейские – Сакай, Хаката, Оцу, Удзия-мада и др.; путешественники-иезуиты называли порт Сакай восточной Венецией [601] . Религиозные секты создали свои собственные вооруженные анклавы в Kara и на полуострове Ното на Японском море. На короткое время появились даже мятежные сельские общины, состоявшие из крестьян-бунтовщиков под предводительством недовольного дворянства: самая известная возникла в центральном регионе Ямаширо, где коммерциализация способствовала резкому росту задолженности среди сельского населения [602] . Беспорядки этого периода были усугублены приходом европейского огнестрельного оружия, техники и идей с появлением португальцев в Японии в 1543 г.
Во второй половине XVI в. серия крупных гражданских войн между главами княжеств даймё привела к повторному объединению страны сменявшими друг друга победоносными полководцами Нобунага, Хидэёси, Иэясу. Одо Нобунага создал первую региональную коалицию для контроля над центральной Японией. Он ликвидировал буцдистский милитаризм, лишил независимости купеческие города и получил контроль над Уз страны. Огромный труд по объединению был завершен Тоетоми Хидэёси, руководившим огромными армиями, оснащенными мушкетами и пушками и состоявшими из объединенных сил союзных даймё [603] . Однако результатом подчинения Хидэёси всех остальных магнатов стала не реставрация исчезнувшего централизованного государства в традициях Тайхо. Скорее это была первая интеграция мозаики региональных поместий в единую феодальную систему. Даймё не были лишены своей собственности, но, в свою очередь, были поставлены в вассальную зависимость от нового правителя, который с этого момента даровал им их поместья в качестве феодов и к которому они отправляли родственников в качестве залога своей вассальной верности. Императорская династия была сохранена как религиозный символ легитимности, находившийся выше и отдельно от действовавшей системы феодального сюзеренитета. Новая кадастровая опись стабилизировала систему землевладения, консолидировав реорганизованную пирамиду поместий. Население было разделено на четыре закрытых слоя: дворян, крестьян, ремесленников и купцов. Буси были выселены из деревень и собраны в городах-крепостях своих даймё в качестве воинов всегда готовых к военным действиям. Их число было официально закреплено, и с этого момента класс самураев составлял 5–7% населения – слой людей, носивших мечи, был относительно большим. Крестьяне тогда же были лишены всякого оружия, прикреплены к земле, по закону они были обязаны отдавать 2/з произведенной продукции своим господам [604] . Города эпох Асикага и Сэнгоку были лишены автономии, купечеству было запрещено покупать землю (также, как самураям запрещено заниматься торговлей). С другой стороны, города-крепости самих феодальных магнатов поразительно быстро росли в тот период. Стремительно развивалась торговля благодаря защите даймё, чьи крепости-резиденции обеспечивали основной прирост сильно увеличившейся сети городов в Японии. После смерти Хидэёси власть перешла к Иэясу Токугава, даймё из блока Тоётоми, который мобилизовал новую коалицию феодалов. Они победили соперников в битве при Сэкигахара в 1600 г., и в 1603 г. Иэясу стал сегуном. Он основал государство Токугава, которое просуществовало 250 лет, до самой эпохи промышленной революции в Европе. Стабильность и длительное существование нового режима во многом обеспечивались формальной закрытостью Японии для практически любых контактов с внешним миром: использование этого способа было первоначально вызвано вполне обоснованным опасением Иэясу, что католические миссии, основанные в Японии, были идеологическим авангардом европейского политического и военного проникновения. Результатом строгой изоляции страны было ее обособление от внешних потрясений и тревог в последующие два столетия и окаменение структур, созданных Иэясу после Сэкигахара.
Сёгунат Токугава навязал Японии единство без централизма. Итогом стала стабилизация своего рода кондоминиума между режимом сёгуна-сюзерена, располагавшегося в столице Токугава Эдо, и автономными правительствами даймё, размещавшимися в их провинциальных поместьях. В связи с этим японские историки назвали эту эпоху периодом бакухан, термин, производный от слов бакуфу (правительственный комплекс Токугава) и хан (дворы баронов в их собственных поместьях). Эта гибридная система была интегрирована благодаря двойственной основе власти самого сёгуна. С одной стороны, сёгунату принадлежали собственные владения дома Токугава, так называемые земли тэнрё, составлявшие 20–25 % территории страны, – гораздо больше, чем находилось во владении любого феодального клана, – и занимавшие стратегически важные территории центральных равнин и побережья Восточной Японии. Лишь немногим более половины этих земель управлялись напрямую аппаратом бакуфу; остальные жаловались в качестве феодальных поместий хатамо-то или «знаменосцам» дома Токугава, которые насчитывали около 5 тысяч человек [605] . Кроме того, во-первых, сёгунат мог рассчитывать на примерно 20 родственников по боковой линии или шимпан, которым было дано право обеспечивать наследников для сёгуната, и, во-вторых, на многочисленных мелких дворян, которые были преданными региональными вассалами Иэясу еще до получения им высшей власти. Последние составили так называемый фудаи или «домашние» даймё: к XVIII в. их было около 145, а их земли заняли еще 25 % поверхности Японии. Фудаи формировали большую часть высшей бюрократии администрации бакуфу, низшие эшелоны которой набирались из хатамото, тогда как родственные дома были исключены из системы правления сёгуната, как потенциально слишком могущественные сами по себе, хотя они и могли выступать в качестве советников. Сам сёгунат постепенно подвергся процессу «символизации», сопоставимому с тем, который испытала на себе императорская семья. Токугава Иэясу оттеснил императорскую династию не более чем его предшественники Нобунага и Хидэёси, он тщательно восстановил большую часть религиозной ауры, окружавшей ее, в то же время он совершенно изолировал императора и придворную знать кугэ от светской власти. Монарх представлял духовную власть, его задачи были сведены к выполнению религиозных функций, полностью отделенных от политических дел. Оставшуюся двойственность системы управления империи и сёгуната, принимая во внимание религиозную роль первого, в каком-то смысле можно соотнести с отделением Церкви от государства в феодальной Европе; в результате в эпоху Токугава в Японии всегда существовали два потенциальных источника легитимности. Однако, с другой стороны, поскольку император был также и политическим символом, эта двойственность воспроизвела такую черту любого светского феодализма, как расколотый суверенитет. Сёгун правил от имени императора в качестве его представителя в соответствии с официальным мифом, институционализировавшим «тайное правление» ( behind the screen). Династия Токугава, из которой вышли последующие сёгуны, формально контролировала государственный аппарат бакуфу, однако в конечном итоге сама потеряла власть над ним (через несколько поколений значительная политическая мощь перешла к Совету сёгуната родзю, состоявшему из знати, рекрутированной из средних кланов фудаи), став второй ступенью «тайного правления» [606] . Бюрократия сёгуната была многочисленной и аморфной, в этой среде была широко распространена путаница в функциях и совмещение множества должностей. Закрытые вертикальные клики интриговали по поводу постов и прав распределять ресурсы внутри этого тайного механизма. Половину должностей занимали военные, половину гражданские чиновники.
Правительство бакуфу теоретически могло призвать на службу 80 тысяч конных воинов, состоящих примерно из 20 тысяч «знаменосцев» и членов дома, плюс их вассалов. На практике его реальный потенциал был гораздо меньше. Он основывался на силе преданных контингентов фудаи и шимпан. Численный состав постоянных подразделений его гвардии в мирное время составлял примерно 12 200 человек [607] . Сегунат извлекал доходы в основном из урожая риса на своих собственных землях (поначалу он составлял 2/з всех его доходов) [608] , кроме того, у сёгуната была монополия на добычу золота и серебра, из которых он чеканил монеты (с уменьшавшейся, начиная с XVIII в., ценностью); позже, когда сегунат столкнулся с растущими финансовыми проблемами, он прибег к частому уменьшению ценности монеты и насильственным займам и конфискации купеческих богатств. Размер его армии и казны, таким образом, был ограничен территориями дома Токугава. В то же время сегунат осуществлял формально жесткий внешний контроль над даймё за пределами своей прямой юрисдикции. Все господа земель хан были фактически его главными арендаторами: главами поместий их, как своих вассалов, делал сёгун. Их территории могли в принципе быть изъяты или переданы, хотя эта практика прекратилась на поздних стадиях эпохи Токугава, когда земли хан стали фактически наследственными [609] . Брачная политика сёгуната была направлена на то, чтобы связать главные кланы феодалов с династией Токугава. Более того, даймё были обязаны иметь в столице бакуфу Эдо собственную альтернативную резиденцию, где они должны были проводить каждый второй год или одно полугодие ежегодно, оставляя членов семьи в заложниках, когда они возвращались в свои поместья. Эта так называемая система санкин котай была разработана для обеспечения постоянного контроля над поведением региональных феодалов и для препятствования их независимым действиям в своих цитаделях. Ее действенность обеспечивалась целой системой информаторов и инспекторов, которые вели разведку для сёгуната. Движение вдоль основных путей строго контролировалось благодаря использованию внутренних паспортов и дорожных застав; морской транспорт также регулировался правительством, которое запрещало постройку судов, превышавших определенный размер. Даймё было позволено содержать только одну крепость, максимальный размер их воинских подразделений был зафиксирован в официальных документах сёгуната. В землях хан не было обычного налогообложения, но бакуфу могло время от времени требовать средства на чрезвычайные расходы.
Эти внушительные и инквизиторские меры контроля, казалось, давали сёгунату Токугава полное политическое доминирование в Японии. На практике же его реальная власть всегда была меньше, чем его номинальный суверенитет, и разрыв между ними со временем увеличивался. Основатель династии Иэясу победил своих соперников феодалов юго-запада в битве при Сэкигахаре; но не уничтожил их. Под властью сёгуната Токугава находились около 250–300 даймё. Из них до были тозама или «внешними» домами, которые первоначально не были вассалами Токугава, а многие из них воевали против Иэясу. Дома тозама считались потенциально или традиционно враждебными сёгунату и тщательно отстранялись от участия в аппарате бакуфу. Они включали большинство крупнейших и богатейших владений. Из 16 крупнейших хан не менее 11 относились к категории тозама [610] . Они были расположены в окраинных регионах страны – на юго-западе или северо-востоке. Дома тозама владели в общей сложности 40 % земель в Японии. Однако на практике их богатство и власть были еще большими, чем это было отражено в реестре бакуфу. К концу эпохи Токугава, хан Сацума контролировал 28 тысяч вооруженных самураев, в 2 раза больше официально разрешенной численности, хан Тёсю обладал 11 тысячами, что опять-таки было больше дозволенного контингента; в то же время верные дома фудаи держались в рамках номинально разрешенной численности, и сам сёгунат в начале XVIII в. в общей сложности мог выставить всего около 30 тысяч воинов, что составляло менее половины теоретического рекрутского набора [611] . Новые земли в удаленных поместьях тозама включали больше неосвоенных участков для развития рисоводства, чем старые земли сёгуната в центре страны. Богатая долина Канто, самый развитый регион Японии, контролировалась бакуфу; но новые сельскохозяйственные культуры, которые начали выращивать на продажу, как правило, ускользали от традиционного сбора податей властями сёгуната Токугава, основанного на рисовом стандарте. Таким образом, налог, выплачивавшийся тозама, в конечном итоге стал выше, чем подати с владений сёгуната [612] . Хотя сёгунат осознавал разницу между номинальной «рисовой» оценкой производства во владениях тозама и его реальным объемом, которая в некоторых случаях имела место с начала периода бакухан, упадок его власти на территориях хан не позволял Эдо исправить ситуацию. Более того, когда коммерциализация сельского хозяйства достигла отдаленных регионов Японии, более компактные и энергичные правительства хан оказались способными установить прибыльную местную монополию на товарные культуры (такие, как сахар и бумага), увеличив доходы тозама, в то время как доход бакуфу от разработки месторождений снижался. Экономическая и военная мощь любого даймё были тесно связаны, так как самураи получали средства к существованию из рисовых доходов. Материальное могущество больших домов тозама было более устойчивым, чем казалось, и оно улучшалось со временем.
В своих владениях все даймё (будь то тозама, шимпан или фудаи) обладали неограниченной властью: действие предписаний сёгуната заканчивалось у границ их феодов. Они выпускали законы, осуществляли правосудие, собирали налоги и содержали войска. Политическая централизация даймё была сильнее в их собственных владениях хан, чем централизация на землях сёгуната тзнрё, так как она не опосредовалась субфеодализацией. Первоначально территории хан были разделены на земли правящих домов даймё и феоды, пожалованные их вооруженным вассалам. Однако во время эпохи Токугава в каждом хан постоянно росло число самураев, которым просто платили жалованье рисом вместо предоставления земель как таковых. К концу XVIII в. практически все вассалы буси за пределами территории сёгуната получали зарплаты рисом из зернохранилищ сюзерена, и большинство из них проживало в городах-крепостях своих господ. Этой перемене способствовал традиционный сдвиг во внутрифеодальных отношениях к полюсу вассалитета, а не бенефиция. Отделение класса самураев от сельскохозяйственного производства сопровождалось его включением в административную бюрократическую систему, как в бакуфу, так и в хан. Государственный аппарат сёгуната с его быстро увеличивающимся количеством должностей и неопределенностью системы департаментов воспроизводился на территориях провинциальных феодалов. Каждый дом даймё стал создавать свою собственную бюрократию, состоящую из самураев и управляемую советом высших вассалов или кашиндан (kashindan), которые, как и совет родзю в сёгунате, зачастую пользовались властью от имени господина хан, часто остававшегося лишь номинальным главой [613] . Класс буси теперь сам стал обладать сложной стратифицированной наследственной системой рангов, только верхние этажи которой обеспечивали высших чиновников для правительства хан. Дальнейшим результатом превращения самураев в бюрократов было преобразование их в образованный класс, все более лояльный владению хан в целом, а не личности даймё– хотя восстания против последних практически неизвестны.
В основании всей феодальной системы находилось крестьянство, юридически прикрепленное к земле, которому было запрещено переезжать или обмениваться своими участками. По статистике, средний размер крестьянского участка был очень маленьким – от 2 до 3 акров, а оброк с него, которые крестьянин должен был выплатить хозяину, составлял 40–60 % продукции в начале эпохи Токугава; к концу сёгуната их размер уменьшился до 30–40 % [614] . Деревни несли коллективную ответственность за налоги, которые обычно выплачивались в натуральной форме (хотя переход к денежной форме встречался все чаще) и собирались налоговыми чиновниками даймё. Так как самураи больше не выполняли манориальных функций, все непосредственные отношения между крестьянством и рыцарством на земле были исключены, за исключением сельской администрации должностными лицами хана. Длительный мир в эпоху Токугава и установление постоянного способа оценки излишков, предназначенных для изъятия, стали причиной впечатляющего подъема аграрного производства в течение первого столетия со времени установления сёгуната. Происходило освоение больших площадей земли с официального одобрения бакуфу, распространялись железные сельскохозяйственные орудия труда. Интенсифицировалось орошение, расширялись площади рисовых полей, широко использовались удобрения, расширялся ассортимент возделываемых зерновых. В XVII в., по официальным оценкам, посевные площади под рисом выросли на 40 %; наделе, реальные объемы недооценивалась из-за уклонений; общее производство зерновых в целом, вероятно, почти удвоилось в этот период [615] . Население выросло на 50 %, составив примерно 30 миллионов человек в 1721 г. Однако затем оно уменьшилось из-за неурожаев и голода, которые уничтожили избыток рабочей силы, а деревни начали практиковать мальтузианский контроль, для того чтобы парировать эти угрозы. Поэтому в XVIII в. демографический рост был минимальным. В то же время рост валовой продукции заметно замедлился: согласно официальным подсчетам, площади обрабатываемых земель увеличилась на 30 % [616] . С другой стороны, поздняя эпоха Токугава характеризовалась более интенсивной коммерциализацией сельского хозяйства. До самого конца сёгуната рисоводство продолжало составлять 2/з аграрного производства благодаря внедрению усовершенствованных устройств для молотьбы [617] . Избыток риса, уходивший в виде оброка сеньорам, в конечном итоге в городах обращался феодалами в деньги. В то же время в течение XVIII в. быстро развивалась региональная специализация: такие товарные культуры, как сахар, хлопок, чай, индиго и табак, производились непосредственно для продажи, их выращиванию часто способствовали монопольные предприятия хан. К концу сёгуната значительная доля сельскохозяйственного производства была коммерциализирована [618] , либо прямым производством крестьянами товаров для рынка, либо опосредованно – через продажу феодалами рисового оброка.
Вторжение денежной экономики в деревню и конъюнктурные колебания цен на рис неизбежно приводили к усилению социального расслоения в крестьянской среде. С самого начала эпохи Токугава землевладение в японских деревнях было неравным. Богатым крестьянским семьям принадлежали участки размером больше средних, которые они обрабатывали при помощи зависимых работников и бедных крестьян, замаскированных под родственников. В то же время богатые доминировали в деревенских советах в качестве традиционной общинной элиты [619] . Распространение коммерческого сельского хозяйства серьезно увеличило власть и богатство этой социальной группы. Хотя продажа и покупка земли этой категорией формально была незаконной, на практике в течение XVIII в. бедные крестьяне часто в отчаянии закладывали свои участки деревенским ростовщикам, когда урожаи были плохими, а цены высокими. Таким образом, в сельской экономике появлялся второй эксплуатирующий слой, промежуточный между сеньориальной бюрократией и непосредственными производителями: дзинуси или ростовщики-землевладельцы, которые по происхождению были богатейшими крестьянами или старостами ( шойя ) в деревне. Зачастую они увеличивали свои богатства, вкладывая деньги в распашку новых земель, предпринимаемую зависимыми субарендаторами или наемными работниками. Землевладение в мура неуклонно становилось более концентрированным, а родственные фикции отменялись в угоду денежным отношениям между жителями деревни. Таким образом, хотя в течение поздней эпохи Токугава с прекращением демографического роста доход на душу населения видимо увеличился [620] , а слой дзинуси расширялся и процветал, оборотной стороной того же процесса было ухудшение положения беднейшего крестьянства. Именно поэтому XVIII–XIX вв., отмеченные повторяющимся смертоносным голодом, стали временем роста народных восстаний в сельской местности. Изначально они носили локальный характер, но со временем приобрели региональный и, наконец, квазинациональный охват, что вызвало тревогу как властей хан, так и бакуфу [621] . Крестьянские бунты эпохи Токугава были слишком беспорядочными и неорганизованными для того, чтобы представлять серьезную политическую угрозу системе бакухан; однако они стали симптомами накопления кризисных экономических явлений в старом феодальном порядке.
Между тем в этой аграрной экономике, как и в феодальной Европе, развивались важные городские центры, занятые торговыми операциями и мануфактурным производством. Муниципальная автономия торговых центров эпох Асикага и Сэнгоку была уничтожена в конце XVI в. Сёгунат Токугава не позволял никакого городского самоуправления: самое большее, были разрешены почетные купеческие советы в Осаке и Эдо, действовавшие под строгим контролем чиновников бакуфу, на которых была возложена ответственность за управление городами [622] . Города-крепости хан также не давали возможности развиваться муниципальным институтам. С другой стороны, умиротворение страны и установление системы санкин котай предоставляло беспрецедентный коммерческий стимул для развития городского сектора японской экономики. Потребление предметов роскоши высшей аристократией быстро развивалось, в то время как превращение рыцарского класса в чиновников, получающих зарплату, повысило спрос на комфорт среди них (как бюрократия сёгуната, так и чиновничество хан были чрезмерно раздуты из-за размера класса самураев). Перетекание огромного богатства даймё в Эдо и Осаку было вызвано дорогостоящим строительством и показной роскошью резиденций крупных феодалов в столице Токугава. По некоторым оценкам, до 6о-8о% денежных расходов хан уходило на санкин котай [623] . В Эдо было более 600 официальных резиденций или ясики, содержавшихся даймё (большинство крупных феодалов имели более трех резиденций каждый). Эти резиденции фактически были обширными поместьями, крупнейшие из которых занимали площади до 400 акров и включали особняки, учреждения, казармы, школы, конюшни, гимнастические залы, сады и даже тюрьмы. Вероятно, около 1/6 свиты хан постоянно проживало в этих резиденциях. В огромной городской агломерации Эдо доминировала концентрическая система таких резиденций даймё, планомерно размещенных вокруг большого замка – дворца самого сёгуната Чиода, расположенного в центре города. Половина населения Эдо жила в самурайских имениях, не менее 2/з всей площади города были собственностью военных [624] . Чтобы поддерживать огромную стоимость этой системы обязательного феодального потребления, правителям хан приходилось переводить свои налоги, полученные главным образом от крестьянства в натуральной форме, в деньги. Излишек риса продавался в Осаке, которая стала центром распределения и торговым дополнением потребительского центра Эдо: именно там купцы управляли товарными складами хан, выдавали кредиты феодалам и вассалам под залог налогов или жалований, спекулировали на фьючерсных товарных контрактах. Вынужденная монетизация феодальных доходов подготовила условия для быстрой экспансии торгового капитала в городах. В то же время классу городских жителей чонин было законодательно запрещено приобретать сельскохозяйственные угодья: следовательно, японские купцы эпохи Токугава были лишены возможности вкладывать свой капитал в сельскохозяйственную собственность, по примеру их китайских коллег [625] . Сама жесткость системы классов, созданной Хи-дэёси, таким образом, парадоксально стимулировала рост чисто городского богатства.
Таким образом, в XVII–XVIII вв. в больших городах формировался в высшей степени процветающий слой купечества, вовлеченный в широкий круг торговой деятельности. Компании чонин накапливали капитал благодаря торговле сельскохозяйственными излишками (продавая рис и такие товары, как хлопок, шелк и индиго), транспортным услугам (интенсивно развивалось каботажное судоходство), производя обменные сделки (в тот период в обращении ходили более 30 валют, поскольку каждый хан выпускал бумажные банкноты в дополнение в металлическим монетам бакуфу), мануфактурное производство текстиля, фарфора и других товаров (сконцентрированных в городских мастерских или разбросанных по деревням с использованием надомного труда), производство пиломатериалов и строительство (частые пожары в городах делали его постоянно необходимым), ссуды денег даймё и сёгунату. Крупнейшие купеческие дома стали контролировать доходы, эквивалентные богатствам большинства влиятельнейших региональных феодалов, на которых они работали в качестве финансовых агентов и которые использовали их как источники кредита. Расширение коммерциализации сельского хозяйства сопровождалось массовой нелегальной миграцией в города, что привело к серьезному расширению городского рынка. К XVIII в. население Эдо составляло, видимо, 1 миллион человек – больше чем население Лондона или Парижа в то время. Осаку и Киото населяли, вероятно, по 400 тысяч жителей; и примерно Vio населения Японии проживала в городах с населением более 10 тысяч человек [626] . Мощная волна урбанизации привела к ножницам цен между продукцией мануфактур и аграрными товарами, учитывая относительную неэластичность предложения в сельскохозяйственном секторе, из которого знать получала свои доходы. И как результат – хронические бюджетные проблемы у правительств бакуфу и хан, долги которых перед купцами, ссужавшими их займами под залог их налоговых доходов, все возрастали.
Усугубление денежного дефицита в среде знати конца эпохи Токугава, однако, не означало соответствующего подъема социальной группы чонин в общественной системе в целом. Сёгунат и даймё реагировали на кризисное состояние своих доходов, аннулируя свои долги, вымогая большие «подарки» из купцов, сокращая рисовое жалованье подчиненных самураев. Чонин юридически были во власти знати, которой они предоставляли кредиты, а их прибыль могла безо всяких оснований быть изъята в виде обязательного «добровольного» приношения или путем введения специальных налогов. Право эпохи Токугава было «социально неполным и территориально ограниченным»: оно действовало только во владениях тэнрё, ему не хватало реально работающей судебной системы, и оно было направлено главным образом на наказание преступников. Гражданское право находилось в зачаточном состоянии, власти бакуфу неохотно следили за исполнением законов, воспринимая свое участие в тяжбах между частными сторонами как особую милость [627] . Следовательно, безопасность имущественных сделок никогда не была надежно обеспеченной, несмотря на то что крупные города сёгуната и предоставляли купцам защиту от давления даймё, хотя и не от бакуфу. С другой стороны, сохранение системы бакухан препятствовало появлению единого внутреннего рынка и мешало росту торгового капитала в национальном масштабе, притом что расходы на санкин котай достигли пределов. Контрольные пункты хан и пограничники препятствовали свободному движению товаров и людей, главные дома даймё следовали протекционистской политике ограничения импорта. Главным фактором в судьбе класса чонин в Японии стал изоляционизм Токугава. С 1630 г. Япония была закрыта для иностранцев, за исключением голландско-китайского анклава в Нагасаки, японцам было запрещено покидать страну. Эти закрытые границы стали удавкой, препятствовавшей развитию торгового капитала в Японии. Одной из фундаментальных предпосылок первоначального накопления капитала в ранней новой Европе была существенная интернационализация обмена товарами и эксплуатация, начиная с эпохи Великих географических открытий. Ленин постоянно и верно подчеркивал, что «нельзя себе представить капиталистической нации без внешней торговли, да и нет такой нации» [628] . В итоге политика изоляции сёгуната препятствовала возможности перехода к капиталистическому способу производства собственно в системе Токугава. Из-за отсутствия внешней торговли активность коммерческого капитала в Японии постоянно сдерживалась, капитал развивался в направлении паразитической зависимости от феодальной знати и политической системы, ею созданной. Его заметный рост, несмотря на эти непреодолимые ограничения его экспансии, был возможен только благодаря плотности и емкости внутренних рынков, несмотря на их разделенность. Япония, в которой проживали 30 миллионов человек, в середине XVIII в. была более населенной, чем Франция. Но не могло существовать «капитализма в одной отдельно взятой стране». По существу, изоляционизм Токугава обрек чонин на подчиненное существование.
Рост городов, вызванный системой санкин котай, завершился в начале XVIII в. вместе с прекращением роста населения в целом. Ограничительные официальные монополии были разрешены сёгунатом в 1721 г. Примерно с 1735 г. в крупных городах бакуфу прекратились строительство и расширение [629] . К тому времени коммерческая инициатива от банкиров и купцов Осаки фактически уже перешла в руки более мелких региональных оптовиков. Они, в свою очередь, в конце XVIII в. овладели монопольными привилегиями, и предпринимательская активность сместилась глубже в провинции. В начале XIX в. именно слой сельских торговцев-землевладельцев дзинуси стал самой активной деловой группой, получавшей доходы от отсутствия гильдейских ограничений в деревне на внедрение таких отраслей промышленности, как изготовление сакэ и шелковые мануфактуры (в эту эпоху они переместились из городов) [630] . Таким образом, наблюдалось прогрессивное распространение коммерции, которое в большей степени изменило деревню к концу эпохи Токугава, чем трансформировало города. Само перерабатывающее производство оставалось очень примитивным: как на сельских, так и на городских предприятиях разделение труда было минимальным, отсутствовали крупные технические изобретения, относительно небольшой была концентрация наемной рабочей силы. Фактически японская промышленность носила в основном ремесленный характер, оборудование было скудным. Экстенсивному развитию организованной торговли никогда не сопутствовал интенсивный прогресс методов производства. Промышленные технологии были архаичными, их совершенствование было чуждо традициям чонин. Процветание и энергичность японского купеческого класса способствовали возникновению особой городской культуры с высокой художественной утонченностью, прежде всего в изобразительном искусстве и литературе. Но они не стимулировали никакого роста научного знания или инноваций в политической мысли. Творчество чонин в рамках порядка бакухан было ограничено областью воображения и развлечений; оно никогда не поднималось до научного сомнения или критического мышления. Купеческому сообществу как классу не хватало интеллектуальной самостоятельности или корпоративного чувства собственного достоинства: оно было полностью погружено в условия существования, сложившиеся в силу феодальной автаркии сёгуната.
Инертность самого бакуфу, в свою очередь, сохраняла структурный парадокс во взаимоотношениях государства и общества, порожденный сёгунатом. В отличие от любого варианта феодализма в Европе, Япония эпохи Токугава сочетала жестко закрепленное деление суверенитета с очень высокими скоростью и объемом циркулирования товаров. Социальная и политическая система страны оставалась сопоставимой со структурой, существовавшей во Франции в XIV в., по мнению одного из ее ведущих современных историков [631] ; однако размеры экономики Эдо были большими, нежели у Лондона в XVIII в. Уровень образованности в Японии был рекордным: около 30 % взрослого населения, 40–50 % мужчин были грамотными к середине XIX в. [632] Ни один регион мира за пределами Европы и Северной Америки не обладал столь интегрированными финансовыми механизмами, такой развитой торговлей и такой высокой грамотностью. Высокая степень совместимости между японским государством и экономикой в эпоху Токугава основывалась на диспропорции между обменом товарами и производством внутри страны: как мы видели, монетизация сеньориальных излишков, которая стала основной движущей силой роста городов, не соответствовала реальному масштабу коммерциализации сельского хозяйства крестьянами как таковыми. Это была искусственная конвертация натуральных феодальных налогов, наложенных на основные виды производимой продукции, преимущественно служившей средствами к существованию, несмотря на рост ориентации на собственный рынок в конце периода сёгуната. Именно это объективное разделение в основе экономической системы позволило законсервировать внутреннюю юридическую и территориальную фрагментацию Японии, начиная с установления мира после Сэкигахары. Внешней совершенно необходимой предпосылкой стабильности в эпоху Токугава была старательно поддерживаемая изоляция Японии от остального мира, которая закрывала ее от идеологического воздействия, экономических ударов, дипломатических споров или любой военной конкуренции. Тем не менее к началу XIX в. даже в душном мире дворца Чиода нарастало понимание напряжения, связанного с сохранением устаревшей средневековой государственной машины в условиях динамичного развития экономики раннего Нового времени.
Кризис доходов постепенно охватывал бакуфу так же сильно, как провинциальные даймё, находившиеся в точке пересечения суверенитета и производства; их налоговая система была уязвимейшим звеном сёгуната. Самому правительству Токугава, конечно, не приходилось нести расходы по системе санкин котай, навязанные им хан. Но с тех пор как основным обоснованием показного потребления, включенного в нее, стала демонстрация ранга или престижа внутри аристократического класса, собственно добровольные демонстративные расходы сёгуната были неприменно больше, чем затраты даймё: содержание одного только двора, состоявшего из придворных дам, составляло в XVIII в. большую долю бюджета, чем расходы на оборонительные сооружения Осаки и Киото [633] . Более того, бакуфу должно было осуществлять определенные квазина-циональные функции в качестве верхушки пирамиды феодального суверенитета в Японии, при этом занимая лишь Vs земельных ресурсов страны: в связи с этим всегда имел место дисбаланс между его обязанностями и возможностью собирать налоги. Его огромная бюрократия вассалов буси, естественно, была гораздо многочисленнее, чем число чиновников любого хан, и ее содержание обходилось очень дорого. Общая сумма, уходившая на жалованье вассалам, составляла около половины его годового бюджета; причем коррупция в рядах чиновников бакуфу стала широко распространенным явлением [634] . В то же время налоговые прибыли с его земель имели тенденцию уменьшаться в реальном исчислении, потому что оно не могло предотвратить обмена рисового налога на деньги, что опустошало казначейство, так как пересчет производился по ценам ниже рыночных и сама цена монет снижалась [635] . В начале эпохи Токугава монополия сёгуната на драгоценные металлы была сверхприбыльной статьей доходов: выработка в Японии серебра в начале XVII в., например, составляла около половины объема всего американского экспорта в Европу на пике активности испанских поставок [636] . Но в XVIII в. шахты страдали от затоплений и производство сильно сократилось. Бакуфу попыталось решить эту проблему, прибегнув к систематическому снижению ценности монеты: в 1700–1854 гг. объем выпущенный сёгунатом денежной массы, находившейся в обращении, увеличился на 400 % [637] . Эта девальвация обеспечивала от Vi до Vi его ежегодного дохода: так как никакая конкурирующая монета не поступала в страну, а внутренний спрос в целом возрастал, долгое время ценовая инфляция была относительно невелика. Регулярное налогообложение торговли отсутствовало, но периодические и значительные конфискации у купечества осуществлялись с начала XVIII в., по решению сёгуната. Постоянные бюджетные провалы и критическая ситуация в финансовой сфере продолжили беспокоить бакуфу, чей ежегодный дефицит к 1837–1841 гг. составлял более полумиллиона золотых рё [638] ; краткосрочные ценовые колебания в периоды плохих урожаев вызывали кризис как в деревне, так и в столице. После почти десятилетия неурожаев зерновых, большая часть Японии страдала от голода в 1830-х гг., а правящая клика родзю тщетно пыталась снизить цены и укрепить доходы дома (внутри страны). В 1837 г. в Осаке поднялось восстание плебса, которое, хотя и было подавлено, продемонстрировало, насколько напряженной стала политическая ситуация в стране. В то же время вооруженный аппарат сёгуната после двух веков мира в стране был в состоянии сильного разложения: несовременные и ослабленные гвардейские подразделения земель тэнрё более не могли обеспечивать безопасность даже в пределах Эдо в условиях гражданского конфликта [639] ; бакуфу более не имело оперативного преимущества перед силами, которые могли быть собраны в провинциях тозама хан юго-запада. Военная эволюция феодализма Токугава была противоположна развитию европейского абсолютизма: здесь происходило прогрессивное сокращение и упадок военной мощи.
Вследствие этого к началу XIX в. японский феодальный порядок переживал муки медленно развивавшегося внутреннего кризиса: но если товарная экономика и разрушила стабильность старой общественной и институциональной инфраструктуры, она не выработала еще элементов для политического решения о ее замене. В середине столетия мир Токугава был еще непоколебим. Именно внешнее влияние западного империализма, начавшееся с прибытия эскадры командора Пери в 1853 г., спровоцировало слияние воедино многочисленных скрытых противоречий сёгуната и революционный взрыв. Агрессивное вторжение американских, российских, британских, французских и других военных кораблей в японские воды с требованием установления дипломатических и торговых отношений под дулами орудий поставило бакуфу перед зловещей дилеммой. В течение двух веков бакуфу систематически насаждало ксенофобию среди всех классов в Японии; одной из самых священных тем официальной идеологии и одним из ключевых принципов его управления было полное изгнание иностранцев. Однако теперь ему противостояла военная угроза в виде технологической мощи, воплощенной в бронированных пароходах, находившихся в гавани Йокогама, и, очевидно, легко способной разбить японские армии. Бакуфу было вынуждено пытаться выиграть время и ответить на требование Запада «открыть» Японию, для того чтобы выжить. Сделав это, правительство тотчас стало уязвимым для ксенофобских нападок изнутри. Крупные боковые ветви дома Токугава проявляли неистовую враждебность к присутствию иностранных миссий в Японии: первые убийства иностранцев в анклаве Иокогамы были делом рук самурая из феода Мито, представителя одной из трех ветвей младших сыновей династии Токугава. Император в Киото, охранитель и символ традиционных культурных ценностей, яростно противостоял взаимодействию с незваными гостями. С началом процесса, которые все части японского феодального класса восприняли как чрезвычайную ситуацию национального масштаба, императорский двор неожиданно превратился во второй полюс власти, а аристократия кугэ вскоре стала средоточием интриг против бюрократии сёгуната в Эдо. Режим Токугава оказался в крайне сложном положении. Политически он мог только оправдывать свои последовательные уступки и послабления Западу, объясняя их даймё своей военной слабостью. Но такое поведение означало демонстрацию собственного бессилия и, таким образом, способствовало вооруженному перевороту. Загнанное в угол внешней опасностью, правительство уже с трудом справлялось с внутренними беспорядками, спровоцированными тактикой промедления и проволочек.
Более того, с экономической точки зрения внезапное окончание японской изоляции сокрушило жизнеспособность денежной системы сёгуната: до этого момента ценность монет Токугава с гораздо меньшим содержанием драгоценных металлов, чем их номинальная стоимость, обеспечивались эдиктами. Теперь западные купцы отказывались принимать их наравне с западными валютами, чья стоимость основывалась на реальном содержании серебра. Приобретение западной торговлей крупных масштабов заставило бакуфу резко девальвировать валюту до уровня реального содержания драгоценных металлов в монетах и выпустить бумажные деньги, в то время как резко повысился внешний спрос на основные местные продукты: шелк, чай и хлопок. Это повлекло за собой катастрофическую внутреннюю инфляцию: в 1853–1869 гг. цены на рис выросли в 5 раз [640] , вызвав резкое общественное недовольство в городах и деревнях. Бюрократия сёгуната с ее ограниченными возможностями и отсутствием единства была неспособна проводить сколько-нибудь разумную и решительную политику в ответ на угрожавшие ей опасности. Прискорбное состояние ее аппарата безопасности проявилось, когда единственный решительный лидер, выдвинутый бакуфу, Ии Наосуке был убит ксеиофобом-самураем в Эдо в 1860 г. [641] ; два года спустя еще одно покушение заставило его преемника уйти со своего поста. Владельцы поместий тозама на юго-западе, Сацума, Тёсю, Тоса и Сага, по структурным причинам всегда противостоявшие бакуфу, теперь обрели смелость для начала наступательной операции и организации заговора с целью ниспровержения его власти. Их собственные военные и экономические ресурсы, расчетливо расходуемые режимами, более компактными и эффективными, чем правительство Эдо, были приведены в боевую готовность. Войска хан были модернизированы, переоснащены западными вооружениями, численность их была увеличена; Сацума и так уже владел самым крупным самурайским корпусом в Японии, военачальники Тёсю набирали и обучали богатых крестьян, чтобы сформировать силы из простых людей для использования против сёгуната. Народные ожидания больших перемен в форме суеверий распространялись среди населения Нагои, Осаки и Эдо, тогда же была получена тайная поддержка некоторых банкиров чонин, обеспечившая необходимые финансовые ресурсы для ведения гражданской войны. Постоянная связь с недовольными кугэ в Киото гарантировала лидерам тозама необходимое идеологическое прикрытие планируемой операции: это была не менее чем революция, формальной целью которой была реставрация императорской власти, узурпированной сёгунатом. Император, таким образом, представлял собой трансцендентный символ, вокруг которого теоретически могли объединиться все классы. Быстрый государственный переворот передал Киото войскам Сацума в 1867 г. В условиях контроля над городом со стороны военных император Мейдзи зачитал декларацию, подготовленную его двором, формально положившую конец сёгунату. Бакуфу, нивергнутое и деморализованное, оказалось неспособным к организованному сопротивлению: в течение нескольких недель вся Япония была захвачена мятежными армиями тозама и основано единое государство Мейдзи. Падение сёгуната повлекло за собой окончание японского феодализма.
Экономически и дипломатически подрываемое из-за границы, лишившееся безопасности изоляции государство Токугава было уничтожено изнутри политически и военной силой благодаря той самой раздел енности суверенитета, которую оно всегда сохраняло: отсутствие монополии на вооруженные силы, провал попытки подавить легитимность империи, в конце концов привели к его неспособности противостоять хорошо организованному восстанию от имени императора. Государство Мейдзи, которое его сменило, быстро предприняло широкий круг мер для ликвидации феодализма сверху, ставших самой радикальной из где-либо осуществленных программ. Была ликвидирована система феодов, уничтожен четрыхсословный порядок, провозглашено равенство всех граждан перед законом, подвергнуты реформированию календарь и одежда, созданы единый рынок и введена в обращение единая валюта, систематически проводилась индустриализация и военная экспансия. Капиталистическая экономика и политическая система родились прямо из уничтожения сёгуната. Сложные исторические механизмы революционной трансформации, произведенной реставрацией Мейдзи, еще предстоит изучить. Здесь важно подчеркнуть, не соглашаясь с предположениями некоторых японских историков [642] , что государство Мейдзи не являлось, ни в каком смысле этого слова, абсолютистским. Первоначально пережив кризисную диктатуру нового правящего блока, оно вскоре стало безусловно капиталистическим государством, чья мощь через несколько десятилетий была проверена на прочность в операции против истинного абсолютизма. В 1905 году поражение России при Цусиме и Мукдене открыло миру разницу между ними. В Японии переход от феодализма к капитализму был осуществлен уникальным образом без политической интерлюдии.
Б. «Азиатский способ производства»
I
Как мы уже видели, Маркс определенно отрицал утверждение, будто империя Великих Моголов и османская Турция относятся к феодальной формации. Однако это негативное определение, признающее существование феодализма только в Европе и Японии, оставляет открытым вопрос о том, какую позитивную классификацию Маркс предлагал для социально-экономических систем, представленных этими примерами. Ответ, получающий все большее признание с 1960-х гг., заключается в том, что, по мнению Маркса, упомянутые государственные образования являют собой специфическую разновидность, которую он называл «азиатским способом производства». Это понятие в последние годы оказалось в центре широкой международной дискуссии между приверженцами марксизма, и в свете выводов данного исследования будет полезным напомнить об интеллектуальных истоках того, от чего Маркс отталкивался. Теоретическое сопоставление и противоположение европейских и азиатских структур государственности было, как мы видели, давней традицией, начиная с Макиавелли и Бодена: стимулированное близостью турецкой державы, это явление возникло одновременно с новым рождением политической теории в период Возрождения и затем шаг за шагом сопровождало ее вплоть до периода Просвещения.
Выше мы уже отмечали знаменательные и последовательно связанные друг с другом идеи Макиавелли, Бодена, Гаррингтона, Бернье и Монтескье, касавшиеся собственно Османской империи – близкого друга и заклятого врага Европы начиная с XV в. [643] Однако к XVIII в. эти идеи, первоначально зародившиеся в контакте с Турцией, в процессе колониальных открытий и экспансии были распространены на территории, находившиеся к востоку от нее: на Персию, затем Индию и, в конце концов, Китай. С этим географическим расширением произошло концептуальное обобщение комплекса характеристик, первоначально усматривавшихся в Порте или связывавшихся с ней. Зародилась концепция политического «деспотизма»; причем этот термин до тех пор формально (хотя и не по сути) отсутствовал в понятийном аппарате комментировавших ситуацию в Турции европейских наблюдателей. Традиционная характеристика османского султана в работах Макиавелли, Бодена или Гаррингтона изображала его как Великого господина (Grand Seignior), что послужило неудачной проекцией терминологии европейского феодализма на турецкое государство, которое было недвусмысленно объявлено принципиально отличающимся от какой-либо политической системы в Европе. Гоббс был первым крупным автором, писавшим в XVII в. о деспотической власти и притом, как ни парадоксально, рассматривавшим ее в качестве нормальной и допустимой формы правления. Такое толкование, естественно, не получило распространения. Напротив, на протяжении столетия деспотическая власть повсеместно и все более ассоциировалась с тиранией; в то время как во Франции «турецкая тирания» часто приписывалась династии Бурбонов в полемических произведениях ее оппонентов, начиная с Фронды. Бейль был, по-видимому, первым философом, который в 1704 г. использовал концепт деспотизма [644] ; подвергая его сомнению, он все же принимал данную идею как весьма злободневную.
Появление понятия «деспотизм» с самого начала было связано со взглядом на Восток. Наиболее важной канонической цитатой из произведений периода античности, в которой может быть найдено исходное греческое слово, может считаться знаменитое утверждение Аристотеля: «Варвары по своей природе более раболепны, чем греки, и азиаты более раболепны, чем европейцы; поэтому они одобряют деспотическое правление без протеста. Такого рода монархии подобны тираниям, но они устойчивы, так как являются наследственными и законными» [645] . Таким образом, в европейской философской традиции, начиная с периода ее зарождения, деспотизм приписывался именно Азии. Просвещение, мыслители которого после колониальных открытий и захватов могли умозрительно охватить уже весь земной шар, впервые оказались в состоянии обобщить и сформулировать эту географическую связь. За эту работу принялся Монтескье, который находился под сильным влиянием Бодена и был прилежным читателем произведений Бернье. Монтескье унаследовал от своих предшественников ключевые аксиомы о том, что азиатские государства лишены устойчивой частной собственности и наследственной знати, и потому они основаны на произволе и тирании, – эти идеи он неоднократно повторял со всей ему присущей лапидарностью. По мнению Монтескье, восточный деспотизм основывался не просто на неподдельном страхе, но также на своеобразном равенстве подданных, грань между которыми стирала их полная зависимость от смертоносных прихотей деспота: «для деспотического правительства нужен страх» [646] . Такого рода единообразие представляет собой зловещий антитезис единству общины классической античности: «Все люди равны в республиканских государствах, они равны и в деспотических государствах: в первом случае – потому, что они – все, во втором – потому, что все они – ничто» [647] . Отсутствие наследственной знати, которое давно подмечалось как черта, присущая Турции, в данном случае воспринималось как нечто гораздо большее: как состояние неприкрытого уравнительного рабства по всей Азии. Монтескье также добавил к этой традиции две новые идеи, которые отражали просвещенческие доктрины секуляризма и прогресса. Он утверждал, что азиатские общества были лишены законодательства, а религия играла в них роль функционального заменителя законов: «Есть государства, где законы ничего не значат и служат лишь выражением прихотливой и изменчивой воли государя. Если бы в таких государствах религиозные законы были однородны с человеческими законами, то они также не имели бы никакого значения. Между тем для общества необходимо, чтобы существовало что-то постоянное; это постоянное и есть религия» [648] . В то же время он полагал, что эти общества неизменны: «Законы, нравы и обычаи, относящиеся даже к таким, по-видимому, безразличным вещам, как одежда, остаются и теперь на Востоке такими, какими они были тысячу лет назад» [649] .
Провозглашенный Монтескье принцип объяснения различий в характере европейских и азиатских государств был, разумеется, географическим: несходство их исторических судеб определяли климат и топографические особенности. Поэтому он синтезировал свои взгляды о природе обоих типов государств в форме художественного драматического сравнения: «В Азии всегда были обширные империи; в Европе же они никогда не могли удержаться. Дело в том, что в известной нам Азии равнины гораздо обширнее и она разрезана горами и морями на более крупные области; а поскольку она расположена южнее, то ее источники скорее иссякают, горы менее покрыты снегом и не очень многоводные реки составляют более легкие преграды. Поэтому власть в Азии должна быть всегда деспотической, и если бы там не было такого крайнего рабства, то в ней очень скоро произошло бы разделение на более мелкие государства, несовместимое, однако, с естественным разделением страны. В Европе в силу ее естественного разделения образовалось несколько государств средней величины, где правление, основанное на законах, не только не оказывается вредным для прочности государства, но, напротив, настолько благоприятно в этом отношении, что государство, лишенное такого правления, приходит в упадок и становится слабее других. Вот что образовало тот дух свободы, благодаря которому каждая страна в Европе с большим трудом подчиняется посторонней силе, если эта последняя не действует посредством торговых законов и в интересах ее торговли. Напротив, в Азии царит дух рабства, который никогда ее не покидал; во всей истории этой страны невозможно найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть только героизм рабства» [650] .
Основа идей Монтескье, хотя и оспаривалась немногими современными ему критиками [651] , в целом была принята его современниками и для политической экономии и философии позже стала центральной частью его наследия. Следующий важный шаг в развитии идеи о противопоставлении Азии и Европы предпринял, видимо, Адам Смит, когда выразил ее в виде противоположения двух видов экономики, в которых господствовали различные отрасли производства: «Если политическая экономия народов современной Европы больше благоприятствовала мануфактурной промышленности и внешней торговле, промышленности городов, чем сельскому хозяйству деревень, то политическая экономия других народов придерживалась противоположного направления и благоприятствовала больше земледелию, чем мануфактурной промышленности и внешней торговле. Политика Китая благоприятствует сельскому хозяйству больше, чем всем другим промыслам. В Китае, как передают, положение крестьянина настолько же лучше положения ремесленника, насколько в большей части Европы положение ремесленника лучше положения крестьянина» [652] . Смит постулировал наличие связи между аграрным характером азиатских и африканских обществ и ролью гидротехнических работ, включая ирригацию и транспорт: он утверждал, что, поскольку государство являлось собственником всей земли в этих странах, оно было прямо заинтересовано в мелиорации сельского хозяйства. «Сооружения, возведенные древними государями Египта для надлежащего распределения воды Нила, были знамениты в древности, и сохранившиеся развалины некоторых из них до сих пор еще вызывают изумление путешественников. Столь же грандиозными, хотя они и не так прославились, были, по-видимому, подобного же рода сооружения, возводившиеся древними государями Индостана для надлежащего распределения воды Ганга, а также многих других рек… В Китае и в других государствах Азии исполнительная власть принимает на себя постройку больших дорог и содержание судоходных каналов… Эта отрасль общественных дел, как говорят, пользуется большим вниманием во всех странах, но особенно в Китае, где большие дороги и еще более каналы превосходят все, что известно в этом роде в Европе» [653] .
В XIX в. последователи Монтескье и Смита продолжили придерживаться в основном того же направления мыслей. Гегель глубоко изучал труды обоих упомянутых мыслителей и в «Философии истории» воспроизвел большинство суждений Монтескье об азиатском деспотизме как обществе без посредствующих властей. Так, по словам Гегеля, «на Востоке мы видели блестящее развитие деспотизма как формы, соответствующей восточному миру» [654] . Гегель перечислил крупные регионы континента, к которым применимо это правило: «Поэтому в Индии господствует произвольнейший, худший, позорнейший деспотизм. Китай, Персия, Турция, вообще Азия – страна деспотизма и в дурном смысле тирании» [655] . «Поднебесная империя», вызывавшая у мыслителей Возрождения столь смешанные чувства, была объектом его особого интереса как модель, в которой он видел эгалитарную автократию: «В Китае царит абсолютное равенство, и все существующие различия возможны лишь при посредстве государственного управления и благодаря тому достоинству, которое придает себе каждый, чтобы достигнуть высокого положения в этом управлении. Так как в Китае господствует равенство, но нет свободы, то деспотизм называется необходимым образом правления. У нас люди равны лишь пред законом и в том отношении, что у них есть собственность; кроме того, у них имеется еще много интересов и много особенностей, которые должны быть гарантированы, если для нас должна существовать свобода. А в китайском государстве эти частные интересы не правомерны для себя, и управление исходит единственно от императора, который правит с помощью иерархии чиновников или мандаринов» [656] . Подобно многим своим предшественникам, Гегель в определенной степени восхищался китайской цивилизацией, в то время как его оценка индийской цивилизации, хотя она также имела свои нюансы, была гораздо более мрачной. Он полагал, что индийская кастовая система совершенно непохожа на что-либо в Китае и что она представляет собой победу иерархии над равенством. Однако такого рода система делает неподвижной и деградирующей всю социальную структуру. «В Китае господствовало равенство всех индивидуумов, и поэтому управление сосредоточивалось в центральном пункте, в императоре, так что отдельное не достигало самостоятельности и субъективной свободы… В этом отношении в Индии обнаруживается значительный прогресс, заключающийся в том, что из деспотического единства образуются самостоятельные члены. Однако эти различия становятся прирожденными; вместо того чтобы, как в органической жизни, приводить душу как единство в деятельное состояние и свободно ее создавать, они становятся окаменевшими и закоченелыми, и их прочность обрекает индийский народ на унизительнейшее порабощение. Этими различиями являются касты» [657] . Как следствие, «даже если в Китае существовал моральный деспотизм, то в Индии то, что еще можно назвать политической жизнью, оказывается совершенно беспринципным деспотизмом, не признающим нравственных и религиозных правил…» [658] Далее Гегель рассматривает в качестве элементарной основы индийского деспотизма систему инертных сельских общин, управляемых передающимися из поколения в поколение обычаями и распределением остающегося после вычета налогов урожая; систему, которую не затрагивают политические перемены в стоящем над ней государстве. «Весь урожай в каждой деревне разделяется на две части, одна из которых достается радже, а другая крестьянам; но затем соответственные доли получают еще местный старшина, судья, надсмотрщик, заведующий всем относящимся к воде, брамин за совершение богослужения, астролог (также брамин, называющий счастливые и несчастливые дни), кузнец, плотник, гончар, промывальщик, цирюльник, врач, танцовщицы, музыкант, поэт. Это постоянно и неизменно и не зависит от произвола. Поэтому все политические революции безразличны для простого индуса, так как его участь не изменяется» [659] . Этим формулировкам, как мы увидим, была суждена долгая жизнь. Гегель заканчивает повторением к тому времени ставшей традиционной темы исторической стагнации, которую он применял к обеим странам: «Китай и Индия остаются неизменными и влачат растительное существование до настоящего времени» [660] .
Если в немецкой классической философии идеи Гегеля находились в русле взглядов Монтескье, то в английской политической экономии соответствующие взгляды Смита не были сразу же усвоены его последователями. Милль-старший не внес существенных новшеств в традиционные идеи об азиатском деспотизме в своем исследовании о Британской Индии [661] . Более оригинальный анализ восточных реалий содержится в работе другого английского экономиста Ричарда Джонса, работавшего после Мальтуса в Ост-Индском колледже. Его «Очерк о распределении богатства и об источниках налогообложения» был опубликован в Лондоне в 1831 г., тогда же, когда Гегель читал в Берлине свои лекции о Китае и Индии. Работа Джонса, целью которой была критика идей Рикардо, помимо прочего являлась, пожалуй, самой основательной из предпринятых к тому времени попыток конкретного исследования сельскохозяйственных землевладений в Азии. В начале работы Джонс заявил, что «во всей Азии правители всегда имели исключительное право владения землей на подвластных им территориях, и они сохранили это право в исключительной и зловещей полноте, в нераздельном и нетронутом виде. Народ повсеместно является арендатором суверена, который остается единственным собственником; лишь незаконные присвоения прав его чиновниками время от времени разрывают звенья этой цепи зависимости. Именно эта всеобщая зависимость от трона для получения средств к существованию является подлинным основанием нерушимого деспотизма в восточном мире, так как она обеспечивает доходы суверенов и то устройство, при котором общество распростерто у ног властителей» [662] . Однако Джонса не удовлетворяли общие суждения его предшественников. Он стремился с определенной точностью очертить четыре обширные зоны, в которых было распространено то, что он называл «земледельческой рентой» (ryot rent) (имелись в виду налоги, которые крестьяне платили напрямую государству как собственнику возделывавшейся ими земли), – Индия, Персия, Турция и Китай. Одинаковая природа экономических систем и политического управления в этих различных регионах, по его мнению, могла объясняться тем, что каждый из них был завоеван татарскими племенами Центральной Азии. «Китай, Индия, Персия и азиатская Турция – все расположены на внешних границах Центральной Азии, и каждая, в свой черед, покорялась (причем некоторые из них – более одного раза) нашествиям ее племен. Китай даже в наше время едва избежал опасности нового завоевания. Где бы ни селились эти скифские захватчики, они устанавливали деспотическую форму правления, которой сами с готовностью подчинялись, подчиняя ей и жителей завоеванных ими стран… Татары везде или приняли, или сами установили политическую систему, которая так легко соединялась с их национальными привычками подчиняться и с абсолютной властью их вождей. Татарские завоевания привили или возродили эти привычки от Черного моря до Тихого океана, от Пекина до Нербудды. Во всей сельскохозяйственной Азии (за исключением России) господствует одна и та же система» [663] .
Главная гипотеза Джонса о кочевническом завоевании как основе происхождения собственности государства на землю сочеталась с новым набором отличительных признаков, выделявшихся им при оценке степеней и влияния этой собственности в тех странах, на которых он останавливался. Так, он писал, что в поздней Индии Великих Моголов наблюдался «конец всей системы регулирования или покровительства; произвольно установленная разорительная рента собиралась в ходе частых военных экспедиций под угрозой оружия; а попытки сопротивления, которые зачастую предпринимались от отчаяния, беспощадно подавлялись огнем и мечом» [664] . С другой стороны, в турецком государстве формально сохранялись более мягкие формы эксплуатации, однако коррумпированность его представителей на практике часто делала ограничения бесполезными. «В турецкой системе имеются некоторые преимущества по сравнению с системами Индии или Персии. Особенно значительным является такое преимущество, как постоянство и умеренность мири или земельной ренты… Однако ее сравнительные умеренность и устойчивость бесполезны для несчастных подданных из-за пассивности и безразличия государства по отношению к злоупотреблениям провинциальных чиновников» [665] .
В Персии жадность королевской власти не знала границ, однако местная система орошения умеряла ее размах, в отличие от той роли, которая отводилась ей в схеме Смита, привнося формы частной собственности: «Из всех деспотических правительств на Востоке именно Персия, возможно, наиболее жадное и самое безудержно беспринципное; однако особенная почва этой страны привнесла некоторые полезные видоизменения в общую азиатскую систему земледельческой ренты (ryot rent) <…> [при которой] тот, кто проводит воду туда, где ее раньше не было, получает от правителя право наследственного владения той землей, которую он сделал плодородной» [666] . Наконец, Джонс очень четко понимал то, что китайское сельское хозяйство из-за своей огромной производительности представляло собой особый случай, который не мог быть так просто приравнен к случаям описанных им других стран. «В самом деле, весь образ действий этой империи представляет собой яркий контраст по сравнению с образом действий соседних азиатских монархий… В то время как половина Индии и даже меньшая часть Персии использовались для сельского хозяйства, территория Китая была полностью возделана и более населена, чем большинство европейских монархий» [667] . Таким образом, работа Джонса, без сомнения, представляла собой высшую точку, достигнутую в первой половине XIX в. политической экономией в дискуссии об Азии. Милль-младший, который писал почти двумя десятилетиями позже, возродил предположение Смита о том, что типичное восточное государство опекало общественные гидравлические работы – «искусственные водоемы, колодцы, оросительные каналы, без которых в условиях тропического климата в большинстве случаев культивация почв вряд ли могла бы осуществляться» [668] . Однако в остальном он всего лишь повторил общую характеристику «обширных монархий, которые с незапамятных времен занимали азиатские равнины» [669] , уже задолго до того являвшуюся общепризнанной в Западной Европе.
Очень важно сознавать, что две упомянутые основные интеллектуальные традиции, которые внесли решающий вклад в формирование взглядов Маркса и Энгельса, содержали общую и уже существовавшую до них концепцию азиатских политических и социальных систем, а именно общий комплекс идей, который уходит своими корнями в более ранний период Просвещения. Этот комплекс можно суммировать примерно в виде следующей схемы [670] :
Восточный деспотизм =…
Государственная собственность на землю Г1, Б3, М2, Дж
Отсутствие правовых ограничений Б1, Б3, М2
Религиозные заменители права М2
Отсутствие наследственной знати M1, Б2, М2
Социальное равенство в рабстве М2, Г2
Изолированные сельские общины Г2
Преобладание сельского хозяйства
над промышленностью С, Б3
Общественные гидротехнические работы С, М3
Жаркий климат М2, М3
Неизменность в ходе истории М2, Г2, Дж, М3
Как мы видим, ни один из перечисленных авторов не собрал эти идеи в единую концепцию. Один лишь Бернье исследовал азиатские страны лично. Только Монтескье сформулировал логически последовательную теорию восточного деспотизма как такового. Географические примеры в произведениях последующих авторов варьировались от Турции до Индии и со временем стали включать Китай. Лишь Гегель и Джонс пытались провести различие между региональными разновидностями общего «азиатского образца».
II
Теперь мы можем обратиться к знаменитым местам переписки Маркса с Энгельсом, в которых они обсуждали проблемы Востока. 2 июня 1853 г. Маркс писал Энгельсу, изучавшему историю Азии и персидский язык, рекомендуя ему сообщение Бернье о городах Востока как «блестящее, наглядное и яркое». Далее он недвусмысленно и в восторженном тоне одобрил главный тезис книги Бернье: «Бернье совершенно правильно видит, что в основе всех явлений на Востоке (он имеет в виду Турцию, Персию, Индостан) лежит отсутствие частной собственности на землю. Вот настоящий ключ даже к восточному небу» [671] . В своем ответе несколькими днями спустя Энгельс предположил, что основное историческое объяснение такому отсутствию частной собственности на землю должно заключаться в засушливости земель Северной Африки и Азии, что делало необходимыми орошение и, следовательно, гидротехнические работы под руководством государства и других публичных властей. «Отсутствие частной собственности на землю действительно является ключом к пониманию всего Востока. В этом основа всей его политической и религиозной истории. Но почему восточные народы не пришли к частной собственности на землю, даже к феодальной собственности? Мне кажется, что это объясняется главным образом климатом и характером почвы, в особенности же великой полосой пустынь, которая тянется от Сахары через Аравию, Персию, Индию и Татарию вплоть до наиболее возвышенной части азиатского плоскогорья. Первое условие земледелия здесь – это искусственное орошение, а оно является делом либо общин, либо провинций, либо центрального правительства. Правительства на Востоке всегда имели только три ведомства: финансов (ограбление своей страны), войны (ограбление своей страны и чужих стран) и общественных работ (забота о воспроизводстве). <…> Плодородие земли достигалось искусственным способом, и оно немедленно исчезало, когда оросительная система приходила в упадок; этим объясняется тот непонятный иначе факт, что целые области, прежде прекрасно возделанные, теперь заброшены и пустынны (Пальмира, Петра, развалины в Йемене и ряд местностей в Египте, Персии и Индостане). Этим объясняется и тот факт, что достаточно бывало одной опустошительной войны, чтобы обезлюдить страну и уничтожить ее цивилизацию на сотни лет» [672] .
Неделей спустя в своем ответе Маркс согласился с тезисом о важности общественных работ для азиатского общества и обратил особое внимание на совместное существование самодостаточных селений внутри него. «Застойный характер этой части Азии, несмотря на все бесплодные движения, происходящие на политической поверхности, вполне объясняется двумя взаимно усиливающими друг друга обстоятельствами: i) общественные работы – дело центрального правительства; 2) наряду с тем, что существует это правительство, все государство, если не считать немногих крупных городов, состоит из множества сельских общин, каждая из которых имеет свою совершенно самостоятельную организацию и представляет собой особый замкнутый мирок. <…> Внутри общины существует рабство и кастовое деление. Пустующие земли используются как общие пастбища. Жены и дочери занимаются домашним ткачеством и прядением. Эти идиллические республики, которые заботятся лишь о том, чтобы ревностно охранять границы своего села от соседнего, все еще существуют в почти нетронутом виде в северозападных провинциях Индии, только недавно захваченных англичанами. Мне кажется, что трудно представить себе более солидную основу для азиатского деспотизма и застоя». Маркс сделал существенное дополнение: «Во всяком случае, во всей Азии „отсутствие собственности на землю“ как принцип впервые, по-видимому, было установлено мусульманами» [673] .
В тот же период Маркс представил на суд читателей их общие с Энгельсом идеи в виде серии статей для «Нью-Йорк дейли трибьюн»: «Климатические условия и своеобразие почвы, особенно в огромных пространствах пустыни, тянущейся от Сахары через Аравию, Персию, Индию и Татарию вплоть до наиболее возвышенных областей Азиатского плоскогорья, сделали систему искусственного орошения при помощи каналов и ирригационных сооружений основой восточного земледелия. Как в Египте и Индии, так и в Месопотамии, в Персии и в других странах наводнения используют для удобрения полей: высоким уровнем воды пользуются для того, чтобы наполнять питательные ирригационные каналы. Элементарная необходимость экономного и совместного использования воды, которая на Западе заставила частных предпринимателей соединяться в добровольные ассоциации, как во Фландрии и в Италии, на Востоке, – где цивилизация была на слишком низком уровне и где размеры территории слишком обширны, чтобы вызвать к жизни добровольные ассоциации, – повелительно требовала вмешательства централизующей власти правительства. Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были выполнять все азиатские правительства, а именно функция организации общественных работ» [674] . В продолжение Маркс делает акцент на том, что социальным базисом этого типа правления в Индии была «связь между сельскохозяйственным и ремесленным производством» в так называемой «системе сельских общин (village system), которая придавала каждому из этих маленьких союзов независимый характер и обрекала его на обособленное существование» [675] . Британское владычество уничтожило политическую надстройку имперского государства Моголов и теперь, посредством насильственного насаждения частной собственности на землю, разрушало ту социально-экономическую инфраструктуру, на которой то основывалось: «Даже системы заминдари и райятвари, как они ни гнусны, представляют собой две различные формы частной собственности на землю, то есть того, чего так жаждет азиатское общество» [676] . Размашисто, в высшей степени страстно и красноречиво Маркс обозревает исторические последствия завоеваний европейцами азиатских земель, которые тогда уже обнаруживались. «Однако как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств зрелище разрушения и распада на составные элементы этого бесчисленного множества трудолюбивых, патриархальных, мирных социальных организаций, как ни прискорбно видеть их брошенными в пучину бедствий, а каждого из их членов утратившим одновременно как свои древние формы цивилизации, так и свои исконные источники существования, – мы все же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы. Мы не должны забывать эгоизма варваров, которые, сосредоточив все свои интересы на ничтожном клочке земли, спокойно наблюдали, как рушились целые империи, как совершались невероятные жестокости, как истребляли население больших городов, – спокойно наблюдали все это, уделяя этому не больше внимания, чем явлениям природы, и сами становились беспомощной жертвой любого захватчика, соблаговолившего обратить на них свое внимание» [677] . Он добавлял: «Мы не должны забывать, что эти маленькие общины носили на себе клеймо кастовых различий и рабства, что они подчиняли человека внешним обстоятельствам, вместо того чтобы возвысить его до положения властелина этих обстоятельств, что они превратили саморазвивающееся общественное состояние в неизменный, предопределенный природой рок…» [678]
Идеи из частной переписки Маркса и его публицистических работ 1853 г. как по направленности, так и по своей тональности были очень близки основным сюжетам традиционных комментариев европейских авторов по поводу истории и общественного развития Азии. Преемственность, открыто признанная первоначальной апелляцией к Бернье, особенно ярко проявлялась в повторявшихся Марксом утверждениях о стагнации и неизменности мира Востока. «Истории индийского общества нет, по крайней мере, нам она неизвестна» [679] , – писал он. Несколькими годами позже он охарактеризовал Китай как «прозябающий вопреки духу времени» [680] . В то же время в его обмене идеями с Энгельсом можно выделить две следующие мысли, которые были частично намечены предшествующей традицией. Первой из них была идея о том, что общественные работы по орошению, необходимые в условиях засушливого климата, были базовым условием существования централизованных деспотических государств в Азии, имевших монополию на землю. Это был, фактически, синтез трех тем, которые до тех пор разрабатывались в относительной обособленности друг от друга: гидравлическое сельское хозяйство (Смит), географическая судьба (Монтескье) и собственность государства на сельскохозяйственные земли (Бернье). Второй тематический элемент включал утверждение о том, что базовыми социальными ячейками, на которые накладывался восточный деспотизм, были самодостаточные сельские общины, заключавшие в себе союз между местными ремеслами и земледелием. Эта концепция, как уже упоминалось, также развивалась в ранней традиции (Гегель). Маркс, черпавший факты из сообщений британской колониальной администрации в Индии, теперь отвел данной концепции новое и более важное значение в той генеральной схеме, которую он перенял. Гидравлическое государство «сверху» и автаркичная деревня «снизу» были соединены в общую формулу, в которой существовал концептуальный баланс между этими двумя элементами.
Однако четырьмя или пятью годами позже, когда Маркс писал черновой вариант работы «К критике политической экономии», именно понятие «самообеспечивающаяся сельская община» приобрело, без сомнения, доминирующее значение в качестве основы того, что он называл «азиатским способом производства». Теперь Маркс пришел к убеждению в том, что государственная собственность на землю на Востоке представляла собой завуалированную общинно-племенную собственность над ней. Она осуществлялась самообеспечивавшимися селами, которые были социально-экономической реальностью, стоявшей над «воображаемым единством» того права на земельную собственность, которое имел деспотический правитель: «…объединяющее единое начало, стоящее над всеми этими мелкими общинами, выступает как высший собственник или единственный собственник, в силу чего действительные общины выступают лишь как наследственные владельцы. <… > Объединяющее единое начало, реализованное в деспоте как отце этого множества общин, предоставляет надел этому отдельному человеку через посредство той общины, к которой он принадлежит. Прибавочный продукт <…> принадлежит, поэтому, само собой разумеется, этому высшему единому началу. Поэтому в условиях восточного деспотизма и кажущегося нам юридического отсутствия собственности фактически в качестве его основы существует эта племенная или общинная собственность, порожденная по большей части сочетанием промышленности и сельского хозяйства в рамках мелкой общины, благодаря чему такая община становится вполне способной существовать самостоятельно и содержит в себе самой все условия воспроизводства и расширенного производства» [681] . Это тематическое нововведение сопровождалось значительным расширением сферы применения Марксовой концепции данного способа производства, который больше настолько прямо не связывался с Азией. Потому Маркс продолжал: «Общинная собственность такого рода, поскольку она здесь действительно реализуется в труде, может проявляться либо таким образом, что мелкие общины влачат жалкое существование независимо друг около друга, а в самой общине отдельный человек трудится со своей семьей независимо от других на отведенном для него наделе, либо таким образом, что единое начало может распространяться на общность в самом процессе труда, могущую выработаться в целую систему, как в Мексике, особенно Перу, у древних кельтов, у некоторых племен Индии. Кроме того, общность внутри племенного строя может проявляться еще и в том, что объединяющее единое начало представлено одним главой важнейшей в племени семьи или же объединяющим единым началом является связь отцов семейств между собой. Соответственно этому форма этого общества будет тогда или более деспотической, или более демократической. Общие для всех условия действительного присвоения посредством труда, ирригационные каналы, играющие очень важную роль у азиатских народов, средства сообщения и т. п., представляются в этом случае делом рук более высокого единого начала – деспотического правительства, витающего над мелкими общинами» [682] . Маркс, видимо, полагал, что такого рода деспотические правительства налагают на подвластное им население нерегулярную повинность в виде эксплуатации неквалифицированной рабочей силы, что он называл «поголовным рабством Востока [683] (которое, как он отметил, не следует путать с тем рабством классической античности, которое имело место в Средиземноморье). В этих условиях города в Азии были случайными или ненужными: «Города в собственном смысле слова образуются здесь наряду с этими селами только там, где место особенно благоприятно для внешней торговли, или там, где глава государства и его сатрапы, выменивая свой доход (прибавочный) продукт на труд, расходуют этот доход как рабочий фонд. <…> История Азии – это своего рода нерасчлененное единство города и деревни (подлинно крупные города могут рассматриваться здесь просто как государевы станы, как нарост на экономическом строе в собственном смысле)» [684] . В данном случае отголосок идей Бернье, источника рассуждений Маркса о Востоке в 1853 г., снова становится очевидно слышимым.
Принципиально важным и новым элементом в работах Маркса 1857–1858 гг. о том феномене, который годом позже он в первый и единственный раз назвал «азиатским способом производства» [685] , была идея о том, что в Азии и других местах существует племенная или общинная собственность на землю, которая осуществляется самодостаточными селениями официально под покровом государственной собственности на землю. Однако в своих завершенных и опубликованных произведениях Маркс никогда больше в явной форме не подтверждал эту новую концепцию. Напротив, в «Капитале» он в основном вернулся нате прежние позиции, которые он занимал в переписке с Энгельсом. С одной стороны, он снова и даже в большей степени, чем когда-либо ранее, сделал упор на значимости особой структуры индийских сельских общин, которые, как он утверждал, являлись прототипичными для Азии в целом. Этот феномен он описывал следующим образом: «Первобытные мелкие индийские общины, сохранившиеся частью и до сих пор, покоятся на общинном владении землей, на непосредственном соединении земледелия с ремеслом и на упрочившемся разделении труда. <…> В различных частях Индии встречаются различные формы общин. В общинах наиболее простого типа обработка земли производится совместно и продукт делится между членами общины, тогда как прядением, ткачеством и т. д. занимается каждая семья самостоятельно как домашним побочным промыслом. Наряду с этой массой, занятой однородным трудом, мы находим: „главу“ общины, соединяющего в одном лице судью, полицейского и сборщика податей; бухгалтера, ведущего учет в земледелии и кадастр; третьего чиновника, который преследует преступников, охраняет иностранных путешественников и сопровождает их от деревни до деревни; пограничника, охраняющего границы общины от посягательства соседних общин; надсмотрщика за водоемами, который распределяет из общественных водоемов воду, необходимую для орошения полей; брамина, выполняющего функции религиозного культа; школьного учителя, на песке обучающего детей общины читать и писать; календарного брамина, который в качестве астролога указывает время посева, жатвы и вообще благоприятное и неблагоприятное время для различных земледельческих работ; кузнеца и плотника, которые изготовляют и чинят все земледельческие орудия; горшечника, изготовляющего посуду для всей деревни; цирюльника; прачечника, стирающего одежду; серебряных дел мастера и, в отдельных случаях, поэта, который в одних общинах замещает серебряных дел мастера, а в других – школьного учителя. Эта дюжина лиц содержится на счет всей общины. Если население возрастает, на невозделанной земле основывается новая община по образцу старой» [686] . Следует заметить, что данный пассаж вплоть до порядка перечисления деревенских занятий (судья – надсмотрщик за водоемами – брахман – астролог – кузнец – плотник – горшечник – цирюльник – прачечник – поэт) практически слово в слово совпадал с соответствующим местом из цитированной выше «Философии истории» Гегеля. Единственными изменениями в перечне «персонажей драмы» были удлинение списка и замена гегелевских «врача, танцовщиц и музыканта» на Марксовых более прозаичных «пограничника, серебряных дел мастера и школьного учителя» [687] .
Политические выводы, которые Маркс сделал из этой миниатюрной социальной диорамы, отнюдь не в меньшей степени напоминали те выводы, которые сделал Гегель двадцатью пятью годами ранее: бесформенное множество самодостаточных деревень, основанных на союзе между ремеслом и сельским хозяйством и совместной обработке земли, рассматривалось в качестве социального базиса «неподвижности» Азии. Поэтому неизменные сельские общины были изолированы от судьбы стоящего над ними государства. «Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же самом месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских обществ, находящейся в столь резком контрасте с постоянным разрушением и новообразованием азиатских государств и быстрой сменой их династий. Структура основных экономических элементов этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере политики» [688] . С другой стороны, утверждая, что эти деревни характеризовались общим владением землей и ее общей обработкой, Маркс больше не утверждал, что это являлось воплощением общинной или племенной собственности на землю. Напротив, он теперь вернулся к простому и недвусмысленному подтверждению своей первоначальной позиции, согласно которой азиатские общества типично определяются государственной собственностью на землю. «Если не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты. При таких обстоятельствах отношение зависимости может иметь политически и экономически не более суровую форму, чем та, которая характеризует положение всех подданных по отношению к этому государству. Государство здесь – верховный собственник земли. Суверенитет здесь – земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой частной земельной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение и пользование землей» [689] . Таким образом, зрелый Маркс периода «Капитала» остался в основном верным тому классическому европейскому образу Азии, который он унаследовал от длинного ряда своих предшественников.
Осталось рассмотреть поздние, неформальные заявления Маркса и Энгельса, касающиеся вопроса «восточного деспотизма» в целом. Для начала можно сказать, что практически все эти заявления, сделанные в период после «Капитала» – в основном в переписке, – опять содержат характерный лейтмотив работы «К критике политической экономии». Общинная собственность на землю самообеспечивавшихся деревень неоднократно связывается с централизованным азиатским деспотизмом, причем первая объявляется социально-экономическим базисом для второго. По этой причине Маркс в черновиках своего письма к Засулич в 1881 г., определяя русскую общину мир при царизме как тип, при котором «собственность на землю общая, но каждый крестьянин <…> обрабатывает свое поле своими собственными силами», утверждал, что «изолированность сельских общин, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот локализованный микрокосм не повсюду встречается как имманентная характерная черта последнего из первобытных типов, но повсюду, где он встречается, он всегда воздвигает над общинами централизованный деспотизм» [690] . Энгельс, со своей стороны, дважды поднимал эту тему. В 1875 г., задолго до переписки Маркса с Засулич, писал в посвященной России статье: «Подобная полная изоляция отдельных общин друг от друга, создающая по всей стране, правда, одинаковые, но никоим образом не общие интересы, составляет естественную основу для восточного деспотизма; от Индии до России, везде, где преобладала эта общественная форма, она всегда порождала его, всегда находила в нем свое дополнение» [691] . В 1882 г. в неопубликованной рукописи о франкской эпохе в западноевропейской истории он снова отметил, что «форма этой государственной власти опять-таки обусловлена той формой, которую имеют к этому времени общины. Там, где она возникает, – как у арийских азиатских народов и у русских, – в период, когда община обрабатывает землю еще сообща или, по крайней мере, передает только во временное пользование отдельным семьям, где, таким образом, еще не образовалась частная собственность на землю, – там государственная власть появляется в форме деспотизма» [692] . Наконец, в своей главной опубликованной работе того времени Энгельс вновь подтвердил оба положения, которые изначально являлись самыми главными отличительными чертами его общих с Марксом идей. С одной стороны, спустя два десятилетия он повторил идею о важности гидротехнических работ для формирования деспотических государств в Азии. «Сколько ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, каждая из них знала очень хорошо, что она, прежде всего, – совокупный предприниматель в деле орошения речных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни было земледелие» [693] . В то же время он снова заявил о том, что в основе азиатского деспотизма лежит существование типичных сельских общин с коллективной собственностью на землю. Замечая, что «на всем Востоке <…> земельным собственником является община или государство» [694] , он продолжал утверждать, что старейшая форма этих общин – а именно тех, которым он приписывал общую собственность на землю, – была основой деспотизма. «Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от Индии до России» [695] .
Этим категоричным утверждением можно завершить наш обзор взглядов основателей исторического материализма на историю и общественный строй Азии. Попытаемся их резюмировать. Очевидно, что негативное отношение Маркса к распространению концепции феодального способа производства за пределы Европы дополнялось разделяемым им и Энгельсом позитивным убеждением в существовании специфического «азиатского способа производства», характерного для Востока и отделявшего его от Запада в историческом и социологическом планах. Признаком этого способа производства, отличавшим его от феодализма, является отсутствие частной собственности на землю: для Маркса это было главным «ключом» ко всей структуре азиатского способа производства. Энгельс связывал отсутствие личной земельной собственности с засушливым климатом, делавшим необходимым крупномасштабные ирригационные работы и, следовательно, контроль государства над производительными силами. Маркс на какое-то время увлекся гипотезой о том, что такие отношения собственности были привнесены на Восток исламскими завоевателями; но затем он принял тезис Энгельса, согласно которому географическим базисом отсутствия частной собственности на землю, которое отличало «азиатский способ производства», было, вероятно, гидравлическое сельское хозяйство. Однако позже Маркс пришел к зафиксированному в работе «К критике политической экономии» убеждению, согласно которому государственная собственность на землю на Востоке скрывала общинно-племенную собственность над ней, осуществлявшуюся самообеспечивающимися деревнями. В «Капитале» он отказался от этой идеи, вновь сделав акцент на традиционной европейской аксиоме о государственной монополии на землю в Азию и при этом сохранив убежденность в важности замкнутых в себе сельских общин как базы восточного общества. Однако через два десятилетия после выхода в свет «Капитала» как Маркс, так и Энгельс вернулись к идее о том, что социальным базисом восточного деспотизма являлась самодостаточная сельская община с общей собственностью на землю. Из-за отмеченных выше колебаний из их работ нельзя вывести полностью последовательное и систематическое объяснение «азиатского способа производства». Но, делая на это скидку, следует отметить, что описание Марксом того, что он считал архетипичной азиатской социальной формацией, содержало следующие основные элементы: отсутствие частной собственности на землю; наличие крупномасштабных ирригационных систем в сельском хозяйстве; существование автаркичных сельских общин, в которых наличие ремесел сочеталось с земледелием и общинной собственностью на землю; стагнация пассивных рантье или бюрократических городов и господство деспотической государственной машины, распоряжающейся основной частью прибавочного продукта и функционирующей не только как центральный репрессивный аппарат правящего класса, но и как главный инструмент осуществления им экономической эксплуатации. Между самовоспроизводящейся деревней «снизу» и гипертрофированным государством «сверху» промежуточных сил нет. Влияние государства на мозаику деревень «под ним» является чисто внешним и второстепенным; его консолидация, так же как и разрушение, оставляет сельскую общину незатронутой. По этой причине политическая история Востока, в сущности, циклична: в ней нет динамических или кумулятивных элементов. И как результат – вечная инертность и неподвижность Азии с тех пор, как она достигла своего особенного уровня цивилизации.
III
Марксова идея «азиатского способа производства» в последние годы в значительной мере возродилась: многие авторы, осознавая тупиковость квазиуниверсального применения концепции феодализма, одобрили эту идею в качестве теоретического высвобождения от слишком жесткой и линейной схемы исторического развития. После пребывания в забвении в течение долгого периода концепцию «азиатского способа производства» ждала новая судьба [696] . С точки зрения целей данного комментария очевидно, что османское завоевание Балкан ставит перед любым марксистским исследованием даже европейской истории вопрос о том, пригодна ли эта концепция для изучения существовавшего на том же континенте бок о бок с феодализмом турецкого государства. Основная функция идеи Маркса достаточно очевидна: она, в сущности, была предназначена для того, чтобы объяснить несостоятельность крупных неевропейских цивилизаций его времени, которые, несмотря на высокий уровень своих культурных достижений, не смогли подобно Европе развиться по направлению к капитализму. Восточными деспотизмами, которые первоначально имел в виду Маркс, были такие существовавшие в недавнем по отношению к нему прошлом или современные ему азиатские империи, как Турция, Персия, Индия и Китай – то есть те империи, которые находились в центре исследования Джонса. Фактически большинство приводимых Марксом свидетельств были почерпнуты из реалий одной лишь индийской Империи Великих Моголов, уничтоженной веком ранее англичанами. Однако в несколько более поздних рассуждениях из работы «К критике политической экономии» Маркс перешел к расширительному применению понятия «азиатскость» по отношению к обществам самого различного типа, в действительности находившимся за пределами Азии: в особенности к индейским социальным формациям Мексики и Перу до испанского завоевания и даже к кельтам и другим племенным обществам. Причина такого концептуального смещения становится очевидной после знакомства с черновиками работы «К критике политической экономии». Маркс пришел к убеждению о том, что основа «азиатского» способа производства заключается не в частной собственности на землю, централизованных гидротехнических работах или в политическом деспотизме, а в «племенной или общинной собственности» на землю в самообеспечивавшихся общинах, в которых ремесло сочеталось с сельским хозяйством. В рамках исходной схемы главное направление его интереса сместилось от бюрократического государства «вверху» к автаркичным деревням «внизу». Поскольку последние были определены как «племенные» и им была приписана общинная, в большей или меньшей степени эгалитарная система производства и собственности, это открывало дорогу к неопределенному расширению сферы применения понятия азиатского способа производства на общества совершенно отличного типа от тех, которые, по-видимому, первоначально рассматривались Марксом и Энгельсом в их переписке, – на ни «восточные» по расположению, ни сравнительно «цивилизованные» по уровню развития. В «Капитале» Маркс размышлял о логике такой эволюции и отчасти вновь приблизился к своим исходным идеям.
Однако затем и Маркс, и Энгельс развивали темы, связанные с общинной или племенной собственностью на землю, которой владели самодостаточные деревни, как основой деспотических государств, делая это без серьезных уточнений.
Примечательно то, что современная дискуссия по поводу концепции азиатского способа производства и использования этого понятия в значительной мере сконцентрирована вокруг черновых набросков 1857–1858 гг. и их разрозненных продолжений 1875–1882 гг., что способствует радикализации центробежных тенденций в этой концепции, которые начали проявляться в работе «К критике политической экономии». Данная идея фактически развивается в основном в двух различных направлениях. С одной стороны, она распространяется на далекое прошлое, охватывая древние общества Ближнего Востока и Средиземноморья, предшествовавшие классической эпохе: шумерскую Месопотамию, Египет фараонов, хеттскую Анатолию, микенскую Грецию или Италию этрусков. Такое использование понятия сохраняет его изначальный упор на могущественное централизованное государство и, часто, на гидравлическое сельское хозяйство и ставит в центре внимания «всеобщее рабство» и произвольное взимание повинности неквалифицированным трудом, которую производила с примитивных сельских общин стоявшая над ними высшая бюрократическая власть [697] . В то же время сфера применения понятия «азиатский способ производства» распространялась и в другом направлении. Она также расширялась, чтобы охватить первые государственные организации племенных или полуплеменных социальных образований, уровень цивилизации которых был значительно ниже уровня доклассической древности: полинезийские острова, африканских вождей, американские индейские поселения. Такое использование термина обычно приводит к отбрасыванию какого-либо упора на крупномасштабные ирригационные работы или на деспотическое государство: оно концентрируется главным образом на пережитках родовых отношений, общинной сельскохозяйственной собственности и сплоченных самодостаточных деревнях. Это означает, что весь данный способ производства является «переходным» между бесклассовым и классовым обществом, сохраняя многие доклассовые черты [698] . Результатом данных двух тенденций стала чрезмерная инфляция масштабов применения идеи азиатского способа производства, которые в хронологическом плане разрослись до периода начала становления цивилизации и в географическом плане – до предела распространения племенной организации. Образовавшееся в итоге супраисторическое смешение противоречит всем научным принципам классификации. Вездесущая «азиатскость» не представляет собой какого-либо улучшения по сравнению с универсальным «феодализмом»: фактически первый термин является даже менее строгим по сравнению со вторым. Какое серьезное историческое единство существует между Китаем эпохи империи Мин и мегалитической Ирландией, Египтом времен фараонов и Гавайями? Совершенно очевидно, что такого рода социальные образования невообразимо далеки друг от друга. Меланезийские или африканские племенные сообщества с их примитивными техниками производства, незначительными населением и прибавочным продуктом, а также неграмотностью отличаются от солидных и утонченных высокоразвитых культур древнего Ближнего Востока как земля и небо. В свою очередь, те представляют собой, очевидно, иной уровень исторического развития по сравнению с цивилизациями Востока начала Нового времени, будучи отделены от них произошедшими за тысячелетие грандиозными революциями в технологиях, демографии, военном деле, религии и культуре. Смешивать столь явно несопоставимые исторические модели и эпохи в одном названии [699] означает прийти к тому же reductio ad absurdum, которое получается в результате неопределенного расширения сферы охвата понятия «феодализм»: если столь большое количество различных социально-экономических систем, представляющих настолько контрастные уровни цивилизации, сводится к одному способу производства, то все фундаментальные исторические рубежи и изменения должны проистекать из другого источника, что не имеет никакого отношения к марксистской концепции способов производства. Инфляция идей, так же как и денег, ведет лишь к их девальвации.
Однако основание для дальнейшего распространения понятия «азиатскость» можно найти у самого Маркса. Таковым является постепенное смещение последним акцента с деспотического восточного государства на самодостаточную сельскую общину, что делает возможным обнаружение того же самого способа производства за пределами Азии, которой он первоначально был озабочен. Поскольку центр тяжести Марксова анализа был перенесен с «идеального» единства государства на «реальные» устои общинно-племенной собственности в эгалитарных деревнях «внизу», незаметно становится естественным приравнять племенные социальные образования или древние государства с относительно примитивной сельской экономикой к той же категории современных цивилизаций, с которой начали Маркс и Энгельс: как уже упоминалось раньше, первым их приравнял сам Маркс. Последующая теоретическая и историографическая путаница безошибочно указывает на то, что вся идея «самодостаточной деревни» и ее «общинной собственности» была основной эмпирической ошибкой в Марксовой конструкции. Центральными элементами «самодостаточной деревни» в этой концепции были: союз домашних ремесел и сельского хозяйства, отсутствие товарного обмена с внешним миром, вследствие этого изоляция и отчужденность от государственных дел, общая собственность на землю и в некоторых случаях – также ее общая обработка. Маркс основывал свою убежденность в регенерации этих сельских общин и их уравнительных систем собственности практически полностью на своем исследовании Индии, где английские администраторы сообщали о существовании данных феноменов после завоевания полуострова Великобританией. На самом деле, однако, не существует исторических свидетельств того, что общинная собственность когда-либо существовала в Индии Великих Моголов или после этого периода [700] . Английские отчеты, на которые полагался Маркс, были продуктом ошибок и неправильных интерпретаций колониальных деятелей. Точно так же легендой была и общая обработка земли жителями деревень: в начале эпохи Нового времени она всегда осуществлялась индивидуально [701] . Индийские деревни были далеко не эгалитарными; более того, в них всегда существовало резкое разделение на касты и любое совместное владение земельной собственностью ограничивалось высшими кастами, которые эксплуатировали представителей низших каст как арендаторов, обрабатывавших эти участки [702] . В своих первых комментариях относительно индийской деревни, сделанных в 1853 г., Маркс мимоходом заметил, что «в ней существуют рабство и кастовая система» и что на нее оказывают пагубное влияние «кастовые различия и рабство». Однако он, по-видимому, никогда не придавал большого значения этим «пагубным влияниям», которые он в тех же самых параграфах описывал как «безобидные социальные организмы» [703] . Впоследствии он практически полностью игнорировал всю огромную структуру индуистской кастовой системы – центрального социального механизма классовой стратификации в традиционной Индии. Его дальнейшие рассуждения о «самодостаточных сельских общинах» были лишены каких-либо отсылок к этой системе.
Хотя Маркс полагал, что в такого рода деревнях, как в Индии, так и в России, существовало наследственное политическое лидерство «патриархального» типа, общее направление его анализа (ясно обозначенное в его переписке с Засулич в 1880-е гг., в которой он поддержал идею прямого перехода русской общины к социализму) состояло в том, что основой самодостаточных сельских общин был примитивный экономический эгалитаризм. Эта иллюзия была тем более странной, что Гегель, которому Маркс в других случаях столь близко следовал в своих оценках Индии, в гораздо большей степени осознавал жестокую вездесущность вытекающих из кастовой системы неравенства и эксплуатации, чем сам Маркс: в «Философии истории» наглядный раздел посвящается этому предмету, о котором не упоминается в работах «К критике политической экономии» и «Капитал» [704] . Фактически кастовая система сделала индийские деревни – как во времена Маркса, так и до него – одним из самых крайних доводов в пользу отрицания существования «безобидной» сельской общины или социального равенства где бы то ни было в мире. Более того, деревня в Индии никогда в действительности не была «отделена» от стоящего над ней государства или «изолирована» от контроля с его стороны. Монополия империи на землю в Индии Великих Моголов подкреплялась фискальной системой, взимавшей у крестьянства в пользу государства тяжелые налоги. Последние собирались в основном деньгами или частью урожая товарных культур, которая затем перепродавалась государством, что, таким образом, ограничивало «экономическую автаркию» даже самых бедных сельских общин. Более того, в административном плане индийские деревни всегда подчинялись государству, которое назначало сельских глав [705] . Потому, будучи далеко не «безразличным» к могольскому правлению над собой, индийское крестьянство с течением времени поднимало крупные восстания против угнетателей и значительно ускоряло падение их власти.
Самодостаточность, равенство и изолированность как атрибуты индийской деревни также во всех случаях можно считать мифами: как кастовая система внутри них, так и государство над ними препятствовали всему этому [706] . Об эмпирической ошибочности представлений Маркса об индийской деревне можно, в самом деле, догадаться ввиду того теоретического противоречия, которое было заложено в само понятие «азиатский способ производства». Наличие могущественного и централизованного государства, в соответствии с самыми элементарными установками исторического материализма, предполагает развитую классовую стратификацию, в то время как преобладание общественной собственности в деревне подразумевает фактически доклассовую или бесклассовую социальную структуру. Как эти два положения могут сочетаться на деле? Аналогичным образом, первоначальные утверждения Маркса и Энгельса о важности ирригационных работ под руководством деспотического государства совершенно несовместимы с делавшимся ими позже упором на автономность и самодостаточность сельских общин: первое определенно подразумевает прямое вмешательство централизованного государства в местный производительный цикл деревень, что является самым крайним антитезисом утверждения об их экономической изолированности и независимости [707] . Сочетание сильного, деспотического государства с эгалитарными сельскими общинами поэтому практически невозможно: в политическом, социальном и экономических планах они, по сути, взаимоисключают друг друга. Где бы ни появлялось могущественное централизованное государство, там существует развитая социальная дифференциация и наличествует сложный клубок отношений эксплуатации и неравенства, достигающих самых низовых производственных ячеек. Тезисы об «общинной» или «племенной» собственности и «самодостаточных деревнях», которые открыли дорогу к дальнейшей инфляции понятия «азиатский способ производства», не выдерживают критики. Устранение этих тезисов освобождает рассмотрение данной темы от некорректной проблематики племенных или древних социальных образований. В связи с этим мы возвращаемся к первоначальному предмету внимания Маркса: великим империям Азии начала Нового времени. Эти восточные деспотии, характеризовавшиеся отсутствием частной собственности на землю, представляли собой точку отсчета в дискуссии между Марксом и Энгельсом по проблемам истории Азии. Если «сельские общины» при критическом рассмотрении в рамках современной историографии исчезают, какой вердикт можно вынести относительно «гидравлического государства»?
Необходимо помнить, что двумя главными чертами восточного государства, изначально отмеченными Марксом и Энгельсом, являются отсутствие частной собственности на землю и наличие крупномасштабных общественных гидротехнических работ. Одно предполагает другое: монополию правителя на сельскохозяйственные земли порождает строительство государством крупномасштабных оросительных систем. Взаимосвязь между этими двумя феноменами является основой относительно неподвижного характера истории Азии как общего фундамента всех восточных империй, которые доминировали на протяжении этой истории. Следует, однако, ответить на вопрос: подтверждают ли эту гипотезу имеющиеся в настоящее время эмпирические свидетельства? Ответ отрицательный. Напротив, можно сказать, что два упомянутых феномена, выделенных Марксом и Энгельсом в качестве лейтмотивов истории Азии, парадоксальным образом представляются не столько сочетавшимися, сколько альтернативными принципами развития. Проще говоря, исторические свидетельства показывают, что из великих восточных империй эпохи начала Нового времени, которыми первоначально интересовались классики марксизма, те, для которых было характерно отсутствие частной собственности на землю (Турция, Персия и Индия), никогда не имели значительных общественных ирригационных работ; тогда как для тех из них, где существовали разветвленные ирригационные системы (т. е. Китай), напротив, было характерно наличие частной собственности на землю [708] . Таким образом, данные два явления из комбинации, постулированной Марксом и Энгельсом, скорее расходятся, чем сочетаются. Более того, Россия, которую они неоднократно относили к Востоку в качестве примера «азиатского деспотизма», никогда не знала ни разветвленных ирригационных систем, ни отсутствия частной собственности [709] . То сходство, которое Маркс и Энгельс ощущали между всеми государствами, воспринимавшимися ими как азиатские, было обманчивым: в значительной степени оно являлось продуктом неизбежного недостатка у них информации в то время, когда историческое исследование Востока в Европе еще только начиналось. В самом деле, нет ничего более удивительного, чем та степень, в которой они унаследовали фактически целиком традиционный европейский дискурс по поводу Азии и воспроизвели его с небольшими изменениями. Как уже упоминалось выше, двумя главными нововведениями Маркса и Энгельса (каждое из них было уже вкратце предвосхищено предыдущими авторами) были идеи о самодостаточных сельских общинах и гидравлическом государстве; обе они, как научно установлено, не являются обоснованными. В некоторых отношениях можно даже сказать, что идеи Маркса и Энгельса представляют собой шаг назад по сравнению с идеями их предшественников в европейской традиции концептуального осмысления Азии. Джонс в большей степени осознавал наличие политических различий в государствах Востока, Гегель более явственно ощущал роль каст в Индии, Монтескье проявлял более сильный интерес к религиозным и правовым системам в Азии. Никто из этих авторов столь небрежно, как Маркс, не отождествлял Россию с Востоком, и, напротив, все они обнаружили более серьезное знание Китая.
Высказывания Маркса о Китае предоставляют нам последнюю иллюстрацию ограниченности понимания им истории Азии. Не фигурируя в основной дискуссии между Марксом и Энгельсом относительно азиатского способа производства, которая вращалась главным образом вокруг Индии и исламского мира, Китай при этом не рассматривался как нечто отдельное в выработанных ими идеях [710] . И Маркс, и Энгельс часто упоминали Китай в рамках той же точки зрения, с которой они давали общую характеристику Востока. Такие упоминания были, пожалуй, особенно неподходящими. «Вечная небесная империя» была «архиреакционной и архиконсервативной твердыней», которая являлась «прямой противоположностью Европе», замкнутой в «варварской герметичной изоляции от цивилизованного мира». «Разлагающаяся полуцивилизация древнейшего в мире государства» ввергла свое население в «вековое оцепенение»; «прозябая вопреки духу времени», она являлась «представителем одряхлевшего мира», умудряющимся «обманывать самое себя насчет иллюзии своего „небесного совершенства“» [711] . В важной статье, написанной в 1862 г., Маркс снова применил к Китайской империи свои стандартные формулировки «восточного деспотизма» и «азиатского способа производства». Высказываясь по поводу восстания тайпинов, он отметил, что Китай – эта «живая окаменелость», – теперь сотрясаем революцией, и добавил, что «само по себе это явление не было чем-то исключительным, ибо в восточных государствах мы постоянно наблюдаем неподвижность социальной базы при неустанной смене лиц и племен, захватывающих в свои руки политическую надстройку» [712] . Интеллектуальное значение этой концепции, очевидно, проявилось в суждениях Маркса о самой тайпинской революции – крупнейшем восстании эксплуатируемых и угнетенных масс в мире в XIX в. Парадоксально, что Маркс обнаружил сильнейшую враждебность по отношению к восставшим тайпинам, которых он даже описывал следующим образом: «Все их назначение сводится как будто к тому, чтобы застойному маразму противопоставить разрушение в уродливо отвратительных формах, разрушение без какого-либо зародыша созидательной работы» [713] . Набранным из «местных оборванцев, бродяг и негодяев», им давался «carte blanche на учинение каких угодно насилий над женщинами и девушками». «В результате своей десятилетней трескучей и никчемной деятельности» тайпины «все разрушили и ничего не создали» [714] Такой лексикон, некритически заимствованный из английских консульских отчетов, лучше, чем что бы то ни было еще, показывает ту бездну непонимания, которая отделяла Маркса от реалий китайского общества. Фактически ни Маркс, ни Энгельс, как представляется, не были способны внести серьезный вклад в изучение или осмысление китайской истории; их основные интересы лежали в другой области.
Современные попытки создать развитую теорию «азиатского способа производства» из унаследованных от Маркса и Энгельса разрозненных идей, как «общинно-племенной», так и «гидравлическо-деспотической» направленности, являются поэтому в принципе необоснованными. При этом недооцениваются как значимость той проблематики, которая признавалась Марксом и Энгельсом приоритетной, так и уязвимость тех ограниченных изменений, которые они в нее привносили. «Азиатский способ производства», даже очищенный от связанных с деревней мифов, по-прежнему страдает от присущей ему слабости, заключающейся в том, что он является, по сути, типичной остаточной категорией «неевропейского» пути развития [715] , смешивающей особенности различных социальных образований в единую размытую модель. К наиболее явным и выраженным искажениям, ставшим результатом такой процедуры, относится упорное приписывание азиатским обществам «неподвижности». На самом деле, отсутствие в великих восточных империях феодальной динамики западного типа не означает того, что они являются застойными или что их развитие циклично. Очень серьезными изменениями и движением по пути прогресса отмечена значительная часть истории Азии начала Нового времени, даже если это и не вело к капитализму. Такого рода относительная неосведомленность создавала иллюзию «неподвижности» и «одинаковости» империй Востока, хотя внимание историков в настоящее время привлекают различия между этими империями и динамика их развития. Не претендуя ни на что большее, чем самые краткие соображения, можно отметить, что контраст между исламскими и китайской социально-политическими системами в Азии, изначально привлекшими внимание Маркса и Энгельса, достаточно ярок. Эпохальная экспансия каждой из них была грандиозной, и прекратилась она лишь в относительно недавний период. В географическом плане исламская цивилизация достигла максимального могущества на рубеже XVII в., когда была присоединена Юго-Восточная Азия, обращено в ислам большинство населения Индонезии и Малайзии, и самое, главное, в одно и то же время существовали три могущественные исламские империи (османская Турция, сефевидский Иран и могольская Индия), каждая из которых обладала огромными экономическим потенциалом и военной силой. Период наибольшего расширения и процветания Китайской империи пришелся на XVIII в., когда династией Цин были завоеваны обширные территории Монголии, Синьцзяна и Тибета, а население в течение столетия удвоилось, превзойдя примерно в 5 раз численность населения трехсотлетней давности. Однако в рассмотренных случаях характерные социально-экономические структуры и государственные системы резко различались, находясь в различных географических контекстах. В последующих комментариях не будет предприниматься какой-либо попытки поставить центральный вопрос относительно определения тех основных способов производства и их совокупных комбинаций, которые составляли следовавшие друг за другом социальные образования в истории Китая или исламского мира: общий термин «цивилизация» в настоящем случае может быть использован как всего лишь стандартная формулировка, маскирующая эти конкретные нерешенные проблемы. Но даже если не поднимать их прямо, можно провести некоторые предварительные сопоставления, впоследствии подвергая их необходимой и неизбежной корректировке.
IV
Мусульманские империи начала Нового времени, из которых для Европы самой заметной была Османская империя, опирались на обширное институциональное и политическое наследие. Исходная арабская модель завоевания и обращения в ислам установила определенные рамки истории исламского мира, которым тот, по-видимому, всегда оставался относительно верен. Кочевники пустыни и городские купцы были теми двумя социальными группами, которые хотя поначалу и отвергли Мухаммеда, но в итоге обеспечили его успех в Хиджазе: в самом деле, его учение определенно обеспечило идеологическое и психологическое объединение общества, клановое и родовое единство которого все более подрывалось классовыми различиями на улицах и племенной враждой в песках. Это происходило потому, что товарный обмен разлагал традиционные обычаи и связи в зоне северных торговых путей полуострова [716] . У бедуинских племен Аравии, так же, как и у практически всех других кочевников-скотоводов, личная собственность на стада сочеталась с коллективным использованием земли [717] : частная собственность на землю была так же чужда для пустынь Северной Аравии, как и для Центральной Азии. С другой стороны, богатые купцы и банкиры Мекки и Медины владели землей как в пределах самих городов, так и в непосредственно прилегавшей к ним сельской округе [718] . Распределение завоеванных земель, произведенное после того, как сторонниками ислама были одержаны первые победы (в которых участвовали представители обеих групп), в целом отражало представления горожан: Мухаммед санкционировал раздел добычи, включая землю, между правоверными. Но после того как арабские армии победоносно прошли через Ближний Восток в течение великих исламских джихадов VII в. после смерти Мухаммеда, бедуинские традиции постепенно восстановились в новой форме. Для начала земельные владения правителей или врагов на захваченных территориях Византийской и Персидской империй, чьи собственники были побеждены силой оружия, были конфискованы и отведены исламской общине или умме, которая возглавлялась халифом, считавшимся наследником власти Пророка. Земли, принадлежавшие тем неверным, которые принимали предложенные им условия подчинения, оставались в их владении при условии выплаты дани; в то время как арабские солдаты получали в аренду участки ( катиа) в конфискованных землевладениях или могли сами купить землю за пределами Аравийского полуострова при условии выплаты религиозной десятины [719] .
Однако к середине VIII в. появился более или менее единообразный налог на землю или харадж, который все земледельцы должны были платить халифату вне зависимости от своей веры; при этом неверные дополнительно облагались подушным налогом ( джизьей ). В то же время категория «покоренных» земель была значительно расширена за счет земель, вошедших в состав халифата путем договоренностей с их владельцами [720] . Эти изменения были утверждены формальным принятием при Омаре II (717–720) доктрины, в соответствии с которой вся земля по праву завоевания являлась собственностью правителя, и за пользование этой землей подданные должны были платить налоги халифу. «В своей развитой форме эта концепция военной добычи (фай) означает то, что государство во всех покоренных странах оставляло за собой абсолютное право на всю землю» [721] . Таким образом, обширные территории, недавно присоединенные к мусульманскому миру, отныне рассматривались в качестве собственности халифата; и, несмотря на множество различных интерпретаций и частичные послабления, монополия государства на землю впоследствии стала традиционным юридически закрепленным правилом в рамках политических систем исламского мира: начиная с халифатов Омейядов и Аббасидов и кончая Османской империей и сефевидской Персией [722] . Первоначальное подозрение Маркса относительно того, что распространение данного принципа в Азии происходило в основном благодаря исламским завоеваниям, не является полностью необоснованным. Разумеется, его функционирование на практике было почти всегда слабым и несовершенным, особенно в ранние периоды истории исламского мира – в собственно «арабские» века после хиджры. Никакие политические механизмы того времени не были способны обеспечить полный и эффективный контроль государства над всей земельной собственностью. Более того, само юридическое существование такой монополии неизбежно блокировало появление точных и однозначных категорий собственности на землю в целом, ибо понятие «собственность» всегда подразумевает множественность и негативный смысл: полнота власти собственника исключает ее соответствующее разделение, и это придает собственности жесткие границы.
Характерное состояние исламского права по отношению к собственности на землю заключалось, как это часто отмечается, в органически присущих ему непостоянстве и хаотичности [723] . Такая запутанность осложнялась религиозным характером мусульманского законодательства. Священный закон или шариат, который развивался в течение II в. после хиджры и был формально утвержден в период халифата Аббасидов, включал «всеохватывающий свод религиозных обязанностей, совокупность повелений Аллаха, регулировавших жизнь каждого мусульманина во всех ее аспектах» [724] . Именно по этой причине в его толковании происходил раскол из-за теологических споров между соперничавшими школами. Более того, хотя требования шариата по идее являлись универсальными, на практике светская власть существовала как отдельная сфера: суверен обладал практически неограниченной властью «выполнения» священного закона в делах, касавшихся государства – в первую очередь в вопросах, связанных с войной, политикой, налогами и преступлениями [725] . Поэтому между теорией и практикой применения в классическом исламском праве существовала постоянная пропасть, которая являлась неизбежным выражением противоречия между светской формой правления и религиозной общиной в цивилизации, где отсутствовало какое-либо различение между Церковью и государством. В умме всегда действовало «два правосудия». Более того, разнообразие религиозно-правовых школ делало невозможным какую-либо систематическую кодификацию даже священного права. В итоге это предупреждало появление какого бы то ни было прозрачного и ясного правового порядка. Потому в сельскохозяйственной сфере шариат не привел к выработке практически никаких четких и специфических представлений о собственности, в то время как административная практика часто диктовала нормы, никак не связанные с исламским правом [726] . За рамками непосредственных притязаний правителя на землю, как правило, господствовала крайняя правовая неопределенность относительно нее. После первых арабских завоеваний на Ближнем Востоке право местных крестьян на владение земельными участками в основном не нарушалось; как земли, с которых собирался харадж, эти участки рассматривались как коллективная фай завоевателей и формально считались государственной собственностью. На практике существовало мало как ограничений, так и гарантий распоряжения этой землей обрабатывавшими ее крестьянами; в то время как в других районах, таких как Египет, строго соблюдались собственнические права государства [727] . Аналогичным образом катиа, распределявшиеся в эпоху Омейядов среди мусульманских воинов, теоретически являлись сдаваемыми в долгосрочную аренду участками, находившимися в государственной собственности; однако на практике они могли оказаться в личном пользовании как квазисобственность. С другой стороны, делимость наследства определяла параметры таких катиа и других форм индивидуальных владений и обычно предотвращала консолидацию крупных наследственных владений в рамках священного закона. Двойственность и импровизация характеризовали развитие земельной собственности в мусульманском мире.
Юридическое отсутствие стабильной частной собственности на землю нанесло ущерб сельскому хозяйству великих исламских империй. В самых крайних случаях это типичное явление принимало форму «бедуинизации» обширных земледельческих районов, которые из-за нашествий кочевников или военных грабежей превращались в безводную глушь или пустоши. Первые арабские завоевания на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целом, как представляется, поначалу сохраняли или восстанавливали существовавшие до них способы ведения сельского хозяйства, не добавляя чего-то заметно нового. Однако последовавшие волны нашествий кочевников, которыми было отмечено развитие исламского мира, часто оказывали продолжительное деструктивное влияние на земледелие. Двумя самыми крайними примерами могут служить опустошение Туниса племенем хилал и бедуинизация Анатолии тюрками [728] . В этом смысле долговременная историческая тенденция неуклонно вела вниз. Однако практически повсеместно была установлена система устойчивого разделения между сельскохозяйственным производством и городским потреблением прибавочного продукта при посредничестве фискальных структур государства. В сельской местности, как правило, не возникало прямых отношений между господином и крестьянином: скорее, государство временно уступало определенные права на эксплуатацию последних военным или гражданским служащим, проживавшим в городах, – главным образом в форме сбора поземельного налога (хараджа). В результате появились арабские икта – предшественники более поздних османского тимара и могольского джагира. Аббасидские икта были пожалованиями земли воинам, приобретшими форму фискальных прав, которые давались проживавшим в городах держателям земли для эксплуатации мелких крестьян-земледельцев [729] . Государства Буидов, Сельджуков и (в начальный период) Османов требовали от обладателей этих рент или их более поздних версий несения военной службы, однако естественной тенденцией развития такой системы всегда было ее вырождение в паразитический откуп налогов – ильтизам позднего османского периода. Даже под жестким контролем центральной власти государственная монополия на землю просачивалась через коммерциализированные эксплуататорские права держателей земли, что постоянно порождало общую обстановку правовой неопределенности и препятствовало возникновению какой-либо позитивной связи между получателем прибыли и земледельцем [730] . Широкомасштабные гидротехнические работы в лучшем случае заключались в поддержании или восстановлении систем, доставшихся в наследство от предыдущих режимов; в худшем случае эти системы разрушались или забрасывались. В первые столетия при правлении Омейядов и Аббасидов доставшиеся им в наследство каналы в Сирии и Египте в целом поддерживались, а подземная система канат в Персии в некоторой степени расширялась. Но уже к X в. сеть каналов Месопотамии пришла в упадок, так как уровень земли вырос, а пути, по которым шла вода, были заброшены [731] . Не было сооружено никакой новой ирригационной системы, по своим масштабам сопоставимой с йеменскими плотинами древности, разрушение которых стало подходящим прологом к зарождению ислама в Аравин [732] . Единственным важным изобретением в сфере земледельческого сельского хозяйства после арабского нашествия стало появление ветряной мельницы, родиной которой – область Систан в Персии. Однако это изобретение, как представляется, в конечном счете принесло большую пользу сельскому хозяйству Европы, чем исламского мира. Безразличие или неуважение к сельскому хозяйству препятствовало даже стабилизации крепостных отношений: труд никогда не рассматривался эксплуатирующим классом как нечто столь ценное, чтобы закрепощение крестьян стало важной задачей. В этих условиях производительность сельского хозяйства в странах исламского мира раз за разом оказывалось в застое или упадке, создавая сельскую панораму «запущенного убожества» [733] .
Два важных исключения в известной степени подтверждают это общее правило относительно развития деревни. С одной стороны, Нижний Ирак при правлении Аббасидов в VIII в. был местом сахарных, хлопковых и индиговых плантаций, организованных купцами из Басры как передовые коммерческие предприятия на осушенных землях в болотистой местности. Присущая такого рода плантационной экономике система рациональной эксплуатации, прообраз созданных европейском колониализмом в Новом Свете более поздних сахарных комплексов, была далека от общераспространенного типа неповоротливой фискальной системы; но она полностью опиралась на широкомасштабное использование труда африканских рабов, ввозившихся с Занзибара. Однако сельскохозяйственное рабство было всегда чуждо экономике исламского мира в целом: иракские плантации оставались отдельным эпизодом, который лишь подчеркивал отсутствие сопоставимого с этим уровня капитализации где-либо еще [734] , С другой стороны, примечательно то, что садоводство всегда занимало особые позиции в сельскохозяйственных системах исламского мира, достигнув высокого технического уровня, что стимулировало появление соответствующих специальных трудов о растениях и кустарниках в разных регионах от Андалусии до Персии [735] . Причина показательна: сады были сосредоточены в городах или пригородах и поэтому в качестве специфического исключения не являлись государственной собственностью, поскольку, в соответствии с традицией, собственность на городскую землю считалась дозволенной. Потому садоводство расценивалось как эквивалент «сектора роскоши» в промышленности. Оно находилось под покровительством богатых и могущественных людей, создавая престиж самим городам, в тени чьих минаретов и дворцов росли сады, за которыми заботливо ухаживали.
С первых веков арабских завоеваний в исламском мире всегда существовала обширная система городов, отделенных друг от друга запущенной и презираемой глубинкой. Будучи рожденной в транзитном городе Мекке и являясь преемником наследия древних метрополий Средиземноморья и Месопотамии, мусульманская цивилизация была чисто городской, поощрявшей товарное производство, коммерческие предприятия и денежный оборот в городах, которые изначально связывали ее воедино. На первых порах завоевавшие Ближний Восток арабские кочевники создавали свои лагеря в пустыне неподалеку от прежних городских центров; позже эти лагеря сами становились крупными городами, такими как Куфа, Басра, Фостат, Кайруан. С утверждением исламского владычества на территории от Атлантического океана до Персидского залива, в наиболее привилегированных регионах халифата наблюдался беспрецедентный по своим темпам и масштабам рост городов. Согласно одному из современных расчетов (результат которого, несомненно, преувеличен), население города Багдада выросло до двух миллионов человек менее чем за полвека (с 762 по 8оо г.) [736] . Такого рода концентрированная урбанизация, происходившая в некоторых городах, частично являлась отражением «золотого бума» в периоды Омейядов и Аббасидов, когда египетские и персидские сокровища были пущены в оборот, суданская продукция была направлена в мусульманский мир, горнодобывающие технологии существенно усовершенствовались в связи с использованием ртутных соединений. В то же время упомянутая урбанизация отчасти была результатом создания объединенной торговой зоны, охватывавшей разные континенты. Арабское купечество, которое оседлало гребень этой волны коммерческого успеха, было уважаемо и почитаемо как религиозными законами, так и общественным мнением: профессии купца и предпринимателя санкционировались Кораном, который никогда не противопоставлял прибыли благочестие [737] . Финансовые и предпринимательские схемы, использовавшиеся торговцами исламского мира, вскоре стали весьма передовыми; в самом деле, именно на Ближнем Востоке, по-видимому, впервые возник институт комменды, который позже играл столь важную роль в средневековой Европе [738] . Более того, состояния, наживавшиеся арабскими купцами, теперь уже более не были ограничены сухопутными караванными путями. Лишь немногие аспекты исламской экспансии были более удивительны, чем те быстрота и легкость, с которыми арабы пустыни освоили море. Впервые после эпохи эллинизма Средиземное море и Индийский океан были объединены в систему морских путей, а мусульманские корабли при халифате Аббасидов бороздили огромные просторы от Атлантического океана до китайских морей. Исламский мир, находившийся между Европой и Китаем, был хозяином торговли между Западом и Востоком. Накопленное торговлей богатство, соответственно, стимулировало производство, прежде всего, текстильных изделий, бумаги и фарфора. В то время как цены неуклонно росли и это подавляло экономику деревни, в городах процветали ремесла и гедонистическое потребление. Такая конфигурация не была чем-то специфичным для халифата Аббасидов. Более поздние исламские империи всегда отличал резкий рост размера крупнейших городов, таких как знаменитые Константинополь, Исфахан и Дели.
Однако экономической притягательности или богатству этих городов исламского мира не сопутствовало появление каких-либо систем муниципальной автономии или гражданского строя. У городов не было корпоративной политической идентичности; купцам недоставало коллективной социальной власти. Городские хартии были неизвестны, и городская жизнь повсеместно управлялась более или менее произвольными приказами принцев или эмиров. Отдельные купцы могли возвыситься до самых высоких политических должностей в правительственном аппарате [739] ; однако их личный успех всегда был непрочным перед лицом интриг или других опасностей, в то время как их богатства в любое время могли быть конфискованы правителями-военными. Гармония и порядок в городах позднего классического периода, которые достались арабским армиям, поначалу оказывали определенное влияние на последующие города, ставшие частью системы новой империи. Однако вскоре все это иссякло, оставив о себе воспоминание только в виде небольшого количества частных или дворцовых ансамблей, построенных для правителей [740] . Таким образом, исламские города обычно не имели четкой внутренней структуры, как в административном, так и в архитектурном отношениях. Они представляли собой смешение аморфной массы улиц и зданий без центров и пространств общественной активности; исключением были лишь мечети и базары, вокруг которых группировались местные торговцы [741] . Собственники не организовывали никакие торговые или профессиональные ассоциации, в крупных арабских городах тоже не было ремесленных гильдий, которые бы защищали или регулировали деятельность мелких ремесленников [742] . Группы соседей или религиозные братства составляли маленькие очаги коллективизма в общественной городской жизни, которая захватывала окраины или пригородные села. Ниже благочестивых ремесленников обычно находился преступный мир, включавший банды уголовников и шайки нищих из числа безработных или люмпен-пролетариата [743] . Единственной институциональной группой, которая работала на сохранение некоего единства в городах, был улемат, в котором неразрывно сочетались религиозные и светские роли. Его красноречивое религиозное рвение до некоторой степени связывало в единое целое население под властью правителя и его гвардии [744] . Однако именно последние полностью определяли судьбу городов, которые развивались без планировки и уставов и росли беспорядочно.
Что касается исламских государств, то они обычно имели кочевое происхождение: все политические системы Омейядов, Хамданидов, сельджуков, Альморавидов, Альмохадов, осман, Сефевидов и моголов произошли из конфедеративных союзов кочевников пустыни. Даже халифат Аббасидов, в происхождении которого была, по-видимому, наиболее велика роль городских и оседлых элементов, на первых порах почерпнул основную часть своей военной силы из среды представителей племен, ставших поселенцами в Хорасане. Все эти исламские государства, включая саму Османскую империю, являлись по своей сущности военными и грабительскими: их основа и структура, возникшие в результате завоеваний, были военизированными. Собственно гражданская администрация как отдельная функциональная сфера никогда не занимала господствующего положения в правящем классе: функции канцелярской бюрократии, как правило, не выходили за рамки сбора налогов. Государственная машина представляла собой в основном консорциумом профессиональных солдат, организованных либо в жестко централизованные корпорации, либо в более расплывчатые формы; в каждом случае такая система обычно поддерживалась доходами, присваивавшимися ее участниками с государственных земель. Политическая мудрость типичного исламского государства кратко выражена в следующем ярком изречении из руководства по управлению государством: «Мир – это прежде всего зеленый сад, оградой которого является государство; государство – это правительство, которое возглавляется властелином; властелин – это пастырь, которому помогает армия; армия – это группа стражей, которые содержатся на деньги; деньги – это необходимые средства, которые даются подданными» [745] . Линейная логика этих силлогизмов имела любопытные структурные последствия. Именно сочетание военного хищничества и презрения к сельскохозяйственному производству дало толчок к развитию характерного феномена элиты рабов-гвардейцев, которые снова и снова добирались до вершин государственного аппарата. Османское девширме являлось лишь наиболее развитым и изощренным вариантом этой специфически исламской системы военного набора, примеры которой можно было найти по всему мусульманскому миру [746] . Тюркские военачальники-рабы из Центральной Азии основали государство Газневидов в Хорасане и господствовали в халифате Аббасидов в период его упадка в Ираке; полчища рабов-нубийцев окружали халифат Фатимидов, а черкесские и тюркские рабы из Причерноморья составляли основу Государства мамлюков в Египте; славянские и итальянские рабы командовали последними армиями халифата Омейядов в Испании и, когда он пал, создали свои собственные государства тайфа в Андалусии; грузинскими и армянскими рабами укомплектовывались отборные отряды гулямов в сефевидской Персии при шахе Аббасе [747] . Иноземный и рабский характер этих дворцовых формирований соответствовал странной структурной логике сменявших друг друга исламских политических систем. Воины-кочевники, которые, как правило, являлись их основателями, не могли придерживаться своего бедуинского образа жизни в течение долгого времени после завоевания: родовые общины и отгонное животноводство исчезали после оседания. С другой стороны, кочевники не проявляли желания становиться сельской знатью, живущей за счет доходов в наследственных вотчинах или канцелярской бюрократией гражданской администрации: традиционное презрение к сельскому хозяйству и грамоте препятствовало реализации любого из двух вариантов, в то время как беспокойная независимость повышала их сопротивляемость строгой военной иерархии. Это подталкивало победившие династии после установления своей власти создавать специальные гвардейские подразделения из рабов как ядро регулярных войск. Поскольку сельскохозяйственного рабства почти не существовало, военное рабство могло стать почетным. Различные исламские гвардейцы фактически представляли собой феномен, самый близкий к чисто военной элите, который был возможен в то время: лишенной какой-либо аграрной или скотоводческой роли, оторванной от какой бы то ни было клановой организации и, следовательно, теоретически способной быть, безусловно, верной правителю; их рабство было залогом их солдатской покорности. На практике они, разумеется, могли захватить высшую власть для самих себя. Их доминирование было признаком отсутствия в исламском мире территориальной знати.
Отмеченные выше социальные черты, конечно же, неравномерно проявлялись в разные периоды истории мусульманского мира и в различных его регионах; однако родовое сходство между большинством исламских государств представляется в данном случае достаточно очевидным (по крайней мере, в отличие от того положения, которое имело место в других крупных имперских цивилизациях Востока). Однако это не означает, что история исламского мира была всего лишь циклическим повторением. Напротив, ясно прослеживается четкая периодизация ее развития. Государство Омейядов, которое было основано на покоренных территориях Ближнего Востока в VII в., по сути, представляло собой союз арабских племен, которые и достигли первоначальных завоеваний; в этом союзе видные позиции заняла купеческая олигархия Мекки. Халифат со столицей в Дамаске являлся координационным центром для более или менее автономных бедуинских шейхов, командовавших своими собственными воинами, находясь в военных городах-лагерях, расположенных за пределами крупных городов Сирии, Египта и Ирака. Войска арабских пустынь имели монопольное право на получение пенсий из государственной казны, налоговых льгот и военных привилегий. Гражданская бюрократия долгое время оставалась в руках бывших византийских и персидских чиновников, которые выполняли административную работу для своих новых повелителей [748] . Обращенные в ислам неарабы (а также бедные, маргинализировавшиеся арабы) имели нижестоящий статус мавали, платя более тяжелые налоги и обслуживая племенные лагеря в качестве мелких ремесленников, слуг и пехотинцев. Таким образом, халифат Омейядов скорее установил «арабский политический суверенитет» [749] над Ближним Востоком, нежели создал там исламскую религиозную ойкумену. Однако со стабилизацией территории государства правящее арабское военное сословие все более и более становилось анахронизмом; его этническая замкнутость и массовая экономическая эксплуатация мусульман из покоренного населения империи возбудили серьезнейшее недовольство мавали, которые вскоре стали превосходить арабов по численности [750] . Одновременно разногласия между арабскими племенами северной и южной групп подрывали их сплоченность. Между тем поселенцев в отдаленных пограничных районах Персии возмущали те традиционные способы управления, с которыми им приходилось считаться. Именно эта оседлая группа населения, по-видимому, подняла восстание против государства, центральная часть которого находилась в Сирии, а столицей являлся Дамаск. Успех этого восстания в народных массах был обеспечен широко распространившимся среди мавали Персии и Ирака недовольством властями. Организованная тайная агитация против правления Омейядов, использовавшая религиозное рвение еретического шиизма, но прежде всего враждебность мавали по отношению к узкоарабскому характеру правившей в Дамаске династии, разожгла политическую революцию, которая привела к власти дом Аббасидов, распространившись на запад из своего очага в Хорасане по Персии и Ираку [751] .
Создание Аббасидского халифата означало конец власти арабской племенной аристократии: новый государственный аппарат, созданный в Багдаде, опирался на персидских администраторов и защищался хорасанскими гвардейцами. Формирование постоянных бюрократии и армии с их космополитическими порядками сделало новый халифат политической автократией с гораздо более централизованной властью по сравнению с его предшественником [752] . Отвергая свои еретические корни, в новом халифате проповедовали религиозную ортодоксию и провозглашали божественность власти. В период существования Аббасидского государства в исламском мире имел место наибольший расцвет торговли, промышленности и науки: в начале IX в., во время апогея его могущества, оно представляло собой богатейшую и самую высокоразвитую цивилизацию в мире [753] . В крупных городах купцы, банкиры, товаропроизводители, спекулянты и откупщики накапливали огромные суммы денег; городские ремесла становились все более разнообразными и многочисленными; в сельском хозяйстве появился коммерческий сектор; морские суда дальнего плавания пересекали океаны; астрономия, физика и математика были перенесены из греческой культуры в арабскую. Однако развитие Аббасидского государства относительно скоро достигло своих пределов. Несмотря на впечатляющее процветание торговли в VIII–IX вв., в сферу производства было внедрено слишком мало ценных инноваций, и использование результатов научных изысканий привело к незначительному технологическому прогрессу. Наиболее важным собственным изобретением был, вероятно, треугольный парус – усовершенствование в сфере морского сообщения, которое лишь облегчило торговлю. Местом происхождения хлопка, наиболее значительной новой товарной культуры того времени, был Туркестан; формула производства бумаги, главной новой отрасли эпохи, была заимствована у китайских военнопленных [754] .
Размах и лихорадочная активность купцов, опережавшая импульсы, исходящие из сферы собственно производства, привели к взрывоопасной социальной и политической напряженности в халифате. Коррумпированность и продажность администрации были взаимосвязаны с ростом фискальной эксплуатации крестьянства; повсеместная инфляция нанесла удар по мелким ремесленникам и лавочникам; в анклавных зонах плантаций концентрировались многочисленные банды доведенных до отчаяния рабов. В то время как внутренняя безопасность режима ухудшалась, профессиональные гвардейцы тюркского происхождения, пользуясь своей ролью военного оплота против растущей волны различного рода социальных протестов «снизу», все активнее захватывали власть в центре. В конце IX–X в. следовавшие одно за другим восстания и заговоры потрясали все здание империи. Рабы-зинджи восстали в Нижнем Ираке и в течение 15 лет успешно вели войну против регулярных армий, прежде чем восстание было подавлено. Движение карматов, отколовшейся шиитской секты, создало эгалитарную рабовладельческую республику в Бахрейне, а приверженцы исмаилизма, другого шиитского движения, устраивали заговоры и организовывались для свержения существовавшего порядка на всем Ближнем Востоке до тех пор, пока не захватили власть в Тунисе и не основали в Египте соперничавшую с Аббасидами империю – халифат Фатимидов [755] . К этому времени находившийся в руках Аббасидов Ирак пришел в безнадежный экономический и политический упадок. Весь центр тяжести исламского мира переместился в Египет к Фатимидам – победителям в социальных волнениях данного периода, основавшим город Каир.
В отличие от своих предшественников, правители халифата Фатимидов после установления своей власти отнюдь не отрицали свою религиозную инакость, а, напротив, агрессивно ее подчеркивали. Плантации рабов никогда не создавались вновь; в то же время мобильность крестьян в фатимидском Египте жестко контролировалась. Международная торговля в значительной мере возродилась, как с Индией, так и с Европой: процветание египетской торговли в XI и XII вв. снова продемонстрировало предприимчивость арабского купечества и традиционное мастерство арабских ремесленников. Однако перемещение экономического и политического главенства в мусульманском мире с берегов Тигра к берегам Нила также означало и выдвижение на первый план новой силы, которая повлияла на весь дальнейший путь развития зоны распространения ислама. Превосходство фатимидского Египта с географической точкой зрения являлось функцией его относительной близости к Центральному Средиземноморью и к средневековой Европе. «Влияние европейской торговли на местный рынок было огромным» [756] . Династия установила связи с итальянскими торговцами уже в самом начале своего расцвета в X в., когда ее центром являлся Тунис, торговое процветание которого обеспечило основу для последующего завоевания Египта. Становление западного феодализма с этого времени было постоянным историческим фактором на фланге исламского мира. Поначалу морское транспортное сообщение с итальянскими городами ускорило экономический рост Каира; с течением времени военное вторжение франкских рыцарей в Левант нарушило стратегическое равновесие арабской цивилизации на Ближнем Востоке. Преимущества торговли вскоре обернулись несчастьями крестовых походов. Ключевой водораздел в истории исламского мира теперь был близок.
Уже в середине XI в. туркменские кочевники захватили Персию и Ирак, взяли Багдад, в то время как арабские бедуины из Хиджаза опустошили Северную Африку, разграбив Кайруан. Эти сельджукские и хилалийские нашествия обнаружили слабость и уязвимость обширных оседлых территорий мусульманского мира. Новый устойчивый порядок не был сформирован ни в Магрибе, ни на Ближнем Востоке. Сельджукские армии взяли Иерусалим и Дамаск, однако не смогли закрепиться в Сирии либо Палестине. Неожиданное наступление христиан в Леванте в XII в. ускорило общий стратегический кризис на Ближнем Востоке. Впервые границы сферы распространения ислама сжались, так как мелкие государства сирийско-палестинского побережья потерпели тяжелые поражения. Сам Египет, средоточие богатства арабского мира и центр власти в регионе, теперь подвергся прямому нападению. Тем временем династия Фатимидов достигла последней стадии разложения и упадка; к 1153 г. крестоносцы достигли Синайского полуострова. Но среди беспорядка и неразберихи того времени в мусульманском мире начал возникать политический порядок нового типа и вместе с ним наметилась новая фаза развития исламского общества. В условиях противостояния экспансии с Запада то, что произошло впоследствии, было чем-то вроде реакции исламского мира, которая приняла форму крайней милитаризации господствовавших государственных структур Ближнего Востока и соответствующей декоммерциализации экономики региона под властью новых этнических правителей. В 1154 г. Нур ад-Дин Занги, внук тюркского солдата-раба и хозяин Халеппо и Мосула, захватил Дамаск. Отныне христианско-мусульманское соперничество за контроль над Каиром должно было решить судьбу всего Леванта. Борьбу за дельту Нила выиграл посланный Нур ад-Дином на юг офицер-курд Саладин, который завоевал Египет, положил конец правлению династии Фатимидов и основал в своих владениях режим Айюбидов, устроенный по образцу и подобию тюркских государств. Получив вскоре контроль над Сирией, а также Месопотамией, Саладин отразил крестоносцев, вернул Иерусалим и большую часть побережья Палестины. В результате контратак европейцев с моря анклавы крестоносцев были восстановлены; в начале XIII в. военно-морские экспедиции дважды высаживались в самом Египте, захватывая Дамиетту в 1219 и 1249 гг. Однако эти усилия оказались напрасными. Христианскому присутствию в материковой части Леванта положил конец Бейбарс – военачальник, который создал чисто тюркский султанат мамлюков [757] , чья власть распространилась от Египта до Сирии. Тем временем на севере сельджуки завоевали большую часть Анатолии, а довершило их дело в Малой Азии возвышение Османской династии. В Ираке и Персии нашествия монголов и Тимуридов привели к созданию татарских и тюркских государств. В условиях общего кризиса европейского феодализма в период позднего Средневековья новая волна исламской экспансии пришла в движение, которое не останавливалось в течение четырех следующих веков. Наиболее яркими проявлениями такого движения были, конечно же, захват Константинополя и наступление осман в Европе. Однако для развития социальных формаций исламского мира в целом имели наибольшее значение общие структурные характеристики новых тюркских государств начала Нового времени. Прототипами этих режимов в позднесредневековый период служили султанат Великих сельджуков в Ираке и, прежде всего, султанат мамлюков в Египте; примерами законченной формы таких режимов являлись три великих империи: Османская Турция, сефевидская Персия и могольская Индия.
В каждом из этих случаев тюркизация исламского политического порядка решающим образом выдвинула на первый план военный компонент исходных арабских систем за счет их торгового компонента. Тюркские кочевники Центральной Азии, которые, начиная с XI в., волна за волной наводняли мусульманский мир, по своему социальному и экономическому происхождению были, очевидно, очень похожи на арабских бедуинов из Юго-Западной Азии, изначально захвативших Ближний Восток. Историческая конгруэнтность этих двух зон кочевания, расположенных выше и ниже «плодородного полумесяца», обеспечивала основу для преемственности мусульманской цивилизации после тюркских завоеваний: собственное прошлое пришельцев дало им возможность в значительной степени приспособиться к ее культурному укладу. Тем не менее между кочевниками Центральной Азии и Аравии существовали некоторые важные различия, которые наложили свой отпечаток на характер всего дальнейшего развития мусульманского общества. В то время как на родине ислама – в Аравии – сочетались пустыни и города, купцы и кочевники, а сама она являлась важным наследником остатков городских институтов античности, в степях Центральной Азии, из которых вышли кочевые завоеватели Турции, Персии и Индии, по сравнению с предыдущим случаем было мало городов и слабо развивалась торговая активность. Плодородная Трансоксиана, расположенная между Каспийским морем и Памиром, всегда была густонаселена и относительно урбанизирована: лежавшие на ключевых сухопутных торговых путях в Китай Бухара и Самарканд были чрезвычайно ценными партнерами Мекки и Медины. Однако этот богатый территориальный пояс, который арабы называли Мавераннахром, исторически был иранским. За его пределами лежала огромная зона степей, пустынь, гор и лесов, простиравшаяся до Монголии и Сибири, в которой практически совсем не было городских поселений. Она становилась родиной все новых и новых племен алтайских кочевников – сельджуков, Данишменидов, гузов, монголов, ойратов, узбеков, казахов, киргизов; появляясь друг за другом, они препятствовали сколько-нибудь продолжительному закреплению оседлости в тюркском мире Центральной Азии. Аравийский полуостров относительно мал по величине и окружен морями; с самого начала вокруг него проходили морские торговые пути и, кроме того, он имел очень ограниченный демографический потенциал. Фактически после первоначальных завоеваний VII–VIII вв. собственно Аравия полностью потеряла свою политическую значимость, пребывая в таком состоянии на протяжении остальной части истории мусульманского мира вплоть до настоящего времени. Центральная Азия, напротив, представляла собой огромную изолированную от морей территорию, демографический потенциал которой постоянно пополнялся воинственными кочевниками [758] . Начиная с позднего Средневековья баланс между кочевыми и городскими традициями внутри классической исламской цивилизации поэтому неизбежно изменялся из-за тюркского преобладания в ней. Военная организация укрепилась, а торговое предпринимательство ослабло. Этот сдвиг не был абсолютным или единообразным, но его общая направленность была очевидной. Медленные изменения характера метаболических процессов внутри исламского мира после крестовых походов были, конечно же, результатом действия не только внутренних сил. Не меньшее определяющее значение имела и внешняя среда, включая такие ее факторы, как война и торговля.
Тюркские кочевники Центральной Азии поначалу установили свое господство на Ближнем Востоке благодаря искусству своих конных лучников; это искусство было незнакомо пользовавшимся дротиками арабским бедуинам. Однако военный потенциал новых империй начала Нового времени основывался на регулярных войсках, имевших огнестрельное оружие и поддерживавшихся артиллерией; таким войскам был необходим порох. Тяжелые пушки для осады были впервые применены египетскими мамлюками в конце XIV в. Тем не менее консервативные кавалерийские традиции мамлюкской армии воспрепятствовали использованию полевой артиллерии или мушкетеров. Османское завоевание Египта стало возможным как раз благодаря превосходству турецких аркебузиров над мамлюкской кавалерией. К середине XVI в. благодаря европейцам османы научились лучше использовать пушки и мушкеты. Сефевиды вскоре убедились в важности огнестрельного оружия после первого поражения, нанесенного им турецкой артиллерией при Чалдыране, и укомплектовали свои войска современным оружием. Могольские войска имели на вооружение артиллерию и пушки с самого начала завоевания Бабура [759] . Распространение пороха на Ближнем Востоке, безусловно, было одной из наиболее явных причин значительно больших стабильности и устойчивости власти в новых тюркских государствах по сравнению с арабскими режимами более раннего периода истории исламского мира. Военная машина Османской империи могла успешно противостоять европейским противникам еще долго после того, как она утратила стратегическую инициативу на Балканах и в Причерноморье. Сефевидские и могольские армии наконец остановили дальнейшие тюркские нашествия на Персию и Индию, как только разбили узбекских кочевников, завоевавших Мавераннахр в XVI в.: отныне стратегический барьер защищал три великие империи исламского мира от волн кочевых племен из Центральной Азии [760] . Превосходство этих империй начала Нового времени определялось, однако, не только военной технологией: оно было также административным и политическим. Монгольское искусство государственного управления в период Чингисхана и его преемников было уже в организационном плане более совершенным, чем в арабском мире; и завоевание монголами значительной части Ближнего Востока, возможно, надолго оставило после себя определенные традиции правления. Как бы то ни было, османские, сефевидские и могольские войска на пике своего успеха являлись воплощением образцовой дисциплины и подготовленности, несвойственным их предшественникам. Их административно-хозяйственная основа оказалась более устойчивой и цельной. Традиционная арабская икта была в значительной степени паразитическим фискальным механизмом, который скорее разрушал, чем укреплял, военное призвание живших в городах держателей, получавших доходы с этих участков. Новые формы – османский тимар и могольский джагир – налагали на обладателей гораздо более жесткие обязательства военной службы и укрепляли пирамиду военного командования, которое теперь было организовано в более формальную иерархию. Кроме того, в этих тюркских политических системах государственная монополия на землю укреплялась с особой силой, ибо кочевые традиции теперь более, чем когда бы то ни было, преобладали в сфере регулирования и распределения собственности на землю. Знаменитый великий визирь первого сельджукского правителя в Багдаде Низам аль-Мульк провозгласил султана единственным обладателем всей земли; объем и неукоснительность прав Османского государства на землю общеизвестны. Сефевидские шахи возобновили юридические претензии на то, чтобы стать монопольными собственниками земли; могольские императоры создали безжалостную эксплуататорскую фискальную систему, обосновывавшуюся их притязаниями на всю обрабатываемую землю [761] . Сулейман, Аббас и Акбар располагали в своих владениях силами большими, чем те, которыми обладал любой халиф.
С другой стороны, торговая энергия арабской эпохи, которая циркулировала по всей «посреднической» цивилизации периода классического ислама, теперь постепенно угасала. Эта тенденция была, конечно же, связана с расцветом европейской торговли. Изгнание крестоносцев из Леванта не сопровождалось возвращением мусульманами господства над торговлей в Восточном Средиземноморье. Напротив, уже в XII в. христианский флот завоевал доминирующее положение в египетских водах [762] . Курдско-тюркское контрнаступление на суше, олицетворенное Саладином и Бейбарсом, было достигнуто ценой преднамеренного отказа от морского могущества: для того чтобы воспрепятствовать вновь и вновь повторяющимся десантам европейцев, айюбидские и мамлюкские правители были вынуждены разрушить порты и опустошить палестинское побережье [763] . Османское государство, напротив, создало в XVI в. внушительный военно-морской флот, используя моряков-греков. Этот флот восстановил контроль мусульман над Восточным Средиземноморьем и осуществлял грабительские рейды в Западном Средиземноморье с использованием североафриканских баз корсаров. Однако османское морское могущество оказалось сравнительно недолговечным и искусственным: оно было всегда функционально ограничено военной мощью и пиратством, так и не создав торгового флота и будучи до конца слишком сильно зависимым от мастерства и человеческих ресурсов покоренных народов. Более того, как раз в то время, когда мамлюкский Египет был включен в Османскую империю, что впервые дало ей прямой доступ в Красное море, маршруты португальских путешествий в период Великих географических открытий обошли с тыла весь мусульманский мир. В начале XVI в. португальцы установили свое стратегическое господство по всему периметру Индийского океана, имея базы в Восточной Африке, Персидском
Заливе, в Индии, на Малайских островах и в Индонезии. С этого времени на международных морских торговых путях постоянно господствовали западные страны, лишив государства исламского мира морской торговли, которая приносила столь большие доходы их предшественникам. Такое развитие событий было тем более серьезным, учитывая, что процветание средневековых экономик государств арабского мира обеспечивалось скорее за счет обмена и торговли, чем производства; несоответствие между этими двумя сферами было одной из главных причин кризиса этих государств в позднее Средневековье и успеха экономической экспансии европейцев за их счет [764] . В то же время традиционное для арабского мира уважение к купечеству теперь более не разделялось тюркскими преемниками: презрение к торговле было общей отличительной чертой правящего класса в новых государствах, торговая политика которых в лучшем случае заключалась в терпимости, а в худшем – в дискриминации сословия городских торговцев [765] . Деловой климат Константинополя, Исфахана и Дели в начале Нового времени не напоминал средневековый Багдад или Каир. Показательно, что торговые и банкирские функции были монополизированы этническими «чужаками»: греками, евреями, армянами или индусами. С другой стороны, в османском государстве впервые появились гильдии ремесленников, сознательно использовавшиеся властями как инструмент контроля над городским населением [766] . Эти гильдии обычно становились средоточием теологического и технологического обскурантизма. В правовых системах поздних империй исламского мира также вновь усилилась роль клерикального элемента, по прошествии времени увеличилась и административная роль религиозных доктрин по сравнению с прежними неформальными светскими обычаями [767] . Особенно сильным был официальный фанатизм Сефевидов.
Военная жестокость, религиозный фанатизм и вялость торговли стали обычными нормами режимов в Турции, Персии и Индии. Последнее поколение крупных исламских государств перед тем, как европейская колониальная экспансия подавила мусульманский мир, уже подверглось двойному давлению со стороны Запада. Будучи превзойденными в экономическом плане начиная с периода Великих географических открытий, в течение еще одного века они преобладали от Балкан до Бенгалии над соперниками в военной сфере и в сфере обращения в свою веру. В территориальном плане границы зоны распространения ислама на Востоке продолжали расширяться. Однако за новыми обращениями в ислам в Южной и Восточной Азии скрывался демографический застой или упадок на территориях распространения мусульманской классической цивилизации в целом. Относительно периода после 1600 г., самые оптимистичные подсчеты указывают на небольшое, но заметное уменьшение в течение последующих двух столетий численности почти 46-миллионного населения обширной зоны, простиравшейся от Марокко до Афганистана и от Сахары до Туркестана [768] . Прозелитизм в Индии и Индонезии, расширивший рамки мусульманского мира, не мог компенсировать отсутствие демографической энергии внутри него. Контраст с Европой или Китаем того периода в данном случае был несомненным. Исламские империи XVII в. даже в периоды их военных успехов находились среди других территорий Старого Света в невыгодном положении по динамике своего демографического развития.
Империя Моголов, которой Маркс уделял особое внимание, является иллюстрацией большинства элементов позднего мусульманского государства, хотя, будучи наиболее удаленной от Европы и имевшей наименее исламизированное население, в некоторых отношениях она представляла собой более пеструю и оживленную панораму, чем ее турецкий и персидский аналоги. Сходство ее административного устройства с устройством Османской империи уже в XVII в. поражало Бернье. Сельскохозяйственные земли находились под монопольной экономической и политической властью императора. Местным крестьянам было гарантировано постоянное и передающееся по наследству распоряжение их земельными участками (так же как и в турецкой системе земельных отношений), однако они не имели права свободно распоряжаться ими; земледельцы, которые не обрабатывали свои наделы, подлежали изгнанию [769] . Общинные владения в деревнях отсутствовали, последние были разделены социальными кастами и резким экономическим неравенством [770] . Государство всегда присваивало до половины всего произведенного крестьянами продукта в качестве собственных «доходов с земли» [771] . Рента часто взымалась в денежной или натуральной форме с последующей перепродажей государством полученной части урожая. Это вело к широкому распространению выращивания коммерческих культур (пшеницы, хлопка, сахарного тростника, индиго или табака). Земля была относительно богатой, и производительность сельского хозяйства была не ниже, чем в Индии XX в. Оросительные каналы большого значения не имели, увлажнение земли обеспечивалось дождями и водой из местных колодцев или водоемов [772] . Однако жесткое фискальное давление на сельское население со стороны могольского государства вело кувеличению ростовщических процентов, задолженности в деревнях и увеличению случаев бегства крестьян из них.
Верхушкой самого государственного аппарата был элитный слой мансабдаров, включавший примерно 8 тысяч военачальников, объединенных в сложную ранговую систему. Им была отдана основная часть земельных доходов в форме джагиров (наделов), передававшихся во временное пользование императором. В 1647 г. 445 человек получили более 6о % всего дохода государства, причем лишь 73 из них – примерно 37,6 % дохода [773] . В этническом плане группа мансабдаров состояла преимущественно (как и следовало ожидать) из «чужаков» по происхождению – в основном персов, туранцев и афганцев. Примерно 70 % мансабдаров при Акбаре были иностранцами по рождению или их сыновьями, остальные являлись местными «индийскими мусульманами» или индуистами-раджпутами. К 1700 г. пропорция родившихся в Индии мусульман выросла, вероятно, до 30 % [774] . Степень наследственной преемственности в распоряжении джагирами была ограниченной: назначение в мансабдары осуществлялось по личному усмотрению императора. Данная группа не имела горизонтальной социальной сплоченности как орден аристократов, хотя представителям ее верхушки жаловались «дворянские» титулы: ее различные компоненты всегда сознавали свое разное этническое происхождение, что закономерно вело к распрям внутри нее. Эти элементы держались вместе только благодаря подчиненности властной вертикали. Мансабдары жили в городах и были обязаны содержать конное войско общей численностью 200 тысяч человек, от которого зависело военное могущество могольского государства: стоимость содержания этого войска поглощала около 2/5 их доходов от джагиров или получаемого ими из государственной казны жалованья. Средний срок держания джагира был менее трех лет. Он мог продлеваться в зависимости от желания императора, который постоянно перемещал держателей с целью не допустить их укоренения в том или ином регионе. С помощью такой системы по глубинке были рассредоточены заминдары индийского происхождения и местные сельские властители, командовавшие пехотинцами и замками и имевшие право забирать значительно меньшую долю производившегося крестьянами прибавочного продукта – примерно 10 % от всех доходов с земли, получаемых государством в Северной Индии [775] .
Сельскохозяйственная рента потреблялась в основном в городах, где огромные расходы короны и мансабдаров шли на содержание дворцов, садов, слуг и на предметы роскоши. Уровень урбанизации населения был относительно высок, составляя примерно 10 %. Крупные города Индии в начале XVII в., по оценкам некоторых путешественников, превосходили по величине европейские города. Городскую рабочую силу составляли преимущественно мусульмане, при этом кустарные ремесла были многочисленными и высокоразвитыми. Такие ремесла дали толчок к развитию в некоторых районах надомной системы под контролем купеческого капитала. Однако крупными мануфактурами, использовавшими наемных рабочих, были лишь королевские или принадлежавшие «знати» кархана, которые производили продукцию исключительно для потребления хозяйствами их владельцев [776] . Состояния купцов всегда могли быть произвольно конфискованы правителями; зачатки промышленного капитала не развивались. Могольское государство, являвшееся главным инструментом экономической эксплуатации правящего класса, существовало в течение 150 лет, до тех пор пока оно не стало жертвой крестьянских восстаний, индуистского сепаратизма и британского вторжения.
V
Таковы, в самом сжатом виде, некоторые центральные элементы исламской социальной истории. Характер развития китайской цивилизации, с другой стороны, представляет собой набор черт, противоположных исламскому развитию. Здесь нет места для обсуждения долгой и сложной эволюции Древнего Китая от бронзового века эпохи Шан (1400 г. до н. э.) до конца эры Чжоу (V в. до н. э.), а также для изучения вопросов, касающихся образования единого государства Цинь в III в. до н. э. Достаточно кратко суммировать материальное наследие образованной цивилизации, насчитывавшей два тысячелетия до момента появления имперской государственной системы, ставшей отличительной чертой китайской политической истории в целом.
Колыбелью китайской цивилизации был северо-запад Китая, экономика которого была основана на сухом зерновом земледелии. Основными злаками Древнего Китая были просо, пшеница, и ячмень. В рамках своего интенсивного оседлого сельского хозяйства, однако, китайская цивилизация рано создала значительные гидротехнические системы для выращивания зерна на лессовых нагорьях и на равнинах северо-запада Китая. Первые каналы для доставки речной воды с целью орошения полей были построены во времена существования государства Цинь в III столетии до и. э. [777] В нижнем бассейне реки Хуанхэ и далее к северо-востоку в эпоху Хань были возведены рвы, дамбы и водохранилища для предотвращения наводнений и регулирования объема воды для сельского хозяйства [778] ; были изобретены цепные насосы [779] , а на юге в I в. до н. э. впервые появились террасные рисовые поля [780] . Однако в тот период в сельском хозяйстве было более распространено выращивание проса и пшеницы. Обе династии, Цинь и Хань, соорудили внушительные транспортные каналы – возможно, первые в мире – для быстрой транспортировки зерновых налогов в свои закрома. На всем протяжении китайской истории государство придавало приоритетное значение транспортным водным путям, имевшим фискальные и военные (логистические) функции, а не тем системам, что использовались для сельскохозяйственных нужд, прежде всего для ирригации [781] . Однако даже помимо гидротехники уже на раннем этапе в сельском хозяйстве были внедрены важные технические достижения. В целом они намного опережали появление подобных изобретений в Европе. Вращающаяся мельница была изобретена приблизительно в то же время, что и в Западной Римской империи во II в. до и. э. Колесная телега была создана на тысячелетие раньше, чем в Европе, – в III в.; в это же время стали использоваться стремена. Эффективность от применения лошадей значительно повысилась с появлением современной упряжи в V столетии. Арочные мосты были построены к VII в. [782] Еще более поразительно, что техника железного литья впервые была использована в V–IV вв. до н. э., тогда как в Европе ее стали применять только в позднем Средневековье, а сталь стала производиться начиная со II в. до н. э. [783] Китайская металлургия, таким образом, значительно превосходила любой другой регион мира. В то же время в Древнем Китае были открыты три производства: шелк, производившийся там с древнейших времен; бумага, которая была изобретена в I–II столетиях; и фарфор, производство которого достигло совершенства к V столетию [784] . Эти великолепные технические изобретения создали материальную основу для первой великой династической империи, надежно объединившей Китай после междоусобицы и разделения 300–600 гг., – государства Тан, с которым обычно связывают начало собственно китайской имперской цивилизации.
Земельная система Таиской империи была во многом удивительно близка к азиатскому архетипу, каким его воображали поздние европейские мыслители, включая Маркса. Юридически государство было единственным собственником земли, в империи действовало правило: «Под небесами любой участок земли – земля императора» [785] . Обработка земли была основана на так называемом chun-t’ien — системе «равных наделов», унаследованной от государства СевернаяВэй. Эта система была с такой административной педантичностью проведена в жизнь, что это удивляло историков. Фиксированные наделы земли размером 13,3 акра официально предоставлялись государством крестьянской семье на время ее трудоспособности с обязательством выплачивать оброк, главным образом зерном и тканью и отрабатывать государственную барщину. Пятая часть предоставляемого надела использовалась для производства шелка или конопли и могла передаваться по наследству, в то время как остальная часть возвращалась государству после ухода на пенсию [786] . Главной целью системы было увеличение обработки сельскохозяйственных земель и предотвращение создания землевладельческой аристократией крупных частных поместий. Сами государственные чиновники получали в собственное распоряжение большие наделы государственных земель для обработки. Тщательная регистрация всех землевладений и работников была частью этой системы. Жесткий административный контроль, установленный над сельской местностью, дублировался и усиливался в городах, начиная со столицы империи Чанъань, с численностью жителей, превышавшим миллион. Китайские города раннего периода существования империи Тан были хорошо спланированы и охранялись имперской полицией. Обычно они имели геометрическую форму и были окружены рвами и валом, разделены на прямоугольные внутренние районы, тщательно изолированные друг от друга стенами с охраняемыми воротами, открытыми днем и закрывавшимися на ночь; чиновники находились на территории, огражденной от остального города двойной стеной [787] . Проникновение туда горожан без разрешения считалось проступком и строго наказывалось.
Государственный аппарат, установивший подобный режим бдительности в городах и деревнях, изначально контролировался военной аристократией, которая завоевала свои позиции в постоянных междоусобных войнах в предшествующий период и по своим традициям и мировоззрению все еще оставалась родовой знатью. Первое столетие эпохи Тан было временем значительных китайских военных завоеваний на северном и западном направлениях. Маньчжурия и Корея были подчинены; Монголия умиротворена; а китайское влияние распространилось глубоко в Центральную Азию, а также в регион Трансоксианы и Памира. Такое расширение во многом было заслугой кавалерии, созданной с помощью программы элитного коневодства и управляемой воинственной аристократией [788] . Обязанности по обеспечению безопасности вновь образованной империей возлагалась на пешее народное ополчение, которое наделялось обрабатываемой землей, но с конца VII столетия для охраны границ империи стали необходимы большие постоянные войска. Стратегический экспансионизм сопровождался культурным космополитизмом, впервые в китайской истории официальная идеология сформировалась под иностранным влиянием. Буддизм стал государственной религией. Одновременно более глубинные и продолжительные перемены понемногу изменяли облик государственного аппарата. Именно в эпоху Тан в имперском Китае зародилась характерная для него гражданская бюрократия. С середины VII столетия бюрократическая элита в правительстве впервые стала набираться на основе системы открытых экзаменов, хотя большинство постов все еще распределялись, исходя из наследственных привилегий или по рекомендации знатных семей. Появилось специальное правительственное агентство, состоявшее из отдельно подобранной группы гражданских чиновников, на которых возлагался контроль и проверка работы главных имперских бюрократических органов, с целью обеспечения точности выполнения их работы и проведения политической линии [789] . К середине периода Тан произошло политическое усиление гражданского бюрократического аппарата, созданного экзаменационной системой, престиж которого привлекал даже магнатов. Военная ветвь государственного аппарата, несмотря на то что позднее из нее выходили сменявшие друг друга генералы-узурпаторы, никогда снова не стала функционально правящей в Китайской империи. Кочевники-завоеватели (тюрки, монголы или маньчжуры) позднее вторгались на территорию Китая и устанавливали свою политическую власть, опираясь на собственную армию; однако эти армии оставались вне рамок повседневного административного управления страной, система которого пережила их всех. Образованная бюрократия, по контрасту, стала отличительной чертой китайского имперского государства.
Сельскохозяйственная система Таиской эпохи на практике довольно быстро разрушилась. Виной тому были крестьянские претензии на незаселенную и незарегистрированную землю, которые вкупе с усилиями богачей по захвату и обработке новых участков и саботажем чиновников, решительно настроенных на увеличение собственных владений, вскоре сломали уравнительную систему chunt’ien. В 756 г. произошло решающее восстание варварского генерала Ань Лушаня, как раз в то время, когда китайская внешняя сила была ослаблена победами арабов и уйгур в Туркестане. Династическая стабильность была на время разрушена; границы империи сужены из-за восстаний покоренных народов; происходило повсеместное ослабление внутренней стабильности и порядка. Сильный кризис середины VIII в. полностью разрушил систему регистрации земельных наделов и на практике положил конец системе chun-t’ien в сельской местности. В течение пяти лет после восстания под руководством Ань Лушаня число зарегистрированных землевладений снизилось на 8о% [790] . Теперь появились крупные частные поместья chang-yuan, ими владели помещики, бюрократы или офицеры. Эти крупные поместья были не просто объединенными латифундиями, а объединениями участков земли, которое возделывалось крестьянами – арендаторами, наемной рабочей силой либо в некоторых случаях рабами, под надзором управляющего фермой. Арендная плата арендатору обычно составляла половину всего того, что было произведено в этом поместье, – гораздо больший уровень эксплуатации, нежели извлекавшийся государством с наделов chun-t’ien [791] . Одновременно изменялась налоговая система, переходившая от фиксированного подушного оброка и отработок к налогам на имущество и землю, которые платились наличными и зерном. Косвенные налоги на ценное имущество становились все более прибыльными по мере расширения коммерческих сделок и денежных отношений [792] . Китай до Таиской эпохи имел в основном бартерную экономику, постоянно испытывая нехватку меди для чеканки монет и используя шелк как средство обмена. Подавление буддийских монастырей в середине IX в. освободило большое количество меди из их сокровищниц и облегчило денежное обращение. Само это решение было частью ксенофобской реакции, присущей концу эпохи Тан. Династический подъем после кризиса середины VIII столетия сопровождался новой враждебностью к иностранным религиозным организациям, которая положила конец доминированию буддизма в идеологической системе китайского государства. Светская консервативность конфуцианской мысли, поучительная и антифанатичная, сменила его в качестве основной официальной доктрины имперского строя. С этого времени Китайскую империю отличал сущностно светский характер легитимизации. Движущей силой этого культурного изменения были, в свою очередь, южные помещики-джентри, которые поставляли кадры для гражданской бюрократии; отступление империи из Центральной Азии и Маньчжурии – Кореи привело к общему ослаблению старой военной аристократии северо-запада, с ее большей восприимчивостью к иностранному влиянию, и к усилению позиций в государстве образованных чиновников [793] . В то же время население и богатство постепенно перемещались на юг в долину Янцзы. Интенсивное разведение риса впервые приобрело большое значение с развитием технологии пересадки растений, которая исключила необходимость оставлять земли под паром и поэтому значительно увеличила производительность.
Во времена следующей династии Сун (Х-ХШ вв.) весь сельский порядок принял новые формы. Последняя фаза правления династии Тан была отмечена дезинтеграцией центральной династической власти, постоянными региональными восстаниями, регулярными вторжениями варваров с севера и стала временем полного исчезновения традиционной военной аристократии северо-запада. Китайский правящий класс в империи Сун был новым по социальному составу, являясь наследием гражданского бюрократического аппарата предшествующей династии: теперь это был расширенный класс образованных джентри. Государственный аппарат был разделен на функциональные секторы: гражданский, финансовый и военный – с особым путем карьерного роста в каждом; провинциальная администрация также была реорганизована и усилена. Имперская бюрократия династии Сун в количественном отношении была гораздо больше, чем бюрократия эпохи Тан, удвоившись в размерах за первое столетие правления Сун. Регулярное обучение чиновничества было введено в X в., доступ к нему контролировался с помощью экзамена, а продвижение по службе – оценкой деловых качеств работника. Тренинг для ранговой системы стал гораздо более строгим, а средний возраст выпускников увеличился с от 25 до 35 лет. Прошедшие экзамен чиновники вскоре стали доминировать в каждом секторе государства за исключением армии. Формально военная карьера имела равный статус с гражданской, но на практике была гораздо менее почитаемой [794] . К XI в. большинство ответственных чиновников были выпускниками вышеуказанной системы. Они жили в городах и контролировали сельское имущество, которым, в свою очередь, управлял дворецкий и на котором работали зависимые арендаторы. Самые крупные из таких поместий стали концентрироваться в новых районах, Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян, здесь находились дома большей части высших должностных лиц государства [795] . Крестьяне, которые обрабатывали землю этих землевладельцев, несли трудовые повинности и платили оброк, в то время как их передвижение ограничивалось их арендными контрактами. Нет сомнений в решающем значении этой поместной системы, основанной на крепостном труде в сельском хозяйстве в эпоху династии Сун. С другой стороны, возможно, что 60 % и даже более деревенского населения теперь стали владельцами мелких участков за пределами поместья [796] . Именно они платили основную часть сельскохозяйственных налогов. Государственная собственность на всю землю номинально сохранялась в правовой теории периода Сун, но на практике она с того времени была «мертвой буквой» [797] . С этого времени частная сельскохозяйственная собственность, хотя и с некоторыми важными ограничениями, характеризовала китайское имперское общество сверху донизу. Ее социальное господство совпало с большими достижениями в китайском сельском хозяйстве. Миграция населения и сдвиг к производству риса в долине нижнего течения Янцзы сопровождались быстрым развитием третьего типа гидравлической системы – осушению болот и сельскохозяйственной обработке дна озер. Это был впечатляющий подъем ирригационных проектов, ежегодный средний охват которых во время эпохи Сун более чем утроился по сравнению с любой предшествующей династией [798] . Землевладельцы эпохи Сун инвестировали в крупномасштабную обработку земли сверх государственных проектов. Появление частной собственности на землю сопровождало освоение ирригационного рисоводства в китайской сельскохозяйственной экономике. И то и другое было новым явлением в период Сун. Основные ирригационные работы с этого времени носили локальный характер, нуждаясь лишь в небольшом вмешательстве государства [799] : большинство из них были результатом инициативы землевладельца или жителей деревни, когда гораздо более эффективный производственный цикл водного земледелия распространился в регионе Янцзы. Именно в это время появились более сложные приводимые в движение водой механизмы для молотьбы, водяные мельницы и насосы. Плуг, мотыга, лопата, серп распространялись и модернизировались. Ранний сорт риса чампа был завезен из Вьетнама; урожай пшеницы увеличился в разы [800] . Конопля, чай и сахар выращивались на продажу. Сельскохозяйственная производительность увеличивалась очень быстро, сопровождаясь увеличением плотности населения. Население Китая, которое постоянно, начиная со II в. до и. э., составляло 50 миллионов человек, удвоилось за период между серединой VIII и X–XIII столетиями, достигнув 100 миллионов человек [801] .
Тем временем быстрый прогресс происходил в горном деле и металлургии. В XI в. увеличилась добыча угля, привлекшая гораздо большие инвестиции капитала и рабочей силы, нежели традиционное топливо, добыча достигла огромного уровня. Спрос увеличился благодаря решительному прогрессу в черной металлургии, технологии которой были существенно усложнены (например, клапанные мехи были стандартным оборудованием). Литейные цеха оставались, вероятно, самыми крупными в мире вплоть до конца XIX в. В 1078 г. производство черных металлов во времена династии Северный Сун оценивалось примерно в 75 – 150 тысяч тонн. Увеличение в 12 раз произошло за 200 лет. Возможно, уровень производства железа в Китае в XI в. был приблизительно эквивалентен общему европейскому производству в начале XVIII в. [802] Именно этот быстрый рост черной металлургии сделал возможным расширение использования сельскохозяйственных инструментов и увеличение производства вооружения. Этот же период был временем новых выдающихся изобретений. Огнестрельное оружие впервые использовалось в войне, был изобретен наборный шрифт и печатный станок; магнитный компас стал инструментом для мореплавания; были сконструированы механические часы [803] . Три или четыре наиболее выдающихся инновации европейской эпохи Возрождения были известны в Китае намного раньше. Руль на ахтерштевне и гребное колесо усовершенствовали транспорт [804] . Быстро развивалось керамическое производство; фарфоровые изделия, возможно, впервые превзошли шелк в качестве экспортного товара империи. Увеличилась чеканка медных монет. В то же время частными банкирами и государством стали выпускаться бумажные деньги. Одновременный прогресс в сельском хозяйстве и в промышленности способствовал огромной волне урбанизации. К 1100 г. в Китае, вероятно, было целых 5 городов с численностью населением более миллиона [805] . Такие огромные агломерации были в большей степени результатом спонтанного экономического роста, чем сознательных решений бюрократии, и потому города имели более свободную планировку [806] . Комендантский час был отменен в столице Сунской империи Кайфын в XI в., старая система перегороженных районов в имперских городах прекратила существование, ей на смену пришла новая, более подвижная уличная система. Новые торговые сообщества в городах получали прибыль от сельского хозяйства, ориентированного на рынок, резкого подъема горной промышленности, роста металлургии, а также нововведений в банковском и кредитном деле. Производство медных денег выросло в 20 раз по сравнению с уровнем эпохи Тан. Выросла морская торговля на дальние расстояния, чему способствовал значительный прогресс в морском инженерном деле и создание имперского военного флота.
Резкие изменения во всей структуре китайской экономики в эпоху Сун стали особенно очевидны в результате покорения северного Китая чжурчженьскими кочевниками в середине XII в. Отрезанная от традиционного центрально-азиатского и монгольского тыла китайской цивилизации, империя Сун в Южном Китае вынуждена было обратиться от сухопутной к морской ориентации. Это было новым для Китая; и ввиду этого особый вес приобрела городская торговля. Впервые в истории Китая сельское хозяйство перестало быть главным источником государственных доходов. Поступления в казну от налогов на торговлю и монополий по объему был примерно равен объему земельных налогов уже в XI в.; в южном государстве Сун в конце XII–XII столетии доходы от торговли значительно превосходили поступления от сельского хозяйства [807] . Новый фискальный баланс отражал не только рост внутренней и внешней торговли, но и расширение производственной базы всей экономики, распространение горного дела и развитие ориентированного на рынок сельского хозяйства. Исламская империя халифата Аббасидов была богатейшей и влиятельнейшей цивилизацией в мире в VIII–IX вв.; китайская империя эпохи Сун была, без сомнения, самой богатой и наиболее передовой экономикой на земле в XI–XII столетиях, и ее процветание было более устойчивым, поскольку основывалось на диверсифицированном производстве в сельском хозяйстве и промышленности, а не на обменных сделках международной торговли. Динамичное экономическое развитие государства Сун сопровождалось интеллектуальным расцветом, который сочетал в себе почитание древнего китайского прошлого с новыми исследованиями в области математики, астрономии, медицины, картографии, археологии и других дисциплинах [808] . Образованные джентри, которые теперь управляли Китаем, характеризовались мандаринским презрением к физическому спорту и военным тренировкам, а также внимательным, вдумчивым отношением к эстетическому и интеллектуальному времяпрепровождению. Космические размышления совмещались с систематизированным неоконфуцианством в культуре эпохи Сун.
Монгольское завоевание Китая в XIII в. стало проверкой устойчивости всей социально-экономической системы, которая достигла зрелости. Большая часть Северного Китая была вначале отдана под скотоводство новыми кочевыми правителями, под властью которых сельское хозяйство пришло в упадок; последующие попытки юаньских императоров исправить ситуацию в сельском хозяйстве не имели успеха [809] . Промышленные инновации в основном прекратились; наиболее значимым техническим достижением монгольской эпохи, возможно, стала отливка пушечных стволов [810] . Налоги на сельских и городских жителей увеличились, была введена наследственная регистрация их занятий, для того чтобы закрепить классовую структуру общества. Арендная плата и процентная ставка оставались высокими, и крестьянская задолженность неуклонно росла. Хотя землевладельцы юга поддержали вторгнувшуюся монгольскую армию, династия Юань не демонстрировала особой веры в китайских мандаринов. Экзаменационная система была упразднена, центральная имперская власть усилена, провинциальная администрация реорганизована, сбор налогов отдан на откуп иностранным корпорациям уйгуров, на которых монгольские правители опирались в административных и деловых вопросах [811] . С другой стороны, политика династии Юань способствовала продвижению коммерческих предприятий и стимулировала торговлю. Интеграция Китая в обширную монгольскую империю привела к наплыву исламских продавцов из Центральной Азии и распространению международного мореплавания. Была введена национальная бумажная валюта. Был создан крупномасштабный прибрежный транспорт для доставки зерна на север, где была основана новая столица Пекин. Был возведен Большой канал, связывающий экономический и политический центры страны непрерывным внутренним водным путем. Но этническая дискриминация династии вскоре породила антагонизм большинства класса джентри, в то время как усиление денежных поборов, обесценивание денег и распространение системы крупного землевладения привели к крестьянскому вооруженному восстанию. Итогом стал общественный и национальный подъем, который положил конец монгольскому правлению в XIV в. и установил правление династии Мин.
В новом государстве, с некоторыми важными изменениями, была возвращена традиционная политическая структура правления образованных джентри. Экзаменационная система была быстро восстановлена; но теперь со встроенной в нее региональной системой квотирования, предназначенной для ограничения монополии Юга на занятие должностей, обеспечивая 40 % степеней кандидатам Севера. Крупные землевладельцы Янцзы переводились в новую столицу династии Мин – Нанкин, где их принудительное местонахождение облегчало правительственный контроль; в то время как имперский Секретариат, традиционный барьер на пути деспотичных желаний императора, был упразднен. Авторитарные черты государства были усилены во время правления династии Мин. Ее тайная полиция и система надзора была гораздо более жестокой и обширной, чем в эпоху Сун [812] . Придворная политика управлялась главным образом корпорацией евнухов (по определению не вписывавшейся в рамки конфуцианских норм отцовской власти и ответственности, передаваемой по наследству) и сопровождалась жестокой фракционной борьбой. Сплоченность образованной бюрократии была ослаблена отсутствием гарантий сохранения должностей и разделением обязанностей, в то время как возраст окончания учебы в ранговой системе постепенно отодвигался все дальше. Сначала была создана очень большая армия из з миллионов человек, значительная часть которой впоследствии была превращена в военных поселенцев. Главная фискальная инновация государства Мин заключалась в систематической организации общественных работ для сельского и городского населения, которое было организовано в рамках тщательно контролируемых сообществ.
В сельской местности ограничительные контракты, заключенные в эпоху династии Сун, потеряли свою силу [813] , в то время как наследственная профессиональная регистрация династии Юань была сохранена, хотя и в облегченном виде. С установлением гражданского мира и восстановлением владения на правах аренды, в сельском производстве вновь были зафиксированы успехи. Огромная программа сельскохозяйственного восстановления была официально запущена основателем династии Мин императором Чжу Юаньчжаном с целью упорядочивания жизни после разорения, нанесенного монгольским правлением и разрушениями, вызванными восстанием, покончившим с ним. Была организована обработка земли, расширены гидравлические работы, и по приказу императора было завершено беспрецедентное освоение лесных массивов [814] . Результаты оказались быстрыми и впечатляющими. В течение шести лет после свержения династии Юань объем зерновых пошлин, получаемых государственной казной, почти утроился. Импульс, который придала сельскохозяйственной экономике эта реконструкция «сверху», был дополнен быстрым сельскохозяйственным подъемом «снизу». В долинах и на равнинах постоянно расширялось и улучшалось ирригационное рисоводство, распространялись скороспелые сорта и двойной сбор урожая в районе Нижней Янцзы до Хэбэя, Хунаня и Фуцзяня; на юго-западе был заселен Юннань. Приграничные земли на юге засеивались пшеницей, ячменем и просом, привезенным с севера. Коммерческие растения, такие как индиго, сахар, табак, выращивались на более широких площадях. Численность населения Китая, очевидно сократившаяся до 65–80 миллионов при монгольском правлении, теперь снова быстро росла. К 1600 г. она составила примерно 120–200 миллионов человек [815] . В городах развивалось шелкоткачество, керамика и переработка сахара. Хлопковый текстиль впервые стал использоваться широкими массами населения, вытеснив традиционную одежду из пеньки. Создание крестьянами мануфактур сделало возможным появление крупных производственных центров для производства одежды: к концу эпохи Мин в в текстильном производстве региона Сунцзян работало приблизительно 200 тысяч ремесленников. Межрегиональная торговля способствовала интеграции страны, одновременно наблюдался явный сдвиг в сторону новой денежной системы. Бумажная валюта была отменена из-за последовательного обесценивания валюты во второй половине XV столетия. Увеличивающийся объем серебра импортировался из Америки (через Филиппины) и из Японии, став главным средством оборота до тех пор, пока фискальная система Китая не перешла также к использованию серебра.
Однако значительный подъем экономики в начале эпохи Мин не продолжился в следующем столетии правления династии. Первые проблемы в экономическом развитии проявились в сельском хозяйстве: начиная с 1520 г. цены на землю стали падать, так как уменьшилась прибыльность сельскохозяйственных инвестиций для класса джентри [816] . Рост населения, по-видимому, тоже замедлился. Маленькие города, с другой стороны, все еще коммерчески процветали за счет усовершенствования методов производства на некоторых старых мануфактурах и увеличения поставок золота. В то же время промышленная технология более фундаментального характера потеряла динамику развития. В эпоху династии Мин не было сделано ни одного значимого городского изобретения, в то время как прежние достижения (часы и шлюзы) были забыты или заброшены [817] . Текстильная индустрия перешла от использования в качестве сырья пеньки к хлопку, однако в этот момент она прекратила использовать механическую прялку, применявшуюся для производства пеньки с XIV в., что было серьезным регрессом. С организационной точки зрения, несмотря на то что производство пенькового текстиля в эпоху Сун уже привело к появлению надомной системы организации труда под купеческим контролем, сельские хлопковые мануфактуры обычно возвращались к простому кустарному производству [818] . Военно-морская экспансия достигла своего апогея в начале XV в., когда китайские джонки, грузоподъемность которых значительно превышала любое европейское судно того времени, пересекали океан, достигая Аравии и Африки. Но морские экспедиции были прекращены к середине столетия, а имперский флот полностью демонтирован в результате мощного реакционного поворота в среде джентри -бюрократии, который предзнаменовал переход чиновничества к регрессу и обскурантизму [819] . Ксенофобский и реставрационный климат культуры Мин, изначально сформированный под влиянием жестокой ненависти к монгольскому правлению, казалось, привел к психологическому и образовательному сдвигу в интеллектуальной сфере, которая сопровождалась упадком интереса к науке и технике. Политически имперское государство династии Мин вскоре воспроизвело более и менее знакомую кривую: дворцовая расточительность, административная коррупция и уклонения землевладельцев от налогов истощали казну, приводя к усилению давления на крестьянство, для которого барщина была заменена денежным налогом, который постепенной увеличивался по мере того, как режим попадал под давление внешних врагов. Японские пираты взяли под свой контроль моря, подведя черту под периодом китайского военно-морского могущества. Возобновились внезапные монгольские нападения на севере, они сопровождались огромными разрушениями; а японские экспедиционные атаки на Корею были отражены только благодаря огромным расходам на имперскую армию [820] .
Экономический и демографический рост страны, таким образом, постепенно остановился в XVI в., наряду с политическим упадком правительства и военных из-за их некомпетентности. К началу XVII столетия, когда произошло первое маньчжурское нашествие в Северо-Восточный Китай, внутренняя стабильность в государстве Мин была разрушена, голод опустошил деревню, а дезертирство подорвало армию. Восстания узурпаторов и крестьянские мятежи распространялись по равнине от Шэньси и Сычуаня до Цзянсу.
Таким образом, в эпоху правления последних императоров династии Мин внутренние условия подготовили Китай к маньчжурскому завоеванию: в результате долгого наступления в течение жизни двух поколений Тунгусские знамена утвердились на территории от Мукдена до Кантона. К 1681 г. весь китайский континент был захвачен. Новая династия Цин, пришедшая к власти, повторила практически такой же экономический цикл, что и ее предшественники, но в более широком масштабе. Политически правление династии представляло собой смешение традиций династий Юань и Мин. Этнический сепаратизм поддерживался маньчжурским правящим классом, который размещал свои знаменные полки по стране и монополизировал военные должности на самом верху государства [821] . Маньчжурские генерал-губернаторы, командующие двумя провинциями одновременно, обычно доверяли китайским правителям управление отдельными провинциями. За китайским классом джентри были, по существу, сохранены позиции в гражданской службе, а экзаменационная система была даже усовершенствована, уровняв представительство провинций. Традиционная цензура в области культуры, осуществляемая имперским государством, была усилена. Почти целое столетие (1683–1753 гг.) маньчжурские власти понижали налоги, справлялись с коррупцией, сохраняли мир внутри империи и продолжали колонизацию. Распространение через Филиппины американских корнеплодов (кукурузы, картофеля, арахиса, сладкого картофеля) позволило впервые обрабатывать неплодородные холмистые участки. Миграция крестьян в заросшую лесом горную местность, до тех пор заселенную отсталыми племенами, быстро включала большие участки земли в сельскохозяйственный оборот. Сбор риса продолжал увеличиваться за счет использования ранних культур эпохи Сун. Сельскохозяйственные площади и урожайность, таким образом, снова значительно возросли, создав предпосылки для усиленного демографического роста, который превзошел предыдущие рекорды. Население Китая удвоилось или утроилось в 1700–1850 гг., достигнув в общей сложности 430 миллионов человек [822] . В то время как численность общего населения Европы увеличилась с 144 миллионов человек в 1750 г. до!93 миллионов человек в 1800 г., численность населения Китая возросла со 143 миллионов человек в 1741 г. до 360 миллионов человек в 1812 г.: гораздо большая урожайность риса по сравнению с сухим злаковым сельским хозяйством способствовала демографической плотности, не имевшей аналогов на Западе [823] . Одновременно маньчжурские военные кампании впервые в истории привели Монголию, Синьцзян и Тибет под китайский контроль, значительно увеличив территории, потенциально доступные для сельскохозяйственной обработки и заселения. Китайские внутренние границы были отодвинуты войсками и чиновниками династии Цин далеко в пределы Центральной Азии.
Однако к XIX в. в китайской деревне наступил относительный экономический застой. Эрозия почв создавала проблемы для сельского хозяйства на холмах и для ирригационных систем; сверхэксплуататорская система крупных частных землевладений и ростовщичество безудержно росло в самых плодородных регионах; крестьянское перенаселение в деревнях становилось все нагляднее [824] . Маньчжурская военная экспансия и придворные излишества во время правления императора Цяньлу-на во второй половине XVIII столетия привели к восстановлению фискального давления до невыносимых пределов. В 1795 г. вспыхнуло первое большое крестьянское восстание на северо-западе, которое было подавлено с большими сложностями после восьми лет борьбы. Вскоре для городских мануфактур также настало время углубляющегося кризиса. XVIII столетие стало временем возрождения коммерческого процветания в городах. Производство текстиля, фарфора, шелка, бумаги, чая и сахара расцвели за время цинского мира. Значительно расширилась внешняя торговля, стимулированная новым европейским спросом на китайские товары, хотя даже в конце столетия доход от нее был в 6 раз меньше поступлений от внутренней торговли. Но качественного изменения в структуре китайской промышленности не произошло. За великими достижениями черной металлургии эпохи Сун не последовал какой-либо соизмеримый прогресс; в Китае раннего Нового времени не развивалось производство как таковое. Индустрия предметов потребления, которая, начиная с эпохи Мин, всегда была наиболее жизнеспособной, также не произвела какого-либо технического прорыва в эпоху Цин; повлияло на это и распространение наемного труда, который значительно преобладал к началу XIX столетия. На общий баланс между городским и сельским секторами экономики под контролем маньчжурских правителей указывало полное преобладание в фискальной системе земельного налога. До конца XVIII в. он составлял 70–80 % от всех доходов государства Цин [825] . Кроме того, с середины XIX столетия европейская империалистическая экспансия впервые стала наступать на традиционную китайскую торговлю и производство и лишать привычного места весь оборонный комплекс цинского государства. Первоначальные формы западного влияния были торговыми: незаконная опиумная торговля, находясь под руководством английских компаний со второго десятилетия XIX в. на юге Китая, создала дефицит внешней торговли для маньчжурского правительства, поскольку увеличился импорт наркотиков. Растущий кризис платежного баланса дополнялся падением мировых цен на серебро, что вело к снижению стоимости китайской валюты и увеличению внутренней инфляции. Попытка династии Цин остановить опиумную торговлю была сломлена вооруженным путем в ходе англо-китайской войны 1841–1842 гг.
За экономическими и военными провалами, сопровождавшимися тревожным идеологическим проникновением из-за границы, последовало социальное землетрясение – восстание тайпинов. В течение 15 лет (с 1850 по 1864 г.) этот крупномасштабный крестьянский и плебейский мятеж – самое большое народное восстание в мире в XIXв, – встряхивал всю империю до самого основания. Большая часть центрального Китая была покорена солдатами «Небесного царства», привлеченными эгалитарными и пуританскими идеалами тайпинов. Северный Китай тем временем сотрясало крестьянское восстание няньцзюней; угнетенные этнические и религиозные меньшинства – особенно мусульманские общины – восстали в Гуйчжоу, Юньнани, Шэньси, Ганьсу и Синьцзяне. Жестокие репрессии, развязанные государством Цин против следовавших друг за другом восстаний бедноты, длились почти три десятилетия. Лишь к 1878 г. маньчжурские военные операции были завершены с «усмирением» Центральной Азии; общее число жертв в гигантской борьбе составило приблизительно 20–30 миллионов; разруха в сельском хозяйстве была соизмерима с этими потерями. Тайпинское восстание и сопутствовавшие ему обстоятельства свидетельствовали о необратимом упадке маньчжурской политической системы. Имперское государство пыталось улучшить свое финансовое положение новыми налогами на торговлю, их общий объем в 1850–1910 гг. вырос приблизительно в 7 раз: бремя, которое еще сильнее ослабило внутреннюю промышленность, наряду с широкомасштабной иностранной конкуренцией [826] . Английская и североамериканская текстильная промышленность задавили местное производство; индийский и цейлонский чай разрушили местные плантации, японский и итальянский шелка завоевали традиционные экспортные рынки. Империалистическое военное давление неуклонно усиливалось, завершившись китайско-японской войной 1894–1895 гг. Иностранное унижение провоцировало неистовое возбуждение в империи (Боксерское восстание), которое приводило к следующему иностранному вторжению. Государство Цин рушилось под этими множественными ударами, и в конечном счете было уничтожено республиканской революцией 1911 г., в которой вновь смешались социальные и национальные элементы.
Заключительная агония и крах имперского правления в Китае оставили у европейских наблюдателей XIX в. впечатление застойного общества, рухнувшего под натиском динамичного Запада. Представление о полном разгроме поздней империи Цин было, тем не менее, обманчивым в долгосрочной перспективе. Все течение имперской китайской истории от эпохи Тан до эпохи Цин показывает в общих чертах картину накапливавшихся проблем; значительное увеличение численности населения страны с 65 миллионов человек в 1400 г. до 430 миллионов человек в 1850 г., – демографический рост, значительно превышавший показатели того же времени в Европе, сам по себе свидетельствовал о громадном развитии производительных сил в имперском Китае после эпохи Юань. Сельскохозяйственные достижения Китая раннего Нового времени были великолепны с любой точки зрения. Немыслимый демографический рост, который привел к увеличению численности населения страны в 6 раз в течение пяти столетий, свидетельствовал о соответственном увеличении производства зерна вплоть до самого конца существования империи: производство на душу населения оставалось практически неизменным с 1400 по 1900 г. [827] Значительный рост производства зерна в течение этой половины тысячелетия объяснялся такой же количественной экспансией земельных площадей и качественным улучшением урожайности; каждый из факторов стал причиной примерно половины общего роста производства [828] . Среди причин роста урожайности, в свою очередь, примерно половина приходилась на улучшение семенного фонда, введение ежегодного двойного сбора урожая и разнообразие новых растений, вторая половина была результатом ирригации и использования удобрений [829] . В конце этой долгой эволюции, несмотря на катастрофические финальные годы правления династии Цин, уровень урожайности риса в Китае был значительно выше, чем в других азиатских странах, таких как Индия и Тайланд. Однако после династии Сун сельскохозяйственное развитие фактически было лишено выдающихся технологических улучшений [830] . Производство зерна росло вновь и вновь за счет экстенсивной обработки земли и более интенсивного применения труда, увеличения многообразия семян и расширения применения ирригации и удобрений. Во всем остальном набор сельскохозяйственных технологий оставался неизменным.
Имущественные отношения также были изменены сравнительно незначительно после эпохи Сун, хотя исследования этой проблемы все еще фрагментарны и неоднозначны. По одной недавней оценке общих показателей аренды земли безземельными крестьянами, она могла сохраняться неизменной, на уровне 30 % с XI по XIX в. [831] Государство Цин оставило после себя ту конфигурацию в деревне, которая была фактически выражением вековых тенденций китайской сельскохозяйственной истории. В 1920-1930-х гг. приблизительно 50 % китайского крестьянства были владельцами земли, которую они занимали, 30 % были арендаторами, другие 20 % были одновременно собственниками и арендаторами [832] . Широко распространялось ростовщичество и номинальные владельцы были часто немногим больше, чем арендаторы земли у ростовщиков [833] . Три четверти земли, обрабатывавшейся арендаторами в эпоху Цин, сдавались за фиксированную натуральную ренту или наличные, формально позволяя непосредственному производителю присваивать излишки от роста урожайности; оставшаяся четверть земель управлялась договоренностями по разделу урожая, главным образом в беднейших регионах севера, где аренда земли играла меньшую роль [834] . Во всех частях примерно 30–40 % сельскохозяйственной продукции производилось на рынок к концу эпохи Цин [835] . Поместья лендлордов, сосредоточенные в районе Янцзы, на юге и в Маньчжурии, занимали основную часть самых плодородных земель: ю% сельского населения владели 53 % обрабатываемых почв, а средний размер собственности джентри был в 128 раз больше, чем средний крестьянский надел [836] . Три четверти землевладельцев являлись отсутствующими собственниками. Города обычно служили центрами четко выделенных концентрических кругов сельскохозяйственной собственности и производства. Пригородная земля, монополизированная купцами, чиновниками и джентри, на которой выращивались садовые или промышленные культуры, сменялась принадлежавшими джентри полями риса или пшеницы, дававшими прибыль за счет продажи, и, наконец, собственными крестьянскими наделами, которые находились на удалении, в наиболее высокогорных и недоступных регионах. Число провинциальных городов выросло в эпоху Цин, но пропорционально китайское общество было более городским во времена Сун, более чем полутысячелетием раньше [837] .
Рост производительных сил в имперском Китае принял форму спирали после великой социально-экономической революции во время династии Сун в X–XIII вв. Движение повторялось на новом уровне по восходящей линии, даже не меняя внешний облик, пока в итоге это динамическое повторение не было прервано силами, находившимися за пределами традиционного социального строя. Парадокс этого своеобразного развития китайской истории в раннее Новое время состоит в том, что большинство технических условий для капиталистической индустриализации были достигнуты гораздо раньше в Китае, чем в Европе. Китай обладал всесторонним и убедительным технологическим преимуществом перед Западом в эпоху позднего Средневековья, предвосхитив на столетия практически каждое из ключевых изобретений в сфере материального производства, сочетание которых высвободило экономический динамизм ренессансной Европы. Все развитие китайской имперской цивилизации может, в известном смысле, рассматриваться как величайшая демонстрация силы и бессилия техники в истории [838] . Великие беспрецедентные прорывы экономики периода Сун – преимущественно в области металлургии – исчерпали себя в последующую эпоху; радикальная трансформация промышленности и общества, которую они обещали, так никогда и не случилась. В этом отношении все указывает на эпоху Мин, как на момент краха китайской головоломки, которую еще следует разгадать будущим историкам. Именно в то время, несмотря на впечатляющие изначальные успехи на земле и море, механизмы научного и технологического роста в городах окончательно остановились или пережили регресс [839] . Начиная с XVI в., в то время как Ренессанс итальянских городов распространялся на всю Западную Европу, в китайских городах перестали появляться фундаментальные инновации. Возможно, последним основанием города была постройка новой китайской столицы Пекина в эпоху Юань. Династия Мин пыталась перенести политический центр страны в старый город Нанкин, не создав ничего своего. Впоследствии с точки зрения экономики все, казалось, происходило так, как будто последовательные фазы чудовищной сельскохозяйственной экспансии происходили без какого-либо сравнимого роста промышленности и без технологического импульса, исходящего от городской экономики, до тех пор пока в итоге сельскохозяйственный рост не достиг пределов перенаселения и нехватки земли. Кажется очевидным, что традиционное китайское сельское хозяйство достигло вершины в раннюю эпоху династии Цин, когда уровень производительности был значительно выше по сравнению с европейским сельским хозяйством и мог, соответственно, впоследствии был увеличен только путем использования продуктов промышленного производства (химических удобрений, механической тяги) [840] . Именно неспособность городского сектора произвести их стал решающим для окончательной остановки развития всей китайской экономики. Наличие обширного внутреннего рынка, который доходил до отдаленной сельской местности, огромное накопление купеческого капитала, казалось, создало благоприятные условия для появления настоящей системы фабрик, соединявших механическое оборудование с наемным трудом. В действительности, так и не случился ни переход к массовому производству товаров потребления путем использования машин, ни преобразование городского ремесленничества в промышленный пролетариат. Сельскохозяйственный рост достиг пресыщенности в то время, когда промышленный потенциал оставался слабым.
Эта глубокая диспропорция, несомненно, может быть прослежена во всей структуре китайского государства и общества, поскольку, как мы видели, способы производства любой докапиталистической социальной формации всегда отличаются политико-юридическим аппаратом классового правления, который предоставляет законную силу внеэкономическому принуждению. Частная собственность на землю, основное средство производства, развилась в Китае гораздо дальше, чем в исламской цивилизации, и их разные пути были естественным образом предопределены этим фундаментальным отличием. Но китайская идея владения, тем не менее, была далека от европейской концепции собственности. Общее семейное владение было распространено среди джентри, в то время как права преимущественной покупки и перепродажи ограничивали продажу земли [841] . Городской купеческий капитал страдал от отсутствия каких-либо форм майората и от государственного монополизма в ключевых секторах внутреннего производства и внешнего экспорта [842] . Архаизм клановых связей – особенность, отличавшая Китай от великих исламских государств, отражал отсутствие какой-либо правовой системы как таковой. Обычаи и кровное родство продолжали существовать, как мощные факторы сохранения традиций в отсутствии кодифицированного закона: правовые предписания государства являлись, по существу, карательными, нацеленными только на наказание за преступления, и не устанавливали каких-либо юридических рамок для экономической жизни [843] . Подобным образом, китайская культура не смогла развить теоретические идеи естественного права, выйдя за рамки своего практического мастерства в области технических изобретений и усовершенствования официально поддерживаемой астрономии. Их наука занималась скорее классификациями, чем выявлением причинно-следственных связей, считая, в рамках собственной гибкой космологии, наблюдаемые ими (часто гораздо с большей точностью, чем современная им западная наука) аномалии допустимыми и не пытаясь критиковать или объяснять их; отсюда – приверженность к раз установленным парадигмам, опровержение которых могло бы привести к теоретическому подъему [844] . Более того, жесткое социальное разделение между учеными и ремесленниками предотвратило судьбоносную встречу между математикой и экспериментом, которая заложила в Европе основы современной физики. Китайская наука в итоге всегда была более в духе да Винчи, чем Галилея, по выражению Нидхема [845] , она никогда не переходила границу «точной вселенной».
Взаимосвязанное отсутствие юридических законов и законов природы в надстроечной традиции имперской системы в перспективе могло лишь немного замедлить развитие производства в городах, которые сами никогда не получили какой-либо гражданской автономии. Купцы в районе Янцзы часто накапливали огромные средства в торговле, в то время как банкиры Шаньси открывали филиалы по всей стране в эпоху Цин. Но сам процесс производства оставался в Китае незатронутым торговым или финансовым капиталом. За несколькими исключениями, промежуточная ступень надомной системы организации труда даже не развивалась в городской экономике. Торговцы-оптовики заключали сделки с поставщиками, которые покупали прямо у ремесленников-производителей и доставляли товар на рынок без вмешательства управляющих в реальное производство. Барьер между производством и распространением был зачастую институционализирован официальным распределением ключевых монополий [846] . Поэтому вложение коммерческого капитала в улучшение производственных технологий оказалось минимальным: эти два процесса были функционально разделены. Купцы и банкиры, которые никогда не пользовались таким почтением, как торговцы в арабском мире, обычно стремились вложить свои богатства в покупку земли, а позднее – в достижение чиновничьих должностей через экзаменационную систему. Они не имели корпоративной политической идентичности, однако сохраняли личную социальную мобильность [847] . Наоборот, джентри на позднем этапе пользовались возможностью получения прибыли в коммерческой деятельности. В результате не кристаллизовалась никакая коллективная сплоченность или организация городского коммерческого класса, даже когда частный сектор экономически количественно вырос на заключительном этапе существования эпохи Цин; купеческие ассоциации имели региональный тип, похожий на землячества ( Landsmannshaft ) [848] , политически больше разделявший, чем объединявший торговцев. Как и можно было предположить, роль китайского купеческого класса в республиканской революции, которая в итоге разрушила империю в начале XX столетия, была сдержанной и противоречивой [849] .
Имперская государственная машина, стеснявшая города, наложила свой отпечаток и на джентри. Класс китайских землевладельцев основывался на двойственной экономической основе: поместьях и государственной службе. Общее количество имперской бюрократии само по себе было всегда незначительным по сравнению с населением страны: 10–15 тысяч чиновников в эпоху Мин, менее чем 25 тысяч в эпоху Цин [850] . Их эффективность зависела от неформальных связей между должностными лицами в провинциях и местных землевладельцев, которые сотрудничали с ними в выполнении общественных функций (транспорт, ирригация, образование, религия и т. д.) и в поддержании гражданского порядка (оборонительные подразделения и т. п.), от которых они получали «служебные» доходы [851] . Крупные семьи джентри традиционно включали несколько членов, которые прошли экзамены, получив ранг chin-shih и формальный доступ в бюрократический аппарат государства, а также остававшихся в маленьких провинциальных городках и сельских районах без подобных мандатов. Обладатели рангов обычно занимали центральные или местные административные посты, в то время как за их землями присматривали родственники. Но наиболее богатый и могущественный слой в классе землевладельцев всегда состоял из тех, кто обладал постами и связями с государством, чьи доходы от службы (состоявшие из жалованья, коррупции и выплат за услуги) регулярно превышал их частные доходы от сельского хозяйства, возможно на 50 %, в эпоху Цин [852] . Таким образом, в то время как китайское джентри в целом было обязано своей социальной и политической властью контролю над средствами производства, реализованному в частной собственности на землю, его сменяющаяся элита – возможно, всего лишь немногим более 1 % от всего населения XIX в, – определялась системой рангов, которая давала официальный доступ к огромным богатствам и руководству в рамках самой административной системы [853] . Сельскохозяйственные инвестиции были, таким образом, также отведены всепоглощающей ролью имперского государства в самом правящем классе. Внезапные огромные прорывы в сельскохозяйственной производительности в Китае обычно происходили внизу, в фазе сокращения фискального и политического давления со стороны государства на крестьянство в начале династического цикла. Последующий демографический рост, как правило, вызывал социальное недовольство на земле, каждый раз становившееся все более опасным для джентри, по мере роста населения, вплоть до финального эпизода Тайпинского восстания с созданием «Небесного царства». В то же время политический авторитаризм имперского государства после эпохи Сун усиливался [854] . Конфуцианство постепенно становилось более репрессивным, а власть императора более всесторонней, до самого кануна падения династии Цин.
Китайская и исламская цивилизации, которые в различных природных условиях [855] к эпохе раннего Нового времени занимали большую часть азиатского континента, представляли собой две различные морфологии государства и общества. Различия между ними можно наблюдать буквально в каждой черте. Костяк исламской политической системы часто образовывала военная гвардия, состоящая из рабов; напротив, китайским имперским государством управляли гражданские образованные джентри власть имела соответственно преторианский либо «мандаринский» оттенок. Религия соединяла всю идеологическую вселенную мусульманских социальных систем, затмевая клановую организацию; светская мораль и философия управляла официальной культурой в Китае, в то время как клановая организация сохранялась в общественной жизни. Социальный престиж купцов в арабских империях был недостижим для торговцев Поднебесной империи, ареал их морской торговли значительно превосходил то, что когда-либо было достигнуто китайцами. Города, бывшие центрами их деятельности, были не менее разнородными. Классические китайские города образовывали бюрократически разделенные сегменты, тогда как исламские города представляли собой запутанные, случайные лабиринты. Апогей интенсивного сельского хозяйства, использовавшего самую развитую гидравлическую систему в мире, сочетался в Китае с частным владением землей, исламский же мир обычно демонстрировал юридическую монополию суверена на землю и ее бессистемную или экстенсивную обработку без использования ирригационных систем. Ни в том, ни в другом регионе не было уравнительных сельских общин, однако, с другой стороны, неразвивающаяся производительность деревни Ближнего Востока и Северной Африки резко контрастировала с великом сельскохозяйственным прогрессом, продемонстрированным Китаем. Различия климата и почв, конечно, сыграли здесь свою роль. Демография двух регионов, естественно, совпадала с производительными силами в основных отраслях любой докапиталистической экономики: ислам демонстрировал стабильность, Китай – приумножение. Технологии и наука тоже следовали в противоположных направлениях: китайская имперская цивилизация генерировала гораздо большее число технических изобретений, чем средневековая Европа, в то время как исламская цивилизация вообще была более скудной по сравнению с ними [856] . Последним по порядку, но не по значению был тот факт, что исламский мир соприкасался с Западом, рано подчинился его экспансии и, в конечном счете, его окружению, тогда как китайское государство находилось вне этого процесса, недосягаемо для Европы долгое время, вероятно больше отдавая Западу, нежели получая от него, в то время как «промежуточная» исламская цивилизация противостояла восходящему западному феодализму и его непобедимому наследнику на другой оконечности Евразии.
Это элементарное сопоставление, естественно, никоим образом нельзя считать даже началом сравнения реальных способов производства; их сложная комбинация и последовательность определяла действующие в данный момент социальные формации этих огромных регионов за пределами Европы. Они всего лишь резюмируют некоторые самые очевидные признаки несоответствия между исламской и китайской цивилизациями (самодельная терминология, которая сама нуждается в дифференциации и переводе для любого научного анализа), которые противостоят любой попытке объединить их как простые примеры общего «азиатского» способа производства. Давайте наконец предадим это понятие заслуженному им погребению. Совершенно ясно, что дальнейшее историческое исследование необходимо прежде, чем по-настоящему научные выводы могут быть сделаны из изучения множества путей неевропейского развития в столетия, современные западному Средневековью и началу Нового времени. В большинстве случаев исследования только «поцарапали поверхность» обширных регионов и периодов по сравнению с тщательностью и интенсивностью научного изучения европейской истории [857] . Но один процедурный урок совершенно ясен. Азиатское развитие ни в коем случае не может быть сведено к единой категории, оставшейся после того, как были установлены законы европейской эволюции. Любое серьезное теоретическое исследование исторического поля за пределами феодальной Европы должно будет преодолеть традиционное сопоставление с ней и перейти к четкой и точной типологии социальных формаций и государственных систем по их собственному праву, а также уважать значительные различия между ними в структуре и развитии. Только наше невежество придает всему незнакомому одинаковые очертания.
Примечания
1
Переходы от античности к феодализму.
2
См. обсуждение этого вопроса в моей книге Passages from Antiquity to Feudalism (London, 1974), которая предшествует данному исследованию.
3
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //Marx-Engels. Werke. Bd. 21. Berlin, 1962. S. 167.
4
Zur Wohnungsfrage // Ibid. Bd. 18. S. 258.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Marx-Engels. Selected Works. Moscow, 1968. P.37; Werke, Bd. 4. S. 464.
6
Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 398. «Политическое» господство в процитированной фразе означает государственное, Staatliche.
7
Первая формула из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (Selected Works. P. 171); вторая – из «Гражданской войны во Франции» (Selected Works. P. 289).
8
Маркс К . Капитал: критика политической экономии Т. 3. М., 1985. С. 863–867. Описание Доббом этого фундаментального вопроса в его «ответе» Суизи в ходе знаменитых дебатов в пятидесятые о переходе от феодализма к капитализму было колким и ясным: Science and Society. Vol. 14. N 2. Spring 1950. P. 157–167, особенно P. 163–164. Теоретическая важность проблемы очевидна. В случае с такой страной, как Швеция, например, стандартные исторические работы до сих пор заявляют, что там «не было феодализма» на том основании, что там не было крепостного права. На самом деле, феодальные отношения господствовали в сельской местности Швеции в позднесредневековую эпоху.
9
Hill С. Comment (on the Transition from Feudalism to Capitalism) //Science and Society. Vol. 17. N 4. Fall 1953. Р-351– Надо осторожно относиться к словам в этом суждении. Общий эпохальный характер абсолютизма делает любое формальное сравнение с локальными, исключительными фашистскими режимами неуместным.
10
Althusser L. Montesquieu, Le Politique etl’Histoire, Paris, 1969. P. 117. Я выбрал эту формулировку как недавнюю и репрезентативную. Однако и сегодня встречается вера в капиталистический или квазикапиталистический характер абсолютизма. Пулантцас так же опрометчиво классифицирует абсолютистские государства в его во всем остальном хорошей работе Pouvoir Politique et Classes Sociales. P. 169–180, хотя использует неопределенные и двусмысленные фразы.
Недавние дебаты о русском абсолютизме в советских исторических журналах также показывают похожие примеры, хотя хронологически они лучше нюансированы; см., например, Аврех А.Ю. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России //История СССР. 1968. Февраль. С. 83–104. Автор считает абсолютизм «прототипом буржуазного государства» (С. 92). Взгляды Авреха были подвергнуты жесткой критике в последовавших дебатах и не были типичными для содержания этой дискуссии.
11
Знаменитые дебаты между Суизи (Sweezy) и Доббом (Dobb), в которых приняли также участие Такахаши (Takahashi), Хилтон (Hilton) и Хилл (Hill), в журнале Science and Society (1950. Vol.3), остаются до наших дней единственным систематическим марксистским анализом центральных проблем перехода от феодализма к капитализму. В одном важном отношении, однако, они велись вокруг неверной проблемы. Суизи (вслед за Пиренном) доказывал, что «первичным движителем» в переходе был «внешний» агент разложения – городские анклавы, которые разрушили феодальную аграрную экономику посредством расширения товарного обмена в городах. Добб отвечал, что толчок к развитию надо искать в противоречиях самой аграрной экономики, которая порождала социальную дифференциацию крестьянства и подъем мелкого производителя. В последующем эссе на эту тему Вилар (Vilar) недвусмысленно сформулировал проблему перехода как проблему определения правильной комбинации «эндогенных» аграрных и «экзогенных» «торгово-городских» перемен, при этом подчеркивая важность новой экономики атлантической торговли в XVI в.: см.: Problems in the Formation of Capitalism //Past and Present. 1956. N 10. P 33–34. В важном недавнем исследовании The Relations between Town and Country in the Transition from Feudalism to Capitalism (неопубликовано) Джон Mepрингтон (John Merrington) эффективно разрешил эту антиномию, продемонстрировав базовую истину, что европейский феодализм вовсе не был исключительно аграрной экономикой, а был первым способом производства в истории, предоставившим автономное структурное место городскому производству и обмену. Рост городов был в этом смысле таким же «внутренним» развитием западноевропейского феодализма, как и разложение манора.
12
О пушках и галеонах см.: Cipotta С. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400–1700. London, 1965. О книгопечатании самые смелые размышления, хотя и подпорченные мономанией, известной историкам технологий, недавно предложила Элизабет Эйзенштайн: см. Eisenstein Е. Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: a Preliminary Report //Journal of Modern History. 1968. March – December. P. 1–56, а также The Advent of Printing and the Problem of Renaissance // Past and Present. 1969. N 45. P. 19–89. Главные технические изобретения той эпохи могут быть рассмотрены как вариации на общем поле коммуникаций. Они затрагивали соответственно деньги, язык, путешествия и войну – в более поздний период все это стало великими философскими темами Просвещения.
13
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С.105. (Anti-Duhring. Moscow, 1947. P. 126). См. также Р. 196–197, где смешаны верные и неверные формулы. Эти страницы цитировались Хиллом в его Комментариях, где он пытается оправдать Энгельса за ошибочное положение о «равновесии». В целом у Маркса и у Энгельса можно найти пассажи, в которых абсолютизм описывается более адекватно, чем в цитированных выше текстах. (Например, в самом «Манифесте Коммунистической партии» есть прямое упоминание «феодального абсолютизма».) Было бы странным, если бы этого не было, поскольку логическим следствием из признания абсолютизма буржуазным или полубуржуазным стал бы отказ в реальности самих буржуазных революций в Западной Европе. Однако несомненно, что, несмотря на повторяющуюся путаницу, главный дрейф их комментариев был направлен к концепции «равновесия» с сопутствующим ей сдвигом к идее «главной основы». Нет нужды скрывать этот факт. Огромное интеллектуальное и политическое уважение, которое мы питаем к Марксу и Энгельсу, несовместимо с любым благоговением перед ними. Их ошибки – часто более плодотворные, чем истины у других, – не должны скрываться, их надо обнаруживать и преодолевать. Здесь необходимо еще одно предупреждение. Долгое время было модным преуменьшать вклад Энгельса в создание исторического материализма. Для тех, кто до сих пор расположен придерживаться этой точки зрения, необходимо сказать спокойно, хотя и провокационно: суждения Энгельса об истории практически всегда превосходят суждения Маркса. Он обладал лучшими знаниями по европейской истории, он лучше разбирался в ее сменяющих друг друга и ясно выраженных структурах. Во всех трудах Энгельса нет ничего сопоставимого с иллюзиями и предрассудками, которые Маркс иногда привносил в науку, как, например, в фантасмагорической «Тайной дипломатической истории XVIII века» (вряд ли надо при этом заново утверждать превосходство вклада Маркса в общую теорию исторического материализма). Именно позиция Энгельса в его исторических трудах делает необходимым привлечь внимание к содержащимся там специфическим ошибкам.
14
См. Hazeltine H.D. Roman and Canon Law in the Middle Ages //The Cambridge Mediaeval History. Vol. g. Cambridge, 1968. P. 737–741. Именно по этой причине сам ренессансный классицизм был очень критично настроен по отношению к работам комментаторов.
15
«Теперь, когда это право было перенесено в совершенно другую, неизвестную античности ситуацию, задача „конструирования“ логически безупречной ситуации стала главной. Именно таким образом концепция права, существующая до сих пор и рассматривающая право как логически последовательный комплекс „норм“, требующих „применения“, стала основной концепцией юридической мысли». Weber М. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. Vol. 2. P. 885.
16
См. Levy J.-P. Histoire de la Propriete. Paris, 1972. P. 44–46. Другим ироническим побочным эффектом попыток создать новую юридическую ясность, вдохновленным средневековым исследованием римских кодексов, было, конечно, определение крепостных как glebae adscripti («приписанных к земле»).
17
О значении понятия seisin см. Vinogradoff P. Roman Law in Mediaeval Europe. London, 1909. P. 74–44, 86, 95–96; Levy J.-P. Histoire de la Propriete. P. 50–52.
18
Отношение первоначального средневекового права в городах к римскому праву нуждаются в дальнейшем исследовании. Сравнительное развитие юридических правил, регулировавших операции по типу commenda и морскую торговлю в Средневековье неудивительно: римский мир, как мы видели, не знал антрепренерских компаний и включал единое Средиземноморье. Следовательно, тогда не было причин развивать ни то ни другое. С другой стороны, изучение римского права в итальянских городах показывает, что то, что казалось ко времени Возрождения «средневековой» практикой контрактов, могло быть изначально сформировано юридическими принципами, восходящими к античности. Виноградов не сомневался, что римское контрактное право прямо влияло на деловые кодексы городских бюргеров Средневековья. См.: Vinogradoff Р. Roman Law in Mediaeval Europe. Oxford: Clarendon Press, 1929. P. 79–80, 131. Городская недвижимая собственность, с ее «арендой», была всегда, конечно, ближе к римским нормам, чем сельская собственность в Средние века.
19
См. Kinkell W. The Reception of Roman Law in Germany: An Interpretation; Dahm G. On the Reception of Roman and Italian Law in Germany // Pre-Reformation Germany/G.Strauss (ed.). London, 1972. P. 271, 274–276, 278, 284–292.
20
Одним из идеалов, но далеко не единственным: мы увидим, что сложная практика абсолютизма была всегда очень далека от максимы Ульпиана.
21
Римское право так никогда и не натурализовалось в Англии, главным образом в результате ранней централизации англосаксонского государства, чье административное единство сделало английскую монархию безразличной к преимуществам гражданского права во время его средневековой диффузии. См. комментарии Cantor N. Mediaeval History. London, 1963. P345-349– В раннее Новое время династии Тюдоров и Стюартов ввели новые юридические институты по типу гражданского права (Звездную палату, Адмиралтейство и Суд лорда-канцлера), но в целом оказались неспособными преодолеть обычное право: после острых конфликтов между ними в начале XVII в. Английская революция 1640 г. закрепила победу последнего. Некоторые размышления над этим процессом см.: Holdsworth W. A History of English Law. Vol. IV. London, 1924. P. 284–285.
22
Этими двумя терминами Вебер обозначал соответственно интересы двух сил, работавших на романизацию: «пока буржуазия добивалась „определенности“ ( certainty) в администрации юстиции, бюрократия была заинтересована в «ясности» (clarity) и подчинении законам (orderliness)». См. его превосходное обсуждение в: Economy and Society. Vol. II. P. 847–848.
23
См. Roberts М. The Military Revolution 1560–1660 //Essays in Swedish History. London, 1967. P. 195–225 – основной текст; Gustavus Adolphus. A Historyof Sweden 1611–1632. London, 1958. Vol. II. P. 169–189.
24
Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 669.
25
Cm. Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 83.
26
Machiavelli N. II Principe е Discorsi. Milan, 1960. P. 62.
27
Vives V. J. Estructura Administrativa Estatal en los Siglos XVI у XVII // XIе Congres International des Sciences Historiques, Rapports IV, Goteborg 1960; переиздано в: Vives V. Cojuntura Economica у Reformismo Burgues. Barcelona, 1968. P. 116.
28
См. Ehrenberg R. Das Zeitalter der Fugger. Bd. I.Jena, 1922. P. 13.
29
Cm. Clark G. N. The Seventeenth Century. London, 1947. P. 98. Эренберг, использующий немного другое определение, дает несколько меньшее число, 21 год.
30
Лучшим исследованием этого международного феномена является: Swart K. W. Sale of Offices in the Seventeenth Century. The Hague, 1949. Самое всестороннее исследование на национальном уровне: Mosnier R. La Venalite des Offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen (n. d.).
31
Cm. Chabod F. Scritti sul Rinascimento. Turin, 1967. P. 617. Миланские функционеры отказались выполнить требование своего губернатора, однако их коллеги в других местах могли не проявить такой решительности.
32
Duby G. Rural Economy and Country Life in the Medieaeval West. P. 333.
33
Porshnev В. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 а 1648. Paris, 1865. p. 395–396.
34
Хекшер доказывал, что целью меркантилизма было «увеличение мощи государства», а не «богатство наций», и это означало подчинение, словами Бэкона, «соображений изобилия» «соображениям мощи» (Бэкон на этом основании хвалил Генриха VII за ограничение импорта вин только на английских судах). Винер (Viner), в эффективном ответе не затруднился показать, что большинство писателей-меркантилистов, наоборот, придавали равное значение и тому, и другому, и верили, что они совместимы. Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the 17th and 18th Centuries EWorld Politics. I. N 1. 1948. Переиздано в: Revisions in Mercantilism/D. C. Coleman (ed.). London, 1969. P. 61–91. В то же время Винер очевидно недооценивал разницу между меркантилистской теорией и практикой, и сменившей ее laissez-faire. Фактически и Хекшер, и Винер разными способами упустили существенный факт, а именно неразличение экономики и политики в переходную эпоху, которая производила меркантилистские теории. Спорить о том, что из них имело «первенство» над другим, – анахронизм, потому что на практике между ними не было такого жесткого разделения до самого появления laissez-faire.
35
См. Silberner Е. La Guerre dans La Pensee Economique du XVIe au XVIIIe Siecle. Paris, 1939. P. 7–122.
36
Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. Paris, 1966. P. 95.
37
Porshnev B.F. Les Rappports Politiques de l’Europe Occidentale et l’Europe Orientale a l’Epoque de la Guerre de Trente Ans’ //XIe Congres International des Sciences Historiques. Uppsala, 1960. P. 161. Чрезвычайно умозрительный набег в Тридцатилетнюю войну, хороший пример сильных и слабых сторон Поршнева. Вопреки намекам его западных коллег, его главным недостатком является не жесткий «догматизм», а чрезмерно плодотворная изобретательность, не всегда адекватно ограниченная дисциплиной доказательств; в то же время эта самая черта в другом отношении делает его оригинальным и творческим историком. Краткие предложения в конце его эссе по поводу концепции «международной системы государств» очень хороши.
38
Энгельс любил приводить пример Бургундии: «Карл Лысый, например, был ленником Императора по части своих земель и ленником французского короля по другой их части; с другой стороны, король Франции, его сюзерен, был в то же время ленником Карла Лысого, своего собственного вассала, по некоторым регионам». См. его важную рукопись, посмертно озаглавленную Uber den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Werke. Bd. 21. S. 396.
39
Полное развитие новой дипломатии в Европе раннего Нового времени можно найти в замечательной работ е Mattingly G. Renaissance Diplomacy. London, 1955. passim.
40
Сельские и городские массы сами, конечно, порождали спонтанные формы ксенофобии; однако эта традиционная негативная реакция на чужие сообщества сильно отличалась от позитивной национальной идентификации, которая стала возникать среди грамотных буржуа в раннее новое время. Смешение этих двух процессов могло в кризисной ситуации породить патриотический порыв снизу, неконтролируемого и мятежного типа: восстания Комунерос в Испании или Лиги во Франции.
41
Цит. по: Graham G. The Politics of Naval Supremacy. Cambridge, 1965. P. 17.
42
Шведская монархия продолжала получать большую часть своих доходов, как пошлины, так и налоги в натуральной форме еще долго на протяжении раннего Нового времени.
43
Полномасштабного исследования средневековых «Штатов» в Европе до сих пор не сделано. В настоящее время единственной работой с некоторыми международными параллелями является книга Антонио Маронгиу (Antonio Marongiu) Il Parlamento in Italia, nel Medio Evo e nell’Etta Moderna: Contributo alla Storia delle Istituzioni Parlamentari dell’Europa Occidentale. Milan, 1962, недавно и несколько неверно переведенная на английский как «Средневековые парламенты: Сравнительное исследование» (Лондон, 1968). На самом деле, книга Маронгиу – как показывает оригинальное название – особенно посвящена Италии, единственному региону в Европе, где Штаты отсутствовали или были сравнительно неважными. Небольшие разделы книги, посвященные другим странам (Франции, Англии или Испании), вряд ли составляют удовлетворительное введение в проблему, и она полностью игнорирует Северную и Восточную Европу. Более того, книга представляет собой юридический обзор, чуждый социологического подхода.
44
См. Stephenson С. Mediaeval Institutions. Ithaca 1954. P. 99–100.
45
Что касается всех, должно быть всеми одобрено (лат.).
46
Эти альтернативы анализируются Хинтце (Hintze) в Typologie der Ständischen Verfassungen des Abendlandes //Gesammelte Abhandlungen. Vol. 1. P. 110–129; эта его работа и в настоящее время остается лучшей из всех, посвященных феномену феодальных сословий в Европе, хотя любопытным образом неубедительной в сравнении с большинством других текстов Хинтце, как будто все значение его находок еще должно быть им истолковано.
47
Книга Лоуренса Стоуна (Lawrence Stone) The Crisis of the Aristocracy, 1558–1641 (Oxford, 1965) является самым глубоким существующим исследованием метаморфоз европейской аристократии в эту эпоху. Критики сосредоточились на его тезисе, что экономические позиции английского пэрства значительно ухудшились на протяжении исследованного столетия. Однако этот вопрос был вторичным, поскольку «кризис» был гораздо шире, чем простой вопрос о количестве маноров, принадлежавших лордам: он включал тяжелый труд адаптации. Обсуждение Стоуном проблемы военной силы аристократии в этом контексте представляется особенно ценным (Р. 199–270). Недостаток книги скорее состоит в ее ограниченности английским пэрством, очень маленькой группой элиты внутри землевладельческого правящего класса; более того, как будет видно ниже, английская аристократия была чрезвычайно нетипичной для Западной Европы в целом. Необходимо изучение континентальной аристократии, основанное на таком же богатом материале.
48
См. недавнюю дискуссию: Elliott J. H. Europe Divided, 1559–1598. London, 1968. p. 73–77;
49
Cm. Hexter J. H. The Education of the Aristocracy in the Renaissance // Reappraisals in History. London, 1961. P. 45–70.
50
Первым и самым основательным вкладом в споры на эту– тему является статья Фрица Гартунга и Ролана Муньс: Mousnier R., Hartung F. Qeulques Problemes Concernant la Monarchie Absolue//X Congresso Internazionale di Scienze Storici, Relazioni IV. Florence, 1955, особенно P. 4–15. Предшественники видели эту же истину, хотя и в менее систематической форме, среди них Энгельс: «Упадок феодализма и развитие городов являлись двумя децентрализующими силами, предопределившими необходимость абсолютной монархии как силы, способной скрепить в единое целое национальности. Монархия должна была быть абсолютной, просто из-за центростремительного давления всех этих элементов. Ее абсолютизм, однако, не надо понимать в вульгарном смысле. Это был перманентный конфликт с сословиями, мятежными вассалами и городами: нигде органы сословного представительства не были уничтожены полностью». Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 402. Последняя оговорка, конечно, преувеличение.
51
Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 103, 114. Я перевел droit как «правосудие» ( justice) в этом отрывке, чтобы подчеркнуть различие.
52
Ibid. Р. 102, 114.
53
Ibid. Р. 103.
54
Тревор-Ропер (Trevor-Roper) в своем по праву знаменитом эссе The General Crisis of the Seventeenth Century //Past and Present. N 16, November 1959. P. 31–64, сейчас переработанном и перепечатанном в Religion, The Reformation and Social Change (London, 1967. P. 46–89), при всех его достоинствах, слишком ограничивает масштаб этих мятежей, представляя их в основном как протесты против расходов и трат постренессансных дворов. На самом деле, как указывали многие историки, война была гораздо более серьезной статьей государственных расходов XVII в., чем двор. Дворцы Людовика XIV были гораздо богаче, чем у Анны Австрийской, но это не делало их более непопулярными. Отдельно от этого, фундаментальный разлом между аристократией и монархией в ту эпоху был не экономическим, хотя военные налоги могли и становились поводом к мятежам. Разлом, однако, был политическим, связанным с общим местом аристократии в зарождающейся политической системе, черты которой оставались еще скрытыми для всех актеров, участвовавших в этой драме.
55
Неаполитанский бунт, социально самый радикальный среди этих движений, наименее отвечает этому наблюдению. Но даже там первым штормовым сигналом антииспанского взрыва были аристократические заговоры Санцы, Конверсано и других дворян, враждебных к фискальной политике вице-короля и жиревшей на ней клике спекулянтов и интриговавших с Францией против Испании начиная с 1634 г. Заговоры баронов множились в Неаполе в начале 1647 г., когда неожиданно вспыхнуло народное восстание, возглавленное Мазаньелло и повернуло неаполитанскую аристократию назад к лоялизму. См. блестящий анализ в: Rosario Villari. La Rivolta Anti-Spagnuola a Napoli. La Origini (1585–1647). Bari, 1967. P. 201–216.
56
Не существует всестороннего исследования этого феномена. Он мимоходом обсуждается в книге: Woolf S.J. Studi sulla Nobilta Piemontese nell’ Epoca sell’ Assolutismo. Turin, 1963, которая датирует ее распространение предыдущим веком. Проблему также затрагивают большинство авторов сборника: The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.). London, 1953.
57
Испанский mayorazgo был самым старым из этих изобретений, которому к тому времени было уже более двухсот лет; однако он постепенно увеличивался в количестве и масштабах, дойдя даже до включения движимого имущества. Английская «ограниченная передача» была наделе менее жесткой, чем общий континентальный подход fideicommissum, поскольку формально относился только к одному поколению; однако на практике последующие наследники также должны были согласиться с ним.
58
Весь вопрос мобильности в классе аристократов, от рассвета феодализма до конца абсолютизма требует большого дальнейшего исследования. В настоящее время можно только строить догадки о сменявших друг друга фазах этой долгой истории. Дюби пишет о своем удивлении, когда он обнаружил, что мнение Блока о существовании радикального разрыва между аристократией времен Каролингов и Средневековья во Франции оказалось ошибочным: на деле, большая доля родов, поставлявших vassi dominici IX в., стали баронами XII в. См.: Duby G. Une Enquete а Poursuivre: La Noblesse dans la France Medievale // Revue Historique. N 226. 1961. P. 1–22. С другой стороны, Перрой обнаружил чрезвычайно высокий уровень мобильности среди джентри в графстве Форез начиная с XIII в.: средняя продолжительность аристократического рода составляла 3–4, или, точнее, 3–6 поколений, в основном в связи с высокой смертностью. Perroy E. Social Mobility among the French Noblesse in the Later Middle Ages //Past and Present. N 21. April 1962. P. 25–38. В общем, позднее Средневековье и ранний Ренессанс кажутся периодами быстрой смены элит во многих странах, в ходе которой большая часть средневековых домов исчезла. Это верно для Англии и Франции, хотя, вероятно, менее верно – для Испании. Стабилизация рядов аристократии, кажется, завершилась к концу XVII в., после того как последняя и наиболее жестокая перетряска всего, в Богемии Габсбургов во время Тридцатилетней войны, подошла к концу. Однако этот предмет еще может подкинуть нам сюрпризов.
59
См. Koenigberger H. G. The European Civil War//The Habsburgs in Europe. Ithaca, 1971– P 219–285.
60
Научно обоснованный общий анализ Семилетней войны см.: Dorn W. L. Competition for Empire. P. 318–384.
61
Фраза принадлежит Висенсу: См.: Viceng VivesJ. Manual de Historia Economica de Espana. Barcelona, 1974. P. 11–12, 231.
62
См. Elliott J.H. Imperial Spain, 1469–1716. London, 1970. P. 111–113.
63
Арагонское королевство само было союзом трех княжеств: Арагона, Каталонии и Валенсии.
64
Elliott J.Н. Imperial Spain. P. 37.
65
Дух арагонского конституционализма выражается в тексте присяги на верность, приписываемой тамошней аристократии: «Мы, которые равны тебе, клянемся тебе, который не лучше нас, признать тебя нашим королем и сувереном, при условии что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы; а если нет, то нет». Сама формула, вероятно, просто легенда, но ее дух присутствовал в институтах Арагона.
66
Деятельность Фердинанда и Изабеллы в Кастилии описана в: Elliot J.Н. Imperial Spain. P. 86–99.
67
Единственным шагом к монетарной унификации была чеканка трех золотых монет высокого номинала и одинаковой стоимости в Кастилии, Арагоне и Каталонии.
68
См.: Maravall J. A. Las Comunidades de Castilla. Una Primera Revolucion Moderna. Madrid, 1963. P. 216–222.
69
См. Ibid. P. 44–45, 56–57, 156–157.
70
Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. Oxford, 1969. P. 19–20.
71
Маркс разбирался в парадоксе габсбургского абсолютизма в Испании. После заявления, что «вот тогда-то исчезли испанские вольности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем зареве костров инквизиции», он задал вопрос: «Как же объяснить то странное явление, что после почти трех столетий владычества династии Габсбургов, а вслед за ней династии Бурбонов – каждой из этих династий в отдельности было бы достаточно, чтобы раздавить народ, – муниципальные вольности Испании до известной степени сохранились? Как объяснить, что в той стране, где раньше, чем где-либо в другом феодальном государстве, возникла абсолютная монархия в самом чистом виде, централизация так и не смогла укорениться?» (Маркс К., Энгельс Ф. Революционная Испания // Соч. 2-е изд. Т. 10.) Он, однако, не дал адекватного ответа на это вопрос.
72
Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972. P. 6.
73
Cm. Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. I. P. 128. Цены, конечно, тоже сильно выросли за это время.
74
Elliott J.H. The Decline of Spain // Past and Present. N 20. November 1961; также в: Crisis in Europe, 1560–1660/T. Aston (ed.). P. 189; Imperial Spain. P. 285–286.
75
Линч четко сформулировал это утверждение: Spain under the Habsburg. Vol. I. P. 129.
76
См. Vilar P. Oro y Moneda en la Historia, 1450–1920. Barcelona, 1969. P. 78, 165–168.
77
См. Ibid. P. 180–181.
78
См. Salomon N. La Campagne de Nouvelle Castille a la Fin du XVIe Siecle. Paris, 1964. P. 257–258, 266.
79
Португальский историк первым отметил значение этой необычной структуры занятости, которая, по его мнению, была характерна и для Португалии:
80
О реакции современников к концу XVII в. см. превосходную статью Вилара: Vilar. Le Temps du Quichotte //Europe. Vol. XXXIV. 1956. P. 3–16.
81
Характерно замечание герцога Альбы: «Для нашего народа ничего нет более важного, чем отдать благородных и состоятельных людей в пехоту, чтобы не оставлять все в руках работников и лакеев». Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972.P. 41.
82
Восьмидесятилетняя война – Нидерландская буржуазная революция, длившаяся с 1568 по 1648 г. Прибытие герцога Альбы в 1567 г. и его жесткая политика послужили последним толчком к восстанию. – Прим. пер.
83
Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road. P. 27–31.
84
Филипп II ограничился тем, что сократил полномочия местных Diputacio (в которых было отменено правило единогласия) и должности Justicia и назначил в Арагон неместных вице-королей.
85
Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. P. 12–13.
86
См. Ibid. P. 11.
87
Parker G. The Army of Flanders and Spanish Road. P. 6.
88
См. Elliott J.H. Imperial Spain. P.343.
89
О финансовой истории итальянских владений см.: Dominguez Ortiz A. Politica у Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960. P. 161–164. В целом роль итальянского компонента в Испанской империи в Европе наименее изучена, несмотря на очевидность того факта, что без заполнения этой лакуны невозможно создать полное описание имперской системы как целого.
90
Лучший анализ этой схемы содержится в: Elliott J. H. The Revolt of the Catalans. P. 199–204. Домингес доказывает, что у Оливареса не было внутренней политики, поскольку он был сосредоточен на международных делах: La Sociedad Espanola en el Siglo XVI. Vol. I. Madrid, 1963. P. 15.
91
Оливарес понимал, на какой риск он шел: «Это будет потерей всего или спасением корабля. Дело касается религии, королевства, нации, всего, и если наша сила недостаточна, то пусть мы погибнем в тщетной попытке. Лучше погибнуть – это более справедливо, чем попасть под господство других, большинство из которых еретики, и я отношу к ним французов. Либо все будет потеряно, либо Кастилия станет во главе мира, как она уже является главой монархии Вашего Величества». Цит. по: Elliott J.H. The Revolt of the Catalans. P. 310.
92
Elliott J.H. The Revolts of the Catalans. P. 46–0468, 473–476, 486–487.
93
Dominguex Ortiz A. The Golden Century of Spain, 1556–1659. London, 1972. P. 103.
94
Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. P. 122–123; Dominguez Ortiz A. The Golden Century of Spain. P. 39–40.
95
См.: Kamen Н. The War of Succession in Spain, 1700–1715. London, 1969. P. 84–117. Главным архитектором новой администрации был Бергейк, фламандец из Брюсселя (Р. 237–240).
96
Именно в эту эпоху были приняты национальный флаг и гимн. Характерно суждение Домингеса: «Меньше империи, больше Кастилии. Испания, творение нашего XVIII в., возникла из туманности и приобрела твердые и осязаемые формы… Ко времени Войны за независимость пластичный и символический образ нации, какой мы ее знаем сегодня, был в основном завершен». Dominguez Ortiz A. La Sociedad Espanola an el Siglo XVIII. Madrid, 1955. P. 41, 43. Это лучшая работа по периоду.
97
Yilar P. Ого у Monneda. Р. 348–361, 315–317.
98
Запоминающийся портрет этого класса содержится в: Carr R. Spain // The European Nobility in the Eighteenth Century/A. Goodwin (ed.). P. 43–59.
99
Dominguez Ortiz A. LaSociedad Espanola en el Siglo XVIII. P. 93, 178.
100
Домингес предоставляет богатый обзор модели сеньории в своей главе: El Osago del Regimen Senorial // La Sociedad Espanola en el Siglo XVIII. P. 300–342, где он описывает ее цитированной выше фразой.
101
Lewis P. S. Later Mediaeval France: The Polity. London, 1968. P. 102–104.
102
См. об этом: Major О. R. Representative Institutions in Renaissance France, 1421–1559. Madison, 1960. P. 9.
103
Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. R 6.
104
Проницательное наблюдение о том, что Генеральные штаты во Франции и повсеместно способствовали, а не противостояли распространению королевской власти в период Возрождения, сделал в своем превосходном исследовании Мейджор: Major J. R Representative Institutions in Renaissance France. P. 16–20. В действительности, Мейджор поддерживает этот тезис несколько односторонне; безусловно, в течение XVI в. становился постепенно все менее верным, даже если когда-то и был верен, тезис, будто монархи «не боялись созывать ассамблеи» (Р. 16). Тем не менее это один из наиболее интересных анализов темы из существующих на разных языках.
105
См. схожие мнения Льюиса и Мейджора: Lewis P. S. The Failure if the French Mediaeval Estates //Past and Present. N 23. 1962. November. P. 3–24 и Major J. R. The Estates-General of 1560. Princeton, 1951. P. 75, 119–120.
106
См. Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. P. 126–127.
107
Этот тезис развивается в интересном эссе Брайна Пирса: Pearce В. The Huguenots and the Holy League: Class, Politics and Religion in France in the Second Half of the Sixteenth Century (unpublished), в котором он предполагает, что северные города были, как следствие, более озабочены консолидацией национального единства Франции. Однако многие из главных портов Юга и Запада также остались католическими: Бордо, Нант и Марсель поддержали Лигу. Марсель вследствие такой происпанской политики потерял традиционную торговлю с Левантом: Livet G. Les Guerres de Religion. Paris, 1966. P. 105–106.
108
См. Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. P. 126–127.
109
Elliott J. Н. Europe Divided, 1559–1598. London, 1968. P. 96. Эта книга включает, между прочим, хороший нарратив этого периода французской истории, вписанный в международную политическую борьбу той эпохи.
110
О политической социологии муниципального лидерства в Лиге в Париже в высшей точке религиозных войн см.: Salmon J.H. The Paris Sixteen, 1584–1594: The Social Analysis of a Revolutionary Movement //Journal of Modern History. 1972. December. Vol. 44. N 4. P. 540–576. Сэлмон показывает, насколько влиятельными в Совете шестнадцати были средний и нижний слой юристов, и подчеркивает их манипуляцию плебейскими массами, совмещенную с предоставлением некоторого экономического облегчения, в период их диктатуры. Краткий сравнительный анализ присутствует в Koenigsberger H. G. The Organization of Revolutionary Parties in France and the Netherlands during the Sixteenth Century //Journal of Modern History. 1955. December. Vol. 27. P. 335–351. Тем не менее предстоит еще много работы по изучению Лиги, одного из самых сложных и загадочных феноменов столетия; движение, которое изобрело баррикады в городах, ждет своего марксистского историка.
111
На этот фактор обратил внимание Сэлмон: Salmon J. Н. Venality of Office and Popular Sedition in the 17th Century France // Past and Present. 1967. July. P. 41–43.
112
Prestwick М. From Henry III to Louis XIV //The Age of Expansion/Н. Trevor-Roper (ed.). London, 1968. P. 199.
113
См. Ibid. P. 199.
114
Хорошее обсуждение этого феномена содержится в: Lublinskaya A. D. French Absolutism: The Crusial Phase, 1620–1629. Cambridge, 1968. P. 234–243. О масштабах изъятий из тальи, совершавшихся откупщиками, см. Р. 308 (13 из 19 миллионов ливров в середине 1620-х гг.).
115
«Или чтобы поменять метафору: если королевская власть была сверкающим солнцем, была и другая власть, которая отражала, концентрировала и смягчала его свет, тень, включавшая этот источник энергии, на который человеческий глаз не может смотреть, чтобы не ослепнуть. Мы говорим о парламентах, и прежде всего о парламенте Парижа». Kossmann E. La Fronde. Leyden, 1954. P. 23.
116
См. Porshnev В. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 a 1648. P. 547–560.
117
Prestwich B. F. From Henri III to Lois XIV. P. 203; Mousnier R. Peasant Uprising. London, 1971. P. 307.
118
Эта точка зрения Поршнева представлена в Les Soulevements Populaires en France .
119
Об этом аспекте см.: Kossmann E. H. La Fronde. Leiden, 1954. P. 117–138.
120
См. Kossmann E. H. La Fronde. P. 204, 247, 250–252.
121
Goubert Р. Les Problemes de la Noblesse au XVIIe Siecle // XHIth International Congress of Historical Sciences. Moscow, 1970. P. g.
122
См. Goubert P. Louis XIV at Vingt Millions de Francais. P. 164, 166.
123
См. Ibid. P. 72.
124
См. Stoye J. Europe Unfolding 1648–1688. London, 1969. P. 223; Goubert. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. P. 186.
125
См. Mousnier R. Peasant Uprisings. London, 1971. P. 115. В этой книге подчеркивается, что именно в силу этого фактора восстания 1675 г. в Бретани и Бордо оказались последними социальными беспорядками столетия.
126
Goubert Р. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. Paris, 1995. P. 90–92.
127
Это верно даже в некотором смысле по отношению к его культурным идеалам: «Вновь установленная симметрия и порядок плаца предоставлял Людовику XIV и его современникам образец, которому должна была соответствовать жизнь и искусство; и мерный шаг (pas cadence) строгого командира отдавался эхом в королевской монотонности нескончаемых александрийских стихов». Roberts М. The Military Revolution 1560–1660//Essays in Swedish History. London, 1967. P. 206.
128
Кардиналы пытались заставить аристократию платить замаскированные налоги в форме «коммутации» права военного уголовного суда (ban), наложенного на феоды. Дворянство испытывало большую неприязнь к этим решениям, и они были отменены Людовиком xiv. См.: Deyon P. A Propos des Rapports entr le Noblesse Francaise et la Moarchie Absolue pendant le Premiere Moitie du XVIIe Siecle // Revue Historique. Vol. 231. 1964. P. 355–356.
129
См. Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. P. 158–162.
130
Конечно, Людовик XIV не смог правильно оценить эти перемены, что и стало причиной его постоянных дипломатических просчетов. Временная слабость Англии в 1660-е гг., когда Карл II был французским пенсионером, привела его к недооценке острова и в последующем, даже когда его центральное значение в западноевропейской политике стало уже очевидным. Неспособность Людовика XIV предложить упреждающую помощь Якову II в 1688 г. перед высадкой Вильгельма III стала одной из наиболее серьезных ошибок в его карьере, где их и без того было немало.
131
См. Goodwin A. The Social Structure and Economic and Political Attitudes of the French Nobility in the 18th Century // Xllth International Congress of Historical Science. Rapports. Vol. I. P. 361.
132
Cm . McManners J. France //The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.). P33-35.
133
О парламентах последних лет старого режима см.: Egert J. La Pre-Revolution Francaise, 1787–1788. Paris, 1962. P. 149–160.
134
Souboul A. La Revolution Francaise. Vol. I. Paris, 1964. P. 45.
135
Lough J. An Introduction to XVIII Century France. London, 1960. P. 71–73.
136
Военно-морской бюджет никогда не составлял более половины английского. Об этом см.: Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 116. Дорн представляет впечатляющую картину недостатков французского флота в ту эпоху.
137
Вебер в своем исследовании английских средневековых городов отмечает среди прочих особенностей важный аспект, что они никогда не переживали гильдейских или муниципальных революций, в отличие от континентальных городов Европы: Economy and Society. Vol. iii. P. 1276–1281 (см. Вебер М. Город// Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 362–363). Лишь однажды – в 1263–1265 гг. – в Лондоне образовался мятежный conjuratio (городской союз).
О нем см.: Williams G. Medieval London. From Commune to Capital. London, 1963. Р. 219–235. Но это был исключительный случай, вписывающийся в общий контекст восстания баронов.
138
Изначально судебные функции английского парламента также отличали его от других; в парламенте происходили судебные рассмотрения петиций, большое количество которых отмечается в xiii в., когда среди парламентариев преобладала верная королю знать. О появлении и эволюции средневековых парламентов см.: Sayles G. O. The Mediaeval Foundations of England. London, 1964. Р. 448–457; Holmes G. A. The Later Middle Ages. London, 1962. Р. 83–88.
139
Важность этого ограничения была подчеркнута Дж. П. Купером. См.: Cooper]. Р. Differences between English and Continental Governments in the Early Seventeenth Century// Britain and the Netherlands/J.J. Bromley and E.H.Kossmann (ed.). London, 1960. P. 62–90, esp. P. 65–71. Как он полагает, это означало, что, когда в ранее Новое время появилась «новая монархия», она в Англии была ограничена «справедливым» правом, в отличие от божественного или естественного права теории власти Ж. Бодена.
140
Подробнее об этом сюжете см.: Palmer].J. England, France and Christendom, 1377–1399. London, 1972. P. 74–76.
141
См. соответствующие комментарии К. Ф. Ричмонда: Richmond С. F. The War at Sea//The Hundred Years War/Flower K. (ed.). London, 1971. P. 117 и English Naval Power in the Fifteenth Century //History. Vol. 52. N 174. February 1967. P. 4–5. Исследование этого вопроса началось совсем недавно.
142
См. Bindoff S. Т. Tudor England. London, 1966. P. 56–66. В этой работе хорошо показан весь этот процесс.
143
Elton G.R. England under the Tudors. London, 1956. P. 49, 53.
144
Рассел (Russel С. The Crisis of Parliaments. Oxford, 1971. P. 41–42) категорически заявляет, что английский парламент этого периода с его нерегулярными собраниями и краткими заседаниями не представлял собой влиятельной силы; с другой стороны, он верно отмечает, что конституционное равновесие между монархией и парламентом опиралось на классовое единство правителей страны. О социальной базе английского парламентаризма см.: Williams Р. The Tudor State //Past and Present. № 24. July 1963. P. 39–58.
145
Обсуждение значения восстания «благодатного паломничества», которое обычно преуменьшается, содержится в Scarisbricke J.J. Henry VIII. London, 1971. P. 444–445. 452-
146
Это событие в историографии было преувеличено до административной «революции» Кромвеля у Элтона, см.: The Tudor Revolution in Government. Cambridge, 1953– P-160-427 и England under the Tudors. P. 127–137, 160–175, 180–184, a затем уменьшено до скромных пропорций. См.: Harris G.L. Mediaeval Government and State-Craft //Past and Present. № 24. July 1963. P. 24–35. Современный взгляд см. у Рассела: Russell С. The Crisis of Parliaments. P. 111.
147
В планах в это время было также создание регулярной армии и юридическое закрепление привилегий пэров – меры, которые, если бы были приняты, существенно изменили бы весь ход английской истории XVI–XVII столетий. Фактически ни одна из них не была приемлема для парламента, который приветствовал государственный контроль Церкви и королевскую службу в регионах, но знал о логике профессиональных войск и не хотел юридического разделения знати, поскольку это вызвало бы борьбу среди нее. Проект регулярной армии, созданный в 1536–1537 гг. и найденный в бумагах Кромвеля, обсуждался в: Stone L. The Political Programme of Thomas Cromwell //Bulletin of the Institute of Historical Research. Vol. XXIV. 1951. P. 1–18. О предложении придания законного привилегированного статуса согласно земельной собственности для титулованной аристократии см.: Holdsworth W. A History of English Law. Vol. IV. P. 450–543.
148
Херстфилд (Hurstfield J. Was there a Tudor Despotism after all?//Transactions of the Royal Historical Society. 1967. P. 83–108) критикует апологетические анахронизмы, которые еще встречаются во многих работах. Он подчеркивает реальную связь между статутами и прокламации, Актами об измене, официальной цензурой и пропагандой власти Тюдоров. Мнение, будто монархия Тюдоров не была абсолютизмом, представлено в краткой форме у Р. Мунье. См.: Mousnier R. Quelques Problemes Concernant La Monarchie Absolue //Relazioni del 10 congresso internazionale di Scienze Storiche. Vol. 4. Firenze, 1955 P. 21–26. Отношение Генриха VIII к парламенту хорошо показано у Скарисбрика. См.: Scarisbricke J.J. Henry VIII. P. 653–654.
149
К концу правления 2/3 монастырских владений были отчуждены; доход от продажи церковных имений вырос на 30 % по сравнению с объемом арендных платежей. См.: Dietz F. English Government Finance, 1485–1558. London, 1964. P. 147, 149, 158, 214.
150
Cm. Stone L. The Crisis of the Aristocracy. Oxford, 1965. P. 265–266.
151
Переход от раннесредневекового баронства к позднесредневековому пэрству и сопровождающая его эволюция рыцарства в джентри, прослежены Н.Денхолмом-Янгом. См.: Denholm-Young N. En Remontant le Passe de l’Aristocratie Anglaise: le Moyen Age // Annales. May. 1937. P. 257–269. (Сам титул «барон» приобрел новое значение как особый ранг в конце XIV в., отличавшийся от его раннего значения.) Укрепление системы пэрства проанализировано К. Б. Макфарлейном, который подчеркивал его новизну и отсутствие традиции. См.: Macfarlane К. В. The English Nobility in the Later Middle Ages // Xllth International Congress of Historical Sciences. Vienna, 1965. Rapport. Vol. I. P. 337–345
152
Следует помнить, что сам łoi de dćrogeance (закон о лишении дворянства), в эпоху позднего Возрождения созданный во Франции, датируется только 1560 г. Такая законодательная мера не была необходимой, поскольку функция дворянства была недвусмысленно военной; как и иерархические титулы, это было реакцией на новую социальную мобильность.
153
Правительство не могло в этом кризисе полагаться на верность ополчения графств. См.: Jordan W. K. Edward VI: The Young King. London, 1968. P. 467..
154
См. сравнительные оценки статутов, сделанные Г. Р. Элтоном в: Elton G. R. The Political Creed of Thomas Cromwell. Transactions of the Royal Historical Society. 1956. P. 81.
155
См .Neale J.E. The Elizabethan House of Commons. London, 1949. P. 140, 147–148, 302.
156
Cm. Oman C. A History of the Art of War in the Sixteenth Century. London, 1937. P. 288–290.
157
Cruickshank C. G. Elizabeth’s Army. Oxford, 1966. P. 12–13, 19–20, 24–30, 51–53, 285.
158
Крюкшанк предположил, что причиной того, что в Англии того времени так и не появилась регулярная армия, могло стать отсутствие в течение почти 60 лет после смерти Генриха VIII взрослого государя мужского пола, способного лично командовать полевыми армиями. См.: Army Royal. Oxford, 1969.
159
«Ирландия – последняя из „детей Европы“ (ex filiis Europae ), которая возвращается от разорения и пустыни (во многих частях) к населению и колонизации; и от дикости и варварских обычаев к гуманности и цивилизованности». См.: The Works of Francis Bacon. London, 1711. Vol. IV. P. 280. О других примерах подобных колониальных размышлений см. Р. 442–448. Бэкон, как и его современники, хорошо знал о материальных выгодах английской цивилизаторской миссии: «Я скажу с уверенностью, что, если Бог благословил это королевство миром и справедливостью, ни один ростовщик так не уверен, что за семнадцать лет он удвоит свой капитал и проценты за счет процентов, как королевство, которое за то же время удвоит свой капитал как за счет богатства, так и людей… Нелегко вообще и точно невозможно на континенте найти такое средоточие товаров, если рука человека не действует об руку с природой» (Р. 280, 444). Обратите внимание на ясность концепции Ирландии как альтернативы экспансии на континенте.
160
О ситуации начала XVI в. см.: MacCurtain М. Tudor and Stuart Ireland. Dublin, 1972. P. 1–5, 18, 39–41.
161
Несколько очерков о тактике, которая использовалась, чтобы заставить ирландцев подчиниться, см.: Falls С. Elizabeth’s Irish Wars. London, 1950. P. 326–329, 341, 343, 345. Английское неистовство в Ирландии, вероятно, было столь же смертоносным, что и испанское неистовство в Нидерландах: в действительности, нет ни малейших признаков, чтобы оно когда-либо обуздывалось соображениями, которые, например, удержали Испанию от разрушения голландских дамб – меры, отвергнутой правительством Филиппа II как акт геноцида. Сравните: Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road. Cambridge, 1972. P. 134–135.
162
Об этих нововведениях см.: Cipolla С. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion. New York, 1965. P. 78–81; Lewis M. The Spanish Armada. London, 1960. P. 61–80. Последний настаивает на сомнительном английском приоритете в этом вопросе.
163
Marcus G.J. A Naval History of England. I. The Formative Centuries. London, 1961. P. 30.
164
Mattingly G. The Defeat of Spanish Armada. London, 1959. P. 175.
165
В действительности, k XVIII в., когда Адмиралтейство было самым дорогим подразделением правительства, флот не только мог полагаться на Сити как лоббиста своего бюджета; но и был вынужден торговаться с ним о том, торговые или стратегические интересы должны определять направление крейсирования эскадр. См.: Baugh D. British Naval Administration in the Age of Walpole. Princeton, 1965. P. 19.
166
Гинтце лаконично и немного упрощенно прокомментировал: «Англия с ее островной безопасностью не нуждалась в постоянной армии, по крайней мере континентального размера, но только во флоте, который служил интересам торговли и военным целям; вот почему там не развивался абсолютизм». Он добавляет характерную фразу: «Земельная власть создает организацию, которая господствует в каждом органе государства и придает ему военную форму. Морская мощь – это только вооруженный кулак, направленный во внешний мир; она не подходит для использования против „внутренней армии“». См.: Gesammelte Abhandlungen. Vol. I. P. 59, 72. Сам Гинтце, являясь яростным защитником морского империализма Вильгельма II накануне Первой мировой войны, имел особые основания для серьезного внимания к английской морской истории.
167
Затраты на одного человека в течение следующего века были в 2 раза выше на море, чем на суше. Военно-морской флот требовал, конечно, гораздо более развитой индустрии снабжения и обслуживания.
168
См.: Smout Т. С. A History of the Scottish People, 1560–1830. London, 1969. P. 44–47. Книга содержит социально заостренный обзор Шотландии перед Реформацией.
169
Donaldson G. Scotland: James V to James VII. Edinburgh, 1971. P. 215–228, 284–290.
170
Stone L. The Causes of the English Revolution 1529–1642. London, 1972. P. 72–75, 131. Эта работа, замечательная своей экономической частью и синтезом, далеко превосходила лучшие исследования эпохи.
171
Hobsbawm E.J. The Crisis of the Seventeenth Century // Crisis in Europe 1560–1660 / T.Aston (ed.). London, 1965. P. 47–49.
172
Hill C. The Century of Revolution. London, 1961. P. 51. В 1628 г. Людовик XIII собрал в Нормандии налоги, равные по сумме всему фискальному доходу Карла I от Англии. См.: Stone L. Discussion of Trevor-Roper\'s General Crisis //Past and Present. N 18. November, 1960. P.32.
173
Эти аспекты правления Стюартов придают гораздо больше оттенков, но не линий в нарастании политического конфликта начала XVII в. Они вызваны большой бравадой Тревор-Ропера в его богатой дискуссии того времени. См.: Historical Essays. London, 1952. P. 130–145. Ошибочно все же, как он, думать, что проблемы монархии Стюартов могли быть решены за счет большей политической гибкости и компетентности. В действительности, вероятно, ни одна ошибка Стюартов не была такой роковой, как недальновидная продажа земель их предшественниками – Тюдорами. Это было вызвано не отсутствием значительных личных талантов, а институциональными причинами, которые предотвратили укрепление английского абсолютизма.
174
Значение режима Страффорда в Дублине и реакции, которую он вызвал в новоанглийском землевладельческом классе, обсуждается в: Ranger Т. Stafford in Ireland: a Revaluation//Crisis in Europe 1560–1660. P. 271–293.
175
Aylmer G. The King’s Servants. The Civil Service of Charles I. London, 1961. P. 248.
176
Полковники армии представляли знать, капитаны – лэрдов, рядовые были «крепкими молодыми крестьянами», бывшими их арендаторами. См.: Donaldson G. Scotland: James V to James VII. P. 100–102. Александр Лесли, командующий армией Ковенанта, был раньше губернатором династии Ваза в Штральзунде и Франкфурте-на-Одере. Вместе с ним и его коллегами европейский опыт Тридцатилетней войны пришел на родину в Британию.
177
Возможно, хотя и не доказано, что Карл I мог играть невольно роль повода к староирландскому восстанию в Ольстере из-за его тайных переговоров со староанглийской знатью Ирландии в 1641 г. См.: Clark A. The Old English in Ireland. London, 1966. P. 227–229.
178
См. Masson G. Frederick II of Hohenstaufen. London, 1957. P. 77–82.
179
О юстициариях см.: Kantorowicz E. Frederick the Second. London, 1931. P. 272–279.
180
Masson. Frederick II of Hohenstaufen. P. 165–170.
181
Kantorowicz Е. Frederick the Second. P. 487–491.
182
Barraclough G. The Mediaeval Papacy. London, 1958. P. 93–100.
183
Ibid. P. 120–126.
184
См. Waley D. The Papal State in the Thirteenth Century. London, 1961. P. 68–90, описывает характер и результаты этого городского непокорства.
185
Waley D. The Papal State in the Thirteenth Century. P. 273, 275, 295–296.
186
Procacci G. Storia degli Italiani. Vol. I. Bari, 1969. H. 34.
187
Jordan E. Les Origines de la Domination Angevine en Italie. Vol. II. Paris, 1909. P. 547, 556. Церковь была вынуждена заложить значительную часть своей собственности в Риме, чтобы получить необходимые денежные суммы от тосканских и римских банкиров в виде займов для своего французского союзника.
188
«Средневековье оставило античность непогребенной и поочередно оживляло и изгоняло ее труп. Ренессанс стоял плача над ее могилой и пытался воскресить ее душу. И однажды, в благоприятный момент успех был достигнут», – писал Э. Панофский в своей книге «Ренессанс и „ренессансы“ в искусстве Запада» (Panofsky E. Renaissance and Renascences in Western Europe Art. London, 1970, P. 113); это единственная большая работа по Возрождению, достойная своего предмета. В общем, современная литература по итальянскому Ренессансу удивительно ограниченная и скучная: как если бы масштаб замысла пугал историков, которые брались за него. Диспропорция между объектом и имеющимися о нем исследованиями, конечно, нигде более не очевидна, чем в наследии Маркса и Энгельса: безразличные к визуальным искусствам (и музыке), никто из них даже в мыслях не затрагивал проблемы, которые ставит перед историческим материализмом Ренессанс, как всеохватывающий феномен. Книга Панофского сосредоточена исключительно на эстетике; экономическая, социальная и политическая история этого периода остается вне нее. Ее качество и метод, однако, устанавливают планку для работы, которая должна быть взята по всему этому полю. Сверх всего, Панофский рассмотрел более серьезно, чем любой другой ученый, ретроспективные отношения Ренессанса и античности, через которые эпоха определяла себя: классический мир являлся полюсом для сравнения, а не просто неопределенной терминологией в его описании. В отсутствие этого измерения, политическая и экономическая история итальянского Ренессанса должна быть описана с соответствующей глубиной.
189
Д. Уэйли (Waley D. The Italian City-Republics. London, 1969. P. 24) рассчитал, что в большинстве городов в конце XIII в. примерно % городских домашних хозяйств владели землей. Следует отметить, что эта модель была исключительно итальянской: ни германские, ни фламандские города той же эпохи не имели сопоставимого числа сельских собственников. Аналогично, во Фландрии и в Рейнской области не было реальных эквивалентов contado, контролируемых городами Ломбардии и Тосканы. Города Северной Европы всегда имели более урбанистический характер. Острую дискуссию о причинах неудачи фламандских городов в попытках присоединить свои сельские территории см.: Nicholas D. Towns and Countryside: Social and Economic Tension in FourteenthCentury Flanders // Comparative studies in Society and History. Vol. X . № 4. 1968. P. 458–485.
190
Сравнительная стоимость перевозок соответствовала тоннажу морского транспорта. В XV в. грузы могли транспортироваться от Генуи до Саутгемптона за немногим более чем 1/5 цены его перевозки по суше на короткую дистанцию от Женевы до Асти: Bernard J. Trade and Finance in the Middle Ages goo-1500. London, 1971. P.46.
191
Уэйли (Waley D. The Italian City-Republics. P. 83–86, 63–64, 107–109) предполагает, что, возможно, Уз граждан в типичной итальянской коммуне занимали какую-нибудь должность в любом данном году.
192
Эти социальные антитезы были впервые систематически проанализированы Вебером в Economy and Society. Vol. III. P. 1340–1343. Несмотря на колебания Вебера в оценке взаимоотношений между городом и деревней в итальянских республиках, весь раздел, озаглавленный «Античная и средневековая демократия», который завершает работу, остается лучшей и наиболее оригинальной дискуссией по этому вопросу на сегодняшний день. Последующие исследования, в целом, не отличались сопоставимыми успехами в синтезе.
193
Заморские колонии Генуи и Венеции в Восточном Средиземноморье использовали рабский труд на сахарных плантациях на Крите, или на квасцовых шахтах Фокеи; и часто в этих городах домашними слугами были рабы – по большей части женщины, в противоположность тому, что было в античную эпоху. В этом смысле, там даже было некоторое возобновление рабства, но оно никогда не приобрело экономического значения на территории Италии. Для изучения природы и границ феномена смотри: Verlinden С. The Beginning of Modern Colonization. Ithaca, 1970. P. 26–32.
194
Weber. Economy and Society. III. P. 1343–1347.
195
Waley D. The Italian City-Republics. R 93–95.
196
Понятие «протекционистская арендная плата» было введено Фредериком Леном в: Lane F. С. Venice and History. Baltimore, 1966. P. 373–428, для того чтобы понять экономические последствия типичного сплава войны и бизнеса, характерного для ранних торговых и колониальных предприятий итальянских городов-государств – где, с одной стороны, агрессивные набеги и пиратство и, с другой стороны, охрана и сопровождение были неотделимы от торговой практики этого периода.
197
Только музыка и поэзия были допущены в их компанию, которую иначе украшали бы сегодня, главным образом, то, что мы считаем естественными или гуманитарными науками. См. известную дискуссию об изменении порядка и определения искусства в: Kristeller Р. О. Renaissance Thought. New York, 1965. P. 168–189.
198
«Два немца, которые принесли печать в Италию в 1465 г. и затем двумя годами позже в Рим, стали банкротами в 1471 г. просто потому, что там не было рынка для их изданий латинской классики… Даже когда Ренессанс был на пике своего развития, его идеалы были поняты и оценены лишь очень незначительным меньшинством». Weiss R. The Renaissance Discovery of Antiquity. Oxford, 1969. P. 205–206. Грамши, конечно, был сильно заинтригован таким дефектом культурного прошлого его страны – но, как и Маркс и Энгельс до него, плохо разбирался в пластических искусствах и рассматривал Ренессанс главным образом как утонченное, духовное просвещение.
199
Мнения ученых об экономическом развитии Италии в xv в. сильно разделяют ся. Лопес и Мискимином утверждали, что Ренессанс был, по существу, эпохой депрессии: среди других показателей, капитал банка Медичи во Флоренции в XV в. составлял лишь половину того, что было у Перуджи за столетие до этого; в то же время доходы генуэзского порта в начале XVI в. были все еще ниже тех, которые порт получал в последней декаде XIII в. Чиполла поставил под сомнение обоснованность общих выводов, основанных на таких доказательствах, и предположил, что подушное производство в Италии, вероятно, возросло вместе с международным разделением труда. Для ознакомления с дискуссией см.: Lopez R. Hard times and Investment in Culture, перепечатано из: A. Molho (ed.). Social and Economic Foundations of the Renaissance, New York, 1969. P. 95 – 116; Lopez R. and Miskimin H. The Economic Depression of the Renaissance Economic History Review. xiv. № 3. April 1962. P. 408–426; Cipolla C. Economic Depression of the Renaissance? // Economic History Review. XIV. № 3. April 1964. P. 519–524, с ответами Лопеса и Мискимина (P. 525–529). Более свежие изыскания, охватывающие последнюю часть xv и начало XVI веков, представляют, в общем, оптимистический отчет об итальянской торговле, финансах и промышленности: haven P. Renaissance Italy 1464–1534. London, 1966. P. 35 – 108.
200
Cipolla C. M. The Trends in Italian Economic History in the Later Middle Ages // Economic History Review. II. № 2. 1949. P. 181–184.
201
Cipolla С. М. The Decline of Italy //Economic History Review. Vol. g. № 2.1952. P. 183. Гильдии, работавшие в отраслях экспорта тканей, поддерживали высокие уровни качества и выступали против снижения заработной платы: их ткани никогда не менялись, чтобы приспособиться к изменениям моды. В результате итальянские драпировки, дорогие и вышедшие из моды, обесценились и были вытеснены с рынка.
202
Lane F. Discussion //Journal of Economic History. Vol. XXIV. December 1964. № 4. P. 466–467.
203
Увеличение политических контактов между городами и их соперничество также играли важную роль в появлении синьорий в этот период: «Все синьории Северной Италии, все без исключения, рождаются с прямой или опосредованной помощью силы, посторонней для городов, которые являются театром нового владения». Sestan E. Le Origini delle Signorie Cittadine: Un Problema Storico Esaurito? ///Bollettino dell’ Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. № 73. 1961. P. 57. Пример Флоренции см. ниже.
204
Jordan E. Les Origines de la Domination Angevine. Vol. I. P. 68–72, 274.
205
LamerJ. The Lords of the Romagna. London, 1965. P. 14–17, 76.
206
Контраст между итальянскими и немецкими городами в этом отношении особенно заметен в XV в. Рейнские и швабские города никогда не обладали, как мы увидим, аграрной периферией, которая отличала их партнеров в Ломбардии и Тоскане. Их экономический внутренний район, с другой стороны, включал горнодобывающий комплекс (серебро, медь, олово, цинк и железо) такого типа, которого не было в Италии, и развивал металлургическую промышленность значительно более быстрыми темпами, чем что-либо к югу от Альп. Таким образом, в то время как в итальянских городах были распространены профессиональные объединения, немецкие города этого периода были местом наибольшего скопления технических изобретений в Европе: печатание, переработка руды, выплавка металлов, артиллерия, часовое ремесло – фактически все ключевые технологические усовершенствования этого периода были впервые изобретены или усовершенствованы в немецких городах.
207
Осмотрительное доминирование Козимо де Медичи во Флоренции, осуществлявшееся через электоральные манипуляции, соответствовало сравнительной слабости социальной базы власти семьи. Только Лоренцо согласился мирно принять власть из-за угрозы миланского вмешательства в его пользу. О характере главенства Медичи во Флоренции и их поддержке со стороны Милана см.: Rubinstein N. The government of Florence under the Medici (1434–1494). Oxford, 1966. P. 128–135, 161, 175.
208
См. проницательный комментарий Procacci G. Storia degli Italiani. Vol. I . P. 144–147.
209
См.: Mattingly G. Renaissance Diplomacy. London, 1065. P. 58–60.
210
Конечно, степень и вид этой незаконности различны; в Романье местные тираны постепенно приобрели определенные династические нормы к XV в.: Larner J . The Lords of the Romagna. P. 78, 154.
211
Самый авторитетный исследователь Макиавелли Шабо (Chabod) считал, что верно второе, и Макиавелли выступал за создание сильного княжества в Центральной Италии, а не государства в масштабах полуострова: Scritti su Machiavelli. Turin, 1965. P. 64–67.
212
Machiavelli N. Il Principe e Discorsi sopra la Prima Deca de Tito Livio (Introduction by Giuliano Procacci). Milan, 1960. P. 26, 262. Это лучшее из последних изданий. Русский перевод цит. по: Макиавелли Н. Государь: Соч. М.; Харьков, 2001. Перевод Г. Муравьевой («Государь»), Р. Хлодовского («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»).
213
Il Principe e Discorsi. P. 77–78 Понимание Макиавелли природы и роли французского дворянства было, в конечном счете, неуверенным и путаным. В своей Ritrattoo di Cose di Francia он описывает французскую аристократию как «чрезвычайно послушную» (ossequentissimi) в отношении монархии, что полностью противоречит его позднейшим замечаниям, процитированным выше. См. Arte della Guerra e Scritti Politici Minori. Milan, 1961. P. 164.
214
Il Principe e Discorsi. P. 256.
215
Ibid. P. 255–256.
216
Ibid. P. 176.
217
Ibid. P. 70.
218
Ibid. Р.265.
219
II Principe е Discorsi. P. 97. Сравните этот тон с Боденом: «Тот, кто, опираясь только на свою собственную власть, становится суверенным правителем, без выборов, наследственного права, жеребьевки, а только в результате войны и специальных божественных воззваний, является тираном». Такой правитель «топчет естественные законы». Les Six Livres de la Republique. P. 218, 211.
220
II Principe e Discorsi. P. 53.
221
II Principe е Discorsi. Р. 72.
222
Ibid. Р. 69–70.
223
Конечно, они были не правы. Именно отсутствие связи Макиавелли с основными направлениями развития его собственной эпохи произвело на свет политическую работу общую и вневременную, что стало ясно, когда эта эпоха завершилась.
224
Например, см. II Principe е Discorsi. Р. 129–131; 309–311; 355–357. См. комментарии Шабо в Alcuni Questioni di Terminologia: Stato, Nazione, Patria nel Linguaggio del Cinquecento //L’ldea di Nazione. Bari, 1967. P. 145–153.
225
Существует несколько мимолетных пассажей у Макиавелли, которые показывают границы его доминирующей концепции государства: «невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе, что нарождается и растет слишком скоро, не успевает пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой же непогоды». II Principe е Discorsi. Р.34. Прокацци (Procacci) в своем талантливом введении играет терминами barbe e correspondenzie (корни и ветви) в доказательство того, что Макиавелли действительно обладал объективным пониманием королевского государства (Introduzione. P. L ff) Но что на самом деле, поразительно в этой фразе – это общее отсутствие продолжения ее в «Государе».
226
II Principe е Discorsi. Р. 53, 58, 104.
227
Этот эпизод см. Oman Ch. A History of War in the Sixteenth Century. N.Y., 1937. P. 96–97.
228
Это положение работы Макиавелли, которое дало старт его сенсационной «легенде» в последующие века, в общем, сглаживается сегодня его более серьезными комментаторами, как не вызывающее интереса в интеллектуальном плане. Фактически концептуально оно неотделимо от теоретической структуры его работы и не может быть вежливо проигнорировано: оно является необходимым и логичным остатком его мысли. Самая лучшая и наиболее убедительная дискуссия о реальном значении «макиавеллизма» см.: Mounin G. Machiavel. Paris, 1966. P. 202–212.
229
Passato е Presente. Р. 98; Note sul Machiavelli. P. 7; II Risorgimento. P. 95. Фраза была заимствована из цикла стихов Д’Аннунцио. Анализ проблемы итальянского единства в эпоху Ренессанса, проведенный Грамши, страдал от неявного предположения, что новые европейские монархии, объединенные Франция, Англия и Испания, были буржуазными по своему характеру (или, в крайнем случае, балансировали между буржуазией и аристократией). Он, таким образом, неправомерно сближал две отличные исторические проблемы – отсутствие единого абсолютизма в эпоху Ренессанса и последующую несостоятельность радикальных демократических революций в период Рисорджименто. Обе становятся для него доказательством провала итальянской буржуазии: первая – из-за корпоративизма и запутанности коммун в период позднего Средневековья и раннего Нового времени, вторая – из-за сговора умеренных с южными латифундистами в XIX в. Фактически, как мы видели, истина является противоположной. Именно отсутствие доминирующей феодальной аристократии предотвратило возникновение полуостровного абсолютизма и, следовательно, унитарного государства одного ранга с теми, что были во Франции или Испании; локальное наличие такого дворянства в Пьемонте позволило создать государство, которое стало трамплином для запоздалого объединения в эпоху промышленного капитализма. Неверное понимание Грамши в значительной мере отражает его доверие Макиавелли, как центральной призме, через которую он рассматривал Ренессанс, и его вера, что Макиавелли представляет «преждевременный якобизм» (особенно см. Note sul Machavelli. P. 6–7, 14–16). Макиавелли, в его собственную эпоху, спутал две разные исторических эпохи – представление, что итальянский правитель мог создать сильное аристократическое государство, создавая гражданскую милицию типичную для коммун XII в., давно уже не существовавших к тому времени.
230
Вместе с Сицилией – которая, очевидно, была еще одним регионом с сильной сословной системой, но на тот момент являлась частью Арагонского королевства: Koenigsberger H. G. The Parliament of Piedmont during the Renaissance, 1640–1560 //Studies Presented to the International Commission for the History of Representatives and Parliamentary Institutions. Vol. IX. Louvain, 1952. P. 70.
231
«Мы, как правитель, свободны и не связаны никакими законами»: заявление герцога было, конечно, прямым воспроизведением знаменитого Римского принципа. Отчет о реформах, проведенных Эммануилом Филиберто в Пьемонте, см.: Vittorio de Caprariis. L’Italia nell’Eta della Controriforma//Storia d’Italia/Nino Valeri (ed.). Vol. II. Turin, 1965. P. 526–530.
232
Перепись (perequazione) обсуждается в: Woolf S. J. Studi sulla Nobilita Piemontese nell’Epoca dell’Assolutismo. Turin, 1963. P. 69–75. Значение этого шага для общей истории абсолютизма понятно. В средневековых государствах, где не было центральной налоговой системы, в экономических интересах правителей было умножение числа феодалов, которые несли военную службу и феодальные повинности, и уменьшение числа аллодов с их безусловными владениями и, следовательно, отсутствием обязательств перед каким-либо феодальным начальником. С появлением централизованной фискальной системы положение полностью изменилось: феодальные владения выпали из системы налогообложения, потому что они должны были нести военную службу, что было теперь просто символической обязанностью, в то время как аллодиальное имущество могло облагаться налогами, как городская или крестьянская собственность. В Пруссии, фактически в то же самое время, Фридрих Вильям I осуществил в 1717 г. схожую реформу, чтобы перевести рыцарскую службу в налог, преобразовав феодальную собственность в аллодиальную. На этом закончился фискальный иммунитет дворянской собственности.
233
Quazza G. Le Riforme in Piemonte nella Prima Meta del Settecento. Modena, 1957. P. 103–106. Куазза полагает, что только Пруссия была равна или превосходила Пьемонт в военных расходах в этом веке.
234
Roberts М. The Early Vasas. Cambridge, 1968. P. 178–179. У англоязычного читателя есть счастливая возможность получить доступ к этому выдающемуся труду историка Швеции раннего периода Нового времени.
235
Выдающася личность Густава Ваза неизбежно напоминает о череде правителей-строителей государств Западной Европы: Генрихе VII, Людовике XI и Фердинанде II; его экстравагантный старший сын Эрик имел определенное сходство с яркой неустойчивостью Генриха VIII и Франциска I. Спокойное изучение таких наследственных изменений и групп может представлять больший интерес, чем обычные биографии.
236
См . Roberts М. The Early Vasas. P. 306.
237
См. Ibid. Р.440.
238
Roberts M. Gustavus Adolphus, A History of Sweden 1611–1632. i. London, 1953. P. 265–278, 293–297, 319–324.
239
Jeannin Р. L’Europe du Nord-Quest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe Siecles. Paris, 1969. P. 130.
240
Roberts M. Gustavus Adolphus, A History of Sweden 1611–1632. II. London, 1958. P. 414–415, 444. Фактически король начал свои немецкие кампании примерно с 26-тысячным войском.
241
См., например: Hecksher E. An Economic History of Sweden. Cambridge, 1954. P. 36–38; Roberts M. Introduction // Andersson I. A History of Sweden. London, 1956. P. 5 (мнение, высказанное в предисловии, противоречит, однако, самой книге; см.: P. 43–44).
242
См. Roberts М. Gustavus Adolphus, Vol. II. P. 152.
243
См. Ibid. P. 44.
244
Roberts М. Gustavus Adolphus. Vol. II. P. 57. Общее число населения сверх того включает Финляндию: в самой Швеции в тот период жило около goo тысяч чел.
245
Раздел страны в последние минуты жизни Густава Ваза путем создания этих опасных уделов, после королевской централизации на протяжении целой жизни, отражает типично феодальную черту многих первопроходцев европейского абсолютизма. Его можно сравнить с еще более резкими инструкциями по разделу владений Гогенцоллернов, оставленными в завещании самого Великого Электора, главного архитектора единого Прусского государства. Династическое наследие, с точки зрения этих правителей, всегда было потенциально делимым.
246
История и роль Рада рассматривается в эссе Робертса: Roberts М. On Aristocratic Constitutionalism in Swedish History, 1520–1720 // Essays in Swedish History. P. 14–55.
247
Oakley S. The Story of Sweden. London, 1966. P. 125.
248
Густав Адольф начал свою кампанию в Германии с армией, половина которой была набрана в Швеции. Ко времени битвы у Брейтенфельда эта доля уменьшилась до четверти. Ко времени битвы при Лютцене она была меньше десятой части (13 тысяч из 140 тысяч). Roberts M. Gustavus Adolphus. Vol. II. P. 206–207. Таким образом, воинский призыв никоим образом не освободил шведский абсолютизм от действия общих законов европейского милитаризма этой эпохи.
249
Jeannin Р. L’Europe du NordQuest et du Nord. P. 330.
250
Робертс подчеркивает, что на протяжении всего периода аристократический конституционализм никогда не одерживал победу над взрослым королем: только относительно частые случаи малолетства шведских монархов давали ему периодический шанс к возвращению: Essay in Swedish History. P. 33.
251
См. Roberts М. Sweden and the Baltic 1611–1654 // The New Cambridge Modern History. IV. P. 401
252
См. Hatton R. М. Charles XII of Sweden. London, 1968. P. 38.
253
Общие доходы упали на 40 % за десятилетие с 1644 по 1653 г. Полностью эпизод описан в эссе: Roberts М. Queen Christina and the General Crisis of the Seventeenth Century // Essays in Swedish History. P. 111–137.
254
Они были вновь отменены в 1670-х гг.: Jeannin. L’Europe du Nord-Quest et du Nord. P. 135.
255
Об этих сокращениях см.: Rosen J. Scandinavia and the Baltic //The New Cambridge Modern History of Europe. Vol.v. P. 534. В 1655 г. дворяне владели 2/3 всех ферм в стране. К 1700 г. пропорции составляли 33 % дворянской земли, 36 % королевской и 31 % принадлежало платящим налоги крестьянам. Сокращения увеличили доходы монархии, приблизительно, до 2 млн далеров в год в конце правления; 2/3 этого увеличения были получены от возвращенных земель в заморских провинциях.
256
Драматические перипетии отчуждений и возвращений шведского королевского наследия в середине XVII в., которые за короткий промежуток перегруппировали всю имущественную модель страны, в общем, интерпретируются как знак глубокой социальной борьбы за землю, в которой шведское крестьянство было, благодаря сокращениям, спасено от «ливонского крепостничества». Очень сложно принять эту точку зрения, несмотря на то что она широко распространена. Корни этой интерлюдии слишком явно связаны с личными прихотями Кристины. Ее опрометчивые дары были сделаны в мирное время и не соответствовали объективным нуждам монархии; и при этом они не были результатом какого-либо неоспоримого коллективного движения или требования со стороны дворянства. Полученные без усилий со стороны высшей аристократии, они были ею оставлены без сопротивления. Не было какой-либо классовой конфронтации на земле важностью соизмеримой с формально вовлеченными интересами. Можно предположить, что для уничтожения свобод шведского крестьянства потребовалось бы куда больше, чем безответственная королевская щедрость.
257
Rosen J. Scandinavia and the Baltic. P. 535–537.
258
Атака на Россию в 1709 г. была начата с армией около 44 тысяч человек: Hatton R. М. Charles XII of Sweden. P. 233.
259
Грубая ошибка, повлекшая это предприятие, печально известна. Может быть отмечено, что военные способности шведского абсолютизма, почти всегда были сопряжены с политической близорукостью. Его правители последовательно применяли военную силу с совершенным талантом для достижения неверных целей. Густава Адольф тщетно воевал в Германии, в то время, когда шведские долгосрочные интересы требовали захвата Дании и господства над Зундом. Карл XII устремился на Украину, подстрекаемый Британией, хотя союз с Францией и нападение на Австрию могли бы изменить весь ход Войны за испанское наследство, и спасти Швецию от полной изоляции в финале борьбы на Востоке. Династия никогда не преодолела провинциализма в своих стратегических взглядах.
260
См. Roberts М. Essays in Swedish History. P. 272–278; запрет на покупку простыми людьми дворянской земли был позже ограничен только крестьянами, в то время как брачные ограничения также были смягчены.
261
См. об этапах этого процесса и о влиянии Тринадцатилетней войны на положение крестьянства: Pach Zs. Р. Die ungarische Agrarentwicklung im 16–17 Jahrhundert. P. 38–41, 53–56.
262
Реальный индекс монетизации разных западноевропейских сельскохозяйственных систем в XVI–XVII вв. был, вероятно, значительно ниже, чем принято думать. Жан Мевре (Meuvret) отмечает, что в XVI в. во Франции, «крестьянство фактически повсеместно жило в режиме внутренней квазиавтаркии», в то время как «повседневная жизнь ремесленников, включая мелкую буржуазию, фактически регулировалась тем же принципом, а именно: жить, прежде всего, на продуктах, выращенных на собственной земле, и в любом случае продавать и покупать по минимуму»; поскольку для «удовлетворения обычных потребностей, использование золотых или даже серебряных монет никоим образом не было необходимо. Для незначительного числа обменных операций, без которых нельзя было обойтись, часто было возможно обойтись без денег». MeuvretJ. Circulation Monetaire et Utilisation Economique de la Monnaie dans la France du XVIe et du XVIIe Siecle//Etudes d’Histoire Moderne et Contem-poraine. 1947. Vol.I. P. 20. Поршнев точно характеризует общее положение как определенное противоречием между монетарной формой и натуральной основой феодальной экономики этой эпохи, и поясняет, что фискальные трудности абсолютизма повсеместно коренились в этом противоречии: Les Souleve-ments Populaires en France. P. 558.
263
См. Polisensky J. V. The Thirty Years’ War. London, 1971. P. 224–231.
264
См. Carsten F. L. The Origins of Prussia. Oxford, 1954. P. 179. Густав Адольф несколькими годами раньше захватил стратегические крепости Мемель и Пиллау в Восточной Пруссии, которые контролировали подступы к Кенигсбергу, и обложил их шведскими налогами; см. Ibid. Р. 205–206.
265
Накануне нападения Ивана IV на Казанское ханство в 1552 г., там предположительно находилось 100 тысяч русских рабов. Общее число рабов, захваченных во время набегов крымскими татарами, в первой половине XVII в. составляло более 200 тысяч человек: Vernadsky G. The Tsardom of Moscow 1547–1682. Vol. I. Yale, 1969. P. 12, 51–54.
266
См. Billington J. H. The Icon and the Axe. London, 1966. P. 110; это предмет, который требует дальнейшего исследования.
267
См. работу русского историка: Чистозвонов А. Н. Некоторые аспекты проблемы генезиса абсолютизма// Вопросы истории. 1968. Май. № 5. С. 60–61. Хотя эта статья также содержит некоторые нелепые суждения (например, об Испании), это сравнительное эссе, вероятно, является лучшей советской дискуссией о происхождении абсолютизма в Восточной и Западной Европе.
268
В тот год собравшиеся в Бранденбурге представители аристократии зафиксировали свое меланхоличное убеждение, что древние привилегии сословий были фактически «отменены и истощены так, что кажется, от них не осталось и тени». Цит. по: Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 200.
269
См. Poliśensky J. V. The Thirty Years’ War. P. 245.
270
См. Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 212–214, 220–221.
271
Stoye J. Europe Unfolding 1648–1688. N. Y., 1969. P. 31.
272
Polišenský J. The Thirty Years’ War. P. 245.
273
Hellie R. H. Enserfment and Military Change in Muscovy. ChicagoLondon, 1971. P. 95.
274
Mousnier R. Peasant Uprising. P. 157, 159.
275
Skwarczynski P. Poland and Lithuania // The New Cambridge Modern History of Europe. Vol. iii. Cambridge, 1968. P. 377.
276
В статье A. H. Сахарова подчеркивается этот контраст: Сахаров А.Н. О диалектике исторического развития русского крестьянства Вопросы истории. 1970. № 1. Январь. С. 26–27.
277
Mousnier R. Peasant Uprising. P. 174–175.
278
См. известный доклад Вернадского, который справедливо подчеркивает важность сельского рабства в России как особенность аграрной системы: Вернадский Г. Крепостничество в России // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Relazioni III. Florence, 1955. P. 244–242.
279
Некоторое представление о масштабах проблемы для правящего класса в России дает тот факт, что еще в 1718–1719 гг., т. е. намного позже того, как крепостное право было закреплено законодательно, перепись, проведенная Петром I, выявила не менее 200 тысяч беглых крепостных, что составило около 3–4% от всего населения, которые были возвращены своим бывшим хозяевам. См.: Волков М.Я. О становлении абсолютизма в России //История СССР. 1970. Январь. № 1. С. 104.
280
Полный отчет об украинской социальной структуре и революции 1648–1654 гг., см.: Vernadsky G. The Tsardom of Moscow. Vol. I. P. 439–481.
281
Переговорный процесс и условия Переяславского договора см. в: O’Brien С. В. Muscovy and the Ukraine. Berkeley – Los-Angeles, 1963. P. 21–27.
282
См. Stoye J. Europe Unfolding 1648–1688. P. 30.
283
Разница между бесконечной, плоской топографией Востока Европы, которая способствовала побегам, и более неровным и ограниченным рельефом Запада, который помогал контролировать трудовые ресурсы, отмечается в: Lattimore О. Feudalism in History. P. 55–56, и Mousnier R. Peasant Uprisings. P 157, 159.
284
Hintze О. Gesammelte Abhandlungen. Vol. I. P. 61.
285
Dorn W.L. Competition for Empire. P. 94.
286
Taylor A. J. P. The Course of German History. London, 1961. P. 19.
287
Schwarz H. F. The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century. Harvard, 1943. P. 26.
288
Kliuchevsky V.O. A History of Russia. Vol. II. London, 1912. P. 319 ( Ключевский В. О. Соч. В 9 т. Т. 2. С. 372).
289
Ibid. Р. 120. (Ключевский В. О. Соч. В 9 т. Т. 2. С. 202).
290
См. Beloff M. Russia//The European Nobility in the XVIIIth Century/A. Goodwin (ed.). P. 174–175.
291
Kliuchevsky V.O. A History of Russia. Vol. IV. P. 144–145 (Ключевский В. О. Соч. В 9 т. Т-4– С. 130).
292
См. RosenbergН. The Rise of the Junkers in Brandenburg-Prussia 1410–1563// American Historical Review. 1943. October. P. 20.
293
См. RosenbergH. Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy – The Prussian Experience
1680–1815. Cambridge, 1958. P. 78.
294
Cm. Swart K. W. Sale of Offices in the Seventeenth Century. P. 96.
295
См. Rosenberg Н. Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy – The Prussian Experience 1680–1815. Cambridge, 1958. P. 139–143.
296
Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 272.
297
Шварц, однако, отмечает, что старая высшая знать Габсбургского государства, в действительности, своим подъемом в XVII в. была обязана службе в Имперском Тайном совете: The Imperial Privy Council in the Seventeenth Century. P. 410.
298
Blum J. Lord and Peasant in Russia. P. 150.
299
См. Dvornik F. The Slavs: Their Early History and Civilization. Boston, 1956. P. 324; Ibid. P. 121–128.
300
Марк Блок понял это, ошибочно предлагая культуралистское объяснение, утверждая, что «славяне никогда не знали» разницы между передачей земли за службу и обычным подарком. См.: Bloch М. Feodalite et Noblesse Polonaises // Annales. 1939. January. P. 53–54. На самом деле, передача земли за службу была известна в Западной России с XIV по XVI в. и позже проявилась в системе поместий.
301
См. Hermann A. The Lands East of the Elbe and German Colonization eastwards // Agrarian Life of the Middle Ages. P. 476.
302
Cm. Skwarczyńsky P. The problem of Feodalism in Poland up to the Beginning of the XVI century // Slavonic and East European Review. 1955–1956. № 34. P. 296–299.
303
С.Д.Сказкин подробно останавливается на этом феномене. См.: Сказкин С. Д. Основные проблемы так называемого «второго издания крепостничества» в Средней и Восточной Европе //Вопросы истории. 1958. № 2. С. 99–100.
304
В ярком тексте Г. В. Вернадского есть великолепное определение и обсуждение существенных исторических обычаев, существовавших в российских землях. См.: Вернадский Г. В. Феодализм в России //Зеркало. 1939. Т. 14. С. 300–323. Принимая во внимание систему поместий, важно отметить, что вассальные отношения в средневековый период были искренне договорными и обоюдными, что можно увидеть из текста феодальной присяги того времени. См. Eck А. Le Moyen Age Russe. Paris, 1933. P. 195–212.
305
Однако надо отметить, что и прусский абсолютизм не брезговал принуждением, когда это было необходимо. Король-солдат запретил юнкерам все заграничные поездки без своего личного разрешения для того, чтобы обязать их нести службу в армии. См. Goodwin A. Prussia // A. Goodwin (ed.) The European Nobility in the XVIII Century. P. 88.
306
Dorwart R. A. The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia. Cambridge USA, 1953. P. 226.
307
Прусский ландтаг формально существовал до Йены, но на самом деле до 1680 г. он имел только декоративные функции. В XVIII в. он созывался только для того, чтобы приносить присягу новым монархам.
308
См. изящный анализ этого феномена в работе: Keep J.L.H. The Decline of the Zemsky Sobor // The Slavonic and East European Review. 1957–1958. N 36. P. 100–122.
309
Cm.: Seton-Watson H. The Russian Empire 1801–1917. Oxford, 1967. P. 77.
310
Распространение французского языка среди прусского, австрийского и российского правящего класса в XVIII в., бесспорно, свидетельствует об отсутствии в восточноевропейских государствах протонационалистических настроений, свойственных западноевропейскому абсолютизму в более раннюю эпоху, что стало следствием отсутствия нарождающейся буржуазии в Восточной Европе этого периода. Прусская монархия оставалась враждебной по отношению к национальным идеям вплоть до кануна объединения Германии, австрийская – до конца своего существования.
311
Самое яркое доказательство наличия четких объективных границ абсолютистской власти было длительное и успешное сопротивление российской знати попыткам царей освободить крепостных в XIX в. Из-за этого и Александр I, и Николай I – двое из самых могущественных монархов России – рассматривали крепостничество как социальные путы, но при этом своими действиями только усилили количество лично зависимых крестьян. Даже когда манифест об освобождении крестьян был провозглашен Александром II во второй половине XIX в., форма его проведения в жизнь была определена агрессивным противодействием аристократов. См.: Seton-Watson Н. The Russian Empire 1801–1917. Oxford, 1967. P. 77–78, 227–229, 393–397.
312
Это становится ясно из последней работы Ф. Блуша: Bluche F. Franęois Le Despotisme Eclaire. Paris, 1968. Эта работа представляет компаративное исследование просвещенных деспотий XVIII в. Однако ее объясняющая структура не лишена недостатков, так как автор полностью полагается на теорию порождающих примеров, в соответствии с которой утверждается, что Людовик XIV создал оригинальную модель правительства, которая вдохновила Фридриха II, который позднее вдохновил других монархов (0.344–345). Не отвергая важность достаточно оригинального феномена сознательной международной имитации государств в XVIII в., ограничения такой генеалогии достаточно очевидны.
313
Комментарии Ф. Блуша о беззаветном и доверчивом восхищении философов правителями Восточной Европы особенно саркастические и резкие. См.: Bluche F. Le Despotisme Eclaire. Paris, 1968. P. 317–340. Вольтер прославлял прусский абсолютизм в лице Фридриха II, Дидро – российский абсолютизм в лице Екатерины II; в то время как Руссо характерно приберег свое одобрение для польских помещиков, которым он посоветовал не стремиться к отмене крепостничества. Физиократы Мерсье де ля Ривьер и Де Кесней нахваливали заслуги «наследственного и легального деспотизма».
314
Иосиф II заявил, характеризуя эпоху: «Терпимость представляет собой результат того благотворного роста знаний, которые просвещают Европу и которые являются заслугой философии и усилий великих людей; это убедительное доказательство прогресса человеческого разума, который заново открыл путь через царство суеверий, проторенный столетия назад Заратустрой и Конфуцием, и который, к счастью для человечества, теперь стал столбовой дорогой монархов». См.: Padover S. К. The revolutionary Emperor, Joseph II 174-1790. London, 1934. P. 206.
315
Первая официальная схема отмены трудовых повинностей robot и распределения земли среди крестьян была предложена в 1764 г. Хофкригсратом с целью привлечения рекрутов в армию, см.: Wright W.E. Serf, Seigneur and sovereign – Agrarian Reform in Eighteen Century. Bohemia, Minneapolis, 1966. P. 56. Вся программа Иосифа должна быть рассмотрена в свете военного унижения Габсбургов в войне за Австрийское наследство и в Семилетней войне.
316
Marx-Engels. Selected Correspondence. P. 417 (рус. пер.: Маркс K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 394–396). Альтюссер выбрал этот пассаж в качестве оселка в своем знаменитом эссе «Противоречие и Сверхдетерминация» (Althusser L. Contradiction and Overdetermination//For Marx. London, 1969. P. 111–112), однако он ограничился демонстрацией общей теоретической важности формулировок Энгельса, не предложив никакого решения поднятой им реальной исторической проблемы. Выраженный Энгельсом акцент на сложном сверхдетерменированном характере подъема Пруссии особенно любопытен в свете комментариев Маркса по тому же сюжету, ибо Маркс редуцировал подъем государства Гогенцоллернов в Бранденбурге до карикатурного изображения экономической необходимости. В своей статье 1856 г. «Божественное право Гогенцоллернов» (Das göttliche Recht der Hohenzollern // Werke. Bd. 12. P. 95–101) он приписал возвышение династии просто грязной серии подкупов: «путем подкупа <…> Гогенцоллерны получили Бранденбург, овладели Пруссией и таким же путем приобрели королевское достоинство» (рус. пер.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 104). Его частная переписка с Энгельсом того же периода использует ту же фразеологию. Этот мстительный вульгарный материализм напоминает об опасности признания преимущества Маркса над Энгельсом в собственно исторической области: баланс проницательных суждений между ними двумя был здесь обычно противоположным.
317
О контексте этого решения см.: Barraclough G. The origins of Germany. P. 358.
318
См. Rosenberg H. The Rise of thejunkers in Brandenburg-Prussia 1410–1653 // American Historical Review. October. 1943. P. 1–22; January. 1944. P. 228–242.
319
Carsten F. L. The Origins of Prussia. Oxford, 1954. P. 168–169.
320
Ibid. Р. 174.
321
Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 185–189.
322
См. Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 219–221.
323
Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 236–239, 246–249.
324
См. Ibid. Р. 259–265.
325
См. Carsten F. L. The Origins of Prussia. P. 266–271.
326
О структуре и деятельности Главного общего управления см.: Dorwart R. A. The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia. P. 170–179. «Фискалам» не полагалось жалованье, они имели комиссионные от штрафов, полученных в результате успешных расследований по их инициативе.
327
Holborn H. A History of Modern Germany, 1648–1840. London, 1965. P. 192–202.
328
Ibid. Р. 38.
329
Это особенно подчеркивается марксистами. См.: среди прочего репрезентативное эссе: Lucäs. Uber einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands //Die Zerstörung der Vernunft, Neuwied. Berlin, 1962. P. 38.
330
Holborn H. A History of Modern Germany. The Reformation. P. 81–82.
331
Комментарии Брехта на тему гражданского менталитета свободных городов Германии в общем и о его родном Аугсбурге в частности, как говорил Бенждамин, едки: Benjamin W. Understanding Brecht. London, 1973. Р.119. Это вызвало любопытную критику Грамши в лишающих иллюзий размышлениях об итальянских городах того же времени. В то время как Брехт восхищался ренессансными городами Италии, то Грамши прославляет городскую Реформацию в Германии: оба искали историческую доблесть в национальных пороках другого.
332
См. Holborn Н. A History of Modern Germany. The Reformation. P. 31, 38
333
О социальных условиях в Вюртемберге и Палатинате см.: Carsten F. L. Princes and Parliaments in Germany. Oxford, 1959. P. 2–4, 341–347.
334
Carsten F. L. Princes and Parliaments in Germany. P. 392–406.
335
Carsten F. L. Princes and Parliaments in Germany. P. 350–352.
336
Ibid. P. 352.
337
См. Holborn Н. A History of Modern Germany, 1648–1840. P. 292–293.
338
Carsten F. L. Princes and Parliaments in Germany. P. 191–196, 201–204.
339
Carsten F. L. Princes and Parliaments in Germany. P. 245–246.
340
Ibid. P. 250–251.
341
См. выше (имеется в виду цитировавшееся письмо Энгельса Блоху в начале главы). Кажется, что Вебер разделял эту мысль. См. его комментарии о том, что «нападения врагов на марше» в средневековой Германии несут ответственность за тот факт, что «правители повсюду наделены сильной властью». Он делает вывод: «Именно по этой причине быстрейшее стремление в Германии к объединенному территориально государству произошло в Бранденбурге и Австрии». Economy and Society. Vol. III. P. 1051.
342
Так, в XVIII в. средняя стоимость 100 поместий в богатейшей области Бранденбурга была не более 6о тысяч талеров – около 15 тысяч фунтов стерлингов. См: Dorn W. The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century // Political Science Quarterly. Vol. 47.1932. No. 2. P. 263. Частично из-за отсутствия традиции майората множество даже крупнейших держаний были обременены долгами.
343
Оно еще доминировало в комитетах ландтага того времени, из которых мелкое и бедное дворянство было исключено, но трения между аристократией в целом и городами было намного более острыми, чем любой раскол внутри землевладельческого класса. См.: Hintze О. Die Hohenzollern und ihr Werk. Berlin, 1915. P. 146–147.
344
Goodwin A. Prussia //The European Nobility in the Eighteenth Cen tury/A. Goodwin (ed.). P. 86.
345
Holborn Н. A History of Modern Germany, 1648–1840. P. 196.
346
Vagts A. A History of Militarism. London, 1959. P. 64. До 1794 г. прусской армией командовали 895 генералов из 518 знатных фамилий. В офицерском корпусе иностранцы численно превосходили бюргеров.
347
Dorn W. Prussian Bureaucracy in the Eighteen Century. Political Science Quarterly. Vol. 46. 1931. No. 3. P. 406. В ней обсуждается деятельность палат по военным делам и доменам. Коллегиальная организация ни в коем случае не вела к административной эффективности или выполнению в Испании: контраст, бесспорно, частично должен быть объяснен различием между этическим долгом в прусском протестантизме – переменной, которой среди прочего Энгельс придает много значения в его происхождении в целом.
348
См. Goodwin А. Prussia. P. 95–97.
349
См. мнение Дорна: Dorn W. Competition for Empire. P. 174–175.
350
О роли фон Кокцеи см.: Rosenberg Н. Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. P. 122–134.
351
Блюш дает яркий пример в своей работе: Le Despotisme Eclaire. P. 83–85.
352
Holborn H. A History of Modern Germany, 1648–1840. P. 268.
353
Ibid. P. 262.
354
Фактически природным пруссаком был только один значительный политический деятель, участвовавший в реформах, – ученый фон Гумбольдт, хотя Клаузевиц, крупнейшая интеллектуальная величина того поколения, также родился в Бранденбурге.
355
Simon W. M. The Failure of the Prussian Reform Movement 1807–1819. New York, 1971, P. 88–104. Крестьяне вынуждены были платить как землей, так и деньгами в качестве возмещения за трудовые повинности их бывшим господам. Эти повинности все еще выкупались вплоть до 1865 г. Размер указанных выкупных платежей см. в: Hamerow T. The Social Foundations of German Unifi cation. Princeton, 1969. P. 37.
356
О военных реформах см: Gordon С. The Politics of the Prussian Army, 1640–1945. New York, 1964. P. 38–53, 69–70.
357
Droz J. La Formation de l’Unite Allemande 1789–1871. Paris, 1970. P. 126.
358
Gillis J. Aristocracy and Bureaucracy in Nineteenth Century Prussia // Past and Present. No. 41, December. 1968. P. 113.
359
Hamerow T. The Social Foundations of German Univefication. P. 59.
360
Landes D. Japan and Europe: Contrasts in Industrialization // The State and Economic Enterprise in Japan / W. Lockwood (ed.). Princeton, 1965. P. 162. В эссе Лэндеса проводится широкое сравнение прусского и японского развития и содержится глубокое понимание германской истории XIX в.
361
Simon W. The Failure of the Prussian Reform Movement. P. 104.
362
Cm.: Benaerts P. Les Origin es de la Grand Industrie Allemande. P., 1934. P. 31–52. У Дро имеется несколько проницательных комментариев о роли бюрократии: Droz J. La Formation de l’Unite Allemande. P. 113.
363
Важность торгового договора с Францией особо подчеркивал Гельмут Беме: Boehme H. Deutschlands Weg zur Grossmacht. Cologne. Berlin, 1966. P. 100–120,165-166. —первой, хотя и чересчур экономической работе.
364
Hamerow Т. The Social Foundations of German Unification. P. 301–302.
365
Ayçoberry P. L’Unité Allemande (1800–1871). P., 1968. P. 90.
366
Тейлор указывает, что конституция Северогерманской конфедерации 1867 г., от которой происходит имперская конституция, в действительности содержала более либеральное избирательное право, чем в любой другой европейской державе единственная содержала реальное тайное голосование, предшествуя тем самым Второму реформистскому закону в Англии и Третьей республике во Франции: Taylor A.], Р. Bismark. London, 1955. P. 98.
367
Для полноценного анализа имперской конституции Германии см.: Pinson К. Modern Germany. Its History and Civilization. New York, 1966. P. 156–163.
368
Эта формула взята из «Критики Готской программы» : Marx-Engels. Werke. Bd. 19. P. 29.
369
Engels F. The Role of Force in History. London, 1968. P. 64–65.
370
Marx-Engels. Selected Works. P. 246–247. (Рус. пер.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2–e изд. Т. 18. С. 495).
371
Ibid. Р.247. (Рус. пер.: Ibid.).
372
Это безошибочно явствует из типичного последнего исследования причин, которые привели к разделам Польши польскими историками, многие из которых занимаются не более чем все новой и новой постановкой проблемы: Lesnodarski В. Les Partages de la Pologne. Analyse des Causes et Essai d’une Théorie // Acta Polonie Historica. VII. 1963. P. 7–30.
373
Об это см.: Halecki О. From the Union with Hungary to the Union with Lithuania The Cambridge History of Poland / W. F. Reddaway et al. (ed.). Vol. i. Cambridge, 1950. P. 19–193.
374
См: Gieysztor A. History of Poland/S. Kieniewicz (ed.). Warsaw, 1968.
375
Во время работы сейма присутствовали горожане Кракова и (позднее) Вильно, но они не имели права голоса.
376
См. Tazbir J. History of Poland. P. 176.
377
См. Leslie R.F. The Polish Question. London, 1964. P. 4.
378
См . Kula W. Un Economia Agraria senza Accumulazione: La Polonia dei Seicoli XVI–XVIII //Studi Storici. N 3–4. ig68. P. 615–616. Доход, конечно, более или менее варьировался из-за заместительного характера большей части крестьянской продукции (по подсчетам Кулы, около 90 %).
379
См. Тазбир преуменьшает непосредственные практические результаты этой меры, но их мотив вполне понятен: Tazbir. History of Poland. P. 178.
380
См. Leslie R. F. The Polish Question. P. 4–5.
381
Эти кланы происходили не напрямую от племенных элементов организации, а от более поздних образований, построенных по их модели. Об общих проблемах клановой геральдики в Польше см.: Górski К. Les Structures Sociales de la Noblesse Polonaise au Moyen Age //he Moyen Age. 1967. P. 73–85. Этимологически, слово «шляхта», вероятно, происходит от старонемецкого slahta (современное немецкое Geschlecht), обозначающего семью или народ, хотя его происхождение не является абсолютно понятным. Можно заметить, что венгерское дворянство было похоже на польское по численности и характеру, опять же потому, что при его начальном формировании также присутствовали дофеодальные клановые принципы; но два этих случая нельзя смешивать, так как мадьяры были, конечно, до конца X в. кочевниками, и имели историю и социальные структуры, слишком отличающиеся от западных славян.
382
Социологический очерк см.: Zajaczkowski A. Cadres Structurels de la Nobless // Annales ESC. January-February. 1968. P. 88–102. Литовские магнаты, утверждавшие, что происходят от Гедимина или Рюрика, использовали почетный титул «князь», но эти претензии не имели юридической силы.
383
Skwarczyński A. Poland and Lithuania // The New Cambridge Modern History of Europe. Vol. III. P. 400.
384
Об этом процессе см.: Vernadsky G. Russia at Dawn of the Modern Age. P. 196–200. Книга Вернадского включает один из самых полных и доступных текстов по истории Литовского государства в главе «Западная Русь». О предпосылках и условиях Люблинской унии, частично объясняемой военным давлением Московии на Литву, см.: Ibid. Р. 241–248.
385
Tizbir J. History of Poland. P. 196. Кроме своих владений Замойский контролировал огромные «куски» королевских имений. Эти земли, принадлежавшие в Польше монархии, часто отчуждались в качестве обеспечения займов у магнате) в-кредиторов.
386
Maczak A. The Social Distribution of Landed Property in Poland from the 16th to the 18th Century // Third International Conference of Economic History. P. 461.
387
Boswell B. Poland//"The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.). P. 167–168.
388
О «Генриховых артикулах» и Pacta Conventa см.: Nowak F. The Interregna and Stephen Batory//"The Cambridge History of Poland. Vol. I. P. 372–373. Самый лучший анализ польской конституционной системы, которая появилась в тот период, сделан Скваржинским: Slwarczyński A. The Constitution of Poland Before the partitions //The Cambridge History of Poland. Vol. II. P. 49–67.
389
См . Jabłonowski H. Poland-Lithuania 1609–1648 // The New Cambridge Modern History of Europe. Vol. IV. Cambridge, 1970. P. 600–601.
390
См. Topolski J. La Regression Economique en Pologne du XVIe au XVIIIe Siecle // Acta Poloniae Historica. Vol. VII. 1962. P. 28–49.
.
391
Tazbir J. History of Poland. P. 224. Теоретически, конечно, основной налог дворянства обеспечивал основную силу для внешних войн.
392
Willetts Н. Poland and the Evolution of Russia // The Age of Expansion /Trevor-Roper (ed.). P.26g. Крупный план опустошений периода «потопа» в одном регионе, Мазовии, см.: Gieysztorowa I. Guerre et Regression en Mazovie aux XVIe et XVIIe Siecles // Annales ESC. October-November. 1958. P. 651–668, которая также показывает экономический упадок, начавшийся здесь до войны начала XVII в. Население Мазовии уменьшилось с 638 до 305 тысяч человек между 1578 и 1661 г., или примерно на 52%
393
Классическое исследование этого особого случая см.: Konopczyński L. Le Liberum Veto. Paris, 1930. Конопщинский смог обнаружить только одну параллель в истории: формальное право dissentimiento в Арагоне. Но арагонское вето на практике было сравнительно безобидным.
394
Депутат Сичинский, который первым использовал вето в 1652 г., был марионеткой Богуслава Радзивилла. Касаясь статистического анализа liberum veto за последующие сто лет, видно, что оно имело региональный аспект: 8о% депутатов, использовавших вето, происходили из Литвы или Малой Польши, см.: Konopczyński L. Le Liberum Veto. P. 217–218. Семья Потоцких держала рекорд среди магнатов по использованию вето.
395
О праве на «конфедерацию» см.: Skwarczyński P. The Constitution of Poland before the Partitions. P. 60.
396
О последних переоценках ранних планов Саксонии в Польше см.: GierowskiJ. and Kaminski A. The Eclipse of Poland //The New Cambridge Modern History of Europe. Vol. VI. P. 687–688.
397
На самом деле, хотя Варшавский договор разрешил иметь армию в 24 тысячи человек, впоследствии их набралось только 12 тысяч; так как довоенное количество войск составляло 18 тысяч человек, то результатом было еще одно уменьшение польской военной мощи. См.: Rostworowski Е. History of Poland. P. 281–282, 289.
398
Gierowski J. and Kaminski A. The Eclipse of Poland. P. 704–705. В 1650 г. население Польши насчитывало 10 миллионов человек.
399
После воцарения Августа III каждая сессия сейма (в его правление их было 13) срывалась по причине применения liberum veto.
400
Комментарий Монтескье о стране – довольно типичен для эпохи Просвещения: «Польша. Того, что мы назвали всемирными движимостями, у нее почти вовсе нет, если не считать хлеба ее полей. Несколько магнатов владеет там целыми областями и притесняет землевладельцев, стараясь выжать из них как можно больше хлеба, чтобы, продав его иностранцам, приобрести предметы роскоши, которых требует их образ жизни. Народы Польши были бы счастливее, если бы она совсем не вела внешней торговли» (De L’Esprit de Lois. Paris, 1961. Vol. II. P.23).
401
О конституции 1791 г. См.: Leslie R.F. Polish Politics and the Revolution of November 1830. London, 1956. P. 27–28.
402
Иностранные политические титулы были с явной охотой приняты шляхтой, потому что они относительно не задевали экономических интересов дворянства как класса. С другой стороны, и это тоже очевидно, что дворянство столь долго терпело прогрессирующий упадок национальной независимости именно потому, что ранее оно не смогло создать собственное централизованное государство. Если бы польский абсолютизм существовал хоть в каком-то виде, разделы лишили бы знать ее позиций в государственной машине – столь важных и доходных повсюду в Европе; и реакция на перспективы завоевания проявилась бы гораздо раньше и жестче. Финальное изменение умов и целей после запоздалой попытки создать реформированную монархию в XVIII в. также нуждается в лучшем понимании, чтобы удовлетворительно объяснить исторический опыт шляхты.
403
См. Wandruszka F. The House of Habsburg. London, 1964. P. 40–41.
404
См. Martin W. A History of Switzerland. London, 1931. P. 44.
405
Единичное появление плебейской Швейцарской конфедерации внутри аристократической и монархической Европы подчеркивает важную и общую характеристику феодального государства в позднее Средневековье: то же самое дробление суверенитета, которое существовало на «национальном» уровне, могло также работать на «международном» уровне, так сказать, позволяя аномальные разрывы и щели во всеобщей системе феодального сюзеренитета. На муниципальном уровне это было продемонстрировано итальянскими коммунами, сбросившими имперскую власть. Швейцарские кантоны достигли автономии целого региона, создав конфедерацию – аномалия, невозможная ни в какой другой политической системе, кроме европейского феодализма. Династия Габсбургов не простила им этого: 400 лет спустя для Марии Терезии Швейцария все еще была «пристанищем развратников и преступников».
406
См . Feine H. – F. Die Territorialbildung der Habsburger im deutcshen Sudwesten Zeitschrift der Savigny – Stiftung fur Rechtsgeschichte (Germ. Abt.). Vol. 67. 1950. P. 272, 277, 306. Это самый подробный разбор данного сюжета.
407
См. Mamatey V. S. Rise of the Habsburg Empire 1526–1815. New York, 1971. P.38.
408
См. Schwarz Н. F. The Imperial Privy Council in Seventeenth Century. P. 57–60.
409
См. дискуссию в книге: Ramsay G. D. The Austrian Habsburgs and the Empire // The New Cambridge Modern History. Vol. iii. P. 329–330.
410
О происхождении гренцеров (граничар) см.: Rothenburg G. The Austrian Military Border in Croatia, 1522–1747. Urbana, 1960. P. 29–65. Граничары кроме своей оборонительной роли против турок использовались как оружие династии против местной хорватской знати, которая была всегда враждебно настроена к их присутствию в пограничных зонах.
411
Mamatey V. S. Rise of the Habsburg Empire. P. 40.
412
Сам Фердинанд II заявил, что испанский посланник Оньят был «человеком, чья дружественная и искренняя помощь помогла справиться со всеми проблемами семьи Габсбургов». О решающей политической роли Оньята в кризисе см.: Chudoba В. Spain and the Empire 1529–1643. Chicago, 1952. P. 220–228.
413
О Новом земельном уложении см.: Kerner R. Bohemia in the Eightteenth Century. New York, 1932. P. 17–22.
414
Polüensky J. The Thirty Years’ War. London, 1971. P. 143–144. Конфискованные поместья в среднем превышали те, которые избежали экспроприации, поэтому действительное соотношение земель, которые поменяли владельцев, было значительно выше, чем число самих поместий.
415
Schenk H. G. Austria //The European Nobility in the 18th Century. P. 106; Kerner R. Bohemia in the Eighteen Century. P. 67–71.
416
Cm. Polüensky J. The Thirty Years’ War. P. 142, 246.
417
Stoye J. The Siege of Vienna. London, 1964. P. 92.
418
Ее кампании против Пьемонта в 1848 г. были единственным исключением.
419
См. Chudoba. Spain and the Empire. P. 247–248.
420
Stoye. The Siege of Vienna. P. 245, 257.
421
См. Kerner R. Bohemia in the Eighteenth Century. P. 25–26. Королевство Богемия включало собственно Богемию, Моравию и Силезию.
422
См. Tapie V.-L. Monarchie et Peuple du Danube. Paris, 1969. P. 144.
423
Об условиях в Нижней Австрии см.: Blum J. Noble Landowners and Agriculture in Austria 1815–1848. Baltimore, 1947. P. 176–180.
424
См. Kirdly В. Hungary in the Late Eighteen Century. New York, 1969. P. 33, 108. В ней рассматривается вопрос: была ли роль bene possessionati внутри венгерского землевладельческого класса одним из важнейших факторов, отличавших его от похожего многочисленного польского дворянства, с которым в других отношениях у него было сильное сходство.
425
См. Mamatey V. S. Rise of the Habsburg Empire. P. 37.
426
Лучшие обзорные комментарии о последовательных венгерских восстаниях этой эпохи можно найти в: McNeill W.H. Europe’s Steppe Frontier. Chicago, 1964. P P. 94–97, 147–148, 164–167.
427
Bluche F. Le Despotisme Eclaire. Paris, 1968. P. 106–110. Книга содержит краткий обзор.
428
Рекрутские наборы были введены в 1771 г. В 1788 г. Иосиф набрал 245 тысяч пехотинцев, 37 тысяч кавалеристов и goo артиллеристов для войны против Турции. См.: Mikoletzky H. L. Österreich. Das grosse 18. Jahrhundert. Vienna, 1967. P. 227, 366.
429
Wright. Serf, Seigneur and Sovereign. P. 147.
430
Kerner R. Bohemia in the Eighteenth Century. P. 44–45.
431
Изоляция режима в его последние годы хорошо передана Эрнстом Вангерманом: Wangermann E. From Joseph ii to the Jacobin Trials. Oxford, 1959. P. 28–29. Крестьяне были разочарованы ограниченностью его земельной реформы и шокированы его антиклерикализмом.
432
Все три реформистских программы (австрийская, прусская и российская) были, без сомнения, вызваны военными поражениями.
433
См. Blum J. Noble Landowners and Agriculture in Austria. Baltimore, 1948. P. 45, 202.
434
См. Ibid. Р. 71.
435
Блюм делает глубокий анализ этого постановления. Р. 235–238.
436
Tapie V.-L. Monarchie et Peuples du Danube. P. 325.
437
См. Taylor A. J. P. The Habsbourg Monarchy. London, 1952. P. 104–127.
438
См. Kiraly. Hungary in the Late Eighteen Century. P. 129–135.
439
Это подчеркивается традиционными венгерскими историками. См: Marczali Н. Hungary in the Eighteenth Century. Cambridge, 1910. P.39, 99.
440
Cm. Mamatey V. S. Rise of the Habsburg Empire. P. 64; Macartney. Hungary //"The European Nobility in the 18th Century./A. Goodwin (ed.). P. 129.
441
Единственным исключением была армия, высший командный состав которой оставался в основном австрийским вплоть до Первой мировой войны. Но, как мы видели, институциональная значимость военных учреждений австрийского государства была ниже среднего в абсолютистских государствах. Генеральный штаб сыграл фатальную роль в августовском кризисе 1914 г., но после первых военных поражений генштаб был отодвинут на задний план (в противоположность возвышению его германского аналога в Берлине), в то же время, как только началась война, политическое влияние венгров в Вене заметно усилилось.
442
Taylor A.], Р. The Habsburg Monarchy. P. 199.
443
См. Jászi O. The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago, 1929. P., 225–226..
444
См. Сахаров А. Н. О диалектике исторического развития русского крестьянства // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 21–22.
445
Есть мнение, что объем внутреннего рынка был больше в 156o-x гг., чем в середине XVII в., и доля наемного труда в рабочей силе была больше в XVI в., чем в XVIII (см. Маковский Д. И. Развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве Русского государства в XVI в. Смоленск, 1960. С.203, 206).
446
См. Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscov. Chicago, 1971. P. 24. Эта важная работа является серьезным осмыслением вопроса формирования крепостничества в России и роли служилого дворянства в начальный период существования царского государства.
447
В созыве этого института можно увидеть влияние примера Польского Сейма. Вероятно, Иван IV пытался таким образом увлечь западнорусскую литовскую знать в сферу московского влияния. См.: Billington J. The Icon and the Axe. P. 99–100.
448
Cm. Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 37, 45, 115.
449
Фраза, использованная Р. Г. Скрынниковым и процитированная А. Л. Шапиро в работе «Об абсолютизме в России» (История СССР. 1968. Май. С. 73). Статья Шапиро является ответом на эссе Авреха. процитированные выше, которое спровоцировало безудержные дебаты среди советских историков о природе и пути развития русского абсолютизма, обнаружившие чрезвычайно широкий спектр позиций в дюжине публикаций в Истории и Вопросах истории. Эта дискуссия является чрезвычайно интересной, и мы к ней еще вернемся.
450
См. схожие суждения в работах Vernadsky G. The Tsardom of Moscow. Vol. 1. P. 137–139 и Шапиро А. Л. Об абсолютизме в России… С. 73–74.
451
Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy … С. 95–97.
452
Однако было бы ошибкой преувеличивать значение длительного упадка в российской экономике, который произошел в эти годы. Д. И. Маковский представляет его как удар по растущему российскому капитализму в момент его созревания, спровоцировавший двухвековой упадок, с консолидацией класса помещиков и оформлением крепостничества. (Маковский Д. И. Развитие товарно-денежных отношений… С. 200–201). Опричнина, которую иногда описывали как спасительный антифеодальный эпизод, в этой трактовке становится преступным инструментом феодальной реакции, способным увести всю российскую историю с ее прогрессивного курса. Очевидно, что такое суждение неисторично.
453
См. Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М., 1970. С. 302. В исследовании В. И. Корецкого точнее, чем в более ранних работах, определены этапы и обстоятельства закрепощения конца XVI в.; обсуждение предполагаемого указа Годунова, текст которого так и не был найден, см. с. 123–125, 127–134.
454
О восстании Ивана Болотникова см.: AvrichP. Russian Rebels. London, 1973. P. 20–32.
455
Здравые рассуждения о политике патриарха см: Keep J. L. H. The Decline of the Zemsky Sobor // Slavonic and East European Review. N 36, 1957–1958. P 105–107; The Regime of Filaret 1619–1633 // Slavonic and East European Review. N 38. 1960. P. 334–360.
456
Cm. Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 164–174.
457
Павленко Н.И. К вопросу о генезисе абсолютизма в России //История СССР. 1970. Апрель. С. 78–79. Н. И. Павленко убедительно отвергает идею, предложенную другими участниками советской историографической дискуссии, развернувшейся вокруг известной формулы Энгельса о том, что городская буржуазия играла центральную или независимую роль в становлении российского абсолютизма – напротив, отмечая важность межфеодальных противоречий между крупными и мелкими землевладельцами. Эта идея в значительной степени используется в работе: HellieR. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 102–106, 114, 128–138.
458
Хелли признал эту идею, но так и не включил ее в собственный анализ. Главная слабость его книги заключается в чрезмерно ограниченном представлении о государстве: российское «правительство» зачастую сведено к наиболее крупным боярам и советникам в Москве, а его цели – к их личным аппетитам, что препятствует рассмотрению процесса закрепощения крестьян ( Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 146). В результате он не связывает социальный процесс закрепощения с политической структурой государства, не замечая фундаментального единства класса землевладельцев, которое и определяло эту связь. Крепостничество становится случайным и нелогичным продуктом кризиса 1648 г., непредсказуемой уступкой дворянству в тот момент, когда оно потеряло свое военное значение для государства, уступкой, которая могла никогда и не случиться (С. 134). На самом деле, очевидно, что двухвековое крепостничество в России не зависело от случайных событий одного года. Собственный анализ Хелли демонстрирует, что фундаментальные отношения между боярами и дворянами определялись не их соответствующими административными ролями или трудовыми средствами, а совместным контролем над способом производства и общими интересами по эксплуатации и усмирению крестьян. Многочисленные споры между ними всегда оставались внутри этой структурной системы: они демонстрировали инстинктивную сплоченность во время социальных кризисов, когда власть государства или частная собственность находились под угрозой крестьянского восстания.
459
Основные положения Уложения рассмотрены в работе: Vernadsky G. The Tsardom of Moscow. Vol. 1. P. 399–411. Остававшееся самоуправление Новгорода и Пскова также было ликвидировано. См.: Федосов Л. А. Социальная сущность и эволюция российского абсолютизма //Вопросы истории. 1971. Июль. С. 52–53.
460
Вычисления размера вооруженных сил в XVII в. см.: HellieR. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 267–269. Он неверно считает, что к концу 1670-х годов российская армия была «самой большой в Европе» (С. 226). На самом деле французская армия была, по меньшей мере, такой же, а может и больше. Но сравнительный размер – хотя и не выучка – московских вооруженных сил был таким же устрашающим.
461
Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 70–72.
462
Ibid. P. 372, 229.
463
Cm. Keep J. L. H. The Muscovite Elite and the Approach to Pluralism // Slavonic and East European Review. XLVIII. 1970. P. 217–218.
464
См. Волков М.Я. О становлении абсолютизма в России /\'История СССР. 1970. Январь. С. 104. Также был сформирован третий полк лейб-гвардии или придворной кавалерии.
465
См. Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 260.
466
См. Федосов И. А. Социальная сущность и эволюция российского абсолютизма… С. 57–60.
467
Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy… P. 256. О росте налогообложения см.: Avrich R Russian rebels… P. 139.
468
См. Darn W. Competition for Empire… P. 70. В 1760–х гг. прусские налоговые поступления были больше российских, в то время как население было меньше в 3 раза.
469
Единственная попытка создать структурные ограничения монархии была предпринята Голицыным, воодушевленным шведским примером, который создал в 1730 г. Тайный cовет, состоящий из олигархов; эта попытка была быстро пресечена мятежом гвардейцев.
470
Аврич рассматривает Пугачевское восстание как самый ужасный массовый бунт в Европе между Английской и Французской революциями. Его анализ социального состава бунтующих см.: Avrich P. Russian Rebels… P. 196–225. Очевиден значительный географический сдвиг в череде российских крестьянских восстаний от Болотникова до Пугачева: они прошлись широкой полосой с юга на восток, вдоль фронтирных территорий, которые меньше всего контролировались властью. Напротив, в центральных провинциях традиционной Московии – с их старыми поселениями, этнической однородностью и близостью к столице – никогда не происходили крупные восстания.
471
Дьюкс, основываясь на многочисленных документах, заключает, что «раболепие» российской знати перед самодержавием было преувеличено: скорее, между ними существовало единство. См.: Dukes P. Catherine the Great and the Russian Nobility. Cambridge, 1967. R 248–250.
472
Отсутствие радикального среднего класса в России лишило французское вторжение местной политической поддержки. Наполеон отказался отменить крепостное право во время своего вторжения в Россию, хотя крестьянские делегации в самом начале предложили ему сотрудничество, а генерал-губернатор Москвы жил в страхе перед городским или крестьянским восстанием против царского правительства. Однако Наполеон планировал договориться с Александром I после победы над ним, как он уже поступил с Францем II, и не собирался компрометировать эти планы проведением необратимых социальных мер в России. См. проницательные замечания Сетон-Уотсона в работе: Seton-Watson Н. The Russian Empire… P. 129–33.
473
О российском обществе в период правления Николая I см.: Seton-Watson Н. The Decline of Imperial Russia. London, 1964. P. 5–27.
474
См. Emmons Т. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge. 1968. P. 3–11.
475
Обычно советские историки интерпретируют личную канцелярию, которая восходила к Преображенскому приказу Петра I, как «дуалистичный» распад абсолютистской централизации и симптом административного декаданса царизма к XIX в. См.: Аврех А. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России //История СССР. 1968. Февраль. Слоо; Федосов И. А.
Социальная сущность и эволюция российского абсолютизма //Вопросы истории. 1971. Июль. С. 63.
476
Robinson Т. Geroid Rural Russia under the Old Regime. New York, 1932. P. 87–88.
477
Lenin V. I. Collected Works. V0I.3. Moscow, 1964. P. 194–195. (Цит. по: Ленин В. И. ПСС. Т.3).
478
Ibid. Р.197.
479
Ibid. Vol. 13. P. 225.
480
Ibid. Vol. 13. P. 421.
481
Ibid. Vol. 18. P. 74. (Ленин В. И. ПСС. Т. 21. С. 306–307). Важная статья «Сущность „Аграрного вопроса в России“», написанная в мае 1912 г. часто недооценивается теми, кто изучает заметки Ленина по этому предмету.
482
Robinson G. Т. Rural Russia under the Old Regime… C. 213–218.
483
History of the Russian Revolution. London. 1965. Vol. 1. R 377–379. Нужно добавить, что в 1917 г. широко распространенными были нападения деревенских жителей на крестьян – «отступников», которые воспользовались столыпинской реформой, чтобы покинуть общины и получить часть общинной земли – настолько сильным было чувство солидарности среди крестьян. См.: Owen L. The Russian Peasant Movement 1906–1917. New York, 1963. P. 153–154, 165–172, 182–183, 200–202, 209–211, 234–235.
484
Owen L. The Russian Peasant Movement 1906–1917… P. 6. Численность населения выросла с 74 миллионов в 1860 г. до 170 миллионов в 1916 г.
485
См. Robinson G. Т. Rural Russia under the Old Regime… C. 131–135.
486
См. Павлова-Сильвянская М. П. К вопросу об особенностях абсолютизма в России //История СССР. 1968. Апрель. С. 85. Сам Ленин осознавал разницу между юнкерами и дворянством, которых он характеризовал как капиталистический и феодальный классы землевладельцев соответственно. См.: Lenin V.l. Op. cit. Vol. 17. P. 390.
487
Замечательный анализ этого цикла предложен в работе Kemp Т. Industrialization in Nineteenth Century Russi. London, 1969. P. 152.
488
Cm. Von Laue Т. H. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. New York, 1963. P. 269.
489
Goldsmith R. The Economic Growth of Tsarist Russia 1860–1913 //Economic Development and Cultural Change IX. No. 3. April 1961. P. 442, 444, 470–471. Это самый тщательный анализ экономики того периода. Доля сельского хозяйства в национальном доходе в 1913 г. составляла около 44 % в европейской части России и 52 % во всей царской империи. Более точные подсчеты сложно произвести из-за неполноты статистических сведений.
490
См. Ленин В. И. Избранные сочинения. Т. 23. С. 303.
491
Lenin V. I. Selected Works. Vol. 17. P. 235, 187 (Ленин В. И. ПСС. Т. 20. С. 311). Ленин возвращается к этой теме снова и снова в своих записках в этот период. Также см.: Ibid. Vol. 17. P. 114–115, 146, 153, 233–241; Vol. 18. P. 70–77. У нас есть причины вновь позже вернуться к ключевым замечаниям этих лет.
492
Lenin V.l. Selected Works. Vol. 17. С 363. (Ленин В. И. ПСС. Т.21. С. 32). Ленин отмечает, что автономия царской бюрократии определялась только степенью проникновения в нее буржуазных элементов; ее верхи управлялись земельной знатью: Р. 390. На самом деле, вероятно, что после освобождения крепостных, знати, чтобы выжить, больше ничего не оставалось, как работать на государственный аппарат: см. Seton-Watson Н. The Russian Empire… Р. 405.
493
Ibid. P. 24. P. 44 (Ленин В. И. ПСС. Т. 31. С. 133).
494
Ibid. Р. 57 (Ленин В. И. ПСС. Т. 31. C. 151).
495
Поучительное обсуждение их противоречий см.: Seton-Watson Н. The Decline of Imperial Russia… P. 114, 126–129, 137–138, 143.
496
Цель Грамши была в противопоставлении России и Западной Европы: «на Западе были правильные отношения между государством и гражданским обществом, и когда государство находилось под угрозой, возникало гражданское общество». Note sur Machiavelli. P. 68. Мы еще вернемся к выводам этого ключевого замечания, в котором Грамши попытался проанализировать различные стратегические проблемы, возникшие перед рабочим классом в Восточной и Западной Европе в XX в.
497
Сам по себе царский империализм был, конечно, смесью феодальной и капиталистической экспансии, с неизбежным и критичным преобладанием феодального компонента. В 1915 г. Ленин выделил это важное различие, отметив что в России капиталистический империализм последнего типа полностью проявил себя в политике царизма в отношении Персии, Манчжурии и Монголии, но, в целом, военный и феодальный империализм преобладал в России. См.: Lenin V.l. Collected Works. Vol.21. P.306.
498
См. De Planhol X. Les Fondements Geographiques de l’Histoire de l’Islam. Paris, 1968. P. 39–44, 208–209.
499
Cahen C. La Campagne de Manzikert d\'Apres les Sources Musulmanes//Byzantion. 1934. Vol. IX. P. 621–642.
500
Wittek P. The Rise of the Ottoman Empire. London. 1963. P. 17–20. Эта короткая и блестящая монография – основная работа о сущности ранней османской экспансии.
501
Wittek P. The Rise of the Ottoman Empire. P. 37–46. Анализ Виттеком двойственности принципов Оттоманского государства является косвенным отражением известного разделения Ибн Халдуном истории ислама на различные периоды: кочевой асабииия (характеризующийся религиозным рвением, социальной солидарностью и значимостью военной силы) и городской фарах или диа (отличающийся экономическим процветанием, административной сложностью и культурным досугом), которые, как он считал, были несочетаемыми – городская цивилизация не была способна противостоять завоеванию кочевниками, кочевая община оказывалась неспособной изжить городскую коррупцию, что привело к историческим циклам формирования и дезинтеграции государства. Оценку Оттоманского государства Виттеком можно воспринять как тонкую трансформацию этой формулы: в Тюркском государстве эти два противоречивых принципа исламского политического развития впервые оказались в ситуации структурной гармонии.
502
Werner. E. Die Geburt einer Grossmacht – Die Osmanen. P. 19, 95. Работа Вернера – главное марксистское исследование роста Оттоманской силы; его критика невнимания Виттека к захвату земель, лежавшего в основе раннего Османского экспансионизма, однако, поддержана исследованием турецкого историка Омера Баркана.
503
Wittek P. De la Defaite d\'Ankara a la Prise de Constantinople (un demisiecle d\'histore ottomane) // Revue des Etudes Islamiques. 1948. Vol. I. P. 1–34.
504
Для Маркса это была фундаментальная характеристика всех форм, которые он, следуя длительной традиции, называл «азиатским деспотизмом». Комментируя знаменитое описание Индии эпохи Великих Моголов, он писал Энгельсу: «Бернье совершенно правильно видит, что в основе всех явлений на Востоке (он имеет в виду Турцию, Персию, Индостан) лежит отсутствие частной собственности на землю. Вот настоящий ключ даже к восточному небу» (Selected Correspondence. C. 81. Рус. пер.: Маркс K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. С. 215). Комментарии Маркса по азиатскому способу производства поднимают множество проблем, которые будут рассмотрены позже. Если использовать термин «деспотизм» для Оттоманского государства, то его следует понимать только в сугубо приблизительном и почти описательном смысле. По-прежнему сохраняется нехватка научных концепций для анализа ситуации в восточных государствах этой эпохи.
505
Gibb H. A. R., Bowen Н. Islamic Society and the West. Vol. 1. Pt 1. London, 1950. P. 236–237. Участки под жильем, виноградники и сады, расположенные внутри сельских поселений, были частной собственностью (мулъ к), также как и большая часть городской земли (значение этих исключений – садоводства и города – будет обсуждаться в их общем исламском контексте). В 1528 г. 87 % земли в Оттоманской империи составляла мири или государственная собственность: InalcikH. The Ottoman Empire. London. 1973. P. 110.
506
Shaw S. The Ottoman View of the Balkans// The Balkans in Transition. Berkley – Los Angeles/C. B.Jelavich (ed.), 1963. P. 56–60 графически передана эта концепция.
507
Термины «светский институт» и «исламский институт» были впервые введены в оборот в работе Lybyer А. Н. The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnifi cent. Cambridge USA, 1913. P. 36–38. Принятие этих терминов последующими учеными критиковалось в: Itzkowitz N. Eighteenth Century Ottoman Realities // Studia Islamica. 1962. xvi. P. 81–85. но без обоснования критики их использования применительно к XVI в.
508
См. работу: Vryonis S. Isidor Glabas and Turkish Devshirme // Speculum. XXXI. 1956. July. N 3. P433-443. Ее автор установил современную датировку этого института.
509
Inalcik H. The Ottoman Empire. P. 78; Stavrianos L. S. The Balkans Since 1453. New York, 1958. P. 84. В виде исключения в Боснии девширме распространялось и на местные мусульманские семьи.
510
Оттоманская система, конечно, имела глубокие корни в предшествовавшей мусульманской традиции. Как нам предстоит убедиться, в истории ислама были прецеденты использования рабов как элитных гвардейцев и начальников. Исторические условия правления дворцовых войск состояли в отсутствии использования рабского труда в доминирующей сфере производства – сельском хозяйстве. Страны мусульманского мира традиционно импортировали рабов, главным образом, для домашних работ и для сокращения расходов, и они всегда резко отличались от привилегированных воинов-рабов. Только в Южном Ираке (исключительный случай) при Аббасидах рабство доминировало в аграрной экономике, но это был относительно недолгий период, который спровоцировал восстания зинджей в IX в. В турецкой империи земли в некоторых поместьях, находившиеся за пределами обычной земельной системы, обрабатывались иностранными издольщиками, захваченными во время войн или купленными; но эта немногочисленная рабочая сила превратилась в обычных крестьян в течение XVI в. В то же время предусмотренная законом монополия османских султанов на землю также основывалась на более ранних исламских традициях времен первых арабских завоеваний Среднего Востока. Две характеристики турецкой системы, обсуждаемые ранее, таким образом, были не произвольным или изолированным феноменом, а кульминацией долгого и последовательного исторического развития, которого мы коснемся далее.
511
Inalcik H. The Ottoman Empire. P. 108, 113. Османская история все еще мало изучена: статистические оценки обычно разнятся в зависимости от источника. Исследование Иналджика содержит совершенно противоречивые цифры по численности сипахов по время правления Сулеймана I на с. 48 и 108.
512
Vryonis S. The Byzantine Legacy and Ottoman Forms. Dumbarton Oaks Papers. 1969–1970. P. 273–275.
513
Gibb H. A. R. and Bowen И. Islamic Society and the West. Vol. I. Pt. I. P. 46–56; Stavrianos L. The Balkans Since 1453. P. 86–87, 99–100.
514
Gibb H. A. R. and Bowen К Islamic Society and the West. Vol. I. Pt. I. P. 85–86.
515
См. работу Вебера. Economy and Society. Vol. II. P. 844, 845. Фактически Вебер воспринимал Ближний Восток как местоположение классического, как он точно сформулировал, «султанизма»: Economy and Society. Vol. III. P. 1020. В то же время он делал оговорку, что даже самый неограниченный личный деспотизм всегда действовал в ограниченных традициями идеологических рамках: «Там, где правление главным образом традиционное, даже если оно осуществляется автономно правителем, облеченным добродетелями, <…> оно будет называться наследственной властью; там где оно осуществляется в основном на основе личного усмотрения, оно будет называться султанизмом. <…> Порой кажется, будто султанизм не сдерживается традицией, но это, конечно, не так. Нетрадиционный элемент не объясняется объективными терминами, он состоит исключительно в предельном развитии личного усмотрения правителя. Это то, что отличает его от любой формы рациональной власти. Economy and Society. Vol. I. P. 232.
516
Кодекс Душана обязывал сербского крестьянина работать на земле своего хозяина два дня в неделю. По данным Иналджика, при османском правлении райя должны были сипахам три трудовых дня в год: The Ottoman Empire. P. 13. Его собственный последующий расчет работы на держателей тимаров не соответствует этим очень низким требованиям (с. 111–112). Однако нет причины сомневаться в относительном улучшении положения балканского крестьянства.
517
Inalcik Н. Ottoman Methods of Conquest // Studia Islamica. 1954. Vol. II. P. 104–116.
518
Боснийскому историку Браниславу Джурджеву принадлежит основная заслуга в освещении этого процесса социального регресса. С анализом его работы и дискуссиями, которые она спровоцировала, можно ознакомиться в статье: Vucinich W. S. The Yugoslav Lands in the Ottoman Period: the Post-War Marxist Interpretations of Indigenous and Ottoman Institutions // The Journal of Modern History. Vol. XXVII. 1955. N 3. September. P. 287–305. Акцент, сделанный Джурджевым на противоречивом характере первоначального османского влияния на общество на Балканах, противоречит преобладающим российским и турецким представлениям, которые имеют тенденцию односторонне подчеркивать только разрушение и регресс или умиротворение и процветание в качестве итога османского завоевания. Например, с советскими интерпретациями можно ознакомиться в работе 3. В.Удальцовой (Удальцова 3. В. О внутренних причинах падения Византии в XV в.//Вопросы истории. 1953. Июль. № 7. С. 120). Статья опубликована в честь goo-й годовщины падения Константинополя, автор сожалеет об этом и утверждает, что турецкое правление прямо привело к усилению эксплуатации масс сельского населения. Турецкие взгляды отражены в работе: Inal-cikH. L\'Empire Ottomane // Actes du Premier Congres International des Etudes Balkaniques etSud-Est Europeennes. Sofia, 1969. P. 81–85. Противоречия между этими двумя тенденциями отмечены в работах участников этого конгресса, включая блестящие объяснения Джурджева, суммировавшего свои суждения в: Djurdjev В. Les Changements Historiques et Ethnique chez Les Peuples du Sud Apres la Conquete Turque. P 575–578.
519
Cm. Vucinich W. S. The Nature of Balkan Society under Ottoman Rule//Slavic Review. 1962. December. P. 603, 604–605, 614.
520
Inalcik H. The Ottoman Empire. P. 128.
521
Barkan О. L. Essai sur les Donnees Statistiques des Registres de Recensement dans L’Empire Ottomane aux XVIe Siecles //Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. I. Pt. I. 1957. August. P. 27–28; помимо макроцефалии самого Стамбула (сопровождавшегося упадком Халеба и Дамаска) население 12 представленных провинциальных городов выросло примерно на 90 % в XVI в.
522
Inalcik H. Capital Formation in the Ottoman Empire // The Journal of Economic History. XXIX. 1969. № I. March. P. 108–119.
523
Lewis B. The Emergence of Modern Turkey. London, 1969. P. 393. Льюис, конечно, преувеличивает, говоря, будто «там не было государства».
524
Gibb В. Islamic Society and the West. Vol. I. Pt. I. Р. 20–21.
525
Конкретнее об использовании европейских мастеров и ремесленников Портой см.: Mousnier R. Les XVIe et XVIIe Siecles. Paris, 1954. P. 463–464, 474.
526
О феномене анатолийского левандата и восстаний джелали см. Parry V. J. The Ottoman Empire 1566–1617 // The New Cambridge Modern History. Vol. III. P. 372–374; The Ottoman Empire 1617–1648 // The New Cambridge Modern History. Vol. iv. P. 627–630.
527
См. Inalcik H. The Ottoman Empire. P. 49.
528
Inalcik H. L’Empire Ottomane. P. 96–97.
529
Stavrianos L. The Balkans since 1453. P. 121; Lewis B. The Emergence of Modern Turkey. P. 28–29.
530
InalcikH. The Ottoman Empire. P. 48.
531
См. Show S. The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517–1798. Princeton, 1962. P. 21.
532
Cm. Inalcik H. L\'Empire Ottomane. P.95.
533
См. Itskowitz N. Eighteenth Century Ottoman Realities. P. 86–87.
534
Об упадке института янычар см.: Gibb В. Islamic Society and the West. Vol. I. Pt. I. P. 180–184; Stavrianos L. The Balkans since 1453. P. 120–122, 219–220.
535
О появлении и особенностях системы илтизам в Египте см.: Shaw S. The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt. P. 29–39.
536
Болгарские историки придают большое, даже чрезмерное значение вакуфным землям в оттоманской социальной системе, считая ее феодальной по своему характеру – утверждение, справедливо отвергаемое, по моему мнению, большинством турецких историков. Так как вакуфные земли были понятием, наиболее близким к частной аграрной собственности, их размер можно было использовать как доказательство того, что феодальная сущность была скрыта за юридическими фикциями религиозно-имперского контроля. Наделе, нет причин считать, будто вакуфные земли доминировали в сельской местности на Балканах и в Анатолии или определяли базовые отношения производства в оттоманской социальной системе. Но факт их роста в эпоху оттоманского упадка хорошо доказан. Компетентное исследование феномена вакуфов осуществлено в работе: Mutafcieva V., Dimitrov S. Die Agrarverhältnisse im Osmanischen Reiches im XV–XVI Jh.//Actes du Premier Congres des Etudes Balkaniques. P. 689–702. В статье дается оценка, что вакуфные земли занимали, возможно, Уз всех земель во внутренней части страны, а на Балканах были сконцентрированы главным образом во Фракии, Эгейской области и Македонии. Они были практически неизвестны в Сербии или Морее.
537
Gibb В. Islamic Society and the West. Vol. I. Pt. I. P. 255–256. Самыми жестокими хозяевами всегда были откупщики, сразу за ними следовали религиозные власти (Op.cit. Р. 247).
538
Stavrianos L. The Balkans since 1453. P. 138–142.
539
Stoianovich T. Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy 1600–1800 // The Journal of Economic History. 1953. XII. Summer. N. 3. P. 401, 409–411.
540
Mardin S. Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire // Comparative Studies in Society and History. 1969. Vol. 11. P. 277.
541
Lewis В. The Emergence of Modern Turkey. P. 106–108.
542
Inalcik H. Land problems in Turkish History // The Moslem World. 1955. Vol. XLV. P. 226–227. Иналджик пишет, что западные законодательные понятия были полностью впервые применены к собственности на землю безусловно и безоговорочно лишь в 1926 г.
543
Даже автор самого благожелательного исследования режима младотурок приходит к заключению, что режим был неспособен создать новые институты, он попросту эксплуатировал традиционные механизмы в своих собственных целях: Ahmed F. The Yong Turks. Oxford, 1969. P. 164–165.
544
Исторические корни румынской социальной системы в позднесредневековую эпоху рассматриваются в работе: Stahl H. H. Les Anciennes Communautes Villageoises Roumaines. Asservissement et Penetration Capitaliste. Bucharest, 1969. P. 24–45. Это выдающийся труд, который проливает свет на многие аспекты социального развития Восточной Европы.
545
Тщательно составленную периодизацию всего этого процесса см.: Stahl H. Н. Les Anciennes Communautes Villageoises. P. 163–189.
546
MacNeill W. H. Europe’s Steppe Frontier 1500–1800. Chicago, 1964. P. 204.
547
О дискуссии по поводу декретов об освобождении и реакции бояр на них см. Otetea A. Le second Assservissiment des Payasans Roumains (1746–1821) //Nouvelles Stavrianos Т. The Balkans since 1453. Р. 478–479. Etudes d’Histoire i. Bucharest, 1955. P. 299–312.
548
Otetea A. Le second Servage dans les Principautes Danubiennes // Nouvelles Etudes d’Histoire ii. Bucharest, 1960. P. 333.
549
Stavrianos Т. The Balkans since 1453. P. 478–479.
550
В Албании была иная ситуация из-за исламизации населения во времена османского правления и сохранения племенных социальных отношений в горах. Турки традиционно рекрутировали албанцев в османский государственный аппарат. Реакция эпохи Гамида особенно полагалась на их лояльность. Таким образом, местная мусульманская знать предпочла независимость только в последний момент в 1912 г., когда стало очевидно, что турецкой власти на Балканах пришел конец. Следовательно, землевладельцы не пострадали от завершения османского правления. Трайбализм в высокогорье, занимавшего большую часть страны, с другой стороны, неизбежно ограничил крупное землевладение.
551
II Principe е Discorsi. Р. 26–27.
552
Ibid. P. 83–84.
553
Chabod F. Storia dell’Idea d’Europa. Bari, 1964. P. 48–52.
554
Les Six Livres de la Republique. P. 201–202. Европейские мыслители испытывали заметные затруднения для выведения терминологии, чтобы обсуждать специфику Оттоманского государства того времени. Отсюда – данный султану неуместный титул «Великий Господин». Термин «деспотизм», позднее применявшийся к Турции, был неологизмом XVIII в.
555
См. The Essays or Counsels Civil and Moral. London, 1632. P. 72.
556
The Commonwealth of Oceana. London, 1658. P. 4–5.
557
Travels in the Mogul Empire (translated Archibald Constable). Re-edited: Oxford, 1934. P. 234–238. Роскошный викторианский перевод Констебля был слегка отредактирован, чтобы сделать ближе к тексту оригинала Бернье. См.: BernierF. Voyages, I. Amsterdam, 1710. P.313, 319–320.
558
De l’Esprit des Lois. I. P. 67–66. (Рус. пер.: Монтескье. О духе законов. М., 1999. Кн. V, гл. XIX. С. 60–61).
559
Ibid., Р. 68.
560
Эти концепции обсуждаются ниже в разделе об «азиатском способе производства». См. далее.
561
Достаточно привести единственный пример, описывающий османскую общественную систему, которой мы уже касались отдельно: «При Османах развивались производственные отношения чисто феодального типа. Преобладание мелкой крестьянской экономики, доминирование сельского хозяйства над ремеслом, деревни над городом, монополия меньшинства в землевладении, присвоение прибавочного продукта крестьян правящим классом – все эти отличительные черты феодального способа производства можно обнаружить в османском обществе». См.: Werner E. Die Geburt einer Grossmacht, die Osman en. P. 305. Этот фрагмент был справедливо выбран для критики Эрнстом Манделем. См.: Mandel Е. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx. London, 1971. P. 127.
562
См. выше С. 386–387; «Переходы от античности к феодализму»
563
Такая фундаментальная необходимость отчетливо прослеживалась советским историком Зельиным в его замечательном очерке «Принципы морфологической классификации форм зависимости» (см. Зелъин К. К., Трофимова М. В. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье эллинистического периода. М., 1969. C.11–15, особенно С. 29–33). Труд Зельина содержит критику противоречий традиционных дискуссий о феодализме среди марксистов; сам он касается в основном более строгих определений форм зависимости, не феодальных и не рабских, характерных для эллинистического мира.
564
Marx-Engels. Selected Correspondence. P.38. (retranslated). Рус. пер.: Маркс К. Письмо П. В. Анненкову, 28 дек. 1846 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27.
565
См.: «Переходы от античности к феодализму».
566
Ковалевский М. Общинное землевладение: причины, ход и последствия его разложения. М., 1879. C.130–155.
567
Материалы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Из неопубликованных рукописей Карла Маркса//Советское востоковедение. 1958. № 5. С. 12. Конспект и записи, сделанные при изучении книги М. М. Ковалевского [ «Общинное землевладение, причина, ход и последствия его разложения». М., 1879]. 1879 г . Маркс К. // Советское востоковедение. 1958. № 3. С. 3–13; № 4. С 3-22; № 5. С. 3–28; Проблемы востоковедения. 1959. № 1. С. 1–17; Народы Азии и Африки. 1962. № 2. С. 3–17. Введение в рукописи сделано Л. С. Гамаюновым. См.: Советское востоковедение. 1958. № 2. С. 35–45.
568
Советское востоковедение. 1958. № 4. С. 18.
569
Советское востоковедение. 1958. № 5. С. 6. В еще одной заметке Маркса критикуется приписывание Ковалевским феодального характера турецким колониям в Алжире по аналогии с индийскими примерами: «Ковалевский окрестил его «феодальным «на слабой основе, что при определенных условиях из этого может вырасти что-то вроде индийского джагира». См.: Советское востоковедение. 1959. № 1. С. 7.
570
В частности, ясную и язвительную критику беспорядочного использования термина «феодализм» см.: Cahen С. Reflexions sur l’Usage du Mot «Feodalite» //The Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1960. Vol. III. Pt. I. P. 7–20.
571
Synallagmatic contract. Это удачный термин Бутруша. См.: Seigneurie et Feodalite. Vol. II. P. 204–207.
572
Вебер первым отметил оригинальность такого сочетания. См. его превосходный анализ в: Economy and Society. Vol. III. P. 1075–1078. В целом веберовское противопоставление «феодализма» и «патримониализма» чрезвычайно важно. Однако общее употребление им этих слов подрывается общеизвестной слабостью теории «идеальных типов», характерной для его поздних работ. Поэтому и феодализм, и патримониализм на практике используются им скорее как отдельные и атомизированные «черты», чем как единые структуры; как следствие, Вебер присваивает и смешивает их в случайном порядке; после первой работы об античности у Вебера не было собственно исторической теории. Результатом стала неспособность Вебера создать обоснованное или четкое определение европейского абсолютизма: иногда это «патримониализм», который «господствовал в континентальной Европе до Французской революции», тогда как в других случаях абсолютные монархии рассматриваются им как «уже бюрократически рациональные». Такая путаница является частью усиливавшегося формализма его последних работ. В этом смысле Гинце, который многое воспринял от Вебера, всегда был выше него.
573
Эта точка зрения хорошо обоснована Поршневым. См.: Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. С. 517–518.
574
De l’Esprit des Lois. Vol. II. P. 296.
575
Oeuvres Complètes. Paris, 1878. Vol. XXIX. P. 91.
576
Общая раздутость термина «феодализм», следует заметить, не ограничивается марксистами. Та же тенденция прослеживается в сборнике статей, авторы которых придерживаются совершенно других убеждений. См.: Feudalism in History/R. Coulborn (ed.). Большинство исследований находят феодализм там, где они его ищут.
577
Capital. Vol. i. P. 718. (Рус. пер.)
578
См. известные фрагменты в: Block М. Feudal Society. P. 446–447; Boutruch R. Seigneurie et Féodalité. Vol. i. P. 281–291. Основное сравнительное исследование европейского и японского феодализма: Joüon F. des Longrais. L’Est et L’Ouest. Paris, 1958. Документы для комментариев о японском развитии, сделанные ниже, можно найти в сносках к отдельной заметке о японском феодализме как таковом.
579
Анализ Марксом первоначального накопления (см.: Capital. Vol. I. Pt. VIII. P. 713–774), конечно, дополняет классический пример такого различия. См. также множество замечаний в «Набросках», например: «Поэтому, хотя деньги превращаются в капитал в результате предпосылок, которые предопределены и являются внешними по отношению к капиталу, так же как и капитал как таковой может возникнуть; он создает собственные предпосылки <…> через его собственный процесс производства» (Grundrisse. London, 1973. P.364).
580
Hintze О. Wesen und Verbreitung des Feudalismus // Gesammelte Abhandlungen. Vol. I . P. 90. Гинце считал, что существовали русский феодализм после Византийской империи и исламский феодализм после империи Сасанидов, которые представляли два других случая того же самого процесса. В действительности, русское развитие формировало часть общеевропейского феодализма, истинно исламский феодализм никогда не существовал. И все же рассуждения Гинце представляют большой интерес (P. 89–109).
581
Grundrisse. Р. 363–364.
582
Возрождение рабства в массовых масштабах в Новом Свете было само по себе одной из наиболее выразительных тенденций в раннее Новое время, незаменимым условием первоначального накопления, необходимым для победы промышленного капитализма в Европе. Его роль, которая выходит за рамки нашей работы, будет обсуждаться в последующих исследованиях.
583
См. завершающий фрагмент Вебера во всем его великолепии: Weber М. Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur // Gesammelte Aufsätze zur Sozial– und Wirtschaftsgeschichte. P. 310–311.
584
Энгельс мог писать: «Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных улучшений. Но бюргерская собственность средних веков была еще сильно переплетена с феодальными ограничениями, состояла, например, главным образом из привилегий. Таким образом, в этом смысле римское право по сравнению с тогдашними гражданскими отношениями ушло далеко вперед». См.: Werke. Bd. 21. Р-397– Рус. пер.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 412.
585
Marx-Engels. Selected Correspondence. P. 340. Рус. пер.: Маркс K., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 251.
586
Об этих противоречиях см. дальше.
587
О роли неоплатонизма в росте современной науки см.: Yates F. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London, 1964. P. 447–455. Если быть более точным, то очевидной предпосылкой появления физики Галилея, без сомнения, было наследие геометрии Эвклида и астрономии Птолемея.
588
Межгосударственные факторы в истории сословий прослежены Гинтце: Hintze О. Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung // Gesamelte Abhandlungen. Vol. I. R 168–170.
589
Четкий анализ ситуации в государстве Тайхо см.: Hall J. W Japan from Prehistory to Modern Times. London, 1970. P. 43–60.
590
Сравнительный анализ сёэна проведен в работе : Jouon des Longrais. L’Est et l’Ouest. Institutions dujapon et de l’Occident Comparees. Paris, 1958. P. 92–103.
591
Происхождение буси в общих чертах описывается в работе: Hall]. W. Government and Local Power in Japan 500-1700. Princeton, 1966. P. 131–133.
592
Cm. Shinoda M. The Founding of the Kamakura Shogunate 1180–1185. New York, 1960. P. 112–113, 141–144.
593
См. Развернутая дискуссия о дзито см: Hall]. W. Government and Local Power in Japan 500-1700. Princeton, 1966. P. 157–158, 182–190.
594
Cm. Shinoda M. The Founding of the Kamakura Shogunate 1180–1185. New York, 1960. P. 140.
595
Cm. Varley H. P. The OninWar. New York, 1967. P. 38–43.
596
См. Varley Н. P. The Onin War. P. 76–77.
597
См. Hall J. W. Japan from Prehistory to Modern Times. London, 1970. P. 121.
598
Текст клятвы вассала и пожалования земель в эту эпоху см.: Hall]. W. Government and Local Power injapan. Princeton, 1966. P. 253–254. Описание феодальной организации Сенгоку см. на с. 246–256.
599
На этой черте акцентирует внимание Jouon: L\'Est et L\'Ouest. P. 119–120, 164.
600
Проницательные комментарии по этому поводу принадлежат Jouon des Longrais. L’Est et l’Ouest. P. 145–147, 395–396. Следует, однако, отметить, что, несмотря на терминологическую склонность японского феодализма к псевдородственным отношениям, на практике в ту эпоху вассалитет считался более безопасным средством обеспечения преданности, чем родство феодалов; интересно, что боковые ветви семей магнатов обычно принимали вассальный статус. См.: Hall J. W. Government and Local Power in Japan.. P. 251.
601
О Сакай см.: Sansom G. A History of Japan 1334–1615. London, 1961. P. 189, 272–273, 304–305.
602
Обстоятельства, способствовавшие появлению общины Ямаширо, описаны в работе: Varley Н. P. The Onin War. New York, 1967. P. 192–204.
603
Победа Хидэёси представляла собой не столько объединение, сколько завоевание всей Японии одной лигой даймё: См. Hall J. W. Government and Local Power in Japan. P. 284.
604
Сэнсом пишет, что в реальности доля составляла примерно 2/5 из-за широко распространенного уклонения. См. Sansom G. A. History of Japan 1334–1615. London, 1961. P. 319.
605
Craig A. Choshu in the Meiji Restoration. Cambridge USA, 1961. P. 15. Начиная с правления Хидэёси земля в Японии официально измерялась в урожаях риса, исчисленного в коку (около 5 бушелей).
606
Последующие фазы этого процесса в сёгунате тщательно исследованы Totman С.: Politics in the Tokugawa Bakufu 1600–1843. Cambridge USA, 1967. P. 204–233.
607
Totman C. Politics in the Tokugawa Bakufu. P. 45, 50.
608
Akamatsu P. Meiji 1868: Revolution et ContreRevolution au Japon. Paris, 1968. P. 30.
609
См. Hall J. W. Japan from Prehistory to Modern Times. P. 169.
610
См. Craig А. Choshu in the Meiji Restoration. P. 11.
611
Craig A. Choshu in the Meiji Restoration. P. 15–16, Totman C. Politics in the Tokugawa Bakufu. P. 49–50. Причины исключительно высокой доли самураев в юго-западных феодах тозама связаны с изменением ситуации после битвы при Сэкигахаре, когда Иэясу радикально сократил владения своих врагов. Результатом стала концентрация их вассалов на меньших площадях. Феодалы тозама , в свою очередь, скрывали реальный объем производства в своих владениях чтобы минимизировать объем сокращений, инициированных бакуфу.
612
См. примерные расчеты в работе Beasley W. G. Feudal Revenues injapan at the Time of the Meiji Restoration //Journal of Asian Studies. Vol. XIX. N 3. 1960. May. P. 255–272.
613
Однако роль даймё сильно отличалась: в период Бакумацу, например, феодал Тёсю был «пустым местом», феодалы же Сацума и Тоса были политически активными.
614
Takahashi K. La Place de la Revolution de Meiji dans L\'Histoire Agraire dujapon // Revue Historique. October – December. 1953. P. 235–236.
615
Hall J. W. Japan from Prehistory to Modern Times. P. 201.
616
Hall J. W. Japan from Prehistory to Modern Times. P. 201–202. Освоение новых земель в некоторых случаях, как и в феодальной Европе и средневековом Китае, приводило к ухудшению состояния старых земель, а работы на прибрежных территориях заканчивались ужасными наводнениями. См.: Hall]. W. Tanuma Okitsugu 1719–1788. Cambridge USA, 1955. P. 63–65.
617
Новые машины для молотьбы в XVIII в. были, кажется, единственным крупным техническим изобретением в японском сельском хозяйстве того периода: Smith Т. С. The Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, 1959. P. 102.
618
Вопрос о степени этой коммерциализации вызывает споры. По мнению Крокура (Crawcour), можно без опасений утверждать, что более половины или даже 2/3 всего произведенного продавалось в той или иной форме к середине XIX в.: Crawcour Е. S. The Tokugawa Heritage // The State and Economic Enter prise in Japan / W. Lockwood (ed.). Princeton, 1965. P. 39–41. Окава (Ohkawa) и Розовский не доверяют такой высокой оценке, подчеркивая что даже в начале 1960–х гг. только 60 % продукции японского сельского хозяйства поступало в продажу: они считают, что без учета налогов индекс реальной (крестьянской) коммерциализации не превышал 20 % в 1860–х гг: A Century of Japanese Economic grow // The State and Economic Enterprise in Japan / W. Lockwood (ed.). Princeton, 1965. P. 57. Стоит подчеркнуть, что структурное различие между дворянской и крестьянской формами коммерциализации является критическим для понимания динамики и пределов развития сельского хозяйства эпохи Tokugawa.
619
В работе Smith Т. С. The Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, 1959. P. 5–64. представлен исчерпывающий анализ этой традиционной модели.
620
Общая производительность сельской экономики эпохи Токугава все еще является предметом научных споров. В своем исследовании, проверяя официальные оценки производства риса с начала эпохи Мейдзи, Накамура выстраивает гипотезы, согласно которым рост производства на душу населения составлял 23 % с 1680 по 1870 г.: Nakamura]. Agricultural Production and the Economic Development of Japan 1873–1922. Princeton, 1966. P. 75–78, 90, 137. Решительное несогласие с его допущениями, однако, было выражено Розовским, который считал урожайность, приписываемую Накамурой рисоводству эпохи Токугава, слишком высокой, так как она превышает урожайность во всех других странах Азии с муссонным климатом в XX в.: Rozovsky Н. Rumbles in the Rice-Fields: Professor Nakamura versus official Statistics //Journal of Asian Studies. Vol. XXVII. N 2. February. 1968. P.355. Две недавние статьи дают эйфоричную, но импрессионистскую оценку сельского хозяйства бакухан , без какой-либо попытки количественного исследования: Hanley S. В., Yamamura К. A Quiet Transformation in Tokugawa Economic History // Journal of Asian Studies. Vol XXX. N 2. February. 1971. P. 373–384.; Keell Choi. Technological Diffusion in Agriculture under Bakuhan System //Journal of Asian Studies. Vol. XXX. N 4. August. 1971. P. 749_759.
621
К настоящему времени современные исследования выявили около 2 800 крестьянских бунтов между 1590 и 1867 г.; еще 1 000 народных восстаний произошли в городах: Takabashi К. La Restauration de Meiji au Japon et la Revolution Francaise // Resherches Internationales. N 62. 1970. P. 78. В xix в. возросло число «внутрикрестьянских» (в противоположность антифеодальным) восстаний: Akamatsu P. Meiji 1868: Revolution et ContreRevolution au Japon. Paris, 1968. P. 44–45.
622
Sheldon C. D. The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan 1600–1868. Locust Valley, 1958. P. 33–36. Автор данного труда полагает, что деревенские старосты имели больше власти в селах, чем купцы в городах.
623
Tsukahira Т. G. Feudal Control in Tokugawa Japan: the Sankin-Kotai System. Cambridge USA. 1966. P. 96–102. Графический анализ нового городского стиля жизни, находившегося под влиянием знати и купечества в Эдо, представлен в работе: Hall]. W. Tanuma Okitsugu 1719–1788. Cambridge USA, 1955. P. 107–117.
624
После реставрации правительство Мейдзи обнародовало следующие цифры, касающиеся городской собственности в Эдо: 68,6 % были землями военных, 15,6 % принадлежали «храмам и гробницам» и только 15,8 % были собственностью горожан или чонин как таковых: Tsukahira Т. G. Feudal Control in Tokugawa Japan: the Sankin-Kotai System. Cambridge USA, 1966. P 91, 196. Тотман подсчитал, что размер всего замка Чиода составлял одну квадратную милю, а площадь одного только административного комплекса внутри главной крепостной ограды—9 акров: Totman С. Politics in the Tokugawa Bakufu 1600–1843. Cambridge USA, 1967. P. 92–95.
625
Класс чонин включал купцов и ремесленников. Здесь мы будем говорить в основном о купцах.
626
Hall J. W. Japan from Prehistory to Modern Times. London, 1970. P. 210.
627
Henderson D. F. The Evolution of Tokugawa Law // Hall J. Jansen M. Studies in the Institutional History of Early Modern Japan. Princeton, 1968. P. 207, 214, 225–228.
628
Lenin V. I. Collected Works. V0I.3. P. 65; см. также Т. I. P. 102–103; T. 2. P. 164–165. (Ленин В. И. ПСС. 5-е изд. Т. 3. С. 56).
629
Sheldon C. D. The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan 1600–1868. Locust Valley, 1958. R 100.
630
Об этом последовательном смещении центра коммерческого притяжения при сёгунате см.: Crawcour E. S. Changes in Japanese Commerce in the Tokugawa Period //Hall J., Jansen M. Studies in the Institutional History of Early Modern Japan. Princeton, 1968. P. 193–201.
631
Craig A. Choshu in the Meiji Restoration. Cambridge USA, 1961. P. 33.
632
Dore R. P. Education in Tokugawa Japan. Berkley, 1965. P. 254, 321.
633
Totman С. Politics in the Tokugawa Bakufu 1600–1843. Cambridge, 1967. P. 287.
634
Стоимость зарплат см.: Там же. Р. 82. О коррупции и покупке должностей можно узнать из высказывания потрясающе откровенного Тануму Окитсугу, главного управляющего бакуфу в конце XVIII в.: «Золото и серебро – сокровища более драгоценные, чем сама жизнь. Если человек приносит это сокровище в качестве выражения своего желания служить на какой-либо государственной должности, я могу быть уверен, что он серьезен в своем желании. Сила этого желания, очевидно, проявляется в размере его подношения». Hall М. W. Tanuma Okitsugu. P. 55.
635
Totman C. Politics in the Tokugawa Bakufu 1600–1843. P 78–80. По закону можно было обменять на деньги 1/3 налога, но в среднем обычно обменивали более 2/5.
636
Vilar Р. Oro y Moneda en la Historia. P. 103.
637
Frost P. Bakumatsu Currency Crisis. Cambridge USA, 1970. P. 9.
638
Beasley W. G. The Meiji Restoration. London, 1973. P. 51.
639
Поразительным признаком военной архаичности сёгуната являлось сохранение официального преимущества мечей над мушкетами, несмотря на опыт эпохи Сенгоку, доказавший превосходство огнестрельного оружия. Totman С. Politics in the Tokugawa Bakufu 1600–1843. P 47–48.
640
Frost P. Bakumatsu Currency Crisis. Cambridge USA, 1970. P. 41.
641
Об этом критическом эпизоде см.: Akamatsu P. Meiji 1868: Revolution et Contre-Revolution au Japon. Paris, 1968. P. 165–167.
642
См., например, классическое марксистское исследование реставрации, доступное за пределами Японии только на русском: Шигеки Тояма, Мейдзи Исин. Крушение феодализма в Японии. М., 1959. С. 183, 217–218, 241, 295. Данная работа не позволяет более подробно остановиться на вышесказанном: исторический характер реставрации Мейдзи – материал для дальнейших исследований. Взгляд Ленина на победителя в русско-японской войне и его природу, однако, следует отметить. Он полагал, что «японская буржуазия» разгромила «феодальное самодержавие» царизма: «самодержавная Россия разбита уже конституционной Японией». Lenin V.l. Collected Works. Vol. 8. P.28, 52, 53.
643
См. выше.
644
Koebner R. Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term // Thejournal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1951. Vol. XIV. P.300. В этой работе также прослеживается предыстория слова в Средневековье до того, как оно было отвергнуто в период Возрождения из-за филологической нечистоты его происхождения.
645
Aristotle. Politics. В. III. Vol. IX. P. 3.
646
Montesquieu Ch. De l\'Esprit des Lois. Pt. I. P. 64, 69. Дискурс Монтескье по поводу деспотизма не заключался только лишь в очевидной теоретизации азиатских реалий. Он также содержал зашифрованное предупреждение относительно опасности абсолютизма во Франции, который в случае отсутствия контроля со стороны «посредствующих властей» – дворянства и духовенства – мог бы, как намекает Монтескье, в конечном счете приблизиться к восточному. С этим полемическим подтекстом «Духа законов» можно ознакомиться в отличном рассуждении, содержащемся в работе: Althusser L. Montesquieu – La Politique et L\'Histoire. P. 92–97. Однако Альтюссер преувеличивает пропагандистское измерение теории деспотизма Монтескье, совершенно минимизируя ее географическое измерение. Чрезмерно политизировать значение «Духа законов» означает ограничивать значение этого произведения. На самом деле, очевидно, что Монтескье подошел к анализу реалий Востока чрезвычайно серьезно: для него они имели не просто аллегорическое значение, но являлись неотъемлемым компонентом его попытки исследования политических систем в глобальном масштабе.
647
Montesquieu Ch. De l’Esprit des Lois. Pt. I. P. 81.
648
Ibid. Pt. II. P. 168.
649
Ibid. Pt. I. P. 244.
650
Montesquieu Ch. De l\'Esprit des Lois. Pt. I. P. 291–292.
651
Наиболее известным из них был Вольтер. Будучи озабоченным скорее культурными проблемами, нежели политическими, он решительно оспаривал мнение Монтескье о китайской империи, которой Вольтер восхищался, приписывая ей рациональный гуманизм, по его мнению, присущий властям и нравам этой страны. «Просвещенный деспотизм», как мы упоминали ранее, был позитивным идеалом для многих буржуазных философов, для которых он означал подавление феодального партикуляризма: именно по той причине, по которой Монтескье, как ностальгирующий аристократ, боялся деспотизма и отвергал его. Другого рода критику «Духа законов» представляют собой идеи Анкетиля-Дюперрона, труды которого снискали положительную оценку ряда современных авторов. Он был исследователем зороастрийских и ведических священных текстов, проведшим несколько лет в Индии и написавшим в 1778 г. работу под названием «Законодательство Востока», полностью посвященную опровержению идеи о существовании деспотизма в Турции, Персии и Индии и доказательству присутствия в этих странах рациональных систем законодательства и частной собственности. Монтескье и Бернье были особо выделены Анкетилем-Дюперроном в качестве мишеней для критики (Р. 2–9, 12–13,140–142), Анкетиль-Дюперрон посвятил свою книгу «несчастным людям Индии», защищающим свои «попранные права». Он обвинил европейские теории восточного деспотизма в том, что они попросту служили идеологическим прикрытием для колониальной агрессии и ограбления Востока: «Деспотизм – это правление в тех странах, где суверен провозглашает себя владельцем всей собственности своих подданных: так давайте же станем этим самым сувереном и владельцем всего Индостана. Таковы истинные мотивы этого алчного корыстолюбия, скрывающегося под личиной предлогов, которые должны быть опровергнуты» (Р. 178). За силу выраженных в его произведении чувств идей Анкетиля-Дюперрона в дальнейшем провозгласили ранним и благородным поборником антиколониализма. Альтюссер с некоторой наивностью назвал его «Законодательство Востока» «замечательной» панорамой «настоящего Востока» в противоположность образу Монтескье. Та же оценка содержится в двух недавних работах: Venturi F. Despotismo Orientale // Rivista Storica Italiana. 1960. Vol. LXXII. N 1. P 344–345; Stelling-МгсАамМ S. Le Mythe du Despotisme Oriental // Sweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 1960/1961. Bd. 18/19. S.144–145 (вторая работа выражено следует идеям Альтюссера). На самом деле Анкетиль-Дюперрон был определенно более неоднозначной и мелкой фигурой, чем считается в этих панегириках, в чем могли бы убедиться данные авторы, проведя немного более глубокое исследование. Анкетиль-Дюперрон был скорее непринципиальным врагом колониализма в целом, чем разочарованным французским патриотом, огорченным успехами британского колониализма в вытеснении своего галльского соперника из Карнатика и со всего полуострова. В 1782 г. он написал другую книгу, L\'Inde en rapport avec l\'Europe, теперь посвященную «теням Дюпле и Лабурдоннэ», которая содержит яростные обвинения против «коварного Альбиона, незаконно захватившего трезубец океанов и скипетр Индии» и призывает к тому, чтобы «французский флаг снова величественно воспарил в Индии и на омывающих ее морях». В этой своей книге, опубликованной в период Директории в 1798 г., Анкетиль-Дюперрон утверждал, что «тигр должен быть атакован в своем логове», и предлагал организовать французскую военно-морскую экспедицию с целью захвата Бомбея, чтобы таким образом «покончить с британским владычеством за мысом Доброй Надежды» (P. I–II, XXV–XXVI). Ничего подобного читатель не может найти в проникнутой абсолютным пиететом к упоминаемой персоне биографической статье Dictionnaire Historique, во многом на основе которой позже сформировалась репутация этой фигуры.
652
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007. С. 641.
653
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 642, 681. Характерно следующее дополнение Смита: «Сведения об этих трудах, однако, доставлялись в Европу обычно слабыми и пораженными удивлением путешественниками, а часто глупыми и лживыми миссионерами. Если бы эти сведения были проверены более трезвыми глазами и исходили от более надежных свидетелей, то они, вероятно, не представлялись бы столь удивительными. Описание сооружений такого рода в Индостане, даваемое Бернье, гораздо скромнее того, что было рассказано другими, более склонными к чудесному путешественниками».
654
Гегель. Соч. Т. VIII. Философия истории. М.; Л., 1935. С. 236
655
Там же. С. 152–153.
656
Там же. С. 118–119.
657
Там же. С. 136–137.
658
Там же. С. 152.
659
Там же. С. 146.
660
Там же. С. 162.
661
Mill J. The History of British India. Vol. 1. London, 1858. P. 141–211.
662
Jones R. An Essay on the Distribution of Wealth and the Sources of Taxation. London, 1831. P. 7–8.
663
Jones R. An Essay on the Distribution of Wealth and the Sources of Taxation. London, 1831. P. 110, 112.
664
Ibid. P. 117.
665
Ibid. P. 129–130.
666
Jones R. An Essay on the Distribution of Wealth and the Sources of Taxation. P. 119, 122–123.
667
Ibid. P. 133.
668
Mill J. S. Principles of Political Economy. Vol. 1. London, 1848. P. 15.
669
Ibid.
670
Г1 – Гаррингтон, Г2 – Гегель; Б1 – Боден, Б2 – Бэкон, Б3 – Бернье; М1 – Макиавелли, М2 – Монтескье, М3 – Милль; С – Смит; Дж – Джонс.
671
Маркс – Энгельсу. В Манчестер [Лондон], 2 июня 1853 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. М., 1962. С. 215. Центральное место из работы Бернье, на которое ссылался Маркс, стоит того, чтобы его здесь воспроизвести за его стиль и тональность: «В этих трех странах – в Турции, Персии и Индостане – нет понятия о принципах „мое“ и «твое» по отношению к земле и другой недвижимости. Потеряв уважение к праву собственности, которое является всего хорошего и полезного в этом мире, они неизбежно сходятся друг с другом в важнейших вопросах: они впадают в одни и те же пагубные ошибки и должны, раньше или позже, испытать их естественные последствия – тиранию, крушение и опустошение. Насколько мы должны быть счастливы и благодарны тому, что европейские монархи не являются единственными собственниками земли! Если бы они являлись таковыми, напрасно было бы искать хорошо возделанные и многолюдные земли, благоустроенные города, культурных и преуспевающих людей. Если бы преобладал указанный принцип, реальные богатство и власть европейских властителей были бы совсем другими, так же как и те преданность и верность, с которыми им служат подданные: таким монархам вскоре пришлось бы править безлюдными местами и пустынями, нищими и варварами. Побуждаемые слепыми страстями, жаждущие быть более самовластными, чем это дозволено законами Бога и природы, азиатские монархи хватаются за все до тех пор, когда, в конце концов, они не потеряют все; домогаясь слишком большого богатства, они остаются без состояния или получают гораздо меньше по сравнению с целями своей алчности. Если бы у нас существовала та же система правления, то где бы мы могли найти принцев, священников, дворян, состоятельных горожан и процветающих купцов или искусных ремесленников?! Где бы мы могли найти такие города, как Париж, Лион, Тулуза, Руан или, если хотите, Лондон и другие?! Где бы мы должны были искать это бесконечное число городков и деревень, все эти красивые усадьбы, поля и возвышенности, обрабатываемые с такими заботой, искусством и трудолюбием?! Что сталось бы с богатыми доходами, которые они приносят как подданным, так и правителям?! Наши крупные города стали бы необитаемыми из-за их нездорового воздуха и превратились бы в развалины, не побуждающими кого-либо думать о том, чтобы возродить их. Наши возвышенности были бы заброшены и наши равнины были бы захвачены колючками и сорняками или покрылись бы мерзкими болотами». Travels in the Mogul Empire. P. 232–233.
672
Энгельс – Марксу. Манчестер, 6 июня 1853 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. С. 221.
673
Маркс – Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 14 июня 1853 т.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. М. С. 228–230.
674
Маркс К. Британское владычество в Индии //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. д. М., 1957. С. 132.
675
Там же. С. 134.
676
Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. д. С. 225.
677
Маркс К. Британское владычество в Индии //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. д. М., 1957. С. 135–136.
678
Там же. С. 136.
679
Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. д. М., 1957. С.224.
680
Маркс К. История торговли опиумом // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. М., 1958. С. 567.
681
Маркс К. Формы предшествующие капиталистическому производству//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.46. Ч. 1. М., 1968. С. 463–464.
682
Там же. С. 464.
683
Там же. С. 486.
684
Там же. С. 464, 470.
685
«В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации». Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М., 1959. С. 7.
686
Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 23. М., 1960. С. 369–370.
687
Как Гегель, так и Маркс определенно использовали общий источник. Луи Дюмон отметил, что первообразцом этих стереотипных описаний было сообщение Мунро (1806); см.: The «Village Community» from Munro to Maine // Contributions to Indian Sociology. 1966. Vol. IX. P. 70–73. Соответствующий пассаж из Мунро часто повторялся в последующие десятилетия.
688
Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд Т. 23. М., 1960. С. 371.
689
Маркс К. Капитал //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. М., 1962. С. 354.
690
Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. М., 1961. С.414.
691
Энгельс Ф . О социальном вопросе в России. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. М., 1961. С. 544.
692
Энгельс Ф. Франкский период//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 496–497.
693
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М., 1961. С. 184.
694
Там же. С. 181.
695
Там же. С. 186.
696
Достаточной иллюстрацией могут служить две работы: обширное собрание эссе Sur le \'Mode de Production Asiatique. Paris, 196g, который содержит библиографию исследований на данную тему; и общий обзор в работе Sofri G. II Modo di Produzione Asiatico. Turin, 1969.
697
Лучшим примером этой тенденции является исследование: ParrainCh. Proto-Histoire Mediterraneenne et Mode de Production Asiatique // Sur le Mode de Production Asiatique… P. 169–194. В данном исследовании обсуждаются мегалитическая, крито-микенская и этрускская социальные формации; эта работа сама по себе довольно интересна, даже несмотря на то, что с лежащими в ее основе классификациями согласиться невозможно.
698
Самыми известными работами такого типа являются два исследования Мориса Годелье: Godelier М. La Notion de «Mode de Production Asiatique» et les Schemas Marxistes d’Evolution des Societes //Sur le Mode de Production Asiatique… P. 47–100 и его же обширное предисловие к работе Sur Les Societes Pre-Capi-talistes: Textes Choisis de Marx, Engels, Lenine. Paris, 1970; особенно P. 105–142. В последнем из этих текстов также содержится, несомненно, самый скрупулезный и точный анализ эволюции взглядов Маркса и Энгельса на проблему «восточных» обществ (Р. 13-104). Классификационные выводы работ Годелье, однако, неубедительны. Подстраивая «азиатский способ производства» под племенные общества в стадии перехода от лишенных руководящего начала к государственным формам организации и, таким образом, перемещая всю идею в очень далекое прошлое, во «время» эволюции человека, он был вынужден закончить парадоксальным утверждением, объявив, хотя и с некоторым сомнением, крупные цивилизации Китая и Индии начала Нового времени «феодальными» для того, чтобы провести различие между двумя упомянутыми группами цивилизаций. Логика данной процедуры продиктовала именно такое решение (противоречия которого были показаны выше) несмотря на очевидную неудовлетворенность им самим автором; см.: Sur le Mode de Production Asiatique… P. 90–91 и Sur Les Societes Pre-Capitalistes… P. 136–137. С другой стороны, без учета всей этой некорректной авторской концепции «азиатскости», произведенное автором антропологическое обоснование различных фаз и форм перехода от племенных социальных формаций к структурам централизованного государства весьма поучительно.
699
Самым крайним вариантом такого смешения является работа сторонника, разумеется, не марксизма, но идей, которые в большей или меньшей степени можно отнести к пережиткам взглядов Г. Спенсера: Wittfogel K. Oriental Despotism. New Haven, 1957. Она представляет собой вульгарный кавардак, лишенный исторического смысла, смешивающий как попало Римскую империю, царскую Россию, хопи Аризоны, Китай империи Сун, восточноафриканских джагга, мамлюкский Египет, инков Перу, османскую Турцию и шумерскую Месопотамию – не говоря уже о Византии и Вавилоне, Персии и Гавайях.
700
См.: Thornier D. Marx on India and the Asiatic Mode of Production //Contributions to Indian Sociology. 1966. Vol. IX. P. 57; строгая и полезная статья.
701
Thorner D. Marx on India and the Asiatic Mode of Production. P. 57.
702
Dumont L. The «Village Community» from Munro to Maine… P. 76–80; Habib I. The Agrarian System of Mughal India (1556–1707). London, 1963. P. 119–124.
703
См. выше.
704
Гегель. Соч. Т. VIII. Философия истории… С. 137–147. Гегель, невозмутимо утверждая, что «равенство в общественной жизни есть нечто совершенно невозможное» и что «исходя из этого принципа, мы допускаем различие занятий и тех сословий, которыми эти занятия представлены», не мог, однако, сдержать своего отвращения по поводу индийской кастовой системы, в которой «принадлежность индивидуума к данному сословию, по существу дела, обусловливается его происхождением и тем, что он вынужден принадлежать к этому сословию. Именно благодаря этому возникающая конкретная жизненность замирает здесь и оковы препятствуют развитию едва зарождающейся жизни, благодаря этому совершенно уничтожается видимость осуществления свободы в этих различиях» (С. 138).
705
«По всей стране деревенская верхушка была союзником государства, совместно с ним получавшим выгоду от системы эксплуатации. В каждой деревне низшим слоем были неприкасаемые, доводимые жесткой эксплуатацией до состояния на грани существования. Внешняя эксплуатация деревни подкреплялась военной силой, внутренняя – кастовой системой и налагаемыми ей религиозными санкциями». Maddison A. Economic Growth and Class Structure. India and Pakistan since the Moghuls. L., 1971. P. 27. См. также: Dumont L. The Village Community from Munro to Maine… P. 74–75; Habib I. The Agrarian system of Mughal India… P. 328–338.
706
Фактически можно сказать, что единственным правильным элементом Марксовых представлений об индийской деревне был союз ремесла и земледелия; но эта черта была типичной для практически любого доиндустриального сельского общества в мире вне зависимости от его способа производства. Данная черта не обнаруживает чего-либо специфического в азиатской деревне. Более того, применительно к Индии она не исключает происходившего в значительных размерах товарного обмена между деревней и внешним миром в дополнение к внутреннему циклу труда.
707
Торнер отмечает еще большее противоречие: Маркс считал индийскую общинную собственность самой древней формой сельской собственности в мире, которая является точкой отсчета и ключом ко всем более поздним типам развития деревни. Вместе с тем, он также утверждал, что индийская деревня являлась в своей сути застойной и не подверженной эволюции, пытаясь тем самым найти квадратуру круга. ThornerD. Marx on India and the Asiatic Mode of Production… P. 66.
708
Соответствующие свидетельства будут рассмотрены нами ниже.
709
История «местоположения» России в западной политической мысли, начиная с периода Возрождения, сама по себе является важным и показательным предметом исследования, для которого мы не можем отвести места больше, чем в этой сноске. Макиавелли все еще рассматривал Россию как классическую «Скифию» античности, «землю холодную и бедную, в которой слишком много людей для того, чтобы их вынесла земля, поэтому они вынуждены переселяться с нее, многие затруднения побуждают их покинуть ее и ничто – остаться». Следовательно, России отводилось место за пределами Европы, которая, по мнению Макиавелли, кончалась Германией, Венгрией и Польшей – оплотами против дальнейших варварских вторжений на континент. См.: Machiavelli N. II Principe е Discorsi… P. 300. Боден, с другой стороны, включал «Московию» в Европу, но обособлял ее как единственный пример «деспотической монархии» на континенте в сравнении с конституционной моделью остальной части Европы, который во всем другом контрастировал с моделями Азии и Африки: «Даже в Европе князья Татарии и Московии правят подданными, называемыми холопами, иначе говоря, рабами». См.: Bodin J. Les Six Livres de La Republique. P. 201. Монтескье, напротив, двумя веками позже, хвалил российское правительство как порывающее с деспотизмом: «Посмотрите, с каким усердием московское правительство стремится освободиться от деспотизма, который тяготит его даже более, чем его народы». У него не было сомнений в том, что Россия тогда была частью европейского сообщества: «Петр I сообщил европейские нравы и обычаи европейскому народу с такой легкостью, которой он и сам не ожидал». Montesquieu Ch. De l’Esprit des Lois. Vol. I. P. 66, 325–326. Такого рода дебаты, разумеется, не могли не иметь отголоска в самой России. В 1767 г. Екатерина II официально провозгласила в своем знаменитом «Наказе» что «Россия является европейской державой». Впоследствии это утверждение ставили под вопрос лишь некоторые серьезные мыслители. Однако Маркс и Энгельс, на взглядах которых оставила глубокий след контрреволюционная интервенция царизма в 1848 г., неоднократно и анахронистично называли царизм «азиатским деспотизмом» объединяя Индию и Россию в процессе его обличения. Общему содержанию взглядов Маркса относительно истории и, в особенности, общественного развития России зачастую не хватает сбалансированности и сдержанности.
710
Иногда предполагают, что Маркс, возможно, не упоминал Китай в первоначальных дискуссиях 1853 г. по поводу азиатского деспотизма из-за своей осведомленности о том, что частная собственность на землю в Китайской империи XIX в. существовала. В своей статье, написанной 1859 г., Маркс цитировал сообщение британского источника, в котором, помимо прочего, упоминалось о наличии крестьянской собственности в Китае. См.: Маркс К. Торговля с Китаем // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. М., 1959. С. 566. В «Капитале» также имеется утверждение, которое подразумевает, что система собственности в китайской деревне была более передовой – то есть менее общинной, – чем в деревне индийской, (см.: Маркс К. Капитал// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I.M., 1961. С.366). Однако на самом деле, как показывают рассмотренные выше утверждения, Маркс определенно не делал какого-либо серьезного различия между системами Китая и Востока в целом.
711
Маркс К. История торговли опиумом // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. М., 1958. С. 567; Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор /Там же. Т. 7. М., 1956. С. 234; Маркс К. Персия и Китай // Там же. М., 1958. С. 218; Маркс К. Революция в Китае и в Европе//Там же. Т. 9. С. 99.
712
Маркс К. Китайские дела // Там же. Т. 15. М., 1958. С. 529.
713
Там же. С. 529–530.
714
Там же. С. 530–531. Разумеется, рядовым тайпинам было формально предписано проявлять воздержанность и проявлять дисциплину в пуританском стиле.
715
Как правильно подчеркивает Эрнест Мандел, первоначальная функция «азиатского способа производства» для Маркса и Энгельса заключалась в попытке объяснения «особого развития Востока по сравнению с Западом и европейским Средиземноморьем»: Mandel E. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx. L., 1971. P. 128. В этой книге содержится самая глубокая марксистская критика «общинно-племенных версий» «азиатского способа производства» (см. Р. 124–132). Однако работа страдает чрезмерным доверием к его «гидравлическим версиям». Мандел справедливо упрекает Годелье и других авторов в «постепенном сведении характеристик азиатского способа производства к тем, которые присущи каждому раннему проявлению государства и правящих классов в обществе, основанном преимущественно на сельской общине» и верно подчеркивает, что «в работах Маркса и Энгельса идея азиатского способа производства связана не только с какими-то первобытными индийским и китайским обществами, затерянными в тумане прошлого, но с индийским и китайским обществами, которыми те были, когда европейский промышленный капитал в XVIII в. вступил во взаимодействие с ними накануне завоевания (Индия) или широкомасштабного проникновения (Китай) капитала в эти страны». Такие общества были «вовсе не первобытными в том смысле, будто там не было четко определенных или сложившихся классов» (Р. 125, 127, 129). Однако Мандел недооценивает ту степень, в которой причиной этой путаницы являлся сам Маркс. С другой стороны, подтверждая главенство гидравлической функции, выполняемой высокоразвитым – на самом деле гипертофированным – государством в рамках азиатского способа производства, он недостаточно сознает ее фактическую уязвимость.
716
О социальной подоплеке возникновения ислама см.: Watt М. Muhammad at Mecca. Oxford, 1953. P. 16–20, 72–79, 141–144, 152–153.
717
Lewis В. The Arabs in History. London, 1950. P. 29.
718
Lokkegaard F. Islamic Taxation in the Classical Period. Copenhagen, 1950. P. 20, 32.
719
См. Mantran R. L’Expansion Musulmane (Vlle-XIe Siecles). Paris, 1969. P. iog-106, 108–109; Lewis B. The Arabs in History… P. 57.
720
Cm. L0kkegaardF. Islamic Taxation in the Classical Period… P. 77.
721
Ibid. P. 49.
722
Cm. Levy R. The Social Structure of Islam… P. 401; De Planhol X. Les Fondements Geographiques de l’Histoire de lTslam… P. 54.
723
См. характерные ремарки, содержащиеся в работе: Lokkegaard F. Islamie Taxation in the Classical Period… P.44, 50.
724
Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1964. P. 1–2, 200–201.
725
Ibid. P. 54–55, 84–85.
726
Как отмечает Шахт, «теория исламского права разработала лишь некоторые зачатки особого права относительно земельных участков; условия владения землей на практике часто отличались от теории, варьируясь в зависимости от места и времени». См.: Schlacht]. An Introduction to Islamic Law… P. 142.
727
См. Cahen C. L’Islam des Origines au Début de l\'Empire Ottomane. Paris, 1970. P. 109. Относительно состояния сельского хозяйства в эту эпоху в целом см.: Р 107–113. Книга Каэна представляет собой наиболее основательное современное обобщение арабской эпохи истории ислама.
728
Cahen C. L’Islam… Р. 103. Автор настаивает на различении между первоначальными завоеваниями VII в. и более поздними разрушительными вторжениями кочевников, склоняясь к тому, чтобы считать самыми пагубными из них нашествия немусульман-монголов в XIII в. (Р. 247). Исследование де Планьоля отличает гораздо более широкий охват, так как он наглядно рассматривает процесс бедуинизации в рамках исламского хозяйства в целом. См.: De PlanholX. Les Fondements Geographiques de l’Histoire de lTslam. P. 35–37.
729
Относительно изменений форм и функций икта см.: Cahen R. L’Evolution de l’Iqta du Xie au Xlle Siecle // Annales ESC. January – March. 1953. N 1. P. 25–52.
730
Можно рекомендовать читателю обратиться к запоминающимся страницам работы: De PlanholX. Les Fondements Geographiques… P. 54–57. Ибн-Хальдун с типичным презрением смешивает крестьян со скотоводами в общих нападках на них как на примитивных жителей сельской глуши. Как отмечает Ш. Гойтейн, для него «феллахи и бедуины одинаково находятся за пределами цивилизации». См.: Goitein S. The Mediterranean Society… Vol.i. P. 75.
731
Sourdel D., Sourdel J. La Civilisation de l’Islam Classique. Paris, 1968. P. 272–287. В этом отрывке прослеживаются роль и судьба гидротехнических работ в периоды Омейядов и Аббасидов; см, особенно, С. 279 и 289. Авторы отмечают, что ирригационная система Ирака была в полном упадке задолго до монгольских нашествий, которым позже часто приписывалось ее разрушение. Подземные канаты Персии, разумеется, возникли более чем тысячелетием ранее исламского завоевания, являясь важной особенностью еще государства Ахеменидов. См.: Goblot H. Dans lAncien Iran, Les Techniques de l’Eau et la Grande Histoire Annales esc, May – June. 1963. P. 510–511.
732
Таинственное крушение великой плотины Мариба в Йемене совпало с перемещением центров экономической и социальной жизни в vi в. н. э. из Южной Аравии в Северную. Энгельс осознавал контекстуальное значение упадка Йемена для возвышения ислама в Хиджазе, хотя он относил это явление к более раннему периоду и слишком однозначно приписывал его эфиопскому нашествию. См.: Энгельс – Марксу. Манчестер, 6 июня 1853 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2–е изд. Т. 28. С. 221–222.
733
Данная фраза принадлежит К. де Планьолю: De Planhol X. Les Fondements Géographiques de l’Histoire de l’Islam… P. 57. Более оптимистичную оценку можно найти в работе: Cahen С. Economy, Society, Institutions // The Cambridge History of Islam. Vol. 2. Cambridge, 1970. P. 511–512. Планьоль некритически приравнивает модели сельского хозяйства исламского мира к сельскому хозяйству классической античности и делает некорректные обобщения, однако его конкретный географический анализ конечных результатов пренебрежения обработкой земли в мусульманском мире во многих случаях представляется весьма исчерпывающим.
734
О плантациях, на которых использовался труд зинджей, см.: Lewis В. The Arabs in History… P. 103–104.
735
PlanholX. Les Fondements Geographiques…P. 57; Miquel A. L’lslam etSa Civilisation, Vlle-XXe Siecles. Paris, 1968; Habib I. Potentialities of Capitalist Development in the Economy of Mughal India // The Journal of Economic History. Vol. XXIX. March. 1969. P. 46–47, 49.
736
См. LombardМ. L’Islam dans sa Première Grandeur (VlleXIe Siècles). Paris, 1972. P. 121; Von Grunebaum G. Classical Islam. London, 1970. P. 100. Фон Грюнебаум, напротив, оценивает численность населения Багдада в 300 тысяч человек. Каэн считает невозможным точно оценить население какоголибо из таких городов той эпохи, как Багдад. См.: Cahen С. Economy, Society, Institutions… Р. 521. Предостережения Р. Мантрана относительно оценок Ломбаром масштаба урбанизации в раннеисламский период содержатся в следующей работе: Mantran R. L’Expansion Musulmane. P. 270–271.
737
Наиболее важным трудом, в котором рассматривается данная проблема, является работа: Rodinson М. Islam and Capitalism. London, 1974. P. 28–35. Родинсон также успешно критикует веберовское утверждение о том, что исламская идеология в целом враждебна рациональной экономической активности (Р. 103–117).
738
См. дискуссию в работе: Udovitch A.L. Commercial Techniques in Early Medieval Islamic Trade//Islam and Trade in Asia/D.S. Richards (ed.). Oxford, 1970. P. 37–62.
739
Конкретные примеры см. в работе: Goitein S. D. Studies in Islamic History and Institutions. Leiden, 1966. P. 236–239.
740
Sourdel D., SourdelJ. La Civilisation de l’lslam Classique. P. 424–427.
741
Planhol X. Les Fondements Geographiques… P. 48–52. В работе показана яркая картина типичного беспорядка исламских городов, хотя она, возможно, отнесена им к слишком раннему периоду. См. для сравнения: Sourdel D., SourdelJ. La Civilisation de l’Islam Classique. P. 397–399, 430–431.
742
Наиболее свежим исследованием, подтверждающим полное отсутствие гильдий в мусульманских странах до конца XV в., является работа: Baer G. Guilds in Middle Eastern History // Studies in the Economic History of the Middle East/M.A.Cook (ed.). London, 1970. P. 11–17.
743
Эти характеристики упомянуты в работе: Lapidus I. М. Muslim Cities in the Later Middle Ages. Cambridge USA, 1967. P. 170–183 (о бандах уголовников и шайках нищих) и Muslim Cities and Islamic Societies //Middle Eastern Cities / G. Lapidus (ed.). Berkley-Los Angeles, 1969. P. 60–74 (о малом количестве оформившихся городских сообществ и недостаточной самообеспеченности городов). Лапидус возражает против традиционного противопоставления средневековых западноевропейских и мусульманских городов, но его собственные оценки наглядно подтверждают это.
744
См. Lapidus I. М. Muslim Cities in the Later Middle Ages… P. 107–113.
745
Sourdel D., SourdelJ. La Civilisation de l\'lslam Classique… P. 327.
746
Некоторые незаконченные мысли по этому поводу можно найти в работе: Levy R. The Social Survey of Islam… P. 74–75, 417, 445–450. Достаточно систематического исследования данного феномена пока не существует. Как отмечает Казн, рабы-гвардейцы были не слишком заметны на «исламском западе» (в Испании и Северной Африке), который в политическом отношении был менее развитой зоной. См.: Cahen С. L’lslam… Р. 149.
747
Последний из упомянутых случаев, возможно, потому, что он является хронологически наиболее поздним, представляет собой особенно яркий и документально подтвержденный пример тех политических целей, которым служили эти гвардейские формирования. Кавалерийские отряды гулямов -грузин специально создавались династией с целью обезопасить ее от волнений кызыл-башских племен, которые когда-то привели дом Сефевидов к власти. См.: Savory М. R. Safavid Persia //The Cambridge History of Islam. Vol. 1. Cambridge, 1970. P. 419–430.
748
См. Lewis В. The Arabs in History… P. 65–66.
749
Фраза взята из работы: Gabrieli F. Muhammed and the Conquest of Islam. London, 1968. P.m.
750
Cm. Lewis B. Arabs in History… P. 65–66.
751
Точный социальный состав и значение устроенного Аббасидами переворота стали предметом многих споров. В рамках традиционной точки зрения он трактовался главным образом как народное и этническое восстание неарабов- мавали , хотя участие в нем арабских племенных группировок (по происхождению йеменских) всегда признавалось. То значение, которое приписывалось роли религиозных «ересей» в движении, было подвергнуто сомнению Казной; см.: Cahen С. Points de Vue sur la Revolution Abbaside // Revue Historique, 1963. Vol. ccxxx. P. 336–337. Самый недавний и полный анализ предпосылок восстания содержится в работе: Shaban М. A. The Abbasid Revolution. Cambridge, 1970. Основной акцент в данном исследовании делается на недовольстве арабских поселенцев в Хорасане, которые из-за консервативной административной политики Омейядов были подчинены традиционной власти местных персидских дикхан (Р. 158–160). В любом случае очевидно то, что восставшая армия, которая начала свержение халифата с центром в Дамаске с захвата Мерва, в действительности состояла как из арабских, так и из иранских элементов.
752
См. Lewis В. The Arabs in History… P. 83–85.
753
Гойтейн назвал период, ознаменовавшийся укреплением власти Аббасидов, «посреднической» цивилизацией ислама, простиравшейся во времени между эпохами эллинизма и Возрождения, в пространстве – между Европой/Африкой и Индией/Китаем, по характеру – между светской и религиозной культурами. См.: Goitein S. D. Studies in Islamic History and Institutions…P. 46ff.
754
После произошедшей в Центральной Азии в 751 г. битве при Таласе, в которой арабские войска разбили уйгурские и китайские армии. В качестве общих исследований о торговой и промышленной активности в исламском мире периода Аббасидов можно рекомендовать следующие работы: Hitti Р. К. History of the Arabs. London, 1956. P. 345–349; Sourdel D., SourdelJ. La Civilisation de l’lslam Classique… P. 289–311, 317–324; LombardM. L’lslam dans sa Premiere Grandeur… P. 161–203 (данная работа особенно информативна в той части, которая посвящена работорговле – одной из значительных статей торговли в период Аббасидов, – опиравшейся на внутренние районы тюркского и славянского миров, а также Африки). Относительно распространения хлопка см.: Miquel A. L’Islam et Sa Civilisation… P. 130.
755
Этим различным восстаниям посвящен острый анализ в работе: Lewis В. The Arabs in History… P. 103–112. С точки зрения этого автора, карматский режим в регионе залива, по-видимому, был ближайшим из когда-либо существовавших исламских эквивалентов города-государства классической античности – сообществу равных граждан Спарты, в основе которого лежало сельскохозяйственное рабство. В итоге государство карматов было уничтожено в конце XI в.
756
Goitein S. D. A Mediterranean Society. Vol 1. Economic Foundations. Berkeley, Los Angeles, 1967. P. 44–45.
757
См. Goitein S. D. A Mediterranean Society… P. 35–38.
758
Можно обратиться к следующим двум сравнительным демографическим исследованиям: Ratai R. Nomadism: Middle Eastern and Central Asian //Southwestern Journal of Anthropology, 1951. Vol. 7. N 4. P. 401–414; Bacon E. Types of Pastoral Nomadism in Central and South-West Asia // Southwesternjournal of Anthropology. 1954. Vol. 10. N 1. P. 44–65. Патаи предложил упорядоченную систему оппозиций между тюркским и арабским кочевничеством (лошадь – верблюд, юрта – шатер, лук – меч, экзогамия – эндогамия и т. п.). Бэйкон справедливо критиковал данную схему за отсутствие адекватной исторической перспективы, указывая на то, что Патаи некорректно спроецировал на более ранний период культуру ведения сельского хозяйства казахами в XVIII–XIX вв., и за неверное предположение о том, что у кочевников Центральной Азии уровень классового расслоения был выше, чем в Юго-Западной Азии. Однако каждая из этих статей по-своему подтверждает отмеченные выше ключевые различия: у тюркских кочевников не было устойчивого симбиоза с оседлым сельским хозяйством (Bacon Е. Op. cit. Р. 46, 52), зато они являлись доминирующей «культурой» в Центральной Азии, тогда как «культура» арабских кочевников занимала подчиненное положение в Юго-Западной Азии (Patai R. Op. cit. Р. 413–414).
759
Исследование роли мушкетов и артиллерии в османской, могольской и сефевидской армиях было проведено в энциклопедической статье «Bārūd» (порох) следующего издания: Encyclopaedia of Islam (New Edition). Vol.i. Leiden, 1967. P. 1061–1069. Неудача попытки мамлюков освоить полевую артиллерию и ружья рассматривается в работе: AyalonD. Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. London, 1956. P. 46–47, 61–83.
760
Завоевание узбеками Трансоксианы впервые привело к тюркизации ее населения, ускорив ее экономическую стагнацию и упадок. Попытки моголов вернуть Мавераннахр в XVII в. не имели успеха: в 1645–1647 гг. растянутые коммуникации едва не привели Аурангзеба к катастрофе, которую удалось предотвратить только благодаря преобладающей огневой мощи его армии.
761
См.: Lambton A. Landlord and Tenant in Persia. Oxford, 1953. P. 61, 66, 105–106 (о сельджуках и Сефевидах); Gibb H., Bowen H. Islamic Society and the West. Vol. 1. Part 1. P. 236–237 (об османах); Moreland W.H. India at the Death of Akbar. London, 1920. P. 256 (о моголах).
762
Goitein S. D. A Mediterranean Society… Vol. 1. P. 149.
763
См.: Bāhriyya // Encyclopaedia of Islam (New Edition). Vol. 1… P. 945–947.
764
Клод Каэн предположил, что положительное сальдо, достигнутое средневековым исламским миром в его внешнеторговых расчетах отчасти благодаря наличию у него бóльших запасов драгоценных металлов, было само по себе отрицательным стимулом для увеличения объема производства; ибо у него редко возникал тот торговый дефицит, который побуждал западноевропейские экономики того же времени производить больше продукции на экспорт. См.: Cahen С . Quelques Mots sur le Déclin Commercial du Monde Musulman à la Fin du Moyen Age // Studies in the Economic History of the Middle East / M. A. Cook (ed.). London, 1970. P. 31–36.
765
Например, мамлюкские эмиры в Сирии умышленно избавлялись от запасов зерна в городах за счет местных торговцев, вынуждали последних покупать товары по завышенным ценам, часто конфисковывали их капитал. См.: Lapidus I. М. Muslim Cities in the Later Middle Ages. Cambridge, 1967, P. 51–57.
766
Baer G. Guilds in Middle Eastern History… P. 27–29.
767
Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1964. P. 4, 89–90, 94; Law and Justice // The Cambridge History of Islam. Vol. 2. P. 567.
768
Miquel A. L’Islam et Sa Civilisation. Paris, 1968. P. 280–283. Согласно оценке автора, к 1800 г. данная численность возможно упала примерно до 43 млн чел. Как подчеркивает Микель, к этим цифрам следует относиться с немалой осторожностью из-за отсутствия надежных источников в подтверждение их. Однако общий баланс, вытекающий из данных расчетов, вряд ли является принципиально неправильным.
769
См. Habib I. The Agrarian System of Mughal India. London, 1963. P. 113–118. Отсутствие какой-либо реальной концепции собственности на землю было подчеркнуто в классической работе: Moreland W. The Agrarian System of Moslem India. Cambridge, 1929. P. 3–4, 63. Автор полагает, что такая ситуация уходит своими корнями в эпоху до появления.
770
См. Habib I. The Agrarian System of Mughal India… P. 119–124.
771
Habib I. The Agrarian System of Mughal India… P. 195–196. По мнению автора, размер изъятия государством прибавочного продукта был сравнительно стабильным. Это суждение противоречило точке зрения У Морелэнда, согласно подсчетам которого норма такого изъятия колебалась от Уз до % в зависимости от политики тех или иных правителей.
772
При Великих Моголах орошалось, возможно, лишь 5 % обрабатываемых земель. См.: Maddison A. Class Structure and Economic Growth. India and Pakistan since the Moghuls. London, 1971. P. 23–24. Маркс считал, что индийское сельское хозяйство отличалось интенсивным орошением и что британский колониализм разрушал традиционное индийское общество посредством его индустриализации. По иронии судьбы, после эфемерного железнодорожного бума середины XIX в. влияние британского правления оказалось прямо противоположным. Внедрение промышленности британцами было минимальным; с другой стороны, значительная часть сельского хозяйства в первый раз была приобщена к орошению. К концу периода британского владычества площадь орошаемых земель увеличилась более чем в 8 раз и составила Vi общей площади колонии, включая некоторые впечатляющие оросительные системы в Пенджабе и Синде. См.: Maddison A. Op. cit. Р. до.
773
Habib I. Potentialities of Capitalistic Development… P 54–55.
774
Spear P. The Mughal «Mansabdari System // Elites in South Asia / E. Leach and S. N. Mukherjee (ed.). Cambridge, 1970. P. 8–11.
775
Habib I. The Agrarian System of Mughal India… P. 160–167; Habib I. Potentialities of Capitalistic Development… P. 38. При различном происхождении институтов мансабдаров и заминдаров в империи Великих Моголов, с одной стороны, и девширме и тимариотов в Османской государственной системе – с другой, имеется некоторое сходство между структурным положением этих институтов в упомянутых государствах: в обоих случаях центральная военная элита накладывалась на местную военную страту. В то же время их состав сильно различался: девширме формировался из рабов, ранее бывших христианами; тимариоты составляли мусульманскую конницу; могольские мансабдары , напротив, образовывали мусульманскую «аристократию», а заминдары являлись индусами и местными эксплуататорами. Поэтому реальные статусные роли каждой из этих групп внутри соответствующих политических систем были совершенно различными.
776
См. Habib I. Potentialities of Capitalistic Development…. P. 61–77.
777
Три главные разновидности гидравлических систем в Китае и их региональное расположение проанализированы в: Chi Ch’ao-Ting. Key economic areas in Chinese history. New York, 1963. P. 12–21; также см. авторитетное исследование: Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV/3 (Civil Engineering and Nautics). Cambridge, 1971. P. 217–227, 373–375.
778
Cm. Chi Ch’ao Ting. Key Economic Areas in Chinese History. P. 89–92.
779
Cm. Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV/2 (Mechanical Engineering). Cambridge, 1965. P. 334, 362.
780
Cm. Yi-Fu Tuan. China. London, 1970. P. 83.
781
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV / 3. P. 225.
782
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV / 2. P. 190, 258–265®., 312–327; Vol. IV/3. P. 184.
783
Needham J. The Development of Iron and Steel Technology in China. London, 1958. P. 9; Сталь получалась путем соединения ковкого железа и чугуна уже в VI столетии: см. Р. 26, 47.
784
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. I (Introductory Orientations). Cambridge, 1954. P. 111, 129.
785
Twichett D. Financial Administration under the T’ang Dynasty. Cambridge, 1963. P. 1, 194.
786
Twichett D. Financial Administration under the T’ang Dynasty. P. 1–6. В плотно заселенных районах размер надела мог быть сокращен до 2 или 3 акров: см. Р. 4, 201. Эта система не устанавливалась на юге, в районах где выращивали рис, так как не соответствовала большим затратам труда в рисоводстве.
787
См. Balazs Е. Chinese Civilization and Bureaucracy. New Haven, 1967. P. 68–70.
788
Cm. Gernet J. Le Monde Chinois. Paris, 1972. P. 217–219. Эта книга, возможно, является лучшим обзором китайской историографии на европейском языке.
789
Dawson R. Imperial China. London, 1972. P. 56–58.
790
Twichett D. Financial Administration under the T’ang Dynasty. P. 12–17.
791
См. Ibid. P. 18–20.
792
См. Ibid. P. 24–65.
793
См. Gernet J. Le Monde Chinois. Paris, 1972. P. 255–257.
794
Twitchett D. Chinese Politics and Society from the Bronze Age to the Manchus // Half the World/A. Toynbee (ed.). London, 1973. P 69.
795
Twitchett D. Land Tenure and the Social Order in T’ang and Sung China. London, 1962. P. 26–27.
796
Twitchett D. Land Tenure and the Social Order. P. 28–30. Проблема соотношения шань-юаньского (Chang-Yuan) сектора поместий и мелкого землевладения в экономике эпохи Сун – одна из наиболее спорных в современной историографии этого периода. В своих недавних работах Элвин отмечает, что «манориализм», основанный на крепостном труде, доминировал в большей части сельской местности, хотя он признает, что число крестьян за пределами поместья нельзя назвать «незначительным»: The Pattern of the Chinese Past. London, 1973. P. 78–83. Однако он отвергает количественные оценки, которые основаны на учетных записях населения того периода, не предлагая альтернативных подсчетов, и ссылается во многом в своих интерпретациях на двух японских ученых Кусано (Kusano) и Судо (Sudó), чьи взгляды не являются неоспоримыми даже в их собственной стране. Твитчет, в отличие от них, достаточно критичен в использовании термина «манориализм» для описания шань-юаня, акцентируя внимание на относительной значимости мелких землевладельцев эпохи Сун. Доступные свидетельства не позволяют сделать однозначный вывод.
797
Twitchett D. Land Tenure and the Social Order. P. 25.
798
См. расчеты у Needham]. Science and Civilization in China. Vol. IV/3. P. 282–284; он усовершенствовал систему расчетов, предложенную первоначально Chi Ch’ao Ting. Key Economic Areas in Chinese History. P. 36.
799
Perkins D. Agricultural Development in China, 1368–1968. Edinburgh, 1969. P. 171–172. Исследование Перкинса посвящено постюаньскому Китаю, но можно предположить, что его заключение относится ко всей посттанской эпохе.
800
Twitchett D. Land Tenure and the Social Order. P. 30–31.
801
Gernet. Le Monde Chinois. P. 281.
802
Hartwell R. A Revolution in the Chinese Iron and Coal Industries during the Northern Sung, 920-1126 A. D. // The Journal of Asian Studies. Vol. XXI. N 2. February 1962. P. 155, 160.
803
Cm. Needham J. Science and Civilization in China. Vol. I. P. 134, 231; Vol. IV / 2. P. 446–465; Vol. IV/3. P. 562. На практике монолитный шрифт обычно доминировал в имперском Китае, потому что идеографический рукописный шрифт минимизировал преимущества подвижных литер: Gernet. Le Monde Chinois. P. 292–296.
804
См. Needham J. Science and Civilization in China. Vol. iv / 2. P. 417–427; Vol. iv / 3.P. 350, 357–360, 641–642.
805
См . Kracke Е. Sung Society: Change within Tradition. The Far Eastern Quarterly. Vol. XVI. August. 1955. N 4. Р. 481–482.
806
См. Tuan. China. Р. 132–135.
807
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 285.
808
Гернет, как и некоторые другие исследователи, говорит о «Ренессансе» эпохи Сун, сравнимой с Европой того периода: Le Monde Chinois. P. 290–291, 296–302. Но аналогия лишена основательности, ибо китайские ученые никогда не переставали интересоваться древностью: не было глубокого культурного перелома, которым характеризовался европейский ренессанс с повторным открытием античности. В других работах Гернет был сам обеспокоен введением в китайскую историю периодизации и понятий, присущих Европе, и настаивал на необходимости создания новых специфических концепций, подходящих китайскому опыту: Le Monde Chinois. P. 571–572.
809
Schurmann H. F. Economic Structure of the Yuan Dynasty. Cambridge, USA, 1956. P. 8–9, 29–30, 43–48.
810
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. I. P. 142.
811
Schurmann H. F. Economic Structure of the Yuan Dynasty. P. 8, 27–28; Dawson R. Imperial China. P. 186, 197.
812
Dawson R. Imperial China. P. 214–215, 218–219; Twitchett D. Chinese Politics and Society. P 72–73.
813
Это, по крайне мере, распространенная точка зрения. Элвин датирует конец существования «рабской» арендной системы гораздо позже – началом эпохи Цин, которую он рассматривал как первый период, когда в сельской местности появились мелкие землевладельцы: The Pattern of the Chinese Past. P. 247–250.
814
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 341–342.
815
Ping Ti Ho. Studies on the Population of China, 1368–1953. Cambridge, USA, 1969. P. 101, 277; Perkins D. Agricultural Development in China. P. 16, 194–201, 208–209.
816
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 370–371.
817
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV/2. P. 508; Vol. IV/3. P. 360.
818
Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. Stanford, 1973. P. 195–199, 162, 274–276.
819
Needham J. Science and Civilization in China. Vol. IV / 3. P. 524–527. Автор суммирует современные гипотезы о причинах этих внезапных перемен.
820
О превратностях позднего режима Мин см.: Dawson R. Imperial China. P. 247–249, 256–257.
821
Китайские войска «Зеленого знамени» составляли отдельную ветвь в государстве Цин. Дуализм между маньчжурскими и китайскими войсками сохранялся вплоть до конца династии в начале XX в: Purcell V. The Boxer Uprising. Cambridge, 1963. P. 20–24.
822
Ping-Ti Но. Studies on the Population of China. P. 208–215.
823
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 424. Даже сегодня средняя мировая урожайность риса с 1 акра на 75 % больше, чем кукурузы; в XVIII в. преимущество китайского риса над европейской пшеницей было значительно больше.
824
Dawson R. Imperial China. P. 301–302; Ho. Studies on the Population of China. P. 217–221
825
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 424.
826
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 485–486.
827
Perkins D. Agricultural Development in China. P. 14–15, 32.
828
Ibid. P. 33, 37.
829
Ibid. Р. 38–51, 60–73.
830
Ibid. Р. 56–58, 77. Редким исключением казалось распространение мельниц, которые были известны с начала XVII в.
831
Perkins D. Agricultural Development in China. P. 98–102.
832
Tawney R.H. Land and Labour in China. London, 1937. P. 34.
833
Ibid. P. 36.
834
Perkins D. Agricultural Development in China. P. 104–106.
835
Ibid. P. 114–115, 136.
836
Но. Studies on the Population of China. P. 222.
837
Elvin M. The Pattern of the Chinese Past. P. 176–178: процент людей, живших в городах с населением более 100 тысяч жителей, составлял приблизительно от 6 до 7,5 % в XII в. по сравнению с 4 % в 1900 г.
838
Нидхем в своих работах дал нам незабываемый урок, который не имеет прецедента в современной историографии. Следует сказать, что предложенная Нидхемом собственная классификация китайского имперского общества, которое он определил как общество «феодальной бюрократии», явно далека от научной планки, установленной его книгой в целом. Объединение этих двух терминов с целью определения китайской социальной формации после 200 г. до н. э. не сделало «феодализм» более применимым или «бюрократию» менее банальной. Нидхем, на самом деле, слишком здрав, чтобы не понимать этого, и никогда не категоричен в использовании этого термина. См. например, откровенное утверждение: «китайское общество было „бюрократическим“ или, возможно, это «бюрократический феодализм», т. е. тип общества, неизвестный в Европе». См.: Science and Civilization in China. Vol. II. P.337. Последняя оговорка, конечно, самая важная, так как имплицитно сводит предшествующие определения к их истинной роли. В других работах Нидхем определенно выступает против идентификации китайского «феодализма» или «феодального бюрократизма» с каким-либо явлением, обозначенным этими словами в европейской традиции (Vol. IV/3. Р.263), – таким образом (непреднамеренно?) ставя под сомнение применимость этого термина к обоим случаям.
839
Представляется, что успехи в таких областях, как медицина и ботаника, были исключением. См. Science and Civilization in China. Vol. Ill (Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth). Cambridge, 1959. P. 437, 442, 457; Vol. IV / 2. P. 508; Vol. IV/3. P. 526.
840
Элвин всесторонне проанализировал это безвыходное положение в книге The Pattern of the Chinese Past. (P. 306-30ff). Главное достоинство книги Элвина – ясная формулировка основных парадоксов экономики Китая раннего Нового времени, после расцвета периода династии Сун. Его собственный вывод относительно проблемы имперского тупика был, однако, слишком ограниченным и поверхностным, для того чтобы быть убедительным. Понятие «ловушки высокого баланса» (high equilibrium trap), которое он использует для описания преграды на пути развития постсунской экономики, в действительности, не объясняет ее, а просто переформулирует проблему на техническом языке. «Высокий баланс» был достигнут только в сельском хозяйстве, именно оно, на самом деле, интересовало Элвина в его заключительном анализе. Баланс в промышленности находился на более низком уровне. Другими словами, его сообщения поднимают такой вопрос: почему не было промышленной революции в городах, способной обеспечить научными достижениями производство сельскохозяйственной продукции? Его замечания, которые отвергают социологические объяснения приостановки китайской промышленности (Р. 286–298), являются слишком надуманными, для того чтобы быть убедительными; они также расходятся с его собственным аналогом развития текстильной промышленности (Р. 279–282). В целом The Pattern of the Chinese Past испытывает недостаток действительной интеграции и объединения экономического и социального анализов, которые сделаны на разных уровнях. В итоге попытка дать «чисто» экономическое пояснение безвыходного положения Китая оказалась, очевидно, неадекватной.
841
Schurmann H. F. Traditional Property Concepts in China //The Far Eastern Quarterly. Vol. XV. N 4. August 1956. P. 507–516. Автор настаивает на том, чтобы ограничить китайские понятия частной сельскохозяйственной собственности.
842
Balazs Е. Chinese Civilization and Bureaucracy. Балаш делает особый акцент на сдерживающей роли государственных монополий и имперском праве на недвижимую собственность в городах (P.44–51).
843
Это было отмечено большинством ученых. См., например: Bodde D. and Morris C. Law in Imperial China. Cambridge, USA. 1967. P. 4–6. «Закон всегда работал в вертикальном направлении, от государства к индивиду, а не на горизонтальном уровне между двумя людьми. Боде доказывает, что китайская культура никогда не принимала идею о том, что письменное право могло иметь божественное происхождение, в полной противоположности, например, с исламским правом» (Р. ю).
844
См. великолепный анализ С.Накаямы: Nakayama S. Science and Technology in China//Half the World. P. 143–144; астрономическая неорганизованность, которая перевернула традиционные расчеты, была просто принята к сведению с характерным замечанием, что «даже небеса могут сбиться с пути».
845
Нидхем предложил несколько вариантов анализа: Science and Civilization in China. Vol. II (History of Scientific Thought). Cambridge, 1956. P. 542–543, 582–583; Vol. III. P. 150–168; The Grand Titration. London, 1969. P. 36–37, 39–40, 184–186, 299–330. Нидхем предполагает, что была близкая связь между отстававшей в развитии физикой и социальной гетерономией купеческого класса в имперском Китае.
846
Elvin М. The Pattern of the Chinese Past. P. 278–284.
847
Ping-Ti Ho. The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368–1911. New York, 1962. P. 46–52; о социальной мобильности в целом в эпоху существования в Китае династий Мин – Цин см.: Р. 54–72. См. также Balazs Е. Chinese Civilization and Bureaucracy. P. 51–52.
848
Ping-Ti Ho. Salient Aspects of China’s Heritage //Ping-Ti Ho and Tang Tsou (eds.). China in Crisis. Vol. I. Chicago, 1968. P. 34–35.
849
См. подробное и разъясняющее эссе: Bergeres М.-С. The Role of the Bourgeoisie // M. Wright (ed.). China in Revolution: The First Phase, 1900–1913. New Haven, 1968. P-229-295.
850
Gernet J. Le Monde Chinois. P. 343–344; ChangLi Chang. The Income of the Chinese Gentry. Seattle, 1962. P. 38, 42. Бюрократия династии Цин имела дополнительный штат из 4 тысяч маньчжурских должностных лиц.
851
Chang Chungli. The Income of the Chinese Gentry. P. 43–47ff.
852
Chang Chungli. The Income of the Chinese Gentry. Seattle, 1962. P. 197; обладатели сословий также получали крупные доходы от деятельности купцов, которые, по подсчетам Чанга, в совокупности составляли более половины от собранного урожая.
853
Chang Chungli. The Chinese Gentry. P. 139. Автор полагает, что число обладателей должностей с их семьями составляло 1,3 % населения перед Тайпинским восстанием. Исследование Чанга произвольно ограничивает понятие «джентри» только этим слоем; однако полученные им данные можно использовать, не соглашаясь с принятым им ограничением.
854
Ho. Salient Aspects of China’s Heritage. P. 22–24.
855
Географическая предопределенность социальной системы преувеличивалась Монтескье и его современниками в их стремлении понять мир за пределами Европы. Марксисты в нашем столетии расплачивались за это наследие эпохи Просвещения, полностью игнорируя природную среду исторического развития. Задача вернуть ей значимость была оставлена ими современным историкам, таким как Бродель. В действительности, никто из истинных материалистов не может отбросить географический фактор как просто внешнее условие для способа производства. Сам Маркс отмечал, что окружающая среда является важным компонентом любой экономики: «Первоначальные условия производства<…>первоначально не могут сами быть произведены, не могут сами быть результатами производства». Marx K. Grundrisse. P. 389. Рус. пер.: Маркс К. Формы предшествующие капиталистическому производству // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2–е изд. Т. 46. Ч. 1. М., 1968.
856
Сравнение технического развития китайской, исламской и европейской цивилизаций отразилось в известной поговорке, записанной испанским послом к Тимуру в Самарканде XIV в.: «Китайские ремесленники самые умелые среди других наций; и пословица гласит, что у китайца два глаза, у франка, возможно, только один, а мусульманин вообще слепой». Needham]. Science and Civilization in China. Vol. IV/2. P. 602. Сам Нидхем предполагал гораздо большее количество прямых заимствований китайских изобретений в Европе, что можно доказать с помощью исторических источников. Практически полное общественное невежество относительно друг друга сохранялось со времен античности и в Средние века, поэтому взаимный недостаток какой-либо верной информации в письменных источниках до позднего времени трудно согласуется с предположением об интенсивных технических связях между ними, какими бы неформальными и неотмеченными в документах они были. Обучение Китаем Европы технологиям не означало превосходства Китая над Европой, а именно это было наиболее важным.
857
Твитчет сравнивает текущее состояние работы над Китаем эпохи Тан и Сунн с эпохой, которую английская средневековая историография достигла до времени Сибома и раннего Виноградова: Land Tenure and the Social Order, p.32.
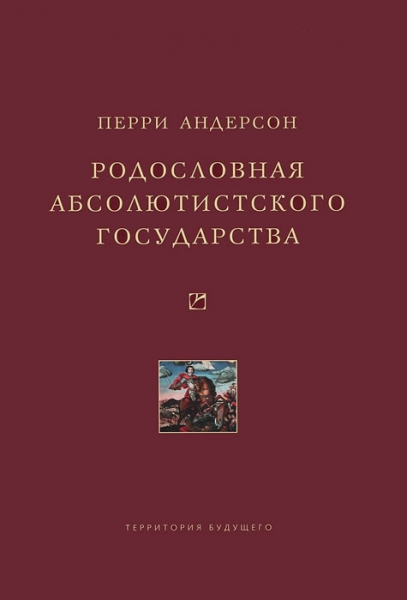
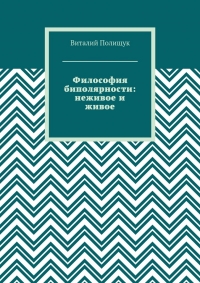


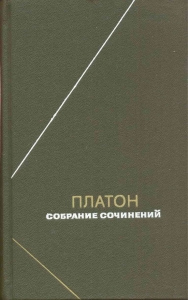
Комментарии к книге «Родословная абсолютистского государства», Перри Андерсон
Всего 0 комментариев