Герберт Маркузе. Репрессивная толерантность.
Предисловие публикатора.
За что я не люблю представителей «новой левой» философии, так это за их склонность всё усложнять и запутывать. О чём эссе Герберта Маркузе «Репрессивная толерантность»? О необходимости воинственного отношения к идеологиям и политическим практикам, которые проповедуют антигуманистические установки и проводят в жизнь убийственные решения. В принципе об этом же писал Ленин в «Пролетарской революции и ренегате Каутском» и Троцкий в «Терроризме и коммунизме». Просто более чётко и жёстко.
Не слишком оригинален Маркузе и тогда, когда разоблачает лживость либеральной демократии. Тот же Ленин, а до него — Михаил Бакунин, сделали это более ясно. «Возьмите основные законы современных государств, возьмите управление ими, возьмите свободу собраний или печати, возьмите “равенство граждан перед законом”, — и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое всякому честному и сознательному рабочему лицемерие буржуазной демократии, — пишет Ленин в «Пролетарской революции и ренегате Каутском». — Нет ни одного, хотя бы самого демократического государства, где бы не было лазеек или оговорок в конституциях, обеспечивающих буржуазии возможность двинуть войска против рабочих, ввести военное положение и т. п. “в случае нарушения порядка”, — на деле, в случае “нарушения” эксплуатируемым классом своего рабского положения и попыток вести себя не по-рабски».
Однако Маркузе всё же надавил на мозоль буржуазного общества своей критикой понятия «толерантность». В последнее время в России его часто используют — это слово «толерантность». Кто призывает к толерантности, а кто видит в толерантности корень бед русского народа. Однако, как отлично показывает Маркузе, это не только и не столько терпимое отношение к людям другой веры или национальности. Это – механизм, с помощью которого либеральная демократия подавляет несогласные с её установками мнения, сохраняя при этом видимость свободы обсуждения и обмена мнениями.
Как сообщают издатели сборника работ Маркузе, где помещена и «Репрессивная толерантность», «это эссе 1965 года — несомненно, одно из самых спорных политических сочинений Маркузе. Его критики увидели в нём атаку на идеалы свободы слова, а многие из новых левых — обоснование для отказа от дискуссий и дебатов».
Идеал толерантности предполагает общественные условия, в которых все сталкивающиеся мнения имеют равные возможности быть услышанными. Однако в нынешних развитых обществах, где господствует односторонняя пропаганда, это далеко не так. Имеет место не рациональная дискуссия с целью поиска истины, а манипулятивное убеждение в интересах буржуазной гегемонии.
«Для понимания позиции Маркузе, — замечают издатели сборника, — следует учесть следующий контекст: когда радикально настроенные студенты в его кампусе выступили с протестом против военных исследований в связи с войной во Вьетнаме, университетская администрация сослалась на принципы академической свободы и защитила право профессоров на свою форму участия в войне. Толерантность здесь была использована для защиты исследований по усовершенствованию точности изображений, которые позволили бы убивать больше людей при бомбардировках Северного Вьетнама. Эссе Маркузе как раз снабдило студентов аргументацией против злоупотребления принципом толерантности».
Эссе «Репрессивная толерантность» я искал в сети, но не нашёл. Считая, что антибуржуазные активисты должны обязательно прочитать это эссе, я его «отцифровал».
Дмитрий Жвания
Репрессивная толерантность.
В этом эссе я рассматриваю идею толерантности в нашем развитом индустриальном обществе. Вывод, к которому я прихожу, заключается в том, что реализация объективной толерантности требует нетолерантного отношения к господствующим формам политики, установкам, мнениям, а также распространения принципа толерантности на политику, установки и мнения, которые подавляются или даже объявлены вне закона. Иными словами, сегодня толерантность вновь оказалась тем же, чем она была при своём зарождении, в начале эпохи модерна — крамольной целью, подрывным освободительным понятием и практикой. И наоборот — то, что нынче провозглашается и практикуется как толерантность, в большинстве своих проявлений служит задаче подавления.
Я хорошо понимаю, что в настоящее время не существует такой власти, такого правительства, которые могли бы реализовать на практике идею освобождающей толерантности, но всё же я верю, что задача и обязанность интеллектуала состоит в том, чтобы напоминать об исторических возможностях, которые, по-видимому, стали утопическими, в том, чтобы восставать против угнетения и расчищать духовное пространство, изнутри которого общество могло бы увидеть себя таким, каково оно в действительности.
Толерантность является самоцелью. Устранение насилия и уменьшение бремени подавления, дабы защитить человека и животных от жестокости и агрессии, — необходимые предпосылки создания гуманного общества. Такое общество пока не существует; движение к нему — в большей, пожалуй, степени, чем когда-либо прежде — тормозится практикой насилия и подавления в глобальном масштабе. В форме средств устрашения в отношении угрозы ядерной войны, действий полиции против подрыва порядка, технической помощи в борьбе против империализма и коммунизма, миротворческих операций при неоколониальных конфликтах — насилие и подавление оправдываются, практикуются и поддерживаются как демократическими, так и авторитарными правительствами, а подданных этих правительств приучают к подобным практикам как необходимым для сохранения статус-кво. Толерантность распространяется на политику, условия и способы поведения, с которыми нельзя мириться, ибо они усложняют — если не разрушают — возможность обустройства жизни без страха и нищеты.
Такого рода толерантность лишь усиливает тиранию большинства, против которой был направлен протест подлинных либералов. Политический смысл толерантности изменился: поскольку она почти незаметно стала принципом власти, а не оппозиции, она превратилась в форму обязательного поведения по отношению к официальной политике. Толерантность превратилась из активного состояния в пассивное, из практики в бездеятельность: laissezfaire(1) законной власти. Суть её в толерантности народа по отношению к правительству, которое в свою очередь толерантно по отношению к оппозиции в рамках, опредёленных законной властью.
Толерантность по отношению к радикальному злу нынче подаётся как добро, поскольку она служит сохранению и упрочению целостности общества на пути от изобилия к большему изобилию. Толерантность к систематическому оболваниванию равно детей и взрослых с помощью рекламы и пропаганды, высвобождение деструктивных побуждений посредством агрессивного вождения автомобиля, формирование и обучение специальных подразделений, бессильная и потворствующая толерантность в отношении расточительности, планируемого устаревания и неприкрытого коммерческого жульничества — не просто искажения и отклонения от нормы. Они — сущность системы, которая использует толерантность как средств увековечения борьбы зa существование и подавления альтернатив. В сфере образования, морали и психологии власти решительно выступают против роста подростковой и юношеской преступности; однако, увы, эта решительность куда-то сразу исчезает, как только дело касается хвастливой демонстрации успехов в создании все более мощных вооружений, ракет, бомб — успехов, которые свидетельствуют о зрелой преступности всей цивилизации.
Согласно принципам диалектики, именно целое определяет и истину — не в том смысле, что целое предшествует частям или является высшим по отношению к ним, но в том, что его структура и функции определяют все конкретные состояния и отношения. Таким образом, в рамках репрессивного общества даже прогрессивным движениям угрожает опасность превратиться в свою противоположность в той мере, в какой они принимают правила игры. Возьмём самый спорный случай: реализация политических прав (таких, как голосование, обращения в прессу, к сенаторам и т.п., демонстрации протеста, a priori(2) отвергающие ответное насилие) в тотально управляемом обществе служит усилению этой управляемости, как бы доказывая существование демократических свобод, которые в действительности изменили своё содержание и потеряли свой смысл. В такой ситуации свобода (совести, собрания, слова) становится инструментом оправдания порабощения. И однако (именно здесь в полной мере проявляется смысл диалектики) существование и осуществление этих свобод остаётся предпосылкой для восстановления их первоначальной оппозиционной функции при условии усилий, направленных на преодоление их ограничений (часто добровольных). Говоря обобщенно, функция и ценность толерантности зависят от степени достигнутого равенства в том или ином обществе. Толерантность имеет собственные базисные критерии: её рамки и ограничения не должны определяться, исходя из условий соответствующего общества. Иными словами, толерантность является самоцелью только тогда, когда она является подлинно универсальной, когда она касается в равной степени как правителей, так и народа, как землевладельцев, так и крестьян, как шерифов, так и их жертв. Такая универсальная толерантность возможна только в том случае, когда никакая угроза, исходящая от действительного или мнимого врага, не требует от общества его милитаризации и приучения народа к насилию и разрушению. Без этого невозможно реальное «наполнение» толерантности: её условия детерминируются и определяются институционализированным неравенством (которое вполне совместимо с провозглашением конституционного равенства), т.е. классовой структурой общества. В таком обществе толерантность de facto(3) ограничена узаконенным насилием или подавлением (полиция, вооружённые силы, разного рода вооружённая охрана) и привилегиями господствующих классов и их «обслуги».
Эти подспудные ограничения толерантности обычно предшествуют явным нормативным ограничениям, устанавливаемым судами, обычаями, правительством и т.п. (например, «явная опасность», угроза национальной безопасности, ересь). В рамках такой общественной структуры толерантность может чувствовать себя довольно вольготно. Она может быть двоякой: 1) пассивная толерантность в отношении утвердившихся установок и идей, пусть даже очевидны их вредные последствия для человека и природы; 2) активная официальная толерантность, допускаемая в отношении и правых, и левых, и агрессивных движений, и движений за мир, и партии ненависти, и партии гуманности. Эту беспристрастную толерантность я называю «абстрактной», или «чистой», поскольку суть её в непринятии позиции ни одной из сторон — однако она тем самым защищает в действительности уже утвердившийся механизм дискриминации.
Толерантность, которая расширила рамки и содержание свободы, всегда была предвзятой, то есть нетерпимой к протагонистам репрессивного статус-кво. Под вопросом была только степень нетерпимости. В упрочившихся либеральных обществах Англии и Соединенных Штатов свобода слова и собраний была предоставлена даже радикальным врагам общества — при том условии, что они не переходят от слов к делу, от речей к действиям.
Полагаясь на эффективные неявные ограничения, связанные с классовой структурой, общество, по видимости, склонно к универсальной толерантности. Однако либералистская теория уже успела привязать толерантность к важному условию: она «касается только человеческих существ, достигших зрелости своих способностей». Джон Стюарт Милль имеет в виду не только детей и несовершеннолетних; он уточняет: «Свобода как принцип неприложима к положению вещей, когда человечество ещё не достигло способности совершенствоваться путём свободной и равной дискуссии». До этого времени люди могут оставаться варварами, а «деспотизм — законный способ управления варварами, если он служит цели их исправления и используемые средства действительно направлены к этой цели». Эти часто цитируемые слова Милля предполагают и менее очевидный смысл: внутреннюю связь между свободой и истиной. С этой точки зрения истина является целью свободы, и свобода должна определяться и ограничиваться истиной. Но в каком же смысле свобода может быть подчинена истине? Свобода означает самоопределение, автономию. Это почти тавтология, однако тавтология, которая вытекает из ряда синтетических суждений. Она постулирует способность определять собственную жизнь: быть в состоянии определять, что делать, а что не делать, на какие страдания идти, а на какие нет. Однако субъект этой автономии не должен быть случайным, частным индивидом, каковым он в действительности является; скорее речь идёт об индивиде как человеческом существе, способном быть свободным вместе с другими. Проблема возможности создания такой гармонии между индивидуальными свободами заключается не в нахождении компромисса между конкурентами или между свободой и законом, между общим и частным интересами, общим и индивидуальным благосостоянием в утвердившемся обществе, а в создании общества, в котором человек перестанет быть порабощённым институтами, с самого начала искажающими смысл самоопределения. Иными словами, свободу всё ещё нужно создавать — даже в обществах, самых свободных из существующих. И понимание того, в каком направлении необходимо двигаться и какие институциональные и культурные изменения для этого необходимы, — по крайней мере, в развитой цивилизации вполне достижимо, т.е. это можно определить на основе опыта и разума.
Отличить истину от ложных решений помогает процесс взаимодействия теории и практики, правда, не с силой очевидной необходимости, а как разумную вероятность, не как явный позитив, а отталкиваясь от очевидных негативностей. Ибо истинно позитивно общество будущего, а таковое не поддается определению и детерминации, тогда как существующее позитивное подлежит преодолению. Однако опыт и интеллект существующего общества вполне позволяет определить, что не способствует становлению свободного и рационального общества, что препятствует и расстраивает процесс его создания. Свобода — это освобождение, специфический исторический процесс в теории и на практике, и как таковому ему свойственны своя правота и свои недостатки, своя истина и свои заблуждения. Возможность ошибки в различении между ними не отрицает исторической объективности, но требует свободы мысли и выражения как условий нахождения пути к свободе — тем самым требует толерантности. Однако эта толерантность не может быть безразличной и неразборчивой в отношении содержания как слов, так и действий; она не должна защищать ложные слова и неправильные действия, которые противоречат и противодействуют возможностям освобождения. Такая неразборчивая толерантность оправдана и в безвредных спорах, в разговоре, в академической дискуссии; она необходима в науке, в сфере свободы совести. Однако общество не должно быть неразборчивым в том, что касается умиротворения существования — там, где ставкой являются свобода и счастье: здесь не все позволительно говорить, не все идеи могут быть пропагандируемы, не всякая политика допустима, не всякое поведение может быть разрешено — коль скоро это превращает толерантность в инструмент сохранения рабства.
Опасность «разрушительной толерантности» (Бодлер), «благожелательного нейтралитета» по отношению к искусству признана: рынок, который поглощает в равной степени (иногда, правда, с довольно неожиданными колебаниями) искусство, антиискусство, неискусство, все возможные конфликтующие стили, школы, формы, представляет собой «услужливое вместилище, дружественную бездну»(4), в которой радикальное воздействие искусства, протест искусства против действительности глохнет. Однако цензура искусства и литературы регрессивна в любых обстоятельствах. Подлинное произведение не может и не должно быть опорой угнетения, а псевдоискусство (которое может выполнять эту функцию) — не искусство. Искусство противостоит истории как истории угнетения, ибо искусство подчиняет действительность иным законам, нежели господствующие в ней: законам Формы, которая создаёт иную реальность — отрицающую сущее даже там, где искусство изображает именно его. Однако в борьбе с историей искусство само подчиняется истории — история входит в определение искусства и входит в различие между искусством и псевдоискусством. Таким образом, то, что некогда было искусством, становится псевдоискусством. Старые формы, стили и качества, старые формы протеста и отказа не могут быть действенными в другом обществе. В некоторых случаях подлинное произведение может нести регрессивную политическую мысль (например, в творчестве Достоевского). Но в этом случае эта мысль отрицается самим произведением: регрессивное политическое содержание преодолевается, aufgehoben(5) художественной формой.
Толерантность к свободе слова — это способ осуществления прогресса в освобождении не потому, что не существует объективной истины, а всякая подвижка вперёд должна быть компромиссом между множеством мнений, а именно потому, что объективная истина существует и её можно постичь, утвердить лишь благодаря познанию, изучению того, что есть и что может и должно быть сделано ради улучшения жизни большинства человечества. Это историческое «должно» не является непосредственной очевидностью: её необходимо вскрыть, «раскалывая», «разгрызая», «прорубаясь сквозь» (dis-cutio) данный материал — отделяя плохое от хорошего, добро от зла, правильное от неправильного. Субъектом прогрессивной исторической практики, от которого зависит «улучшение», является каждый человек как человек, и эта универсальность отражается в дискуссии, если та a priori не исключает ни одной группы и ни одного индивида. Но даже всеобъемлющий характер либералистской толерантности был, по крайней мере, в теории, основан на том тезисе, что люди — индивиды, (потенциально) способные научиться сами слышать, видеть и чувствовать, самостоятельно мыслить, понимать свои подлинные интересы, права и возможности вопреки авторитетам и устоявшемуся мнению. В этом заключалось рациональное основание свободы слова и собраний. Универсальная толерантность становится сомнительной, когда это рациональное основание исчезает и толерантность предписывается манипулируемым и индоктринируемым индивидам, которые, как попугаи, повторяют мнения своих хозяев и свою гетерономию считают автономией.
Цель толерантности — истина. История убеждает в том, что подлинный защитник толерантности руководствуется не истинами пропозициональной логики и академической теории. Джон Стюарт Милль говорит об истине, которая преследовалась на протяжении истории и которая не сумела восторжествовать над преследователями благодаря своей «внутренней силе», ибо внутренняя сила не пробивает стены тюрем и не гасит костёр инквизиции. Он перечисляет «истины», которые вместе со своими носителями были жестоко и успешно уничтожены с помощью тюрем и костров: Арнольда Брешианского, Дольчино, Савонаролу, альбигойцев, вальденсов, лоллардов и гуситов. Толерантность нужна прежде всего для еретиков, ведь исторический путь к humanitas тоже кажется ересью: объект преследования для власть имущих. Правда, ересь сама по себе — ещё не признак истины.
Критерием прогресса свободы, согласно которому Милль оценивает эти движения, является Реформация. Эта оценка дается ex post(6), и список Милля включает в себя противоположности (Савонарола, например, также сжёг бы Дольчино). Такая оценка довольно спорна в отношении своей истинности: история исправляет ошибки — но с большим опозданием. Это исправление не облегчит участь жертв и не дарует прощения их палачам. Но смысл урока очевиден: нетерпимость затормозила прогресс и продлила мучения и уничтожение невинных на сотни лет. Означает ли это необходимость принятия неразборчивой, «чистой» толерантности? Возможны ли исторические условия, в которых такая толерантность становится препятствием для освобождения и множит число жертв статус-кво? Может ли неразборчивая гарантия политических прав и свобод быть репрессивной? Может ли такая толерантность служить сдерживанию качественных исторических перемен?
Я рассмотрю этот вопрос только в отношении политических движений, установок, философских школ — «политических» в самом широком смысле, то есть там, где это касается общества в целом, явно выходя за рамки частной сферы. Кроме того, я хотел бы несколько сместить предмет разговора: речь пойдёт не только и не в первую очередь о радикальных экстремистах, меньшинствах, антиправительственных элементах и т.п., а скорее о толерантности к большинству, к официальной и публичной точке зрения, к установленным мерам защиты свободы. В этом смысле разговор может касаться только демократических обществ, где индивиды как члены политических и других организаций участвуют в выработке и осуществлении политики. В авторитарной системе о людях нельзя сказать, что они проявляют толерантность в отношении политики — они её претерпевают.
В системе, где практические гражданские права и свободы защищены конституцией (в основном и без каких-либо множественных или слишком существенных исключений), оппозиция и несогласие терпимы, если только они не прибегают к насилию и к организации насильственного подрыва власти. В основании этого лежит мысль о том, что нынешнее общество свободно и любые усовершенствования — даже изменения в общественной структуре и общественных ценностях — могут происходить без нарушения нормального течения событий, подготавливаясь в ходе свободной и равной дискуссии на открытом рынке идей и товаров(7). Вспомним ещё раз мысль Джона Стюарта Милля. Она основывается на скрытой предпосылке: свободная и равная дискуссия может выполнять приписываемую ей функцию только в случае её рациональности, т.е. если она является выражением независимой мысли, свободной от индоктринирования, манипуляции, внешнего авторитета. Понятие плюрализма и баланса властей не может компенсировать это требование. Теоретически можно сконструировать положение вещей, при котором множество различных влияний, интересов и властей уравновешивают друг друга, что на выходе даёт действительно общий и рациональный интерес. Однако подобная конструкция плохо согласуется с обществом, в котором силы остаются неравными и диспропорция между ними даже увеличивается при естественном развитии событий. Ещё хуже она согласуется с таким положением вещей, когда разнообразие сил и влияний объединяется и коагулирует (сгущается) в подавляющее целое, интегрирующее противодействующие друг другу силы посредством повышающегося уровня жизни и увеличивающейся концентрации власти. Поэтому рабочий, чьи действительные интересы находятся в конфликте с интересами менеджмента, обычный потребитель, чьи действительные интересы находятся в конфликте с интересами производителя, интеллектуал, чье призвание находится в конфликте с интересами его работодателя, попадают в подчинение к системе, против которой они бессильны, а протест выглядит неразумным. Идеи альтернатив вытесняются в сугубо утопическое измерение, ибо свободное общество совершенно нереалистично и неопределенно далеко от существующих обществ. В этих обстоятельствах любые улучшения, которые могут произойти «в естественном течении событий» и без потрясений, вероятнее всего, будут улучшениями, обусловленными частными интересами тех, кто контролирует целое.
Кроме того, меньшинства, которые стремятся к изменению целого, при оптимальных условиях, которые достаточно редки, должны располагать свободой слова, дискуссий, собраний, не опасаясь и не чувствуя своей беспомощности перед лицом подавляющего большинства, которое препятствует качественным социальным переменам. Это большинство находится в прочной зависимости от возрастающего удовлетворения потребностей, технического и духовного координирования, которые порождают общую беспомощность радикальных групп перед хорошо отлаженным механизмом общественной системы.
В демократическом обществе изобилия нет недостатка в дискуссиях, и в нынешних обстоятельствах они достаточно толерантны. Можно услышать все точки зрения — коммунистов и фашистов, левых и правых, белых и чёрных, сторонников гонки вооружений и разоружения. Более того, в бесконечных дебатах, ведущихся в средствах массовой информации, глупое мнение воспринимается с таким же уважением, как и разумное, плохо информированный человек может иметь столько же времени для своего выступления, как и хорошо информированный, пропаганда соседствует с образованием, истина с ложью. Эта чистая толерантность по отношению как к осмысленному, так и к бессмыслице оправдывается тем демократическим аргументом, что никто, ни группа, ни индивид не являются собственниками истины и способности определять, что правильно или неправильно, хорошо или плохо. Поэтому неё противоборствующие мнения должны быть представлены «народу», который должен обдумать их и сделать выбор. Но, как я уже говорил, демократический аргумент предполагает то обязательное условие, что народ должен быть способен обдумывать и выбирать на основе знания, а для этого он должен иметь доступ к правдивой информации, и её оценка невозможна без подлинной автономии мысли.
В настоящее время демократический аргумент в пользу абстрактной толерантности всё больше обесценивается в силу обесценивания самого демократического процесса. Освобождающей силой демократии была возможность действенного несогласия как на индивидуальном, так и на общественном уровне, открытость к качественно различным формам правления, культуры, образования, работы — человеческого существования вообще. Толерантность к свободной дискуссии и равные права оппонентов должны были определять и прояснять разные формы несогласия: их содержание, направленность, перспективы. Но с концентрацией экономической и политической власти и интеграцией противоположностей в единое общество, которое использует технику как инструмент господства, действенное несогласие заблокировано в тех точках, где необходима свобода для его возникновения, — в формировании мнения, в информации и коммуникации, в сфере обсуждения и собраний. В условиях монополизации средств массовой информации, которые сами становятся инструментами экономической и политической власти, формируется мышление, для которого понимание хорошего и плохого, истины и лжи предопределено в особенности там, где это касается жизненно важных интересов общества. Это прежде всего вопрос семантики, которая первична по отношению ко всякому выражению и коммуникации, — блокирование действенного несогласия, поиска альтернатив истеблишменту начинается на уровне языка, который также является объектом регулирования. Значение слов жёстко фиксируется. Рациональное убеждение, убеждение в противоположном пресекается. Поиск иных слов и идей, отличных от утверждаемых с помощью рекламы власти и верифицируемых её практикой, прекращается. Можно употреблять другие слова, можно выражать другие идеи, но массой консервативного большинства (за пределами таких анклавов, как интеллигенция) они немедленно «оцениваются» (т.е. автоматически воспринимаются) в терминах публичного языка — языка, который a priori определяет направление движения мысли. Таким образом, процесс размышления заканчивается там же, где и начинается, — в данных условиях и отношениях. Такая дискуссия самодостаточна, она не допускает противоречий, поскольку антитезис переопределяется в терминах тезиса. Например, тезис: мы работаем ради мира; антитезис: мы готовимся к войне (или даже: мы ведём войну); объединение противоположностей: готовиться к войне означает работать ради мира. Мир переопределяется в нынешней ситуации таким образом, что он с необходимостью включает в себя подготовку к войне (или даже войну) и в этой оруэлловской форме значение слова «мир» фиксируется. Тем самым базовый лексикон оруэлловского языка начинает действовать как априорные категории понимания — преформируя содержание целиком. Эти условия обесценивают логику толерантности, которая предполагает рациональную разработку смыслов и препятствует их герметизации. Поэтому убеждение посредством дискуссии и равное представительство противоположных позиций (даже там, где оно действительно равное) теряют свою освобождающую функцию как факторы понимания и познания; они в гораздо большей степени работают на усиление утвердившегося тезиса и отталкивают антитезис.
Объективность, равное внимание к конкурирующим и конфликтующим позициям является безусловно базовым требованием для принятия решений в демократическом процессе — а равно и базовым требованием для определения границ толерантности. Однако в демократии с тоталитарной организацией объективность может выполнять совершенно иную функцию, а именно формировать умственную установку, склонную предавать забвению различие между истиной и ложью, информацией и индоктринацией, правильным и неправильным. В действительности выбор между двумя противоположными мнениями сделан уже до их представления и обсуждения — сделан не тайными силами, спонсорами или издателями, не диктатурой, а просто «естественным течением событий», который представляет собой управляемое течение событий, и мышлением, сформированным этим течением.
Здесь также целое определяет истину. Решение утверждается без всякого видимого нарушения объективности, например, и в композиции газетной страницы (разбивке важной информации на порции, рассеянные между различными, не связанными между собой материалами, что позволяет как бы затемнить радикально негативные новости), в размещении яркой рекламы рядом с сообщениями о шокирующих событиях, в прерывании вещания коммерческой рекламой. Результатом всего этого является нейтрализация противоположностей — однако нейтрализация, которая происходит на твёрдой почве структурного ограничения толерантности в рамках преформированной ментальности. Когда в журнале рядом помещаются негативный и позитивный отчёт о деятельности ЦРУ, это является честным выполнением требований объективности: однако, вероятнее всего, позитивный будет более убедительным, поскольку образ института отчётливо запечатлен в умах людей. Или если диктор сообщает о пытках и убийстве защитников гражданских прав тем же безэмоциональным тоном, что и о колебаниях на бирже или о погоде, или, напротив, с той же приподнятостью в голосе, с которой он подаёт рекламу, то такая объективность фальшива, более того, она — оскорбление гуманности и истины, так как тут сохраняют спокойствие там, где уместен гнев, и воздерживаются от обвинения там, где обвиняют сами факты. Толерантность, выражающаяся в подобной беспристрастности, служит преуменьшению или даже оправданию господствующих нетолерантности и угнетения. Если объективность имеет отношение к истине и если истина — нечто большее, чем вопрос логики и науки, то такая объективность ложна, а такого рода толерантность бесчеловечна. И для того чтобы разрушить установившийся универсум смыслов (и практики, господствующие в этом универсуме), дабы помочь человеку разобраться в том, где истина, а где ложь, такая обманчивая беспристрастность должна быть отброшена. Люди, к которым обращена эта беспристрастность, отнюдь не являются tabulae rasae(8), они индоктринированы условиями их жизни, за рамки которых они не в состоянии вырваться. Для того чтобы они могли стать по-настоящему автономными и уметь самостоятельно выбирать между истиной и ложью в нынешнем обществе, их нужно освободить от индоктринации (которая ныне воспринимается как норма). Но это означает необходимость движения против течения — научиться сопротивляться предложенной информации. Ибо факты никогда не представляются непосредственно и никогда не доступны сами по себе; они фиксируются и опосредуются тем, кто их «изготавливает»; истина, «вся истина» шире фактов и требует умения сопротивляться видимости. Это сопротивление — необходимая предпосылка и признак свободы мысли и речи — невозможно в нынешних условиях абстрактной толерантности и фальшивой объективности, потому что именно последние и подрывают в сознании способность к сопротивлению.
Фактические барьеры, воздвигаемые тоталитарной демократией против действенности качественного несогласия, слабы и довольно приятны в сравнении с практиками диктатуры, провозглашающей владение истиной и право воспитывать людей в этой истине. При всех её ограничениях и искажениях демократическая толерантность, во всяком случае, более гуманна, чем институционализированная нетерпимость, которая приносит в жертву права и свободы живущих поколений ради будущих. Вопрос в том, единственная ли это альтернатива. Я попробую очертить направление, в котором следует искать ответ. Так или иначе, но дело не в противопоставлении абстрактной демократии абстрактной диктатуре.
Демократия — это форма правления, которая подходит различным типам общества (это верно даже для демократии со всеобщим избирательным правом и равенством перед законом), и человеческая цена демократии всегда и везде определяется обществом. Это может быть обычная эксплуатация, бедность и опасности войны, полицейского насилия, военной помощи и т.п. Эти соображения никоим образом не могут служить оправданием для того, чтобы требовать жертв от имени лучшего общества будущего, но они позволяют сравнивать цену увековечения существующего общества с риском осуществления альтернатив, которые сулят разумные шансы умиротворения и освобождения. Разумеется, ни от какой власти нельзя ожидать, что она будет способствовать собственному ниспровержению, но в демократии народу (большинству) предоставлено такое право. Это означает незаконность противодействия большинству, стремящемуся к ниспровержению правительства, и если такое противодействие имеет место посредством организованной репрессии и индоктринации, то его устранение требует внешне недемократических средств. Это подразумевает отказ от толерантности в плане свободы слова и собраний по отношению к группам и движениям, которые проповедуют и осуществляют агрессивную политику, вооружение, шовинизм, расовую и религиозную дискриминацию или которые противодействуют развитию социальных услуг, общественной безопасности, здравоохранения и т.п. Более того, восстановление свободы мысли может потребовать новых и жёстких ограничений в образовательных институтах, которые своими методами и программами способствуют порабощению сознания и закреплению власти над ним утвердившегося универсума дискурса и поведения, что a priori исключает способность рациональной оценки альтернатив. И в той степени, в какой свобода мысли предполагает борьбу против бесчеловечности, восстановление такой свободы означает также нетерпимость по отношению к научным исследованиям «средств устрашения», выживаемости человека в нечеловеческих условиях и т.п. Рассмотрим теперь вопрос о том, кто должен устанавливать различие между свободой и репрессией, гуманными и негуманными учениями и практиками. Я уже указывал, что это различие — вопрос не ценностного предпочтения, а рациональных критериев.
Если в области образования переломить нынешнюю тенденцию (по крайней мере, теоретически) по силам самим студентам и преподавателям, то систематический отказ от толерантности в отношении регрессивных и репрессивных мнений и движений возможен лишь в результате давления, охватывающего общество в целом, что равнозначно перевороту. Иными словами, это предполагает то, что по-прежнему остается предстоящей задачей — перелом общей тенденции. Однако такие действия, как сопротивление в конкретных ситуациях, бойкот, неучастие на уровне местных сообществ или даже малых групп, могут помочь тому, чтобы подготовить почву для него. Подрывной характер восстановления свободы особенно отчетливо проявляется в том измерении общественной жизни, где ложная толерантность и свободное предпринимательство наносят, пожалуй, наиболее серьёзный и трудно восстановимый ущерб, а именно в бизнесе и гласности. Вопреки настойчивым заверениям от имени представителей рабочего класса я утверждаю, что такие практики, как планируемое устаревание, столкновение между лидерами профсоюзов и менеджмента, односторонняя гласность не просто навязаны сверху лишенным власти рядовым членам профсоюзов, а принимаются ими — и потребителями в целом. Однако смешно говорить о возможном отказе от толерантности в отношении этих практик и идеологий, которые за ними стоят. Ибо они являются базисными для репрессивного общества изобилия, которое посредством их воспроизводит и защищает себя. Их устранение означало бы тотальную революцию, которой это общество так эффективно препятствует.
Обсуждать толерантность в таком обществе означает пересматривать вопрос о насилии и традиционное различение между насильственным и ненасильственным действием. Эта дискуссия не должна быть с самого начала затуманенной идеологиями, которые служат увековечению насилия. Даже в развитых центрах цивилизации насилие остаётся повседневным фактом — оно присутствует в полицейской практике, в тюрьмах и заведениях для душевнобольных, в борьбе против расовых меньшинств; оно практикуется представителями метрополий в отсталых странах. Это насилие, безусловно, порождает в ответ насилие. Но воздерживаться от насилия перед лицом намного превосходящего насилия — одно; отвергать же a priori насилие против насилия по этическим или психологическим основаниям (поскольку это может вызвать ответную вражду) — другое. Ненасилие обычно не только проповедуется, но и требуется от слабых — это скорее необходимость, чем добродетель, и к тому же обычно оно не наносит серьёзного вреда сильным. (Можно ли считать исключением Индию? Там получило широкое распространение пассивное сопротивление, которое подорвало, или угрожало подорвать, экономическую жизнь страны. Количество перешло в качество: в таком масштабе пассивное сопротивление перестаёт быть пассивным — а равно перестаёт быть ненасильственным. То же самое относится и к всеобщей забастовке.) Различение Робеспьера между террором свободы и террором деспотизма, и восхваление им первого по моральным мотивам представляет собой одно из наиболее убедительных недоразумений, даже если белый террор был более кровавым, чем красный террор. Сравнительная оценка в отношении числа жертв — проявление количественного подхода, который оправдывает необходимость насилия на протяжении истории. В историческом смысле здесь предстает различие между революционным и реакционным насилием, между насилием со стороны угнетённых и угнетателей. С этической точки зрения, обе формы насилия бесчеловечны и суть зло, но с каких это пор история совершается согласно этическим нормам? И начать применять их там, где угнетаемые восстают против угнетателей, неимущие против имущих, значит, способствовать реальному насилию, ослабляя протест против него. «Пора наконец понять: если бы насилие возникло сегодня, если бы эксплуатация и угнетение никогда бы не существовали на земле, возможно, демонстративное ненасилие могло бы умиротворить распри. Но коль скоро весь режим вплоть до ваших мыслей о ненасилии обусловлен тысячелетним угнетением, ваша пассивность ставит вас на сторону угнетателей»(9).
Само понятие ложной толерантности и различие между правильными и неправильными ограничениями толерантности, между прогрессивной и регрессивной индоктринацией, революционным и реакционным насилием требуют определения критериев их значимости. Эти нормы должны быть первичными по отношению к любым конституциональным и юридическим критериям, установленным и используемым в существующем обществе (например, «явная и актуальная опасность» и другие дефиниции гражданских прав и свобод), поскольку такие дефиниции сами предполагают нормы свободы и подавления, применимые или неприменимые в соответствующем обществе, — они суть конкретизации более общих понятий. Как и согласно каким нормам можно провести и верифицировать политическое различение между истинным и ложным, прогрессивным и регрессивным (ибо в данной области эти пары эквивалентны)? Сразу следует сказать, что, по моему мнению, на этот вопрос нельзя ответить, оставаясь в рамках оппозиции демократия-диктатура, ибо в последнем случае некий индивид или группа без какого-либо эффективного контроля снизу присваивают право принятия решений. Исторически даже в наиболее демократичных демократиях жизненно важные для общества в целом и окончательные решения принимались по закону или фактически одной или несколькими группами без реального контроля со стороны народа. Иронический вопрос «Кто воспитывает воспитателей (т.е. политических лидеров)?» также приложим и к демократии. Единственной подлинной альтернативой диктатуре и её отрицанием было бы общество, в котором «народ» состоял бы из автономных индивидов, освобождённых от репрессивных требований борьбы за существование в интересах господства, а значит — из людей, которые самостоятельно выбирают своё правительство и определяют свою жизнь. Такого общества пока не существует. Между тем этот вопрос нужно рассмотреть хотя бы абстрактно — отвлекаясь не от исторических возможностей, но от действительности преобладающих типов обществ.
Я считаю, что различение между истинной и ложной толерантностью, между прогрессом и регрессом можно рационально провести на эмпирических основаниях. Реальные возможности человеческой свободы вполне соотносимы с достигнутой ступенью цивилизации. Они зависят от материальных и интеллектуальных ресурсов, доступных на данной ступени, и в значительной степени поддаются исчислению. На этапе развитого индустриального общества наиболее рациональные пути использования этих ресурсов и распространения общественного продукта суть те, которые нацелены прежде всего на удовлетворение жизненно важных потребностей при минимизации тяжёлого труда и несправедливости. Иными словами, вполне возможно определить направление, в котором следует менять господствующие институты, политику и мнения для того, чтобы обеспечить мир, который не тождествен холодной войне или небольшой «горячей» войне, а равно для удовлетворения потребностей, за которое не нужно платить бедностью, угнетением и эксплуатацией. Следовательно, также вполне возможно определить, какие движения, политика и мнения способствуют достижению этих целей, а какие его затрудняют. В этом случае подавление регрессивных факторов становится предпосылкой укрепления прогрессивных.
Вопрос о том, в чьей компетенции находятся все эти различения и определения в обществе, теперь получает простой и логичный ответ, а именно: каждый «в меру зрелости своих способностей» как человеческого существа, каждый, кто научился мыслить рационально и автономно. Ответом просвещённой диктатуре Платона является демократическая просвещённая диктатура свободных людей. Концепция res publica Джона Стюарта Милля не являет собой противоположность концепции Платона: либерализм также требует власти разума и не только интеллектуальной, но и политической. У Платона рациональное мышление является достоянием ограниченного числа философов-царей; согласно Миллю, каждое рационально мыслящее человеческое существо участвует в обсуждении и принятии решения, но — только разумное существо. Там, где общество вступило в стадию тотального управления и индоктринации, их количество будет, конечно, невелико, и они далеко не обязательно окажутся в числе избранных представителей народа. Проблема, таким образом, заключается не в просвещенной диктатуре, а в том, чтобы сокрушить тиранию общественного мнения и его изготовителей в закрытом обществе.
Однако, если учесть эмпирическую рациональность различения между прогрессом и регрессом и то, что она также применима к толерантности и может оправдать дискриминационную толерантность по политическим мотивам (отмену либерального постулата о свободной и равной дискуссии), из этого вытекает ещё одно невозможное следствие. Я уже отметил, что в силу внутренней логики отказ от толерантности по отношению к регрессивным движениям и дискриминационная толерантность в пользу прогрессивных тенденций равнозначны перевороту «сверху». Исторический расчёт прогресса (который по сути представляет собой расчёт перспективы сокращения жестокости, нужды и подавления), по-видимому, предполагает расчётливый выбор между двумя формами политического насилия: со стороны законной власти (осуществляемого её законными действиями, или с её молчаливого согласия, или в силу её неспособности предотвратить насилие) и со стороны потенциально подрывных движений. Более того, в отношении последней формы насилия возможна политика неравенства, которая бы защищала левый радикализм в противовес правому. Можно ли оправдать, исходя из исторического расчёта, одну форму насилия в противовес другой? Или точнее (поскольку слово «оправдать» несёт в себе моральные коннотации) — существуют ли исторические свидетельства в пользу того, что социальное происхождение и источник насилия (правящие или управляемые классы, имущие или неимущие, левые или правые) находится в необходимой связи с прогрессом (как это указано выше)?
При всех оговорках, «открытый» ряд исторических фактов указывает на то, что насилие, являющееся следствием восстания угнетенных классов, всегда на короткий момент прорывало исторический континуум несправедливости, жестокости и молчания — короткий, но достаточный для достижения подвижек в объёме свободы и справедливости, а также лучшего и более равного распределения нужды и угнетения в новой социальной системе, словом, для прогресса цивилизации. Английские гражданские войны, французская революция, китайская и кубинская революции могут служить иллюстрацией этой гипотезы. Напротив, исторические перемены и переход от одной общественной системы к другой, обозначивший начало нового периода в цивилизации, которые не были инициированы движением «снизу» (например, распад Западной Римской империи), повлекли за собой длительный период регресса, продолжавшийся несколько столетий — до тех пор, пока в насильственных взрывах еретических бунтов XIII века, а также крестьянских и рабочих восстаний XIV века не родился в муках новый, более высокий период развития цивилизации(10). В отношении исторического насилия, исходящего от правящих классов, не видно никакой связи с прогрессом. Долгий ряд династических и империалистических войн, ликвидация движения «спартаковцев» в Германии в 1919 г., фашизм и нацизм не прервали, а скорее уплотнили и упрочили исторический континуум подавления. Я сказал «исходящего от правящих классов», но, разумеется, почти всякое организованное насилие сверху мобилизует и активизирует массовое сопротивление снизу; решающий вопрос заключается в том, от имени и в интересах каких групп и институтов осуществляется это насилие. И ответ можно дать сразу: в упомянутых выше исторических примерах было очевидно в том числе и для современников, служит ли какое-либо движение упрочению старого порядка или появлению нового.
Освобождающая толерантность поэтому должна означать нетерпимость по отношению к правым движениям и толерантность по отношению левым движениям. Что же касается объёма этой толерантности и нетолерантности, то она должна касаться как действий, так и дискуссии и пропаганды, как дела, так и слова. Традиционный критерий явной и актуальной опасности, по-видимому, уже не соответствует этапу, когда общество находится в ситуации подобной той, когда в переполненном театре раздаётся крик «Пожар!». В этой ситуации тотальная катастрофа возможна в любой момент и не только в силу технической ошибки, а также в силу ошибки в рациональном расчёте рисков или неистовой речи кого-либо из политических лидеров. В прошлом речи фашистских и нацистских лидеров служили непосредственным прологом к резне. Дистанция между пропагандой и действиями, между организацией и воздействием на людей стала слишком короткой. Но влияние слова можно было бы остановить, прежде чем стало слишком поздно: если бы демократическая толерантность подверглась бы ограничению ещё до того, как будущие политические лидеры начали свою кампанию, человечество, возможно, имело бы шанс избегнуть Освенцима и мировой войны.
Весь постфашистский период представляет собой одну явную и актуальную опасность. Поэтому истинное умиротворение требует отказа от толерантности уже до действия, на стадии коммуникации — устной, печатной, визуальной. Такое крайнее ограничение права на свободу слова и собраний оправдано, конечно же, только в том случае, когда всё общество находится в крайней опасности. Я настаиваю на том, что наше общество находится именно в такой чрезвычайно ситуации, и это стало уже нормальным положением вещей. Различные точки зрения и «философии» уже не могут мирно состязаться друг с другом на рациональных основаниях — «рынок идей» организован и ограничен теми, кто определяет национальные и индивидуальные интересы. В этом обществе, для которого идеологи провозгласили «конец идеологии», ложное сознание стало обыденным сознанием — от правительства до его последних подданных. Мелкие и бессильные меньшинства, ведущие борьбу с ложным сознанием и его инициаторами, нуждаются в помощи — их существование важнее, чем сохранение скомпрометированных прав и свобод, которые облекают властью тех, кто подавляет эти меньшинства. Теперь должно быть очевидно, что предоставление в полном объёме гражданских прав тем, кто их лишен, предполагает лишение гражданских прав тех, кто препятствует их освобождению, и что освобождение обездоленных представителей человеческим предполагает подавление не только их старых, но и новым хозяев.
Отказ от толерантности в отношении регрессивных общественных движений, прежде чем они становятся активными; нетерпимость даже в сфере мысли, мнений и слова и, наконец, нетерпимость по отношению к мнимым консерваторам, правым политикам — эти антидемократические положения соответствуют реальному развитию демократического общества, которое в действительности разрушило фундамент универсальной толерантности. Условия, при которых толерантность вновь превратится в фактор освобождения и гуманизации, ещё предстоит создать. Когда толерантность служит главным образом защите и сохранению репрессивного общества, нейтрализации оппозиции и формирует в людях невосприимчивость к другим, лучшим формам жизни, это означает извращение толерантности. И поскольку это извращение внедряется в сознание индивида, в его потребности, поскольку гетерономные интересы овладевают им прежде, чем ему удаётся осознать своё рабство, то усилия, направленные против его дегуманизации, должны быть нацелены туда, где формируется (причём систематически формируется) ложное сознание, — на упреждение речевого и визуального воздействия, питающего это сознание. Разумеется, это цензура, даже упреждающая цензура, так как она открыто направлена против более или менее скрытой цензуры, пронизывающей деятельность свободных средств массовой информации. Там, где ложное сознание становится господствующим в масштабах страны, народа, оно почти непосредственно переходит в практику — безопасная дистанция между идеологией и реальностью, репрессивной мыслью и репрессивным действием, между словом, призывающим к деструкции, и деструктивными действиями угрожающе сокращается. Таким образом, трещина в ложном сознании может стать Архимедовой точкой опоры для усиления эмансипации — бесконечно малыми очагами, разумеется, однако от расширения таких малых очагов и зависит шанс перемены.
Силы освобождения нельзя отождествить с каким-либо общественным классом, который в силу своих материальных условий свободен от ложного сознания. Сегодня они, увы, безнадёжно рассеяны в обществе, причём борющиеся меньшинства и обособленные группы часто находятся в конфликте со своими собственными лидерами. Духовное пространство для протеста и свободной мысли ещё нужно воссоздать в обществе в целом. Сталкиваясь с непробиваемостью управляемого общества, эмансипирующие усилия становятся «абстрактными»; они ограничиваются содействием признанию того, что происходит, попытками освобождения языка от тирании оруэлловского синтаксиса и логики и разработки концептуальных средств для понимания действительности. Ныне более чем когда-либо верна мысль о том, что прогресс свободы требует прогресса осознания свободы. Там, где сознание превращено в субъект-объект политики и политиков, интеллектуальная автономия, царство «чистой» мысли становится делом политического образования (или скорее контр-образования).
Это означает, что прежде нейтральные, безоценочные, формальные аспекты обучения и преподавания теперь становятся как таковые политическими — умение познавать факты, истину как целое и понимать её несёт в себе заряд радикальной критичности, интеллектуального подрыва. В мире, в котором человеческие способности и потребности поставлены в стеснительные рамки или извращены, автономное мышление ведёт внутрь «извращённого мира», который являет собой противоположность и перевёрнутый образ утвердившегося мира репрессии. Эта противоположность не просто постулируется, не есть продукт запутавшейся мысли или фантазии, но логическое развитие данного, существующего мира. В той степени, в которой это развитие реально тормозится самой массой репрессивного общества и необходимостью выживания в нём, репрессия проникает в академическую сферу как таковую ещё до того, как на академическую свободу налагаются различные ограничения. Технология предубеждения делает заведомо невозможными беспристрастность и объективность — студента с самого начала учат рассматривать факты в господствующей системе ценностей. Познание, т.е. приобретение и сообщение знаний, несовместимо с вылущиванием и изоляцией фактов из контекста всей истины. Существенной же частью истины является признание того, что история в значительной степени совершалась и описывалась в интересах победителей, т.е. была историей угнетения. Это угнетение присутствует в самих фактах, которые оно определяет; поэтому факты как таковые несут в себе негативную ценность как часть и аспект своей фактичности. Рассматривать крестовые походы против человечности (например, против альбигойцев) с тем же бесстрастием, что и отчаянную борьбу за гуманизм, — означает нейтрализовать противоположность их исторической функции, примирять палачей с их жертвами, искажать суть фактов. Такая фальшивая нейтральность служит тому, что воспроизводит сознание приемлемости господства победителей в умах людей. Поэтому в образовании тех, кто ещё не полностью интегрирован, в сознании молодёжи, также предстоит заложить фундамент освобождающей толерантности.
Образование предлагает и другой образец фальшивой, абстрактной толерантности, прикидывающейся конкретной истиной — она схвачена понятием самоактуализации. От вседозволенности всех видов, предоставляемой ребёнку до постоянной психологической озабоченности личными проблемами студента имеется широкомасштабное движение против зол репрессии, питаемое потребностью быть собой. Часто отметается в сторону вопрос о том, что, собственно, подлежит подавлению, прежде чем индивид становится собой, личностью. Поначалу потенциал индивида негативен, это часть потенциала общества — он включает агрессию, чувство вины, невежество, обиду, жестокость, которые деформируют жизненные инстинкты индивида. Если личность есть нечто большее, чем просто непосредственная реализация этого потенциала (нежелательного для индивида как человеческого существа), то в отношении последнего необходимы подавление, сублимация, сознательная трансформация. Этот процесс на каждой стадии предполагает (прибегая к осмеянным терминам, которые здесь как раз обнаруживают свою конкретность) отрицание отрицания, опосредование непосредственного, — и личность есть ни больше ни меньше как этот процесс. «Отчуждение» — это постоянный и существенный элемент личности, объективная сторона субъекта — а вовсе не болезнь, психологическое состояние, как это кажется сегодня. Фрейд хорошо понимал разницу между прогрессивным и регрессивным, освобождающим и деструктивным подавлением. Прославление самоактуализации способствует стиранию различия между тем и другим, оно утверждает существование в той непосредственности, которую в репрессивном обществе уместно назвать (используя другой гегелевский термин) плохой непосредственностью (schlechte Unmittelbarkeit). Оно изолирует индивида от того измерения, в котором он мог бы «найти себя», — от его политического существования, которое составляет сердцевину всего его бытия. Вместо этого оно направляет нонконформистские устремления таким образом, что действительные механизмы репрессии в обществе остаются нетронутыми, и даже усиливает эти механизмы тем, что замещает удовлетворение от частного и личного бунта более чем частной и личной и потому более аутентичной оппозицией. Десублимация, связанная с такого рода самоактуализацией, сама является репрессивной, поскольку ослабляет необходимость и силу интеллекта, каталитическую силу несчастного сознания, которому не дано испытать архетипического личного облегчения фрустрации — возрождения Оно, ибо последнее раньше или позже становится жертвой вездесущей рациональности управляемого мира, — но которое прозревает ужас целого в сугубо личной фрустрации и актуализирует себя в этом осознании.
Я попытался показать, каким образом перемены в развитых демократических обществах, подорвавшие фундамент экономического и политического либерализма, изменили также освободительную функцию толерантности. Толерантность, которая была великим достижением либеральной эпохи, всё ещё сохраняет свою значимость и реализуется на практике (хотя и с существенными ограничениями), тогда как экономические и политические процессы подчинены вездесущему и эффективному управлению, действующему в интересах господства. Результатом является объективное противоречие между экономической и политической структурой, с одной стороны, и теорией и практикой толерантности — с другой. Изменённая общественная структура ослабляет эффективность толерантности по отношению к оппозиционным движениям и, напротив, усиливает консервативные и реакционные силы. Равенство в плане толерантности становится абстрактным, иллюзорным. С упадком реального несогласия в обществе оппозиция замыкается в небольших и часто антагонистических группах, которые, даже там, где они сохраняют некоторую свободу в узких рамках, установленных для них иерархической структурой общества, бессильны, поскольку не способны выйти за эти рамки. Толерантность, выказываемая по отношению к ним, обманчива и есть скорее форма координирования. В координируемом обществе, закрытом для качественных изменений, толерантность сама становится скорее способом сдерживания таких изменений, чем способствует им.
Эти же самые условия делают критику такой толерантности абстрактной и академической, а предложение радикально изменить баланс толерантности по отношению к правым и по отношению к левым так, чтобы восстановить её освобождающую функцию, становится нереалистичной спекуляцией. Разумеется, такое изменение баланса равнозначно институционализации «права на сопротивление» вплоть до низвержения строя. Такого права не имеет и не может иметь никакая группа и никакой индивид в отношении конституционного правительства, поддерживаемого большинством населения. Но я полагаю, что можно говорить о «естественном праве» на сопротивление в отношении угнетённых и подавленных властью меньшинств, праве на использование не предусмотренных законом средств, коль скоро законные оказались неадекватными. Закон и порядок — всегда и везде такие закон и порядок, которые защищают утвердившуюся иерархию; бессмысленно говорить об абсолютном верховенстве этого закона и этого порядка по отношению к тем, кто страдает от них и борется против них — не ради личной выгоды или мести, но ради своей доли человечности. И над ними нет другого судьи, кроме установленной власти, полиции и их собственного сознания. Если они прибегают к насилию, это не значит, что они зачинают новую цепь насилия, но, напротив, пытаются разорвать существующую. Они знают о грозящем им наказании и, значит, понимают степень риска, но коль скоро они идут на него, никто не имеет права удерживать их — и меньше всего представитель сферы образования и интеллектуал.
Постскриптум 1968 года
В условиях США толерантность не выполняет и не может выполнять цивилизующей функции, которую ей приписывали либеральные поборники демократии, а именно защиты несогласия. Прогрессивная историческая сила толерантности заключается в её распространении на те способы и формы несогласия, которые оспаривают статус-кво общества и институциональные рамки утвердившегося общества. Следовательно, идея толерантности предполагает необходимость для несогласных групп или индивидов выходить за рамки закона в том случае, когда установленный закон запрещает выражение несогласия и противодействует ему. Так обстоит дело не только в тоталитарном обществе, в условиях диктатуры, в однопартийных государствах, но и в демократии (представительской, парламентской или «прямой»), где большинство образуется не путём развития независимой мысли и мнения, а скорее в силу монополистического или олигополистического управления общественным мнением без террора и (обычно) без цензуры. В таких случаях большинство пытается само себя увековечить, поскольку увековечивает торжество тех интересов и кругов, которые сделали его большинством. По самой своей структуре это большинство «закрытое», окаменевшее; оно a priori отвергает любые перемены, которые выводят за рамки системы. Но это означает, что большинство перестаёт оправдывать демократическое звание наилучшего защитника общих интересов. Такое большинство — противоположность «общей воли» (Руссо): оно состоит не из индивидов, которые по своим политическим функциям реально «абстрагировались» от своих частных интересов, а скорее наоборот — из индивидов, которые в действительности отождествили свои частные интересы со своими политическими функциями. И представители этого большинства, утверждая и осуществляя свою волю, утверждают и осуществляют волю тех заинтересованных кругов, которые формировали большинство. Идеология демократии скрывает отсутствие её содержания.
В Соединённых Штатах эта тенденция идёт рука об руку с монополистической или олигополистической концентрацией капитала в формировании общественного мнения, т.е. большинства. Возможность сколько-нибудь эффективно повлиять на большинство стоит — в долларах — слишком дорого для радикальной оппозиции. Здесь также свободная конкуренция и обмен идеями превратились в фарс. Левые не имеют равного права голоса, равного доступа к средствам массовой информации не из-за конспирации, а потому, что по старой доброй капиталистической традиции им не позволяет этого их покупательная способность. И дело здесь не в том, что они левые. Эти условия вынуждают радикальные меньшинства к стратегии, которая по существу представляет собой отказ от поддержания якобы равноправной, но в действительности дискриминирующей толерантности, например, стратегию протеста против поочередной ротации спикеров от правых (центристов) и левых. Не «равное», а большее представительство от левых было бы действительным выравниванием сложившегося неравенства.
Исходя из данной ситуации, я предложил в «Репрессивной толерантности» практику дискриминирующей толерантности как средство смещения равновесия между правыми и левыми — путём ограничения свободы правых и тем самым компенсации всепроникающего неравенства (неравного доступа к средствам демократического убеждения) и усиления угнетаемых в сравнении с угнетателями. Толерантность должна быть ограничена по отношению к движениям явно агрессивного или деструктивного характера (деструктивного для перспектив установления мира, справедливости и свободы для всех). Такая дискриминация должна также касаться движений, противящихся распространению социального законодательства на бедных, слабых и инвалидов. Вопреки осуждениям такой политики, которая противоречит священному либералистскому принципу равенства для «другой стороны», я настаиваю на том, что существуют вопросы, где либо нет никакой «другой стороны» в формальном смысле, либо «другая сторона» является очевидно «регрессивной» и препятствует возможному улучшению условий человеческого существования. Толерантность по отношению к пропаганде бесчеловечности извращает цели не только либерализма, но и всякой прогрессивной политической философии.
Я предположил существование очевидных критериев для определения агрессивных, регрессивных и деструктивных сил. Если решающий демократический критерий выражаемого мнения большинства уже (или скорее ещё) не имеет силы, если насущные идеи, ценности и цели человеческого прогресса уже (или скорее ещё) не включаются на равных в формирование общественного мнения, если люди уже (или скорее ещё) не суверенны, а «управляемы» реально суверенной властью — то есть ли какая-либо альтернатива, кроме диктатуры «элиты» над общей массой людей? Ибо мнение людей (обычно именуемых Народом), которые несвободны в отношении тех самых способностей и проявлений, в которых либерализм видел корни свободы (независимая мысль, независимое слово), утрачивают решающее значение и авторитетность — даже если Народ составляет подавляющее большинство.
Если бы выбор был между подлинной демократией и диктатурой, безусловно, следовало бы предпочесть демократию. Но о торжестве демократии говорить не приходится. Радикальные критики существующего положения дел в политике осуждаются как защитники «элитизма», диктатуры интеллектуалов. В реальности же мы имеем правительство, также представляющее меньшинство, но не интеллектуалов, а политиков, генералов и бизнесменов. Послужной список этой «элиты» не слишком вдохновляет, и располагай интеллигенция подобными политическими привилегиями, для общества в целом это вряд ли было бы хуже.
Во всяком случае Джон Стюарт Милль, которого нельзя назвать противником либерального и представительского способа правления, не был столь враждебно настроен в отношении политического лидерства интеллигенции, как современные страны полудемократии. Милль полагал, что «индивидуальное духовное превосходство» оправдывает «приравнивание мнения одного человека к мнениям нескольких»: «До тех пор, пока не будут изобретены (и институционализированы) какие-либо способы голосования, которые бы сообщали образованности большую степень влиятельности и позволяли бы уравновесить численное превосходство менее образованного класса, до тех пор к плюсам всеобщего избирательного права будет присоединяться такое же количество минусов»(11). «Предпочтительная оценка образованности, правильная сама по себе», также имела в виду защиту «образованных людей от классового законодательства людей невежественных», что, однако, не означало права первых на законодательство исключительно в интересах только своего класса(12).
Сегодня эти слова имеют антидемократическое, «элитистское» звучание, и это понятно — слишком очевидны их опасно радикальные импликации. Ведь если «образование» есть нечто иное и большее, нежели обучение, воспитание, подготовка к жизни в нынешнем обществе, оно подразумевает способность не только познавать и понимать факты, из которых состоит действительность, но также познавать и понимать факторы, формирующие факты, а следовательно и способность изменять бесчеловечную действительность. Такое гуманистическое образование должно включать также «железные» науки (науки, которые создают «железо» для Пентагона), освободив их при этом от их деструктивной направленности. Иными словами, такое образование, разумеется, не может служить истеблишменту, и, разумеется, наделение политическими привилегиями мужчин и женщин, получивших такое образование, было бы антидемократическим проявлением с точки зрения того же истеблишмента. Но это не единственная точка зрения. Но всё-таки альтернатива господствующему полудемократическому положению вещей — не диктатура или элита, сколь угодно образованная и разумная, а борьба за реальную демократию. И часть этой борьбы состоит в борьбе против идеологии толерантности, которая в действительности усиливает консервацию статус-кво неравенства и дискриминации.
В контексте этой борьбы я предлагаю практику дискриминирующей толерантности. Разумеется, эта практика уже предполагает радикальную цель, которой она ещё только собирается достичь. Это petitio principia(13) направлено против той разрушительной идеологии, согласно которой толерантность уже институционализирована в данном обществе. Толерантность, которая является жизненно важным элементом и признаком свободного общества, никогда не будет даром власть имущих; в условиях тирании большинства она может быть лишь завуалирована настойчивыми усилиями радикальных меньшинств, готовых уничтожить эту тиранию и трудиться ради появления свободного и суверенного большинства, — меньшинств нетерпимых, воинственно нетерпимых и непокорных в отношении правил поведения, которые терпимы к разрушению и подавлению.
1. Принцип невмешательства (дословно: «позвольте делать») (фр.).
2. До опыта (лат.).
3. На деле, фактически, де-факто (лат.).
4. Wind, Edgar. Art and Anarchy. New York: Knopf? 1964, p.101
5. Снимается (нем.)
6. Задним числом (лат.).
7. Я бы хотел повторить применительно к данному случаю, что de facto толерантность не может быть неразборчивой и «чистой» даже в самом демократическом обществе. Изложенные выше ситуативные ограничения помещают толерантность в определенные рамки еще до того, как она вступает в силу. Антагонистическая структура общества устанавливает здесь правила игры. Те же, кто пытается противостоять господствующей системе, а priori оказываются в невыгодном положении, которое не компенсируется терпимостью к их идеям, выступлениям и газетам.
8. «Чистыми досками» (лат.)
9. Sartre, Preface to Frantz Fanon, Les Damnes de la Terre. Paris: Maspero, 1961, р.22
10. В современных условиях фашизм стал следствием перехода к индустриальному обществу без революции. См.: Moore, Barrington. Social Origins / Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1966.
11. Сonsiderations on Representative Government. Chicago: Gateway Edition, 1962. P. 183.
12. Ibid., p. 181.
13. Предвосхищение основания {лат.).


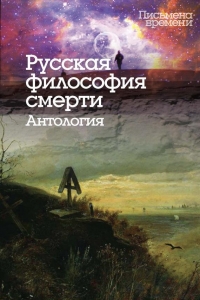

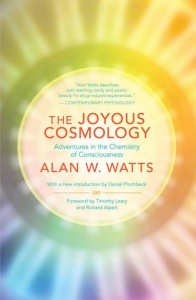
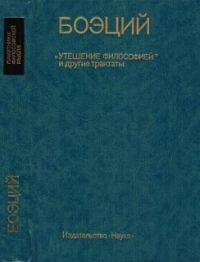
Комментарии к книге «Репрессивная толерантность», Герберт Маркузе
Всего 0 комментариев