Пьер Жозеф Прудон БЕДНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
Глава I ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ, ЗАКОНЫ БЕДНОСТИ И РАВНОВЕСИЯ
Пусть не ослепляют нас тщеславие нашей роскошью и горячка наших наслаждений: пауперизм столько же свирепствует среди цивилизованных народов, сколько и между полчищами варваров, а может быть, и сильнее. Благосостояние в данном обществе не столько зависит от абсолютного количества накопленного богатства (всегда меньшего, чем думают), сколько от отношения производства к потреблению, а в особенности — от распределения продуктов. Теперь, так как, по множеству причин, вычисление которых здесь бесполезно, ни у какого народа сила производства не может сравниться с силой потребления и так как распределение продуктов производится еще гораздо неправильнее их произведения и потребления, то следует из этого всего, что неблагосостояние повсеместно и постоянно; что общество, по-видимому богатое, на самом деле бедно, — словом, что все страдают от пауперизма: собственник, живущий рентою, так же как и пролетарий, который перебивается только трудом своих рук.
Это положение может показаться парадоксальным, и потому прошу позволения еще некоторое время на нем остановиться.
Из всех потребностей нашей природы самая настоятельная — потребность в пище. Говорят, что есть некоторые виды бабочек непитающихся, но они напитались в состоянии личинки, да и их существование недолговечно. Стоит ли брать их символами жизни ангельской, свободной от ига телесного? Пусть разрешат это, если угодно, любители аналогий.
Как бы то ни было, человек разделяет общую участь животных: он должен есть, т. е. потреблять, говоря экономически.
Вот наш первый закон в сфере экономической — грозный закон, как фурия преследующий нас, если мы не сумеем с умом выполнить его, точно так же, как если мы делаемся его рабами, жертвуя ему всеми нашими прочими обязанностями. Этой-то необходимостью кормиться мы ближе всего подходим к скоту; под ее влиянием мы делаемся хуже скота, когда погрязаем в разврате или, застигнутые голодом, не боимся для его насыщения прибегнуть к обману, насилию, убийству.
Однако ж Творец, избравший для нас этот образ жизни, имел свои цели. Необходимость поддержания жизни побуждает нас к промышленности и труду — вот наш второй закон.
Но что же такое промышленность и труд? Деятельность, и физическая и умственная, существа, состоящие из тела и духа. Не только труд нужен для сохранения нашего тела, он еще необходим для развития нашего духа. Все, чем владеем мы, все, что знаем, происходит от труда; ему обязаны мы всякой наукой, всяким искусством, равно как и всяким богатством. Философия есть только средство обобщать и возводить в отвлеченность результаты нашего опыта, т. е. труда.
Сколько, по-видимому, унижает нас закон потребления, столько облагораживает нас закон труда. Мы не живем исключительно жизнью духовною, потому что мы не исключительно существа духовные; но трудом мы более и более одухотворяем (спиритуализируем) наше существование.
Здесь возникает вопрос один из самых важных — вопрос, от разрешения которого зависит и наше теперешнее благосостояние, и, если верить древним мифам, будущее.
Что нужно человеку для потребления? Следовательно, сколько он должен, сколько может производить? Сколько приходится ему трудиться?
Ответ на этот вопрос будет нашим третьим законом.
Сперва заметим, что у человека способность потребления безгранична, между тем как способность произведения не безгранична. Это в природе вещей: потреблять, пожирать, разрушать — способность отрицательная, хаотическая, неопределенная; производить, создавать, организовывать, давать бытие или форму — способность положительная, которой закон — число и мера, т. е. ограничение.
Осмотримся вокруг: все имеет свои пределы в созданной природе, я хочу сказать — в наделенной формами. Обитаемый нами земной шар имеет в окружности 9000 миль; вокруг оси он вращается в 24 часа, а вокруг Солнца — в 365 дней с четвертью. Вращаясь вокруг своей оси, он попеременно направляется обоими полюсами к центральному светилу. Его атмосфера не выше 20 миль; океан, покрывающий 4/5 его поверхности, не достигает, средним числом, и 3000 метров глубины. Свет, теплота, воздух и дождь отпускаются нам в достаточном количестве, без сомнения, но без излишка, даже скорее как будто с некоторою бережливостью. В экономии земного шара малейшее уклонение в ту или другую сторону причиняет беспорядок. Такой же закон управляет растениями и животными. Обыкновенная продолжительность человеческой жизни — не более 70 лет. Бык растет шесть лет, баран — два, устрица — три. Тополь 35 сантиметров в диаметре бывает только в 25 лет; дуб такой же толщины — во сто лет. Хлеб и бóльшая часть возделываемых нами, идущих в пищу растений зреют в одно время года. Во всем умеренном поясе, наилучшем на земном шаре, бывает ежегодно одна только жатва. А сколько пространств на безводной части нашей планеты, не допускающих обработки, необитаемых!
У человека же, пользующегося и распоряжающегося этими владениями, сила мускулов не достигает, в среднем, и десятой части одной паровой силы. Он не может без истощения себя дать в день более десяти часов полезного труда, а в год более 300 дней.
Он дня не может провести без пищи; он не мог бы ограничиться половиной своего обыкновенного продовольствия.
Вначале, когда род человеческий редко населял землю, природа без труда удовлетворяла его нужды. Это был золотой век, век изобилия и мира, оплакиваемый поэтами с тех пор, как, вследствие размножения человечества, стала все более чувствоваться необходимость труда и бедность произвела раздоры. Теперь населенность во всех климатах сильно превышает естественные произведения природы, и вполне справедливо можно сказать, что в веке цивилизации, которого достиг человек с незапамятных времен, он (т. е. человек) живет только тем, чтó удастся ему вырвать у земли упорным трудом: «В поте лица снеси хлеб твой». Вот это-то он называет производить, создавать богатство, так как потребляемые им предметы имеют для него ценность только по доставляемой ими пользе и по затраченному на них труду.
Так что в этом развитии условий благосостояния изобилие и богатство являются двумя противоположными полюсами, так как изобилие очень хорошо может существовать без богатства, а богатство — без изобилия и так как, следовательно, оба эти условия выражают именно противное тому, чтó они, по-видимому, значат.
Стало быть, человек, в состоянии цивилизации, получает трудом то, что требуется для подержания его тела и развития души, — ни более ни менее. Это строгое взаимоограничение нашего производства и потребления есть то, что я называю бедностью, третий наш органический закон, данный природою и который не следует смешивать с пауперизмом, о котором скажем ниже.
Здесь, я не должен скрывать, восстает против меня общий предрассудок.
Природа, говорят, неисчерпаема; труд все более и более производителен. Мы далеко еще не можем получить от земли, нашей старой кормилицы, всего, что она может дать. Настанет день, когда изобилие, ничего не теряя из своей цены, будет иметь возможность назваться богатством, следовательно, когда богатство будет изобильно. Тогда у нас будет разливанное море всякого добра и мы будем жить в мире и радости.
Значит, ваш закон о бедности ложен.
Человек любит обольщаться словами. В его философии всего труднее будет ему всегда понимать собственный язык. Природа неисчерпаема в том смысле, что мы в ней беспрерывно открываем новые полезности, но под условием также беспрерывного возрастания труда, что не противоречит правилу. Народы самые промышленные, самые богатые те, которые всего больше работают. В то же время у них же, по причинам, изложенным ниже, нищета всего более свирепствует. Пример этих народов не только не опровергает закона, но именно подтверждает его. Прогресс же промышленности особенно явственен в предметах не первой необходимости, для которых нам менее нужно прямое содействие природы. Но стоит только хоть чуть-чуть дойти до излишка этой категории произведенного, против пропорции, определенной для них полученным количеством продовольствий, тотчас они падают в цене, весь излишек считается за ничто. Здравый смысл, который сейчас, по-видимому, гнался за богатством, теперь противится тому, чтобы производство выходило за пределы бедности.
Из всего этого следует, что, в видах безграничной силы потребления и силы производства, волею-неволею ограниченной, с нас требуется самая строгая экономия. Умеренность, отсутствие роскоши, хлеб насущный, полученный насущным же трудом, нищета, быстро наказывающая неумеренность и леность, — вот первый наш нравственный закон.
Таким образом, Творец, подчиняя нас необходимости есть, чтобы жить, не только не позволяет нам чревоугодия, как предполагают гастрософы и эпикурейцы, но хотел довести нас шаг за шагом до жизни аскетической и духовной; Он учит нас умеренности и порядку и заставляет любить их. Наша участь — не наслаждение, что бы ни говорил Аристипп: мы не получили от природы, да и не можем сами всем доставить ни промышленностью, ни искусством, чем бы наслаждаться, в той всеобъемлемости значения, которую этому слову дает чувственная философия, полагающая в наслаждении наше высшее благо и конечную цель. У нас нет другого призвания, кроме развития нашего ума и сердца, и, чтобы в этом помочь нам, а в случае необходимости принудить, Провидение предписало нам закон о бедности: «блаженны нищие духом»[1]. И вот также почему, по мнению древних, умеренность есть первая из четырех основных добродетелей; почему, в веке Августа, поэты и философы нового духа времени, Гораций, Вергилий, Сенека, прославляли золотую средину и проповедовали пренебрежение роскоши; почему Христос речью, еще более трогательной, учит нас просить у Бога, вместо всяких богатств, хлеб наш насущный[2].
Все они поняли, что бедность есть принцип общественного порядка и наше единственное земное счастье.
Факт, часто приводимый, но которого настоящего смысла, по-видимому, не поняли, — это средний доход, на день и на человека, в стране, например, как Франция, находящейся в самых благоприятных условиях на земле. Лет тридцать тому назад этот доход был определен одними — в 56 сантимов, другими — в 69. Очень недавно один из членов законодательного собрания, О. Шевалье, в речи о бюджете определял весь доход народный в 13 миллиардов, то есть в 98 сантимов на день на человека. Но в этом вычислении указали на ошибки в расчете и крупные преувеличения; так что, по-видимому, эту цифру, 13 миллиардов, нужно уменьшить, по крайней мере на 1 500 000, что даст, на день на человека, 87 сантимов, а на семейство из 4 лиц — 3 франка 50 сантимов.
Допустим эту цифру. Семейство, состоящее из четырех лиц, может жить на 3 франка 50 сантимов ежедневного дохода. Но, очевидно, роскоши не будет; мать и дочери не будут носить шелковых платьев, отец не станет посещать трактиров; в случае недостатка работы, болезней, несчастных случаев, в случае, если порок вкрадется в семейную жизнь, окажется недочет и вскоре нищета. Таков закон, закон строгий, которого избегнуть никто, за исключением редких случаев, не в силах иначе как на счет других, который сделал нас тем, чтó мы теперь и чтó стóим. Бедность есть истинное Провидение человеческого рода.
Значит, доказано статистикой, что народ, подобный французскому, поставленный в самые лучшие обстоятельства, производит, средним числом, только то, что ему нужно. Можно сделать те же выводы и для всякой другой страны: везде дойдем до заключения, которым желательно было бы, чтобы все прониклись, что условия существования человека на земле — это труд и бедность; его призвание — наука и справедливость; первая его добродетель — умеренность. Жить немногим, работая много и беспрерывно учась, — вот истинное правило жизни.
Не станут ли повторять, что этот доход 87 сантимов в день на человека не последнее ведь слово промышленности и что производство может быть удвоено? Я возражу, что если производство удвоится, то и население в свою очередь не замедлит тоже удвоиться, что нисколько не изменит результата. Но рассмотрим дело ближе.
Производство обусловливается и оправдывается потребностью. Следовательно, есть естественное отношение между запросом на произведение и потребностью производителя. Чуть только уменьшись потребность — и труд уменьшится, и мы увидим, что уменьшится богатство: это неизбежно. В самом деле, предположим, что при уменьшении потребности производство останется то же; так как тогда произведение от меньшего спроса понизится в цене, то выйдет, как будто часть этих продуктов вовсе не была произведена.
Потребности бывают двоякого рода: первой необходимости и роскоши. Хотя невозможно провести между этими двумя категориями потребностей никакого точного разграничения, хотя их границы не одинаковы для всех лиц, все же разница между ними существенна; она узнается при сличении крайностей. Нет никого, кто бы, размышляя над обычным ходом своей жизни, не мог сказать, которые из его потребностей составляют первую необходимость, а которые роскошь.
Теперь, рассматривая существование, привычки и склонности, воспитание огромного большинства работников, легко видеть, что у них труд бывает в высшей степени напряжения, пока у него побудительной причиной служит необходимость; он быстро уменьшается и вскоре совершенно прекращается, как только, удовлетворив требованиям первой необходимости, должен производить только для роскоши. Вообще, человек любит трудиться только над тем, что ему настоятельно полезно. В этом отношении он может назваться представителем природы, которая ничего в излишке не производит. Лаццарони[3], отказывающий во всякой услуге после обеда, представляет этому пример. Негр поступает так же. Получивши необходимое, человек стремится к покою, к этому результату роскоши, первому и наиболее старательно отыскиваемому. Чтобы получить от него излишек труда, нужно бы удвоить, утроить его плату, платить ему за труд более, чем он стоит, что противно данным прибыльного производства, т. е. самим законам производства. И здесь тоже практика подтверждает теорию. Производство развивается только там, где, вследствие увеличения населения, есть настоятельная потребность в продовольствии и, значит, постоянный запрос на труд.
Для увеличения богатства в данном обществе, при той же цифре населения, нужны три вещи: 1) дать массам работников новые потребности, чего можно достигнуть только развитием вкуса и ума, иначе сказать — высшим образованием, которое заставляет нечувствительно выйти из положения пролетария; 2) более и более разумной организацией труда и промышленности сберечь их время и силы и 3) с той же целью прекратить паразитизм. Эти три условия развития богатства приводятся к следующей формуле: более и более равномерное распределение знания, услуг и произведений. Это — закон равновесия, наиважнейший, можно сказать, единственный закон политической экономии, потому что все другие — только различные его выражения и даже самый закон бедности не более как его простое следствие.
Наука говорит, что в этом плане нет ничего неисполнимого; напротив, только совокупному действию, хоть еще очень слабому, этих трех причин: воспитания народа, совершенствования промышленности и искоренения паразитизма — мы обязаны небольшим прогрессом, совершившимся в течение тридцати веков в экономическом положении человечества.
Но кто же не видит, что, если образованием толпа рабочих поднимается на одну ступень в цивилизации в том, что я назову умственною жизнью, если ее чувствительность делается впечатлительнее, воображение утонченнее, нужды многочисленнее, нежнее и живее (так как потребление должно поставить себя в соотношение с этими новыми требованиями, следовательно, и труд настолько же увеличится), положение дел остается то же, т. е. человечество, развиваясь в уме, добродетели и благодати, как говорит Евангелие, но всегда приобретая только насущный хлеб тела и духа, остается материально всегда бедным?
Что происходит теперь во Франции — служит этому доказательством. Нет сомнения, что в эти сорок лет производство очень усилилось; может быть, оно относительно больше теперь, чем в 1820 году. А между тем несомненно для всех, кто жил во время реставрации, что все сословия находятся в гораздо большем материальном затруднении, чем при Людовике XVIII. Отчего же это? Это оттого, что, как я сейчас сказал, нравы в среднем и низшем сословии утончились и в то же время, по причинам, которые приведу ниже, вследствие бóльшего и бóльшего забвения и нарушения законов равновесия, пренебрежения законов умеренности, бедность сделалась обременительнее и из благодетельной по природе своей сделалась мучительной.
Мы преувеличили излишек, теперь не имеем и необходимого. Если бы нужно было подкрепить этот факт некоторыми подробностями, я привел бы в параллель с 60 000 патентами на изобретения и усовершенствования, выданными со времени издания закона 1791 года, с размножением паровых машин, с постройкой железных дорог, с развитием финансовой спекуляции, удвоившийся государственный долг, бюджет государственный, дошедший от одного миллиарда до двух, цену квартир и всех предметов потребления, от 50 процентов дошедшую до 100, стремление всего к несомненной сухотке и к вечному кризису.
Таким образом, по определению природы, всякий народ, варварский или цивилизованный, какие бы ни были его учреждения и его правительство, беден, и беден тем более, чем более удалился он от первобытного состояния, то есть изобилия, и подвинулся вперед посредством труда в богатстве.
По мере того как население Соединенных Штатов, в настоящее время самое богатое землей, размножается и овладевает землей, при уменьшении естественных произведений, закон труда делается более настоятельным и (безошибочный признак бедности) то, что давалось прежде даром или почти даром, получает ценность все более и более возвышенную, вследствие чего исчезает первобытная безвозмездность, принцип ценности берет верх и уже начинает образовываться пролетариат…
Подобное явление происходит в Испании. После нескольких веков оцепенения Испания вдруг пробуждается на зов труда и свободы. Она принимается извлекать выгоды из своей земли; тотчас богатство бьет ключом отовсюду и для всех. Заработная плата возвышается очень просто, потому что платят земля и иностранцы. Но дайте населению встать в уровень с этим богатством — что может случиться меньше, чем в полвека, — Испания предстанет пред вами тем, чем она была от времени Изабеллы I до Изабеллы II, в равновесии, то есть бедной.
— Таким образом, — заметит мне сейчас какой-нибудь фанатический поклонник Маммона[4], — всякие наши труды бесполезны. Эти национальные предприятия, эти исполинские работы, эти дивные машины, эти плодотворные изобретения, эта слава промышленности — все это служит только к обнаружению нашего бессилия, и мы умно сделаем, если от них откажемся.
Орудия нищеты, чистый обман! К чему потеть и из кожи лезть, если мы нашим трудом можем достигнуть только необходимого? По-вашему, мудрость заключается в пошлости средств, в узкости замыслов, в мелочной жизни, в маленьком хозяйстве. Нечего сказать, благородно же ваше призвание: отнимать бодрость духа, опошливать умы, охлаждать увлечения, делать бесплодными гениев — вот ваша нравственность, вот ваша цивилизация, ваш мир! А если таким-то образом вы предполагаете освободить нас от войны, мы лучше согласимся тысячу раз подвергнуться ее невзгодам. Заплатим, если нужно, еще миллиард на бюджет, только бы нам оставили очарование нашей промышленности, иллюзии наших предприятий.
Тому, кто бы мне высказал подобные вещи, я бы возразил: долой маску! Вас узнают по вашей риторике, шарлатан промышленности, биржевой пират, финансовая язва, низкий тунеядец. Да, убирайтесь, освободите труд от вашего гнусного присутствия! Потому что вашему царствованию приходит конец, и если вы не умеете ударить палец о палец, вы рискуете умереть с голоду.
Простодушным же, которых всегда соблазняет красноречие протеста, я скажу: как же вы не понимаете, что, если было время, когда земледелец требовал от заступа все ему необходимое, позже, когда человечество размножилось, он должен был с тем же требованием обратиться уже к плугу и что, вследствие того же развития, он в наши дни поставлен в необходимость того же требовать от механики, кораблей и локомотивов? Рассчитали ли вы, сколько нужно богатства, чтобы содержать на поверхности 28 000 квадратных миль 37 миллионов людей?
Работайте же, потому что, чуть только вы заленитесь, впадете в нищету и вместо мечтательной роскоши не получите даже крайне необходимого. Работайте, увеличивайте, развивайте ваши средства; изобретайте машины, отыскивайте удобрения, акклиматизируйте животных, возделывайте новые питательные растения, вводите дренаж, разводите леса, обрабатывайте нови, поливайте, очищайте; разводите рыбу в ваших реках, ручьях, прудах и даже болотах; открывайте копи каменного угля; очищайте золото, серебро, платину; плавьте железо, медь, сталь, свинец, олово, цинк; пеките, прядите, шейте, делайте мебель, посуду, в особенности бумагу, перестраивайте дома; открывайте новые рынки, производите обмены и революции в банках. Все это вам нипочем. Но производить — это еще не все: нужно, как я уже указывал вам, чтобы услуги были распределены между всеми, смотря по способностям каждого, и чтобы плата каждому работнику была пропорциональна его производству. Без этого равновесия вы останетесь в нищете и ваша промышленность станет бедствием.
Вот, когда вы все сделаете и энергией вашего производства, и правильностью вашего распределения, чтобы разбогатеть, вы, к удивлению, увидите, что в действительности трудом только едва можете поддержать жизнь и что вам нечем даже отпраздновать двухдневную масленицу.
Вы спрашиваете, не обусловливает ли этот промышленный прогресс, всегда подчиненный закону необходимости, рядом с заботой о доставлении продовольствия более многочисленному населению, улучшения в быте отдельных личностей? Без сомнения, есть улучшение в индивидуальной жизни, но в чем оно состоит? Со стороны ума — в развитии знания, справедливости, идеала; со стороны плоти — в более изысканном потреблении, в соотношении с образованием, данным уму.
Лошадь ест свой овес, вол — свое сено, свинья — свои желуди, курица — свои зернышки. Они не меняют пищи, и это их нимало не беспокоит. Я видел, как деревенский работник питался ежедневно все одним черным хлебом, все тем же картофелем, тою же полентою[5], не страдая, по-видимому, от этого: он худел только от излишка труда. Но цивилизованный работник, первый получивший луч озаряющего слова, нуждается в разнообразии пищи. Он потребляет хлеб, рис, маис, овощи, говядину, рыбу, яйца, плоды, молоко; иногда вино, пиво, квас, мед, чай, кофе; солит свои питательные вещества, приправляет их, разнообразно приготовляет. Вместо того чтобы просто одеваться в баранью шкуру или медвежью, высушенную на солнце, он употребляет одежду, вытканную из льна, пеньки или бумаги; употребляет белье и фланель, одевается летом так, а зимой иначе. Его тело, не менее крепкое, но образованное более чистой кровью, выражением высшего развития его духа, требует забот, без которых обходится дикарь. Вот прогресс, но это не мешает человечеству оставаться бедным, потому что у него всегда есть только необходимое, и не иметь возможности дня прогулять без того, чтобы тотчас же не почувствовался голод.
Можете ли, стало быть, сделать так, чтобы человек дал средним числом более 10 или 12 часов работы в сутки? Можете ли сделать, чтобы 80 человек заменили 100 или чтобы семейство, получающее 3 франка 50 сантимов дохода, издерживало 5 франков? Вы точно так же не можете сделать, чтобы ваши магазины, складочные места, доки содержали товаров больше, чем сколько у них спрашивают, больше, чем могут купить 9 миллионов семейств, пользующихся средним доходом от 11 до 12 миллиардов, произведением их рук. Дайте полдюжины рубашек, суконный кафтан, платье на перемену, пару башмаков всем нуждающимся — и увидите, много ли у вас останется. Тогда вы мне скажете, пользуетесь ли изобилием, плаваете ли в богатстве.
Это городское щегольство, эти колоссальные имущества, эти государственные великолепия, этот бюджет ренты, войска, публичных работ; эти доходы поземельные, этот «liste civile»[6], этот шум и треск банков, биржи, миллионов и миллиардов; эти упоительные наслаждения, рассказы о которых порою и до вас доходят, — все это вас ослепляет и, заставляя вас веровать в богатство, печалит вас вашей собственной бедностью. Но подумайте же, что это великолепие есть вычет из скудной средней величины 3 франков 50 сантимов дохода семейства из четырех лиц в день, что это — побор из произведения работника еще до определения заработной платы. Бюджет армий — побор с труда; бюджет ренты — побор с труда; бюджет собственности — побор с труда; бюджет банкира, предпринимателя, негоцианта, чиновника — поборы с труда; следовательно, бюджет роскоши — побор с необходимого. Значит, не плачьтесь; принимайте, как подобает мужу, данное вам положение и скажите себе, что счастливейший человек тот, который умеет лучше всего быть бедным.
Древняя мудрость предвидела эти истины. Христианство определило первое положительным образом закон бедности, приводя его, однако же, как вообще свойственно всякому религиозному учению, в соотношение с духом своей теологии. Противодействуя языческим наслаждениям, оно не могло взглянуть на бедность с настоящей точки зрения; оно представило ее страдающею в воздержании и постах; грязную в монахах, проклятую небом в покаяниях. За исключением этого, бедность, превознесенная Евангелием, есть величайшая истина, которую проповедовал людям Христос.
Бедность прилична; ее одежда не изодрана, как плащ циника; ее жилище чисто, здорово и покойно, уютно; она меняет белье по крайней мере раз в неделю; она ни бледна, ни проголодавшаяся. Подобно товарищам Даниила, она здорова, питаясь овощами; у нее есть насущный хлеб, она счастлива.
Бедность не есть довольство: это было бы уже для работника порчею. Не годится человеку наслаждаться довольством; напротив, нужно, чтобы он всегда чувствовал жало нужды. Довольство было бы более чем порчею: оно было бы рабством; а важно, чтобы человек мог, на всякий случай, стать выше нужды и даже, так сказать, обойтись без необходимого. Но, несмотря на это, бедность имеет-таки и свои задушевные радости, свои невинные праздники, свою семейную роскошь, роскошь трогательную, которую ярче обрисовывает обыкновенная умеренность и простота в хозяйстве.
Ясно, что и думать нечего избегнуть этой бедности, закона нашей природы и нашего общества. Бедность есть добро, и мы должны рассматривать ее как принцип наших радостей. Рассудок повелевает нам соображать с ней нашу жизнь простотою нравов, умеренностью в наслаждениях, прилежанием в труде, безусловным подчинением наших наклонностей и желаний справедливости.
Как же случается, что эта же бедность, которой предмет — возбуждение в нас добродетели и упрочение всеобщего равновесия, восстановляет нас друг против друга и возжигает войну между народами? Это мы постараемся раскрыть в следующей главе.
Глава II ИЛЛЮЗИЯ БОГАТСТВА НАЧАЛО И ВСЕОБЩНОСТЬ ПАУПЕРИЗМА
Назначение человека на земле — совершенство духовное и нравственное; это назначение требует от него умеренного образа жизни. Относительно силы потребления, бесконечности желаний, роскоши и великолепия идеала средства человечества очень ограниченны; оно бедно и должно быть бедным, потому что без этого оно впадает, вследствие обмана чувств и соблазна ума, в животность, развращается телесно и душевно и теряет, вследствие самого наслаждения, сокровища своей добродетели и своего гения. Вот закон, который предписывается нам нашим земным положением и который доказывается и политической экономией, и статистикой, и историей, и нравственностью. Народы, преследующие, как высшее благо, материальное богатство и доставляемые им наслаждения, находятся в состоянии упадка.
Прогресс, или совершенствование нашего рода, весь заключается в справедливости и философии. Увеличение благосостояния занимает в нем место не столько как награда и средство к счастью, сколько как выражение приобретенной нами науки и символ нашей добродетели. Перед этой действительностью вещей навсегда распадается теория сенсуалистов, уличенная в противоречии с общественным назначением.
Если бы мы жили, как советует Евангелие, в духе радостной бедности, самый совершенный порядок царствовал бы на земле. Не было бы ни порока, ни преступления; трудом, разумом и добродетелью люди образовали бы общество мудрецов; они наслаждались бы всем благоденствием, на какое только способна их природа. Но этого не может быть в настоящее время, этого не видно было ни в какие времена, и именно вследствие нарушения двух наших величайших законов — бедности и умеренности.
Вышедший из изобилия первых времен, принужденный работать, научившись определять ценность вещей потраченным на них трудом, человек поддался горячке богатств; это значило с первого же шагу сбиться с дороги.
Человек верует в то, что он называет богатством, так же как он верует в наслаждение и во все иллюзии идеала. Именно вследствие того, что он обязан производить то, что потребляет, он смотрит на накопление богатств и на вытекающее из него наслаждение как на свою цель. Эту-то цель он преследует с жаром: пример некоторых обогатившихся уверяет его, что доступное некоторым доступно всем; если бы это было иначе, он бы счел это противоречием в природе, ложью Провидения. Сильный этим заключением своего ума, он воображает, что насколько угодно может увеличивать свое имущество и отыскать, посредством закона ценностей, первобытное изобилие. Он копит, собирает, наживается; его душа насыщается, упивается в идее.
Настоящий век проникнут этим верованием безумнее всех тех, которые оно имеет притязание заменить. Изучение политической экономии, науки самой новой и еще очень мало понятой, доводит до него умы; школы социалистов друг перед другом щеголяли в этой оргии сенсуализма; правительства, сколько могут, благоприятствуют полету и служению материальным интересам; сама религия, столь суровая некогда в своем языке, как будто тоже их поддерживает. Создавать богатство, копить деньги, обогащаться, окружать себя роскошью сделалось везде главным правилом нравственности и правительства. Дошли до заявления, что лучшее средство сделать людей добродетельными, прекратить пороки и преступление — распространить везде комфорт, утроить или учетверить богатство; тому, кто рассчитывает на бумаге, — и миллионы нипочем!
Наконец, этой новой этикой приучились разжигать сребролюбие вопреки тому, что гласили древние нравоучители, а именно что прежде нужно сделать людей умеренными, целомудренными, скромными, научить их жить немногим и довольствоваться своею долею и что уже тогда все пойдет хорошо в обществе и государстве. Можно сказать, что в этом отношении общественное сознание было, так сказать, опрокинуто вверх дном: каждый теперь может видеть, какой получился результат от этого странного переворота.
Между тем очевидно всякому, кто когда-нибудь размышлял хоть немного над законами экономического порядка, что богатство, так же как и ценность, не столько означает действительность, сколько отношение: отношение производства к потреблению, предложения к спросу, труда к капиталу, продукта к заработной плате, нужды к действию и пр. — отношение, имеющее родовым, типическим выражением средний день работника, рассматриваемый с двух сторон, издержек и продукта. Рабочий день — вот в двух словах торговая книга общественного имущества, изменяющаяся по временам, но в гораздо более узких пределах, чем обыкновенно думают, в активе открытиями и следствиями промышленности, торговли, добывания сырых материалов, земледелия, колонизации и победы; в пассиве же повальными болезнями, дурными жатвами, революциями и войнами.
Из этого понятия о рабочем дне следует, что общее производство, выражение вместе взятого, общего труда, ни в каком случае не может сколько-нибудь заметно превзойти общую необходимую потребность, то, что мы назвали хлебом насущным. Мысль удвоить, утроить производство страны, как удваивают и утраивают заказ у фабриканта холста или сукна, не обращая внимания и не принимая в расчет пропорционального увеличения труда, капитала, населения и рынка, в особенности не принимая в расчет рука об руку идущего развития ума и нравов, что требует наиболее забот и всего дороже стóит, — эта мысль, говорю, еще безрассуднее квадратуры круга: это — противоречие, бессмыслица. Но вот это именно массы отказываются понять, экономисты — разъяснить, и об этом правительства весьма благоразумно умалчивают. Производите, обделывайте дела, обогащайтесь — это ваше единственное прибежище теперь, когда вы не верите ни в Бога, ни в человечество!
Следствия этой иллюзии и неотразимо следующего за ней горького разочарования — раздражение желаний, пробуждение в бедном и богатом, в работнике и в тунеядце неумеренности и алчности. Потом, когда придет разочарование, — возбуждение в нем негодования на свою злую долю, ненависти к обществу и, наконец, доведение его до преступления и войны. На что доводит беспорядок до высочайшей степени, это чрезмерное неравенство в распределении продуктов.
В предыдущей главе мы видели, что, по всей вероятности, весь доход Франции не превышает 87 1/2 сантима в день на человека. Восемьдесят семь с половиной сантимов в день на человека — вот что нынче позволительно считать доходом, то есть средним продуктом, следовательно, и средним потреблением Франции, выражением ее точной потребности!
Если бы этот доход, как он ни кажется незначительным, был упрочен за каждым гражданином; другими словами, если бы каждое французское семейство, состоящее из отца, матери и двух детей, пользовалось доходом в 3 франка 50 сантимов; если бы, по крайней мере, minimum не доходил для бедных семейств, всегда очень многочисленных, далее 1 франка 75 сантимов, половины 3 франков 50 сантимов, и maximum не возвышался для богатых, всегда гораздо малочисленнейших, далее 15 или 20 франков, предполагая, что всякое семейство произвело то, что нужно для потребления, — нищеты нигде бы не было; народ наслаждался бы неслыханным благосостоянием; его богатство, совершенно правильно разделенное, было бы несравненно, и правительство имело бы полное право хвалиться постоянно возрастающим благосостоянием страны.
Но разница между имуществами в действительности далеко не так мала: самые бедные семейства далеко не могут добиться дохода даже в 1 франк 75 сантимов, а самые богатые решительно не желают получать только вдесятеро столько. По новейшим вычислениям одного ученого и добросовестного экономиста, бóльшая часть бретонского населения не может издержать ежедневно и на человека более 25 сантимов; а это население, прибавляет он, не считается недостаточным. С другой стороны, известно, что многие состояния возвышаются не только до 10 или до 15 франков дохода на день и на семейство, но до 50, 100, 200, 500, 1000 франков; говорят и о таких, которые имеют дохода 10 000 франков в день. Интересный факт, что со времени необыкновенного толчка, данного предприятиям, некоторые предприниматели, вероятно считая богатство для нас всех уже упроченным и желая заранее заплатить себе за свою инициативу, начали присуждать себе кто один миллион, кто два, десять, двадцать, тридцать, пятьдесят и восемьдесят. Это значит, что, суля нам на будущее время золотые горы на веки вечные, они взимают с общества побор от ста до тысячи процентов. Что же касается до страны, безмолвно переносящей эти насилия, истощение финансов, застой в делах, постоянное возрастание долгов, — все это показывает ей ясно, чего она должна ждать от этих мечтаний о золотых горах.
Теперь откуда же это столь поразительное неравенство?
В нем можно бы обвинить алчность, которая не останавливается ни пред каким мошенничеством; невежество в законах ценности, торговый произвол и прочее. Конечно, и эти причины не без влияния; но в них нет ничего органического, и они не могли бы долго противостоять общему порицанию, если бы все они не коренились в одном принципе, более глубоком, более почтенном виде, но приложение которого и производит все зло.
Этот принцип тот же, что побуждает нас искать богатства и роскоши и развивает в нас славолюбие; тот же, который порождает право нашей силы, впоследствии право нашего ума, это — чувство нашего личного достоинства и значения, чувство в благородном своем применении производящее уважение к ближнему и к целому человечеству и порождающее справедливость.
Обратное следствие его то, что прежде все мы не только во всем предпочитаем себя другим, мы еще распространяем это произвольное предпочтение на тех, кто нам нравится и которых мы называем своими друзьями.
У самого справедливого человека есть расположение ценить ближнего и помогать ему не по его достоинствам, а по сочувствию, которое внушает его личность. Это сочувствие порождает дружбу — святое чувство; оно снискивает нам покровительственное расположение — дело по своей природе столь же свободное, как и доверие, и в котором еще нет ничего несправедливого, но которое вскоре порождает послабления, лицеприятия, шарлатанство, общественные различия и касты. Прогресс труда и развитие общественных отношений одни могли нам указать, что во всем этом справедливо, а что — нет; один жизненный опыт мог нам показать, что если в наших отношениях к ближним может быть допущено некоторое значение дружественного сочувствия, то всякое лицеприятие должно исчезнуть пред экономической справедливостью; и что если где-нибудь имеет значение равенство пред законом, так это — когда дело идет о вознаграждении за труд, о распределении услуг и продуктов.
Преувеличенно высокое мнение о нас самих, злоупотребление личных отношений — вот отчего мы нарушаем закон экономического распределения, и это-то нарушение, соединяясь в нас с стремлением к роскоши, порождает пауперизм — явление, еще плохо исследованное, но разрушительное влияние которого на общества и государства признают все экономисты.
Постараемся отдать себе в нем отчет.
Бедность есть закон нашей природы, который, заставляя нас производить то, что мы должны потребить, однако ж, не дает нам за труд ничего более самого необходимого. В стране, подобной Франции, это необходимое выражается средним числом, по новейшим данным, 3 франками 50 сантимами на семейство на день, причем можно предположить minimum в 1 франк 75 сантимов, a maximum в 15 франков. Понятно, что по местностям и обстоятельствам эти величины могут изменяться.
Отсюда следующее положение, столько же верное, сколько и парадоксальное: нормальное состояние человека, в цивилизации, есть бедность. Сама по себе бедность — не несчастье: можно бы назвать ее, по примеру древних, безбедным существованием, если бы под безбедным существованием в обыкновенном языке не понимали состояние имущества хотя и не доходящее до богатства, но тем не менее позволяющее воздерживаться от производительного труда.
Пауперизм есть бедность ненормальная, действующая разрушительно. Какой бы ни был частный случай, производящий его, он всегда состоит в недостатке равновесия между продуктом человека и его доходом, между его издержками и потребностями, между мечтами его стремлений и силою его способностей, стало быть, между положениями людей. Будь он ошибкой со стороны отдельных лиц или учреждений, порабощения или предрассудка, он всегда есть нарушение экономического закона, который, с одной стороны, обязует человека работать для поддержания жизни, с другой — соразмеряет производство с потребностями. Например, работник, не получающий в обмен на свой труд наименьшего общего среднего дохода, положим 1 франк 75 сантимов в день для него и семейства, принадлежит к пауперам. Он не может, с помощью своей недостаточной платы, восстановить свои силы, поддержать свое хозяйство, воспитать своих детей, а еще меньше — развить свои умственные способности. Нечувствительно он впадает в сухотку, в деморализацию, в нищету.
И это нарушение экономического закона, повторяю, есть в то же время факт в основе своей психологический; он имеет источник, с одной стороны, в идеализме наших желаний, с другой — в преувеличенном чувстве нашего собственного достоинства и в малой оценке нами достоинства других.
Этот-то дух роскоши и аристократизма, вечно живущий еще в нашем так называемом демократическом обществе, и делает обмен продуктов и услуг обманчивым, вводя в него лицеприятие; он, вопреки закону ценностей, даже вопреки праву силы, беспрерывно своей всеобщностью замышляет увеличить богатства своих избранников бесчисленными частичками, похищенными от платы всем.
Факты, которыми в общей экономии проявляется это ложное распределение, разнообразны, смотря по местностям и обстоятельствам; но всегда они выражаются недостаточностью задельной платы в сравнении с потребностями работника. Упомянем только о главнейших:
a) Развитие тунеядства, размножение должностей и промыслов роскоши. Это — состояние, к которому мы все стремимся всей силой нашей гордости и нашей чувственности. Каждый хочет жить на счет всех, занимать синекуру, не предаваться никакому производительному труду или получать за свои услуги вознаграждение, не соразмерное с общественной пользой, только такое, какое может дать фантазия, преувеличенное мнение о таланте и прочее. Эти тунеядцы, работники роскоши, считаются сотнями тысяч.
b) Непроизводительные предприятия, несущественные, без отношения к сбережению. Чем являются граждане в частной жизни, необходимо, чтобы тем же было, в свою очередь, и государство: это доказывает пример Древней Греции, императорского Рима, Италии после Возрождения. В особенности следует здесь заметить, что расходы растут с уменьшением доходов, что возбуждает сетования моралистов на искусства, которые принимаются ими за причины роскоши, между тем как в них нужно видеть только ее орудия.
c) Излишек правительственного элемента, в свою очередь происшедший от всех этих причин. Во Франции бюджет, определенный на 1862 год, достигает 1,929 миллиона. Это значит, что народ, не умея управлять собою, платит за то, чтоб им управляли, около шестой части своего дохода. Так как жилище так же дорого стóит, как и управление, остаются только две трети дохода на домашнюю утварь, одежду, отопление, воспитание и продовольствие.
d) Поглощение столицами и большими городами, которые, с какой стороны их ни рассматривать, даже как центры производства, но в особенности производства роскоши, никогда не возвращают туземному труду всего, что у него похищают, и работают только для забавы праздных и обогащения некоторых мещан.
e) Преувеличение капитализма, который приводит все к финансовым вопросам и доходит до преобразования общественных работ в коммерческие товарищества на веру, как банки, железные дороги, каналы и проч. По этому случаю сделаю замечание. Почтенный член законодательного корпуса говорил недавно, что есть в наших кредитных установлениях 500 миллионов свободных капиталов, ждущих только упрочения мира, чтобы начать обращение. Многие склонны заключить из этой неисчерпаемой массы монеты, что так же неисчерпаемы и средства страны. Но не обращают на то внимания, что путем налогов, банков, железных дорог, поземельной ренты и пр. монета совершает круговращение, только проходя через руки рабочих, но всегда возвращаясь к исходной своей точке, т. е. к сундукам капиталистов. Хотя бы Франция десять раз съела свои основные капиталы всевозможных сортов, все-таки то же явление повторится.
Относительно фабриканта и банкира деньги могут назваться капиталом, потому что они представляют известное количество сырых материалов; в обмене же, где деньги служат только орудием мены и разве только залогом, банковым билетом и не потребляются, они — капитал воображаемый, мнимый: только произведения труда — действительные капиталы.
f) Изменения ценности монеты, происходящие или от дороговизны, или от дешевизны металлов, или от вывоза денег, или от порчи монеты. От этого происходит огромный ажиотаж в убыток и производителям, и потребителям. Таким образом, например, открытие калифорнийских рудников произвело замешательство на рынках и скрыло серебряную монету. Кроме этого ажиотажа, который закон имел право наказывать, понижение ценности золота, причиненное его изобилием, было бы столько же причиною обнищания, сколько, например, понижение цены сахара или хлопка вследствие удвоенного производства этих товаров.
g) Наконец, вздорожание квартир и почти всех предметов потребления. Оно показывает, что, вследствие развития тунеядства и непроизводительных предприятий, увеличения числа правительственных лиц, поглощения столицами и большими городами сил страны, финансовых операций, роскоши частных лиц и государства, полезному работнику остается только 3/4, 1/3 или половина того, что он потреблял прежде, другими словами, его задельная плата, хоть оставаясь тою же по номинальной сумме заработка, уменьшилась в сущности на 50, 60 или 80 %.
Изложенные факты, действуя друг на друга, увеличиваются своим взаимодействием. Так, например, одна из побудительных причин огромных работ, предпринятых французским правительством, — помочь рабочему классу. Намерение превосходное: к несчастью, результаты не могут ему соответствовать. В самом деле, из всего сказанного следует, что, желая победить пауперизм искусственными средствами, правительство только его увеличивает: из этого круга нет для него выхода. Капиталисты затем довершают действие. Когда страна не дает им более приложений для капиталов, они выселяются; они переносят в другую страну свою промышленность и свою нищету.
Стоит только раз пауперизму, вследствие нарушения равновесия в распределении, разразиться над рабочим классом — он не замедлит везде распространиться, восходя от низших сословий к высшим, к тем даже, которые живут в богатстве.
У бедняков пауперизм характеризуется медленным голодом, о котором говорил Фурье, голодом во все мгновения, круглый год, всю жизнь — голодом, не убивающим в один день, но слагающимся из всех лишений и из всех сожалений, который беспрерывно разрушает тело, притупляет ум, развращает совесть, уродует поколения, порождает все болезни и все пороки, между прочим — пьянство и зависть, отвращение от труда и бережливости, подлость души, грубость совести и нравов, леность, нищенство, блуд и воровство.
У тунеядца — иное проявление: уже не голод, а, напротив, ненасытная прожорливость. Дознано на опыте, что, чем больше непроизводительный член общества потребляет, тем больше, вследствие возбуждения в нем аппетита и бездействия его членов и ума, он стремится потреблять. Басня об Эрисихтоне в «Метаморфозах»[7] есть эмблема этой истины. Овидий, вместо мифологического Эрисихтона, мог представить благородных римлян своего времени, съедающих за одним пиром доход с целой провинции.
По мере того как богач поддается сжигающему его пламени наслаждения, пауперизм его сильнее захватывает, что делает его разом расточительным, корыстолюбивым и скупым. А что верно для обжорства, верно для всех родов наслаждений; они делаются требовательнее по мере насыщения. Роскошь стола есть только частица непроизводительных издержек.
Вскоре, как только примешиваются прихоть и тщеславие, никакие сокровища не достанут; среди наслаждений чувствуется нищета. Такой потребитель должен наполнить пустеющие сундуки — тогда-то пауперизм совершенно им овладевает, влечет его к рискованным предприятиям, шатким спекуляциям, к игре, плутням и, наконец, мстит самым постыдным разорением за оскорбленную умеренность, справедливость, природу.
Вот насчет крайностей пауперизма. Но не следует воображать, что между этими крайностями, в том среднем положении, где труд и потребление правильнее уравновешиваются, что там семьи находятся вне этого бича. Тон дан богатым сословием, и все силятся подражать ему. Предрассудок богатства, иллюзия, им навеянная, тревожит души. Тревожимый в своем духе искусственными потребностями, отец семейства мечтает, как он говорит, об улучшении своего положения, что всего чаще обозначает — об увеличении своей роскоши и издержек. Возвышается цена на продукты и услуги, слабеет труд, сбережения производятся не так строго, издержки самых аккуратных неприметно для них самих возрастают по примеру вельмож и государства и вследствие всего этого везде доходят до дефицита, что сейчас обнаруживается в запутанности в делах, в торговых и финансовых кризисах, банкротствах, в увеличении налогов и долгов.
Понимаете теперь, почему умеренность, простота жизни, скромность во всем для нас не только добродетели, так сказать, сверхкомплектные, но самые положительно необходимые?
Таков ход пауперизма, общий всему человечеству и всем общественным слоям.
В некоторых странах, где бóльшая часть семейств живет земледелием, производя почти все сами для себя и имея только незначительные внешние сношения, — это зло сравнительно менее чувствительно. Тут страдают преимущественно от обеднения правительство без денег и кредита и высшие сословия, которым земля дает только незначительную ренту, часто уплачиваемую натурой. Тут можно сказать относительно масс народа, что обеспеченность их жизни и всего необходимого для них находится в прямом отношении к их торговой и промышленной неразвитости.
Напротив, у народов, у которых труд разделен и правильно сочленяется, само земледелие подчинено промышленности, все имущества солидарны друг с другом, задельная плата зависит от тысячи причин, не подчиненных ее воле; малейшая случайность путает эти шаткие отношения и в одно мгновение может разрушить существование миллионов людей. Страшно, когда подумаешь, от каких пустяков зависит ежедневная жизнь народов и какая бездна причин может ее разрушить! Тогда-то замечаешь, что, насколько это прекрасное общественное устройство обещало служить благосостоянию масс, настолько же, при первом потрясении, оно может повлечь за собою бедствия.
Но вот что следует заметить и что подтверждает всю эту теорию: в этой цепи недочетов, доводящих народы до враждебного столкновения, не пауперизм толпы является самым нестерпимым. Первое место тут занимает обеднение государей; за ним следует обнищание вельмож и богачей. Здесь, как и во всем, массы народа стоят на последнем плане. Бедняк, в общем нищенстве, не имеет даже почетного места.
Богачи, большие потребители, походят — если мне позволят это сравнение — на огромных четвероногих, подверженных по своему росту и силе гораздо более, чем кролик, белка, мышь, голодной смерти. Главная причина прекращения подобных родов — та, что им нечем жить. Это зло случается с аристократическими сословиями, с богатыми и зажиточными родами. Всегда нуждающиеся, среди черни, еще более высасывающей из них сок, чем им служащей, погрязшие в долгах, осажденные заимодавцами, обанкротившиеся, они, из всех жертв пауперизма если не самые занимательные, то, конечно, самые раздраженные…
Подведем итог этой главе.
Природа, во всем своем творении, приняла за правило: ничего лишнего. Экономия средств, говорил Фурье, один из ее главных законов. Поэтому-то, не довольствуясь приговором нас к труду, она нам дает только необходимое и бедность нам возводит в закон, опережая таким образом наставления Евангелия и все уставы монашеские. И если мы противимся ее закону, если соблазн идеала влечет нас к роскоши и наслаждениям, если преувеличенное самоуважение побуждает за наши услуги требовать больше, чем сколько следует по экономическим соображениям, природа, быстрая в наказании нас, обрекает нас на нищенство.
Все, сколько нас живет, — отдельные личности и народы, семейства и сословия, ученые, артисты, промышленники, чиновники, получающие ренту и задельную плату, — мы все, значит, подчинены закону бедности. Этого требует наше совершенствование, самый закон нашего труда. Не говоря о неравенстве труда и способностей, которое может произвести различие в доходе, различие, незаметное в общей сложности, мы вообще производим только то, что нам нужно для существования. Если некоторые из нас получают больше или меньше, чем следует по правилу, — наша общая вина: требуется реформа.
Пауперизм, рассмотренный в своих психологических основаниях, вытекает из тех же источников, что и война, т. е. из значения человеческой личности, не обращая внимания на внутреннюю стоимость услуг и продуктов. Это врожденное боготворение богатства и славы, эта религия неравенства могли обольщать некоторое время: они должны исчезнуть пред тем выводом из прямого опыта, что человек, обреченный на ежедневный труд, на строгую умеренность, должен искать достоинства своего существа и славы своей жизни совершенно в ином, чем в удовлетворении роскошью и в тщеславии господства.
Примечания
Печатается по тексту издания: Прудон. Бедность как экономический принцип. Издание «Посредника», № 703. М., 1908. Переводчик не указан.
1
Мф. 5, 3.
(обратно)2
Слова Молитвы Господней («Отче наш»): Мф. 6, 11.
(обратно)3
Лаццарони (букв.: нищие, босяки) — деклассированные люмпен-пролетарские элементы в Южной Италии. В XVIII–XIX вв. этот термин стал применяться ко всей массе беднейшего населения Италии и ряда других стран.
(обратно)4
Маммона (арам. «богатство») — в Новом Завете обозначение осуждаемой демонической власти собственности (Лк. 16, 9, 11, 13; Мф. 6, 24).
(обратно)5
Полента — латинское название ячной крупы.
(обратно)6
Букв.: «цивильный лист» (фр.) — статья государственных расходов на содержание главы государства.
(обратно)7
Эрисихтон, сын фессалийского царя Триопа, вырубил священную рощу Деметры, за что богиня наказала его чувством неутолимого голода. Миф об Эрисихтоне Овидий рассказывает в VIII книге «Метаморфоз» (738–878)
(обратно)

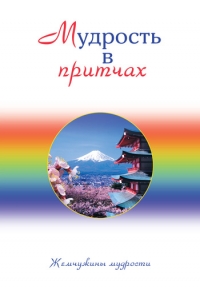
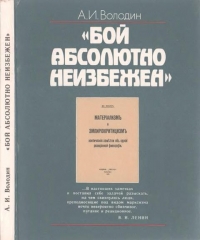
Комментарии к книге «Бедность как экономический принцип», Пьер Жозеф Прудон
Всего 0 комментариев