Автор неизвестен Философия как схематизм образного мышления
Барабашев А.Г.Глухов А.А.Гутнер Г.Б.Катречко С.Л.Киященко
Л.П.Лебедев М.В.Нуждин Г.А. Родин А.В. Тарасенко В.В.Черняк А.З.
Философия как схематизм образного мышления
Барабашев А.Г.
А. Чем философия не может быть?
1. Философия не может быть машиной по производству обоснованных результатов
Философ, строя концепцию, претендует, по крайней мере, на две вещи: во-первых, он надеется быть понятым, и во-вторых, он стремится к тому, чтобы его концепция не была воспринята как пересказ взглядов предшественников. Для тех, кто интересуется философией, эти две претензии оборачиваются поиском доступного нового в философской концепции. То новое, которого обычно ждут от философа, к чему философа понуждают и на основании чего, наконец, его оценивают и понимают - это те выводы и умозаключения ("результаты"), которые предлагаются в его концепции. От философа требуют обоснованных результатов.
Такое истолкование работы философа и сущности его усилий может послужить основанием негативной оценки философии - представления о ее никчемности, бесполезности ее более чем двухтысячелетнего существования. Дело в том, что наличие обоснованных результатов предполагает поступательное развитие той области знания, в которой такие результаты появляются. Это означает, что предложенные различными исследователями новые результаты должны занимать место прежних. Результаты предшественников превращаются становятся устаревшими. Отбрасываются или изменяются формулировки таких результатов, трансформируется их обоснование, конфигурация связи этих результатов друг с другом, оценки значимости и т.д. Так, изучение свойств света не следует производить по тексту "Оптики" Ньютона; дифференциальное исчисление в том виде, в котором оно было представлено в работах Лейбница, интересует математика только с исторической точки зрения; периодическая система элементов Менделеева получила ныне такую интерпретацию, которая неизмеримо превосходит представления своего создателя... Сделанное в рамках названных областей познания устаревает и превращается в предмет истории. Имеется совершенствуемая машина, состоящая из деталей (принятых процедур получения нового знания) и производящая все более качественный продукт - обоснованные (т.е. полученные с помощью машины) результаты.
В философии все обстоит наоборот, она принадлежит как бы другому миру. Сочинения Платона и Аристотеля, Августина и Аквината, Декарта и Лейбница, Канта и Гуссерля, Гегеля и Маркса, Флоренского и Федорова, Поппера и Куна вне зависимости от области философии не устаревают и остаются в культуре так же, как остаются великие музыкальные, архитектурные, литературные произведения. Конечно, в философии также существует преходящее, однако плохие научные статьи и монографии отличаются от посредственных философских сочинений: недостатком последних является отсутствие или слабость предлагаемых образов ("работа серая"), но не скрупулезного экспериментального или логического обоснования этих образов ("нет обоснованных результатов"). Может плохо восприниматься стиль, будут казаться странными отдельные пассажи, но в целом философские шедевры не увядают. Поскольку философские концепции включены в круговорот культуры не только после смерти их создателей, но и после переоценки явлений и событий, послуживших причиной создания этих концепций, равно как и породившей их культуры, то либо следует признать философию бесконтрольно разрастающейся, нерезультативной областью интеллектуальной деятельности, не обладающей механизмом очищения от устаревшего знания, либо философия есть создание индивидуальных Вселенных, в которых внутренние результаты имеются, но они не "приобщаемы", т.е. не могут быть перенесены из одной философской концепции в другую. И в том, и в другом случае в философии нет обоснованных и совершенствующихся результатов.
"Грехопадение" философа случается тогда, когда он идет на поводу у публики и стремится предоставить обоснованные результаты. Поведение убежденного в результативности философии исследователя чаще всего предполагает выполнение следующих добровольно принимаемых норм: 1) в устных сообщениях такой философ старается максимально использовать достижения коллег, ссылаться на эти достижения как на уже доказанные и потому принимаемые без обсуждения результаты; 2) в публикациях он не только считает необходимым максимально ссылаться на другие работы, идеи которых ему импонируют, но также критикует эти работы, основываясь на них, а не на собственной концепции. В сочинениях такого философа расхожи пассажи вроде: "как известно...", "как показано...", "если учесть, что...", "но это неверно...", "и это совершенно верно...", "следовательно...", "выявлено..." и т.п.
Странное, неординарное (в сравнении с другими областями познания) существование философии служит основанием большого разброса мнений по отношению к ней. Для доброжелателя философии, уверенного в ее пользе, вывод о нерезультативности философии представляется парадоксальным: с его точки зрения философия лидирует в истории познания по количеству исследователей, внесших значительный вклад в развитие культуры. Наоборот, для скептически настроенного человека отсутствие результатов есть главный аргумент против философии, предостережение от занятий ею.
2. От философии не следует требовать истины
Предоставляет ли философия истинное знание? Разные ответы на этот вопрос предлагают немецкая натурфилософия, философия первого позитивизма, аналитическая философия и философия критического рационализма. Натурфилософия утверждает, что истинность научного знания может быть отнесена и к знанию философскому. Философия ищет истину, и в этом смысле наука и философия неотделимы. А так как философия не только ищет истину, но и обладает критериями ее постижения, то она более плодотворна в постижении истины. Первый позитивизм утверждает, что истину постигает только наука, а традиционная философия (метафизика) должна быть устранена. Аналитическая философия закрепляет за наукой поиск контекстуальной (содержательной) истины, а философия должна быть занята анализом языка науки и исследованием истины в ином разрезе - в разрезе согласованности и внутренней непротиворечивости языковых конструкций. Наконец, критический рационализм отказывает в поиске истины как науке, так и философии. Итак, относительно способности постичь истину наукой(1) и философией(2) в их взаимосвязи реализуются все четыре возможные позиции: нет(1) - да(2), да(1) - нет(2), да(1) - да(2), нет(1) - нет(2). Весь спектр позиций исчерпан, горизонт возможных исследований истинности философии обозначен.
Указанные четыре варианта предполагают, что в философии есть обоснованные результаты. Соответственно речь идет о том, являются ли эти результаты истинными или ложными. Однако если обоснованных результатов в философии нет, то тогда следует выйти за пределы горизонта исследования проверяемой истинности философии и признать, что философия вообще не имеет отношения к объективированному (воспроизводимому, интерсубъективному) поиску истины.
3. В философии не может быть повторений
Чем, если не результатами, ценна философия? Если в философии нет результатов, благодаря которым возможно сравнение различных концепций и понимание философии как одной из "позитивных" наук, то что может занять место таких результатов? Можно ли ослабить требование к философской концепции "обладать результатами", а взамен обнаружить иной способ сравнения следующих друг за другом концепций или же совокупности одновременно существующих концепций? Где та скрепа, которая соединяет разнородные концепции и дает возможность оценить их с одинаковой точки зрения, понять, чем эти концепции отличаются, найти критерии, позволяющие отдать предпочтение одним концепциям перед другими?
Сравнение концепций обычно производится в два приема: сначала ведется поиск некоторой естественной субординации (классификации) философских концепций, то есть такой классификации, которая со-вечна философии. Затем анализируемые философские концепции сравниваются в рамках этой классификации. Наличие неоспоримой естественной классификации (классификаций) cтало бы паллиативом существования результатов в философии, поскольку позволило бы указать на что-то вроде критериев приемлемости и сравнимости концепций. В то же время, естественная классификация должна указывать на возможности дальнейшего развития философии, обнаруживать и заполнять "пустые клетки" в имеющемся спектре концепций, что было бы аналогом поступательного развития философии.
Из-за отсутствия в философии результатов существование естественной классификации, однако, становится проблематичным. Тем не менее попытки построения классификаций, претендующих на адекватное отображение всего поля философских концепций, имеются. Эти классификации чаще всего основаны на "философоведческой" позиции наблюдателя - историка философии, взявшего некоторую тему, понятие, вопрос, характерный момент культуры, жизни и характера, наконец (как это сделал Диоген Лаэртский), для выделения интересующего его материала из скопления философских концепций. Иногда сопутствующие такому "выхватыванию" философского материала идеологические, пропедевтические или иные приоритеты и соображения способствуют известности тех или иных историко-философских классификаций, пусть даже эти классификации и приводят к значительному огрублению или, более того, искажению истории философии. Тем не менее, несмотря на простоту и привлекательность уже имеющихся историко-философских схем, сами философы не разрабатывают свои концепции исходя из подобных внешних ориентиров. Даже если наблюдателя и творца интересует, казалось бы, одно и то же, то их подход к вопросу, его постановка и осознание различны: классификация философа-творца, понимание им взглядов других философов, всегда подчинены разъяснению его концепции, являются ее элементом.
Применительно к различению классификаций, создаваемых в обзорных целях историками философии, и самими философами в процессе создания оригинальных концепций можно сказать, что как только поле философствования обозначено внешним наблюдателем, философия умирает (соответственно, учить философии не означает учить философствовать). Используя образ Сократа, философское знание умирает, когда из живого сердца своего создателя оно перекочевывает на мертвые овечьи шкуры, разнимается на части в сочинениях классификаторов. Если же философ-творец создает универсальную классификацию философских концепций, то, в противоположность историко-философской классификации, эта классификация имеет другое предназначение. Философ-творец, в отличие от выясняющего и воспроизводящего "как было" историка философии, руководствуется интересом к вопросам жизни и бытия, которые он формулирует сам (а не к истории рассмотрения таких вопросов, сформулированных другими философами). Он использует концепции предшественников подобно жителям средневекового Рима, строившим свои жилища из обломков античных храмов. Наоборот, историк философии реконструирует храмы. Иными словами, в философской концепции другие концепции могут только переиначиваться, а не воспроизводиться. Философская концепция не является воспроизведением (повторением) других философских концепций, их отдельных частей или комбинацией частей разных философских концепций.
4. Философия не состоит из философских направлений и школ
Если в философии не может быть естественной классификации концепций, то как объяснить феномен философских направлений и школ?
Философские школы (и в меньшей степени направления) обычно характеризуются тем, что сами философы считают себя принадлежащими к ним. Это самоидентификация философов. Причем другие представители данного направления или школы могут и не отрицать такого духовного самоотнесения, хотя протестуют против превращения его в обязательную для них самих классификацию. Как правило, неприятие утверждения философа о том, что он занимается тем-то и близок в своих взглядах к такой-то школе или направлению, свидетельствует или об имеющейся невостребованности самоидентификации "претендента на принадлежность" со стороны других философов, или о неполноценности концепции, или о трудностях восприятия этой концепции предполагаемыми коллегами. Например, статьи и книги социально-культурологической ориентации, написанные Д. Фангом, ныне расцениваемые в работах по истории философии математики как пионерские в области так называемой нефундаменталистской философии математики, первоначально не признавались в качестве работ по философии математики.
Однако даже среди философов, признающих друг друга в качестве представителей одной школы или направления, согласие отсутствует. Так, немецкая школа классического идеализма предоставляет хрестоматийный пример того, как по-разному ее представители пытались говорить о том, в состоянии ли человек познать мир и выразить свое знание с помощью адекватных понятийных средств, что обеспечивает моральность человека, есть ли прогресс в развитии человечества и можно ли мыслить этот прогресс телеологически. Более современный пример являет собой так называемая историческая школа в философии науки. Обсуждая тему развития науки, нахождения критериев демаркации науки и ненауки в исторической перспективе, представители этой школы предложили различающиеся способы выражения, постановки и решения данной темы. В интерпретациях фальсификационизма, концепции парадигм, принципа пролиферации или же научных исследовательских программ развитие науки (да и сама наука) выглядят сильно отличающимися. Тем не менее именно в рамках философской школы наиболее сильны споры, именно здесь исследователи лучше всего понимают друг друга и не согласны между собой. Выходом за пределы школы есть ситуативный отказ от системы приоритетов и от напряженности споров. Единства же выводов и умозаключений в философской школе нет изначально. Философский спор (в отличие от научного) означает радикальное несогласие относительно содержания концепций одновременно с временным согласием по поводу значимости самой проблематики. Так, известны отречение И. Канта от концепции И. Фихте, представленной последним в его "Наукоучении", отказ И. Лакатоса от центральных положений концепции К. Поппера (требование Поппера о необходимости признать ложными фальсифицированные научные теории). Достаточно часто бывает, что такое "отрекающееся" поведение философы демонстрируют по отношению к самим себе. Итак, философские направления и школы выступают либо как непостоянные обозначения текущей самоидентификации философов, либо как условные схемы описания ("каталоги тем"), с помощью которых историки философии систематизируют разные концепции.
5. Поиск общих принципов в философии бесполезен
Можно ли классифицировать концепции в соответствии с философскими принципами, то есть теми утверждениями (тезисами), обоснованию которых посвящено основное содержание сразу нескольких концепций? Так, возникает соблазн объединить те философские концепции, авторы которых придерживались принципа врожденности глубинных структур сознания (архетипов, врожденных идей, чувства самости, либидо etc.), или же принципа представления мира как числа (вне зависимости от того, что понималось под миром и числом в разные времена), или же главенства материального над идеальным... Примерами подобного разделения философии в соответствии с отстаиваемыми принципами служат: классификация, основанная на противопоставлении реализма и номинализма в средневековой европейской философии; разделение релятивистских и субстанциальных этических концепций; выделение позитивистских и метафизических концепций соотношения различных компонентов научного знания; противопоставление принципов сциентизма и антисциентизма и т.д. К сожалению, сами философы не оценивают столь однозначно свои принципы, поскольку невозможно свести любую концепцию к отдельному тезису, а тем более выразить его в приемлемой для всех понятийной форме. Если перечень принципов экстрагировать из философских концепций, то этот перечень окажется неограниченным и разнородным, а сами принципы - лишенными смысла. Собственно, смысл принципа определяется контекстом концепции. С этой точки зрения не надо питать иллюзий относительно гипотетической "близости" Гераклита и Гегеля, Гуссерля и Канта, пифагорейцев и Платона, Поппера и Лакатоса... Выразить суть концепции в нескольких словах, в одном "главном" тезисе=принципе, нельзя. Единство духовных исканий в краткой форме не сообщаемо. Простая декларация тезиса (принципа концепции) порождает вопросы, снять которые можно только пространным растолкованием концепции.
6. Философию нельзя сложить из понятий
Используют ли философские концепции одинаковые понятия (философские категории)? Считается, что философы, принадлежащие к одной школе или направлению, используют сходный набор понятий ("технический аппарат", применяемые для выражения идей понятийные средства) и наделяют эти понятия одинаковым смыслом. Однако сходство используемых понятий при ближайшем рассмотрении оказывается иллюзорным. Дело в том, что эти понятия являются метками, обозначающими грани различных целостных схем. Нельзя создать философскую концепцию, определив по отдельности используемые в ней понятия. Так, понятие фальсификации развертывается в концепции научных исследовательских программ И. Лакатоса в такую конструкцию, которая радикально отличается от принципа фальсификации К. Поппера (например исследовательская программа по Лакатосу может сколь угодно долго испытывать регрессивный сдвиг, но достаточно "упрямое" научное сообщество вправе продолжать придерживаться этой программы. Такое поведение в попперовском понимании фальсификационизма является ненаучным). Смысл философских понятий в сравнении со смыслом понятий, используемых во всех других областях познания, полностью привязан к контексту концепций.
Конечно, в любой области познания, равно как и в повседневной жизни, понятия не обладают дискретным, четко очерченным смыслом. Этот смысл, как известно, вероятностно распределен (или же, если не использовать представлений о вероятностной структуре смысла, просто не является четким). Например, понятие "старый" может обозначать различное количество прожитых лет, и маловероятно, но возможно назвать старым человека, которому 20 - 25 - 30 лет от роду. Тем не менее во всех областях познания за исключением философии смысл понятия может быть определен независимо, через систему вспомогательных, не относящихся к данной концепции представлений и фиксирующих их понятий. Эти представления и понятия играют роль нормативных примеров и контрпримеров, или же экспериментов, для данной области познания. Например, понятию скорость соответствуют представления о различных движениях (повседневный физический опыт), о производной (отсылка к математическому аппарату), об изменениях с самим человеком и с обществом (биологический и социальный опыт). Любая естественнонаучная теория не может игнорировать этих представлений, они имеют для ее понятий нормативный характер. Так, мысленный эксперимент Эйнштейна об эквивалентности ускорения свободного падения и соответствующего равноускоренного прямолинейного движения системы отсчета обращается к подобным представлениям. Или же понятие непрерывности в математическом анализе традиционно сопровождается демонстрацией различных разрывных и непрерывных линий, обосновывающей или отвергающей теорию и корректирующей ее формализм. Аналогичные примеры, нормативная демонстративность которых по отношению к понятиям и определениям теории была отмечена Лакатосом в его "Доказательствах и опровержениях" (смотри также его "Аппендикс 1" к этой работе), служат объектом исследования в большом количестве монографий и статей, объединяемых в рубрике "примеры и контрпримеры в анализе".
В философии роль взятых со стороны примеров в задании смысла используемых понятий иная. Здесь такие примеры не нормативны, смысл понятий задается не ими, а контекстом самих концепций. Примеры из повседневного опыта, данные науки, расхожие мнения не могут ни опровергнуть, ни подменить смысл, вкладываемый в понятия философом, но только помогают нам уяснить образы, стоявшие перед внутренним взором философа-творца. Даже если идеи философа чужды нам или представляются парадоксальными, внешние контрпримеры не могут служить инструментом борьбы с ними. Нет и не может быть житейских, естественнонаучных, математических, лингвистических примеров и контрпримеров к философским понятиям - понятиям свободы, бога, добра, зла, бытия, непостижимого... Эти понятия определяются из контекста философской концепции в целом. Философия вынуждена замыкаться в поле своих образов, что означает: концепция философа довлеет над смыслом используемых им понятий, целое определяет части, а не наоборот.
Но в таком случае создание единой для всей философии системы категорий невозможно. Конечно, удачное структурирование используемых понятий (построение системы категорий) может наилучшим образом отразить взаимосвязь понятий и дополнительно прояснить образ выраженной этими понятиями концепции. Именно поэтому многие философы строят систему категорий, считая эту работу частью создания своего учения. Однако на большее, на понятийный охват философии в целом, рассчитывать не приходится. Создание единой ("истинной") для всех концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских концепций во фрагментарно-разнородный материал.
Б. Чем философия является?
1. Философия едина
Если в философии нет обоснованных результатов, если поиск истины не может считаться объединяющим мотивом философствования, если нет единых хотя бы на уровне школ систем понятий или (и) принципов-тезисов, то как философы вообще понимают друг друга и осознают, что исследуют одно и то же? Может быть, мысль о единой философии - не более чем самоутешение философов? Действительно, если различные мыслители вкладывают разный смысл в одни и те же слова, если принципы их концепций имеют только внешнее словесное сходство, то им только кажется, что они говорят об одном и том же. В таком случае даже классификация, основанная на самоидентификации философов, была бы иллюзорной. Но все-таки взаимопонимание философов имеется, хотя оно не сводится к согласию в понятиях или к принятию единой естественной классификации концепций. Это взаимопонимание, как будет разъяснено далее, основывается на восприятии концепций как целостных схем-образов.
2. Единство философии обеспечивается единством жизненных проблем
Жизнь длится, представая в своем течении как череда ситуаций. Жить - значит находиться в ситуациях. Присвоение ситуаций происходит как создание их целостных образов. Целостные образы ситуаций, или жизненные проблемы, как правило, порождены любопытством или нуждой и связаны с имитацией действий окружающих людей или с необходимостью реакции на события внешнего мира. Жизненные проблемы выражают неудовлетворенность ситуациями, в которых человек пребывает, неудовлетворенность имеющимся пониманием ситуаций. Жизненные проблемы различны, однако решение или невозможность решения каждой из них определяет появление тех или иных новых жизненных проблем. У каждого человека складывается индивидуальная конфигурация и последовательность жизненных проблем, определяющая порядок и смысл его жизни. Жизненные проблемы человека связаны.
Осознание проблем сопровождается выделением целей. Все цели, которые ставит перед собой человек, являются продолжением его проблем. Особенно часто проблемы возникают тогда, когда любопытство или нужда не удовлетворяются первыми же действиями: при успехе человек просто "проскакивает" проблему, имитируя действия других людей или реагируя на окружающее как бы автоматически. Если нет проблем, то нет и целей (планов по реконструкции ситуаций, их благоприятному изменению), намерений (не отрефлексированных целей), идеалов (принятых и культурно апробированных целей и способов их достижения), принципов. Беспроблемность жизни порождает бездействие. Отсутствие проблем ведет к атрофии целеполагания. Можно сказать и наоборот: если нет видения ситуаций в соответствии с целями, намерениями и идеалами, то не будет и проблем, хотя, конечно, в связке "цели - проблемы" именно проблемы выступают ведущим звеном, поскольку проблемы усваиваются непосредственно, то есть ситуация "впитывается", а цели требуют осознания всех шагов имитации, то есть предвосхищения, мысленного конструирования результата, измененной ("потребной") ситуации.
Из этого следует, что жизненные проблемы не обязательно существуют на вербальном уровне. Проблема не сразу воплощается в словах. Существует промежуточный уровень между миром и словом: это уровень образа. Пребывая в окружающем и воображая его, то есть строя наличную ситуацию, человек конструирует образы. Он мыслит, но не вербально. Образы как бы размыты, они не имеют четких границ и не поддаются непосредственному описанию, хотя интуитивно ясны и могут служить основанием для действия, в том числе и для словесного описания, которое часто (например в случае научной работы) является разновидностью действия.
Социальность человека означает, что индивидуальные конфигурации жизненных проблем различных людей перекрываются, образуя общее поле жизненных проблем. Поэтому имеется единство жизненных проблем общества.
3. Философские проблемы являются ракурсом жизненных проблем
Спецификой философских проблем является то, что они входят в любую жизненную проблему. Жизненным проблемам присущ момент философичности, наличия целостного образа ситуации в его аналогической соотнесенности с образами других ситуаций, видения ситуации в ракурсе ее типового устройства. Философские проблемы есть типовые схемы целостных образов жизненных ситуаций.
Составными частями типового устройства жизненных проблем являются сам человек, его "Я", тот-кто-действует; противостоящие человеку обстоятельства, Мир или реальность, то-на-что-действует; контакт человека и реальности, производимое человеком действие, зачастую предстающее в виде метода или же размышления; чудеса и случай, Рок и Удача, то есть сверхреальные, неестественные причины и обстоятельства. Философские проблемы, в которых участвуют персонажи-образы человека, мира, бога и действия (как связывающего первые три образа), стоят за всяческими философскими понятиями, вербальными проблемами и концепциями. Однако словесная фиксация этих образов (например в виде таких вербально выраженных проблем: в чем смысл жизни; как устроен мир; существует ли бог; что есть правильное действие, или истина), всякое вербальное определение философии, есть ее (философии) отдаление от пользователя, другими словами, ущемление философии.
За словами в любом философском сочинении скрывается философская проблема схематическое рассмотрение жизненной проблемы, ее изучение в аналогиях, в соотнесенности с другими жизненными проблемами. Определение философии, не в словах, а в более глубинных сущностях, должно заключаться в апеллировании к схемам, к целостным образам аналогичных жизненных ситуаций, а не просто в вербальном назывании проблем. Философия постигается сердцем - и обволакивается, затуманивается словами. В то же время философия словами может и распространяться: туман слов иногда кристаллизуется в новые образы, как бы побуждает сердце пробиться сквозь слова и постичь, или же изобрести, стоящие за ними образы. Поэтому читатель, стремящийся понять философский текст, должен уподобиться делосским водолазам, славившимся успешным поиском затонувших кораблей в мутной воде: он должен разглядеть целостные схемы-образы за взвесью слов.
4. Философские проблемы различаются в соответствии с делением жизненных проблем на проблемы-образы, проблемы-действия и вербальные проблемы
Произведем рассмотрение философских проблем в соответствии с тем, как они включены в жизненные проблемы, какой ракурс жизненных проблем они представляют.
Философские проблемы заданы в виде схем целостных образов аналогичных жизненных ситуаций и предстают как ракурс жизненных проблем. Однако жизненные проблемы могут быть по-разному представлены.
Во-первых, жизненные проблемы могут существовать только в виде образов. Это означает, что ситуация возникла (она известна, прочувствована), причем она продолжается и далее, то есть имеется возможность пребывания в ней. Если ситуации нет, то проблема не возникает вовсе. Если ситуация безвозвратно завершилась, то проблема исчезает, хотя переживание, воспоминание о ситуации может остаться. Проблемы-образы не подразделяются в соответствии с заранее обозначенным предметом, каким-либо теоретическим принципом, областями исследования и т.д., поскольку в жизни все это совмещено и неделимо. Однако отсутствие необразных средств выражения, адекватно отображающих проблемы (полностью поглощающих эти проблемы) не означает слитности самих образов, существования только единой ситуации. Разделение проблем-образов проводится в соответствии с той или иной включенностью в них самого человека и обстоятельств, в которых он пребывает. Это означает вычленение из ситуации человека ("вот он, я"), его действия ("вот что я делаю"), окружающего мира ("вот на что я действую"), высшей и неизвестной причины данной ситуации, или бога ("что-то такое, что мне неподвластно и может неожиданно перевернуть всю ситуацию"). Но тогда любая жизненная проблема в ракурсе аналогичности является философской, если смотреть на нее с позиции выделения фундаментальных схем образов. Даже проблема покупки хлеба в соседнем магазине при должном видении предстает как проблема пропитания ради поддержания жизни, проблема целесообразности траты времени, проблема лени, проблема общения, проблема страдания, проблема "хлеба насущного", даваемого нам Господом "днесь", и так далее. Философские проблемы-образы присутствуют в любых жизненных проблемах, а акцентация внимания на них свидетельствует о философском складе ума, о любви к мудрости, заключающейся в стремлении подняться до аналогического, коррелятивного (по отношению к другим ситуациям) видения ситуации. Философская проблема не является абстрагированием ряда более частных проблем, она есть их насыщенное видение без потери какого-либо содержания. Любомудрие не означает глупости в частных ситуациях; скорее, философ видит эти частные ситуации в их соотношении, в аналогической перспективе, что иногда обуславливает весьма странный для собеседника ракурс в подходе к ситуации. Можно сказать, что в жизни философ воспринимает ситуации с точки зрения единства их ролевых функций.
Второй разновидностью жизненных проблем выступают проблемы-действия, относительно которых проблемы-образы имеющихся ситуаций выполняют роль основания. Проблема-действие состоит в реальном осуществлении совокупности действий для потребного преобразования ситуации. Проблемы-действия суть тотальность действия, или деятельность. Следует отметить, что такие проблемы напрямую связаны с целями: именно цели обеспечивают производимым действиям целостность, превращая их в целедостигающую деятельность. Проблемы-действия, или деятельность, есть целедостижение. Действия в процессе целедостижения выстраиваются в цепочки (алгоритмы), причем оценка и корректировка результатов (достигнутой цели) производится посредством сравнения образа вновь созданной ситуации и ситуации исходной. Проблема-действие в ретроспективной оценке является как бы "медиатором" начальной и заключительной проблем-образов, если рассматривать деятельность уже свершившуюся; если же деятельность только предстоит, то проблема-действие соединяет начальную проблему-образ и цель, причем последняя проблемой покуда не является.
Как и проблемы-образы, все без исключения проблемы-действия несут в себе момент философичности. Любая деятельность, даже самая "приземленная", может быть взята в срезе ее схемы, свойственного этой деятельности "архетипа" субъект-объектного отношения. Именно на этом строится большое количество учений, в которых концепция дается в виде последовательности действий учителя (зачастую парадоксальных, а иногда даже пугающих, приводящих учеников в трепет), которые надо осознать, то есть создать персональную философскую проблему-образ на основании данной учителем проблемы-действия, а далее перевести ее в собственную, новую ситуацию (проблему-образ). Например, в концепции Карлоса Кастанеды обучение в "европейском" смысле отвергается как пустое сотрясание воздуха. Ученики под влиянием осторожного, экстравагантного или рассчитанно шокирующего, необычного воздействия наставника и бенефактора (контр-наставника) разрушают свое представление о реальности и возможностях человека, создавая взамен него новое, кстати, невыразимое в словах. Такая философия видит своей задачей "перевернуть мир обучаемого", заставив его преобразиться, и, главное, начать действовать по-новому. Собственно философские проблемы-действия являются как бы схемами деятельности, предзадающими очередность и сам набор допустимых действий. Деятельностно ориентированный философ находится под влиянием аналогического образа действий, то есть действует принципиально. Такое действие не означает глупости в частных делах; скорее, философ более последователен в своих действиях, то есть более деятелен. В действиях он, если уж принципиально убежден в своей позиции, самый прагматик из прагматиков, самый циник из циников, самый идеалист из идеалистов, самый неверующий из неверующих и верующий из верующих... Концептуальная, "философская" последовательность во всех поступках, отсутствие сбоя и растерянных метаний за исключением периодов творческих кризисов и смены философских взглядов, невозмутимость действий, тяга к пророческому слову (слову, сотрясающему сложившуюся деятельность) - удел прирожденного философа, философа по поступкам, а не по образованию или профессии.
Наконец, увенчивают иерархию жизненных проблем проблемы вербализованные, в которых ситуация выражена с помощью некоторых знаковых средств. Интересно, что и сама ситуация в таком случае может иметь знаковый характер. Будучи обозначением и, тем самым, рефлексией над действием, вербализованные проблемы расчленяют предмет там, где он был деятельностно и образно нерасчленим. В результате жизненные проблемы превращаются в проблемы профессиональные, описываемые с помощью понятий. Вербализованные философские проблемы являются ракурсом профессиональных, они выхватывают момент аналогичности различных профессиональных проблем. Однако цена, которую платит философия за право пользоваться словами, весьма высока: это опосредование словами образов ситуаций и действий по их изменению, почкование одной и той же философской проблемы в разных вербальных выражениях, варьирование смыслов и жонглирование ими. Многообразие понятий и неоднозначность их смыслов делает строительство "Вавилонской башни" философии с помощью вербальных средств затруднительным.
Использование в философских концепциях естественно сложившихся языков нагружает эти концепции побочными смыслами, которые свойственны обычным словам. С другой стороны, формальное введение искусственных языков и задание концепций с их помощью не дает ясности концепций, поскольку в формальной системе смысл высказываний отсутствует вовсе. В крайнем, рафинированно вербализованном подходе философскими признаются только проблемы анализа языка. Часто такой анализ осуществляется с помощью искусственных языков. Этот анализ распадается на семантический и синтаксический. Допустимость терминов и высказываний выводится из правил грамматики и образования смысла. Но откуда берется смысл? Ответ, что смысл конвенциален, полностью разрушает единство философии. Отсылка к незыблемости терминов опыта и логических терминов, их определяющей роли в конструировании теоретических терминов, уничтожает философию как запрещенное (неосмысленное) словоупотребление. Наконец, ссылка на следование правилу (Витгенштейн) возвращает обратно к невербальным корням философии. Стремясь уточнить философские проблемы как проблемы языка, последователь "лингвистической" точки зрения либо произвольно трактует смысл, либо убирает смысл полностью. Игра в языковый ригоризм поглощает подобных философов либо философствующих логиков в ущерб созданию целостных убедительных образов.
Любомудрие, взятое в своем вербализованном срезе, не означает неразвитости или же отмены обычного словоупотребления. Наоборот, философ более разнообразен и изощрен в выборе слов, предрасположен к игре в смыслы и подтексты. Этим часто он загоняет себя в ловушку непонимания со стороны неподготовленного собеседника.
Конечно, пренебрегать техникой (т.е. языковыми средствами) философу не следует, как бы скептически он к речевому выражению философских схем-образов ни относился. Однако важно помнить, что эти средства - не более чем краски, которыми пишут картину. Чистота красок и их разнообразие, то есть строгость использования понятий и их количество, не обязательно обеспечивает воспринимаемость картины, и один многозначительный штрих, яркая аналогия или необычное слово, порой дает больше, чем тщательно прорисованный участок полотна.
5. Философские проблемы - суть философских концепций
Философские концепции полностью представлены в философских проблемах, рассматриваемых в этих концепциях.
Важнейшим аргументом против разъединенности философов является ясность, доступность для понимания философских проблем, превосходящая ясность технических средств (аппарата) решения этих проблем. Философскую проблему надо понимать как связующий образ концепции в целом, причем для вербальных философских проблем важны их словесные "кодировки". Так, проблема смысла жизни может быть сформулирована как проблема поиска себя, как проблема добра и зла, как проблема оптимального поведения, как проблема смерти и бессмертия, как проблема направления истории общества, и так далее. Или же проблема истины может быть повернута как проблема сущности познания, как проблема веры, как проблема метода, как проблема правильного поведения или действия... Некоторые формулировки синтезируют разные проблемы (например проблема наличия свободы совмещает в себе и проблему смысла жизни, и проблему бога, и проблему истины, и проблему строения реальности). Общность философских концепций фундаментальнее их понятийного оформления, она носит образный характер. За кулисами сцены философских концепций находится малое количество фундаментальных схем-образов, диктующих различие и связь концепций, самоосознание философов и их специализацию. Попав в поле воздействия той или иной проблемы, философ определяет свои симпатии, круг коллег и единомышленников, связь с культурой - вне зависимости от того, на каком языке они говорят или говорили, как формулировали свои взгляды, какие принципы в решении проблемы исповедовали.
Ясность философских проблем заключается в том, что они не редуцируются к вербальным средствам своего выражения, а используют эти средства, поглощая и трансформируя их, задавая новые, при отсутствии подходящих вербальных средств. Соответственно просто называние проблем еще не делает их проблемами, а посему историко-философская классификация, заданная посредством называния, перечисления основных философских проблем (в отличие от декларирования принципов, которые вне формулировок не существуют), суть оболочка, в которую смысл еще предстоит вложить. Философские проблемы стоят на фундаменте жизни, они не сводятся к вербальным упражнениям и имеют свой, непосредственный выход на деятельность человека. Эта довербальная связь философии и жизни является ключом к пониманию философии, ее единства и непреходящей ценности для человечества.
6. Вербальная философия связана с внешним отрицанием
Философия (в европейской традиции, идущей от греков) венчает пирамиду описаний различных жизненных ситуаций, выступает в качестве финального описания этих ситуаций. Философия может порождать действие, но сама она напрямую действием не является - этим "европейская" философия отличается от "восточной" философии, в которой зачастую философская концепция воплощается в совокупности парадоксальных действий.
Если имеется высказывание "объект А обладает свойством Х", то внешнее отрицание этого высказывания суть логически возможное, но отбрасываемое противоположное высказывание об объекте: "неверно, что объект А не обладает свойством Х". Так, если в некоторой философской концепции в числе прочего утверждается, что человек по природе добр, то для этой концепции будет неверным высказывание "неверно, что человек по природе добр". Внешнее отрицание интегрально, оно говорит о ситуации в целом, а так как философия имеет дело со схемами образов аналогичных ситуаций, говорит о ситуациях в целом, то она строится так же, как и внешнее отрицание. Тем самым философия в европейской традиции связана с внешним отрицанием.
При действии также используются те или иные свойства объекта (объект А обладает свойством Х), именно оперируя этими свойствами мы изменяем объект. Однако действуя, мы как бы вторгаемся в объект, а не просто "смотрим на него со стороны". Поэтому нашему использованию свойства Х объекта может помешать наличие других свойств объекта (свойств Y), которые мы забыли учесть или просто о них не подозревали. Например, попытка исправить параметры печати в компьютерной программе может привести к порче всей программы печати. Или же решение математической задачи помимо знания теорем обычно предполагает наличие одного или нескольких нетривиальных ходов нейтрализации других свойств и сведения рассуждения к простому случаю. То есть при действии мы можем пользоваться только внутренним, более слабым отрицанием: если объект обладает свойством Х, то для действия существенно, что объект А не обладает свойствами Y, затрудняющими использование свойства Х. Центральным, можно сказать, образующим для таких свойств Y является свойство не-Х. Так, для действия по отношению к некоторому человеку как к доброму важно знать, что "неверно, что человек по природе не-добр". Соответственно философия, выраженная в парадоксальных действиях, может сторонним наблюдателем восприниматься не как философия, а как набор странных поступков.
7. Вербальные философские проблемы развертываются в вопросы и гипотезы
Если философская проблема есть выраженная в словах схема образов аналогичных ситуаций, то как такая вербальная философская проблема соотносится с вопросом и гипотезой, которые также выражают схемы образов ситуаций?
Вопрошание всегда совершается в рамках ситуации: в противном случае оно бессмысленно, является "пустым", то есть праздным любопытством. Соответственно, покуда ситуация не сложилась, покуда она не впитана, задавать вопросы об этой ситуации бесполезно (конечно, "темп" вхождения в ситуацию для разных людей различен). Человек впервые получает основания осмыслить ситуацию только пребывая в ней, то есть будучи уже вовлеченным в проблему. Именно тогда он начинает осознавать элементы ситуации и действовать с ними.
Вопрос как раз и является указанием на эти элементы и попыткой найти их очертания, отличие, связь, способы использования: "Что это? Как это связано с тем? Как это получить? Как это использовать?" Вопрос может быть расценен как дробление ситуации (и проблемы) на части, он является как бы частью проблемы. Одновременно отличие вопроса от простого указания заключается в том, что вопрос воплощает собой переход от неосознания к осознанию. Здесь реализуется цепочка: это - что это? - вот оно, это. Вопрос есть приближение к фиксации осознания, к ответу ("вот оно, это"). Тем самым вопрос есть не только часть проблемы, но и часть ответа, или решения.
Подобная роль вопроса определяет и средства его реализации. Вопрос в силу отличия от проблемы должен обладать большей определенностью, он более очерчен, более использует понятийные средства. Жизненные проблемы чужды вопрошанию; в их пределах вопросов не поставишь. Любая постановка вопроса подталкивает к превращению образа ситуации в деятельность по ее (ситуации) преобразованию и далее - в обозначения, в вербализацию. Поэтому лучший путь трансформации жизненной проблемы в данном направлении должен заключаться в переводе жизненной проблемы в проблему-действие через остенсивное вопрошание, а затем и проблемы-действия в вербальную проблему через вербальные вопросы. Но только на уровне вербальной проблемы возникают вопросы философские, что, впрочем, не мешает в любом остенсивном вопросе увидеть философский компонент.
Наиболее интересно выявление соотношения вопросов и проблем в том случае, когда и те, и другие вербализованы. Вербализованный вопрос "фиксирует" только некоторую часть описания ситуации, в то время как проблема описывает все ее поле. В вопросе как бы концентрируется та часть описания ситуации, которая наиболее неясна, на которую сильнее всего нацелен интерес человека, в этой ситуации пребывающего. Сердцевина неизвестного лучше всего схватывается именно в вопросе. Вопрос побуждает к изменению ситуации, к конструированию новой, потребной ситуации, к постановке цели. Поэтому по задаваемым вопросам лучше всего видны цели человека, его видение ситуации и отношение к ней. "Задай мне свои вопросы, и я скажу, кто ты" - эта максима достаточно ясно очерчивает место вопроса в динамике ситуации.
В отличие от вопроса гипотеза заключается в попытке ответа на вопрос. Здесь вербальные средства уже окончательно преобладают, поэтому гипотеза существует только в контексте вербализованной проблемы. Вербальные средства в гипотезе подчинены созданию возможного ответа, реконструкции того участка проблемы, который фиксирован вопросом. Гипотеза ясно "прорисовывает" часть новой, измененной ситуации. Для этого она вводит и использует технические понятия и термины, отличаясь от решения всего лишь их композицией и богатством набора. Соответственно чем более гипотеза выражена с помощью технических средств, тем более она похожа на ответ.
8. Действительное место понятий и суждений в философии как разъясняющих вопросы и гипотезы
Содержанием философии являются проблемы, изначально существующие в виде схем образов аналогичных ситуаций. Однако всякое содержание требует средств выражения. В традиции вербального философствования (говорение и писание текстов, состоящих из слов естественных языков) философские проблемы выражаются через понятия и суждения. Поэтому следует еще раз обратиться к рассмотрению роли понятий и суждений в философской концепции, исходя теперь из фундаментального тезиса об их вспомогательно-технической функции в задании проблем.
8а. Место понятий
Любая область познания наряду со специальными терминами и понятиями вынуждена использовать такие понятия, как множество, тело, причина, время, добро, случай, бог... Указанные понятия не исследуются в рамках самой этой области познания. Они либо вводятся определениями, поясняющими смысл понятий (но не задающими его), либо более того, определения полагаются излишними, поскольку считается, что смысл таких понятий известен помимо данной области познания. Соответственно любая область познания, исследующая ограниченную согласно договоренностям исследователей и сложившимся традициям группу событий, явлений, ситуаций, не объясняет подобных понятий, но только пользуется ими. Иное дело философия, которая не разъединяет ситуации, но берет их в аналогической соотнесенности. Названные понятия в философии не просто пребывают; именно они составляют ее ядро.
Но откуда нам известен смысл философских понятий?
На одном конце спектра теорий философских понятий представлено мнение, что они автономны и даны нам изначально. Например, это мнение может быть выражено в той форме, что существует изначальная интуиция философских понятий. Согласно такой позиции метафизические понятия являются врожденными, и все философские концепции должны основываться на этой интуиции, выводить свои заключения из нее. Так, согласно Локку у нас имеется знание только трех объектов - демонстративное знание Бога, интуитивное знание о собственном существовании (о наличии self) и, наконец, чувственное знание об окружающих нас вещах. Или же, Декарт полагал что мы обладаем врожденным знанием того, что такое "Я" и "существование". В ряду мыслителей, придерживающихся мнения об автономности философских понятий, находится и Кант. Кант считал, что понятия чистого разума (трансцендентальные идеи) априорно определяют использование рассудка по отношению ко всей совокупности опыта. Понятия чистого разума выходят за пределы возможного опыта, они безусловно организуют наше знание [цит. по Кант И. Критика чистого разума //Его же. Соч. в 6 т. - М.: Мысль, 1964. Т.3. - с.354-358]. Априорность метафизических понятий может быть принята и в праксеологических построениях, предполагающих в подобном случае фундаментальность и неизменность (изменчивость в несущественном) практической деятельности, а также обусловленность практикой всех форм духовной активности.
Слабым местом подобной позиции в отношении метафизических понятий оказывается то, что философия по необходимости является обосновывающей областью познания, а потому она не может отказаться от обоснования даже своих исходных понятий. Данность именно таких, а не других понятий сама требует обоснования. Это обоснование в случае априоризма, однако, выходит за пределы внутриконцептуального оперирования со смыслами философских понятий и апеллирует к некоторым символам-кодам, которые принимаются ясными "по умолчанию". Так появляются словосочетания, "ясная и отчетливая интуиция", "безусловно данная целокупность созерцаний", "ясное солнце" здравого смысла, "самоочевидность", "фундаментальность практики" и т.д., играющие роль финального обоснования определенности метафизических понятий. В результате сами философские концепции, которые должны задавать и обосновывать смысл используемых понятий, акцентированы на подобных тупиковых словосочетаниях. Стремление обосновать исходные понятия при этом подходе чаще всего реализуется как создание финально обосновывающих искусственных понятий, смысл которых еще более неясен, а попытки истолкования этого смысла воплощаются в интерпретационной акивности поколений комментаторов. В результате понимание философских проблем деформируется и безнадежно исчезает. Свойственный философии туман слов превращается в словесный мрак.
На противоположном полюсе находится позиция, отвергающая существование интуиции метафизических понятий и требующая их элиминации либо строгого дефиниционного определения. Эта позиция наиболее последовательно выражена в логико-аналитической традиции, которая превалирует в современной философии. Чертами логико-аналитического подхода являются: а) выделение философских понятий и уточнение оснований этого выделения, а также б) стремление редуцировать философские понятия к другим, имеющим более отчетливую связь с опытом и логически проясненным. Этот подход сильно отличается от предложенного Кантом, в котором философские понятия относятся к автономной сфере чистого априорного мышления. Девиз логико-аналитической программы "избавление от элоквенций", и в частности от таких красот стиля, которые заключаются в упоенном жонглировании аморфными метафизическими понятиями. Однако выбрасывание метафизических понятий из данной конкретной области познания приводит к разрушению этой области, поскольку тем самым устраняется целостный образ ситуации, или же философская проблема. Если нет философской проблемы, то все остальные частные проблемы также теряют смысл, становятся "техническими умствованиями". В свою очередь, задание метафизических понятий через дефиниции неполно и не может эти понятия объяснить. В лучшем случае это будет красивая игра словами (например определение Ю.А. Шрейдера сложной системы как такой системы, в которой как минимум один из элементов является сложной системой).
Как бы "посередине" находится понимание философии как синтетической понятийно-конструирующей деятельности (Л.Э.Я. Брауэр, и отчасти И. Кант). Однако и такое понимание философских понятий не учитывает их включенность в "ткань" концепций: смысл отдельных понятий неконструируем вне общего концептуального образа либо вне деятельности во всем ее объеме. Например, ни одна модель ряда натуральных чисел не представляет исчерпывающе то представление о натуральных числах, которое сложилось в практике математики. Соответственно, математик считает понятие натурального числа предзаданным, то есть философским. Философ же не может дать полное определение натурального числа (попытки сделать это предпринимались в фундаменталистской философии математики в рамках логицистской, формалистской и интуиционистской программ обоснования математики, а их отрицательные результаты хорошо известны).
Итак, действительная роль понятий в философских концепциях несовместима с их априорным, дефиниционным, или интуиционистским пониманием. Повторяясь, философские понятия, в отличие от понятий, используемых в других областях познания, и от понятий повседневного употребления, не обладают самостоятельным или же наведенным извне смыслом. Их смысл задается философскими концепциями, в которые понятия включены. Понятия в философии являются сколами философских образов-проблем. Они ясны постольку, поскольку "вмонтированы" в образы. Как следствие, если рассматривать такие понятия вне философских концепций, то их смысл неопределен, а посему может быть задан произвольно. Нередко осуществляемое склонение понятий через конструкции, придумываемые философом (единое едино; Бог Всемогущий; божок Свой Бог - Единый Бог - Непостижимый Бог - Троичный Бог - Координирующий Бог etc.), проясняет аналогический образ ситуаций, в которые эти понятия вплавлены. В философии происходит своеобразное прояснение понятий через концепции. При этом собственно понятия остаются туманными. Например, понятие "бог" (или же "Бог" христианства) отнюдь не проясняется в результате философских рассуждений: дефиниция его как была невозможной, так невозможной и остается. У Николая Кузанского можно найти пример такого рода рассуждений о Боге, объединенных замыслом "отрицательной диалектики". Более того, иногда встречается даже экстремальный тип антиномических философских понятий (например такие понятия, как "со-вечность", "богочеловек", "абсолютное добро и абсолютное зло", "абсолютный максимум и абсолютный минимум"), для которых могут быть реконструированы концепции, порознь дающие их противоположные смыслы или совмещающие их. В отношении антиномических понятий наиболее отчетливо проступает то общее для всех философских понятий свойство, что внеконцептуальная определенность их смысла является лишь кажимостью.
Философские понятия полностью подчинены своим концепциям, отражающим философские проблемы, в свою очередь выступающие в виде ракурса жизненных проблем. Используя выражение Платона, философские понятия существуют постольку, поскольку они причастны к концепциям. В этом и заключается отличие философских понятий от понятий, используемых в других областях познания.
8б. Место суждений
Место суждений в структуре философских концепций может быть рассмотрено аналогично месту понятий. Однако сложившиеся в философии традиции рассмотрения понятий и суждений различны. Если относительно философских понятий имеются конкурирующие подходы, то (по крайней мере, в европейской традиции) в анализе суждений преобладает кантовский подход. Этот подход заключается в рассмотрении суждений как самодостаточных единиц знания. Кантовская классификация суждений основывается на различении аналитических и синтетических суждений. Последние делятся на апостериорные и априорные. Примерами априорных синтетических суждений являются суждения "мир имеет начало", "душа есть субстанция", "все имеет причину", "человек смертен", "все есть число"... Задачей философии является обоснование возможности синтетических априорных суждений. Решая эту задачу, Кант предпринял критическое исследование человеческой способности к составлению синтетических априорных суждений. Для этого он разделил все априорные синтетические суждения на те, которые изолируют (выделяют) человеческое свойство априорного созерцания (трансцендентальная эстетика), либо свойство априорного логического построения (трансцендентальная логика), либо, наконец, свойство априорного задания принципов познания (трансцендентальная диалектика, или этика). Априорное созерцание есть источник математики. Априорные логические формы находятся в основе логики, а если они взяты вместе с апостериорными суждениями, фиксирующими данные опыта, то так получаются законы естествознания. Совершенно так же разум, который задает принципы познания (в отличие от рассудка, имеющего дело с правилами познания), претендует на задание априорных принципов строения реальности, имеющих синтетический характер. Кант показывает, что такие претензии чистого разума беспочвенны и что получающиеся суждения антиномичны. Тем не менее сам подход Канта к философским суждениям (рассмотрение суждений как самодостаточных элементов философского знания и попытка выяснить, дают ли эти суждения знание о мире-как-он-есть) аналогичен подходу, примененному им к суждениям математики, логики и законам естествознания. Тем самым и эта разновидность априорных синтетических суждений подверстывается под суждения в науке, отличаясь от последних разумным, а не рассудочным или же априорно эстетическим характером. Не случайно вопрос о возможности априорных синтетических суждений (несмотря на различный характер их типов) Кант считает возможным "...с полным основанием выразить следующим образом: как возможна метафизика как наука?" [Там же, с.119].
В классификации суждений Канта отсутствует место для философских суждений, природа которых, как будет далее показано, не самодостаточна. Причиной подобного пробела, по всей видимости, стало то обстоятельство, что Кант мыслил философию по аналогии с наукой, и в первую очередь с логикой и математикой, бывших для него образцами строгости и достоверности в расчленении комплексных восприятий на элементарные составные части. Стремление "подстроить" философию под науку, разбить ее на суждения и далее обсудить вопрос истинности этих суждений привело Канта к отрицательному результату (ограничения, возникающие вследствие антиномий). Тем не менее именно это стремление поставить на место философских концепций сумму их вербальных частей повлияло на определение Кантом места суждений в философских концепциях.
Чтобы изменить понимание места суждений в структуре философских концепций, следует еще раз рассмотреть дихотомию аналитических и синтетических суждений. Согласно Канту возможны либо суждения, в которых предикат не дает нового знания об объекте (например дерево деревянное, круг круглый), либо суждения, в которых предикат такое знание дает. Все рассмотрение ситуаций сгруппировано вокруг связки объект - предикат.
Однако не ситуация задается через объект и предикат, а наоборот, она их задает. Если считать единицей анализа знание о ситуации в целом, то данное Кантом определение аналитических суждений не изменится, поскольку сохранение знания о ситуации в целом эквивалентно сохранению знания об объекте. Тем самым аналитические суждения определены корректно. Иное положение с определением синтетических суждений. Синтетические суждения не сводятся к рассмотренному Кантом варианту. Возможен и другой по сравнению с отмеченным Кантом тип синтетических суждений; предложенный им вариант является только частным случаем увеличения знания о ситуации в целом. Увеличение знания о ситуации в целом может происходить не только за счет знания об объекте: знание о ситуации может увеличиваться за счет языковой игры с исходным объектом, причем сам этот объект как был неясным компонентом постепенно проясняющегося образа ситуации (философской проблемы), так и остается в конце игры (что противоречит смыслу языковой игры по Витгенштейну). Предикат в философии не более чем пример, он не содержит нового знания об объекте, так называемого позитивного (научного) знания. Закон всемирного тяготения говорит о том, как тяготение осуществляется, но не объясняет, что такое тяготение. И наоборот: философия объясняет, что такое тяготение, делая это посредством создания аналогического образа различных ситуаций, в которых объект, называемый тяготением, присутствует. Склонение философских суждений обогащает образ ситуации и служит прояснению суждений. Поэтому философские суждения не самодостаточны: они только в синтезе (но не в сумме), в совокупном перекрещивании и объеме дают схему-образ аналогичных ситуаций. Cоответственно нет неверных философских суждений, а есть неполные схемы-образы аналогичных ситуаций, то есть непроясненные проблемы. Философские суждения не могут претендовать на истинность, но должны раскрывать проблемы, обеспечивать их ясное видение наиболее полно. Суждения есть способ "вмонтирования" понятий в образы.
Это понимание философских суждений превращает философию в уточняющееся сомнение: поскольку образы аналогических ситуаций суть философские проблемы, сомнение (присутствие проблемы) неотъемлемо присуще философии, а поскольку видение образов ситуаций совершенствуется, то сомнение уточняется. Проблемы проясняются, но не решаются.
Философские суждения можно назвать обратными априорными синтетическими суждениями в отличие от прямых априорных синтетических суждений (априорных синтетических суждений в "узком" кантовском смысле). Философские понятия это понятия, используемые в обратных априорных синтетических суждениях. Таким образом, философия обращает априорное синтетическое знание на самое себя, она его замыкает в целостный образ концепции, в философские проблемы.
В. Какой философия может стать?
1. О языке философии и новых стилях философствования
Имеется разительное несоответствие претензий философии, обозначенных в разделе А, и ее действительного места в жизни и интеллектуального предназначения, описанного в разделе Б. Стремление обнаружить истину и нацеленность на результаты, конструирование концепций путем последовательного "нанизывания" обладающих автономными смыслами понятий и выделение принципов, отсылка к предшественникам и школьная корпоративность суть ложные цели, которые деформируют выразительные средства философии, закрепощают ее язык. По этому поводу Ж. Делез пишет, что "приходит время, когда писать философские книги так, как это делалось издавна, будет невозможно: <О, старый стиль...>" [цит. по Делез Ж. Различие и повторение. - СПб.: Петрополис, 1998. - с.12]. Но как их писать, какие средства окажутся лучшими?
Вариант Делеза, а в отечественном исполнении - Мамардашвили, Свасьяна, Подороги и других известных авторов, - философия как мельница слов. Искусное оперирование, жонглирование словами и их смыслом, парадоксальное сочетание слов и фраз приводит к взламыванию границ существующих смыслов и порождению читателем новых смыслов из хаоса текста (хотя самому автору эти смыслы могут быть и неведомы). Достаточно открыть сочинения Делеза на любой странице, чтобы увидеть там пространные комбинации слов и фраз, понимание которых всецело зависит от воображения читателя. Рассмотрим произвольный и весьма типичный пример:
"Пассивный Мыслящий субъект определяется не просто восприимчивостью, то есть способностью испытывать ощущения, а сокращающимся созерцанием, создающим сам организм до того, как создаются ощущения. При этом мыслящему субъекту вовсе не свойственна простота: недостаточно умножать его, придавать ему относительный характер, сохраняя при этом умеренно простую форму. Мыслящие субъекты - личинки субъектов; мир пассивных синтезов создает систему мыслящего субъекта в условиях, требующих определения, но это система распавшегося мыслящего субъекта. Мыслящий субъект возникает, когда где-то появляется беглое созерцание, где-то начинает работать машина сжатий, способная в какой-то момент выманить различие у повторения. Мыслящий субъект лишен модификаций, он сам - модификация; этот термин обозначает именно выклянченное различие. В конечном счете являются тем, что имеют, через "иметь здесь" формируется бытие или существует пассивный мыслящий субъект. Всякое сокращение - самомнение, претензия, выражающее таким образом ожидание или право на то, что сокращает; оно разрушается, как только его объект ускользает" [Ibid, с.105].
Возможна претензия понимания этой пространной части текста. Эта претензия опирается на то, что речь идет о некоторых вещах, объясненных (столь же неопределенно) в других частях книги. Однако здесь возникают существенно несовпадающие понимания. Например, можно считать, что если субъект только мыслит не действуя ("пассивный Мыслящий субъект"), то он обладает как минимум двумя характеристиками: неполнотой и сокращенностью созерцания. Или же что всякое созерцание с последующей попыткой его унификации ("беглое созерцание") порождает мыслящего субъекта. Или же что мыслящий субъект есть абстракция, которая ничему не соответствует (это - "выклянченное различие"). Если же не претендовать на понимание, то остаются недоуменные вопросы. Что значит "умножать мыслящего субъекта"? "Придавать ему относительный характер"? Что такое "простая форма мыслящего субъекта", и какова его "умеренно простая форма"? Как пассивные синтезы организованы в "мир пассивных синтезов", что такое "распавшийся мыслящий субъект", и почему этот самый "мир пассивных синтезов" создает некую "систему" распавшегося мыслящего субъекта (систему - и распавшегося!)? Что такое "машина сжатий", и как она "выманивает различие у повторения"? Какое различие - выклянченное?
Для того чтобы все-таки стремиться понять такой текст, а не отказаться от какого бы то ни было понимания, важно преклонение перед текстом, убежденность, что в нем скрыто что-то важное, что за завесой непонимания находится мудрость автора, недоступная "простому" читателю. От читателя требуются подвиги веры в наличие единственного смысла и интеллектуального усилия в постижении этого смысла.
Другой вариант реорганизации языка философии предложен логическим позитивизмом. Эти идеи, наиболее последовательно выраженные ранним Витгенштейном, Расселом, Шликом, Карнапом, полагают философию строгой языковой деятельностью, нужной для упорядочивания языковых средств в любой области знания, для выстраивания ясного мышления. Смысл должен быть выражен словами ясно и точно. Исходные термины следует определять. Парадоксы словоупотребления необходимо устранять. Современная англо-американская философия во многом сложилась под влиянием этих идей, а лидеры этой философии - Куайн, Патнэм, Хинтикка и др. - часто обращаются к логике как к основе философии.
Оба варианта реорганизации философии вызывают критику, основное направление которой заключается в том, что философия при этом исчезает, превращаясь либо в логику, либо в "глубокомысленное" жонглирование философской терминологией. Однако оба варианта недостаточно радикальны по отношению к главному источнику ложных целей философии и иллюзий процесса философствования: они оставляют вербальный язык философии, предлагая всего лишь лучше приспособить его либо к нуждам порождения новых смыслов, либо к нуждам ясности восприятия и воспроизведения смыслов. Можно ли пойти более радикальным путем, заменив сам язык философии? И останется ли после такой замены философия философией, или же она превратится во что-то иное, отличающееся от предшествующей философии так же, как формульная (аналитическая) математика отличается от древних математических вербальных текстов?
2. Возможность использования схем в качестве языка философии
Для философа хороши те слова и те суждения, которые способствуют фиксации и наилучшему отражению философских проблем. Однако вербальные средства являются "кривым зеркалом", в котором разум неадекватно видит философские проблемы. Это зеркало ущербно, поскольку естественные языки "склеивают" его из слов, приспособленных для других целей. Неровность зеркала вербальных средств заключается в том, что оно состоит из маленьких слов-сегментов. Каждое слово отражает свет проблемы в особом направлении, в направлении своего естественно сложившегося смысла (поля смыслов). Чрезвычайно трудно в суждениях согласовать углы наклона этих сегментов, чтобы поймать проблему в фокус. В результате изображение проблем дробится, появляются блики и даже "вербальные миражи". Философия со времени своего рождения оказалась в плену слов: дробление словами целостных образов ситуаций искажает эти образы, затрудняет их восприятие. Вербальный язык философии вторичен по отношении к ее сути, а добавление искусственных понятий не спасает положения, поскольку наделить их нужным смыслом крайне тяжело, и даже если это удается, такие понятия тотчас начинают "жить частной жизнью", обогащают свое смысловое поле и затем привносят в видение проблемы побочные мотивы.
Историческая неудача философии состоит в том, что она в свое время, в отличие от математики, не смогла найти адекватный исследуемым в ней проблемам язык. Идея такого языка, более отвечающего образному бытию философии, ее схематически-образному характеру, заключается в том, что философские проблемы должны отражаться в нем картинками-схемами, имеющими, как и проблемы, образную природу. Раскрытие схем (их экспликация) осуществляется в группах схем, связанных знаками тождества, связи и следования. Основными "персонажами" схем должны быть субъект (часто изображаемый с помощью фигуры человека); объект (например изображение квадрата); стрелки от субъекта, идущие к другому субъекту или к объекту и задающие мышление субъекта и его действие; стрелки от объекта, идущие к другому объекту или субъекту и задающие реакцию объекта и его спонтанность. Изображения в схемах схемами не являются (ибо они не задают ситуацию), в то время как слова обладают смыслами, отдельными от смысла выражения, составленного из слов. Соединение изображений, как бы игра в конструктор, способна давать схемы любой степени сложности: воспроизводить деятельность и ее этапы, разъяснять феномен рефлексии, вводить бога как определенную комбинацию стрелок, формулировать этическое поведение... В том числе может быть предпринята попытка переформулировать философские проблемы и основные проясняющие эти проблемы мыслительные "ходы" с помощью некоторых групп схем, присоединяя к ним знак вопроса (равнозначны ли эти группы схем или нет). Такая образная переформулировка, как мне представляется, будет означать переход философии в новое измерение, в пространство иных выразительных средств. В философии необходимо ограничение вербализма, смена выразительных средств с целью открытия нового способа взаимопонимания людей в аналогическом исследовании различных жизненных ситуаций.
3. Запутывают ли схемы?
Использование образных средств в качестве языка философии уже предлагалось. Известно, что Платон в последние годы жизни развивал некое "тайное учение". Основой этого учения, согласно преданию, было признание вербальных средств неадекватным инструментом выражения философского мышления. Адекватным средством Платон, судя по всему, полагал геометрические фигуры; созерцание этих фигур должно было, по замыслу Платона, выражать сущность блага, истины и т.д. Например, прямой угол отождествлялся с истиной. Конечно, ныне невозможно реконструировать скрытое учение позднего Платона, однако в общих чертах философский дискурс, согласно этому учению, должен был опираться не на использование вербальных средств, а на апелляцию к зрительным образам.
Традиция позднего Платона не сохранилась. Более того, с конца XIX века существует стойкое предубеждение относительно использования схем-образов для выражения философских идей. Лучше всего, как мне кажется, это негативное отношение было выражено Л. Витгенштейном. Зрительные образы, согласно Л. Витгенштейну, вводят нас в заблуждение. Это заблуждение заключается в том, что, глядя на картинку (как на фиксацию зрительного образа), можно сделать неверный вывод относительно свойств представленных в картинке объектов. Пример Витгенштейна таков: есть веревка, длина которой на один ярд превышает длину экватора Земли. Если веревка равномерно натянута, то на каком расстоянии от поверхности Земли она будет находиться? Зрительный образ (схема-картинка) подсказывает нам неправильный ответ.
Если полностью согласиться с тезисом о запутывающем воздействии картинок на способность человека размышлять, правильно оценивать ситуации, то максимум, как можно использовать зрительные схемы-образы - это в качестве иллюстраций, причем с ограниченным действием, не выходящим за пределы прямого пояснения высказанных мыслей. Радикальный вывод относительно места зрительных образов в мышлении еще более категоричен: мышление безо'бразно, то есть, образы не схожи с тем, что они выражают. Эта идея была выдвинута К. Бюлером и развита Л. Витгенштейном в поздний период его творчества. Отсюда следует тезис о том, что мышление есть создание языковой реальности и пребывание в ней. Язык - дом философии. Кстати, параллельно, с конца XIX и в начале XX вв., в математике возобладало направление, стремящееся свести геометрическое мышление к алгебраическому.
Вдумаемся еще раз, что не устраивает критиков в мышлении с помощью зрительных образов. Картинки (схемы) просто существуют. Но картинки не обладают истинностью. "Критерием того, что я правильно нарисовал то, что я вижу, является то, что я говорю, что это так" (Л. Витгенштейн). Можно построить картинки, вербальное описание которых будет ложными утверждениями. Истинность и ложность - свойство языка. Однако философия, как утверждалось ранее, не может заниматься поиском истины, ее предназначение другое. Поэтому аргумент Витгенштейна против использования образных средств философией иначе, как иллюстративно-вспомогательных, бьет мимо цели.
Намного серьезнее для построения философских концепций недостатки вербальных средств.
Первый недостаток - то, что возникают и не могут быть устранены абстрактные понятия. Их использование привносит неопределенность, затрудняющую исследование суждений. Например, суждение "корабль плывет" требует уточнения, какой корабль имеется в виду, а говоря более точно, требует преобразования в протокольное суждение. Не все суждения могут быть так преобразованы. Так, сложно, а может быть и невозможно, преобразование в протокольные суждения утверждений типа: "ветер поет", "треугольник плывет", "бармаглот чихает", "я шкварчит" и т.д.
Во-вторых, как указывалось ранее, возникает свойство "кривого зеркала": каждое из слов отражает ситуацию в особом направлении, в направлении своего естественно сложившегося смысла (поля смыслов). В итоге слова вместе, в суждениях, могут неправильно описывать ситуацию. Неправильное описание может быть результатом разного понимания ситуации в целом разными наблюдателями.
Итак, нет никаких серьезных возражений против использования схем-образов в качестве языка философии. Место поиска истины займет в таком случае поиск классов типовых ситуаций и их связей, переходов от картинок к картинкам. Это будет восстановление намерений позднего Платона, который связывал надежды философии с разработкой новых, невербальных средств. Невербально-схематический, образный язык философии устранит неадекватность вербального языка в качестве инструмента философствования, хотя не исключено, что на месте сложностей использования вербальных средств появятся другие сложности. Но в целом возможности философствования расширятся, и не использовать их было бы упущением.
Прийти в сознание
Глухов А.А.
Анахронизмом представляется ныне то обстоятельство, что всякий рассуждающий о сознании должен прежде, чем скажет хоть слово, справиться как-то с этими призраками эпохи Гуссерля и Фрейда, "потоком сознания" и "бессознательным". Между тем как словосочетание "поток сознания" звучит совершенно загадочно, например, для русского слуха, которому язык в качестве подлинника выдает обороты "прийти в сознание" и "потерять сознание". "Поток сознания", на самом деле имеющий смысл "потока без сознания" (что и получилось, не без причин, у Джойса), - фраза, которая отмечает целую эпоху, когда ощущение сознания оказывается расплывчатым, размываемым, с одной стороны, гуссерлевской попыткой свести все к сознанию, с другой - также показательной и в чем-то более открытой, попыткой психоаналитиков свести все к бессознательному.
Подобное мнение вовсе не является чем-то само собой разумеющимся. Прийти в сознание более не считается для философии проблемой, хотя именно интеллектуальное продуцирование в конце нашего века, пожалуй, более всего отдает какой-то темной спонтанностью. Попыткой увидеть, в каком смысле "прийти в сознание" все еще следует считать насущной задачей, является данная работа.
Факты
Обозначим те факты, которые будут для нас показательными в последующем рассуждении.
К бессознательному относятся все те "незаметные" действия, которые проделываются всегда, в том числе и в состоянии бодрствования. Подробного перечня здесь невозможно добиться как раз потому, что все эти действия ускользают от нашего внимания. Внимание определенным образом сфокусировано, в его фокус попадает всегда что-то одно, остальное остается за кадром и отмечается лишь механически. Поскольку внимание не есть просто зрение, слух, вкус, осязание или обоняние, а нечто пользующееся ими в своих целях, то очевидно, что любое ощущение может быть бессознательным в том смысле, что оно может ускользнуть от нашего внимания. Человек может просмотреть книгу и не запомнить из нее ни слова, т.е. просмотреть ее, не заметить. Человек может прослушать симфонию в том же самом смысле, в котором он может просмотреть ее исполнение. В описании какой-либо конкретной ситуации иногда бывает нелегко указать, в каком из двух значений следует понимать слова "просмотреть" и "прослушать". Внимание большей частью направлено на видимое и слышимое, поэтому прочие ощущения бессознательны почти всегда, и подобная двусмысленность не закреплена в языке по отношению к ним. Однако нет смысла останавливаться только на ощущениях. Очевидно бессознательной в большинстве случаев представляется двигательная способность во всех своих проявлениях от совершенно незаметного сокращения мышц до сложного перемещения тела по причудливой траектории (примером которого может служить ежедневная поездка в метро). Но и переходя к сфере собственно психического, мы не встретим чистых примеров сознания. Бессознательной может быть способность воображения, на что и указывает наша речь словом "мечтательность". Любовь, ненависть, симпатия, антипатия устойчиво употребляются с эпитетом "бессознательная". Очевидно бессознательной представляется память, действующая подчас настолько своенравно, что кажется, будто она не нам принадлежит. Наконец, способность мышления также не является образцом сознательной деятельности: можно, и нередко, механически думать о чем-либо, причем нельзя сказать, что предмет мышления определяет его сознательность: монах может также механически продолжать думать о своем боге, как философ о своей истине. Следуя платоновскому замечанию, мышление есть речь, только обращенная не к собеседнику, а к самому себе. Такая речь может быть бессознательной, как и любая другая болтовня.
К бессознательному относятся действия, совершаемые в состоянии сна, а именно, во-первых, с точки зрения бодрствующего все те телодвижения, которые делает спящий, во-вторых, с точки зрения проснувшегося все то, что он, как ему казалось, делал во сне. Существует древнее мнение, до сих пор не опровергнутое, согласно которому невозможно дать резон нашей уверенности в том, что в данный момент мы не спим, но действуем наяву. Почву для этого, на наш взгляд, создает описанная выше бессознательность механического действования. Оценив несоизмеримые количества вещей, ускользнувших от нашего сознания, с отмеченными им, можно сделать вывод, насколько корректно называть бодрствование чем-то принципиально отличающимся от сна. Недаром про многое говорят: "Я делал это как во сне". Гераклит, пророк сознательности, отмечает это: "От людей ускользает то, что они делают бодрствуя, так же точно, как проходит мимо них то, что они делают во сне". Остановимся подробнее на некоторых специальных типах бессознательной деятельности и попробуем описать то, что сопровождает обретение сознания.
Теоретизирование
Известно: разум предписывает природе свои законы. Можно добавить: разум бессознательно предписывает природе свои законы. В этом нет ничего выдающегося, никакой особой заслуги разума. Теоретизирование спонтанно: человек спонтанно расчетлив, предусмотрителен, он уже по своей природе, бессознательно, готов видеть закономерность - такова природа вида homo sapiens, в этом его автоматика, его посредственность. Совершенно невозможно как-то прямо связать это с сознательностью, известны случаи, когда решение какой-либо научной проблемы приходило во сне. Еще более распространены случаи, когда во сне только казалось, что решение найдено. Можно ли в описании подобных событий увидеть принципиальную разницу, позволяющую надежно установить, чем обернется тот или иной сон, разгадкой или загадкой? Проблема в том, что сон может проникать в явь, как в случае с Менделеевым, но это решается на сном, а явью. Только проснувшись, придя в сознание, можно понять, что имеешь дело с вещью, а не призраком. Мы же пока пытаемся усмотреть в самих бессознательных состояниях признак-гарантию грядущего пробуждения. Понимая теоретизирование достаточно широко, включая в него как "феномены обыденного сознания", так и "феномены научного мышления", можно обнаружить, что сознательность теоретического вывода никак не определяется его предметом: можно безотчетно связывать черную кошку с разбитым лбом, можно также безотчетно объяснять это влиянием гравитации. Сознание не присутствует в повседневной научной работе как нечто легко уловимое, однако же известно, что к ученому предъявляется требование: настоящий ученый должен не просто знать свой предмет, но и сознавать его. Теперь, после неопозитивистских чисток, можно сказать, что это - наивное, метафизическое требование, и то, что оно смогло сохраниться, ускользнуть от бритвы, является важным знаком. Это требование не может предъявляться ученому со стороны научного сообщества официально, слишком мало у него на это прав, оно ощущается лишь на уровне личного опыта, передается не как формальный критерий владения материалом, а как часть традиции, духа науки, можно сказать, ее запаха, поскольку, подсказывая, что дело вовсе не в осведомленности или натренированности ума, язык стремится употреблять здесь лексику совсем иного плана: "Он не просто знает свое дело, он чувствует его". Требование сознательности висит над входом в храм науки и предъявляется прежде всего новичкам, по-видимому потому, что именно в этом случае сознательность действия наиболее очевидна окружающим (так сон поверяется явью). Момент осознания характеризуется тем, что осваивается, делается своим, нечто новое, а значит, чужое. Став окончательно своим, потеряв новизну и войдя в привычку, оно выпадает из сознания. Сознание открывается нам как передний край освоения мира, как захват мира как мира.
Усталость
Мы недаром употребляем столь энергичный термин, как "захват": сознание требует усилий. Сознание не связано с каким-то специфическим предметом - и в этом смысле беспредметно, сознание не связано с каким-то определенным образом действия - и в этом смысле оно не есть какая-то особая деятельность. Сознание есть настоящая деятельность, дело, целью которого является вещь. Когда человек занят не тем, его приводят в сознание словами: "Оглянись, приди в себя, посмотри, что ты делаешь!" Когда человек сам чувствует, что он занят не тем, он делает то же самое, пытается прийти в себя, осмотреться, отрезветь. Это требует усилий как любая остановка внутри потока, как шокирующий отказ от прежней ориентации, как риск не обрести новой. Но постоянное обретение нового невозможно, и это не формула логики, а факт, проявляющийся хотя бы в том неукоснительном правиле, что людям приходится каждый день спасительно терять сознание, закрывать себя для нового, для мира, уединяться в себе, "приходить в себя" совершенно иным способом - засыпая. Сознание требует как раз постоянного усилия воли: настоящее дело не может быть гарантировано прошлыми заслугами, оно настоящее, каждый миг новое, внезапное. Его невозможно решить на потом, на будущее, раз и навсегда, предсказать его, хотя бы и в такой тонкой форме, как назвать его делом, любого акцента будет мало, и в следующий миг уже захочется сокрушать горы, чтобы только ощутить прежнюю тонкость. Сознание само есть акцент, ударение, делающее из шума речь, а из голоса - слово.
Солипсизм
Потеря сознания в гуссерлевских рассуждениях о сознании становится очевидной при взгляде на ту ловушку солипсизма, в которую так естественно угодил Гуссерль, и из которой он так нехотя и неловко затем выбирался. Солипсизм есть один из предельных случаев потери ощущения мира, а значит, и границы между собой и миром - тела. Феноменологическая редукция есть ампутация тела, процедура возможная лишь под наркозом, в порыве бессознательного теоретизирования, не видящего перед собой ничего кроме плоти имеющей быть вынесенной за скобки. Остановить этот хирургический раж можно разве только с помощью фокуса cogito ergo sum. Гуссерль не случайно совершил простейшую оплошность - "просмотрел" язык, забыл его редуцировать, - он заранее видел цель своей редукции и благоразумно остановился, достигнув ее. Проведенная стерильно, эта процедура не оставляет никаких шансов реликтам языковой и социальной культуры - первому лицу единственного числа активного залога изъявительного наклонения презенса, не говоря уже о значении cogitare, предусмотрительно размытом еще Декартом. К чести Гуссерля надо сказать, что он совершает этот маневр сознательно, т.е. чувствуя за ним вещь, но, услышав упреки в солипсизме, он начинает автоматически, не видя в том своего призвания, оправдываться, сооружая искусственную и неуклюжую конструкцию интерсубъективности. Насколько проще и естественнее решил эту проблему один из его учеников, заметив только, что другой открывается нам во взгляде, на нас обращенном.
Сознание как "чувство реальности" совершенно неприемлемо для слуха феноменолога, хотя весь его снобизм оборачивается в конечном итоге слишком человеческой попыткой спасти часть своей плоти от собственного скальпеля. Эта - естественная - попытка напоминает нам о том звучании, которое имело "сознание" в свою неангажированную эпоху, когда "прийти в себя" и значило "прийти в сознание". Однако здесь нет места солипсизму. Хотя на то имеются некоторые резоны, но "прийти в себя" все же не значит ни "заснуть", ни "перейти в иное бессознательное солипсическое состояние". Сознанию важно лишь "взять себя в руки", "собраться", почувствовать свое единство, свое тело, внутри другого единства - мира.
Ответственность
Сознание силится удержать мир как мир, не дать ему поглотить себя и не дать себе закрыть глаза на мир. В первом случае человеческое присутствие в мире сводится к встраиванию в автоматику мира, которую можно сколько угодно воспевать за ее естественность, но которая в конечном итоге занята исключительно собой. Надо отдавать себе отчет в том, что перекладывая ответственность на мир, погружаясь в его течение, мы лишаем себя своего дела в мире, становимся бездельниками в нем. Пожалуй, наличие дела и отличает человеческое присутствие в мире от любого другого. Как и любому другому существу, человеку есть чем заняться в мире: его организм располагает рядом предрешенных возможностей саморазвития. Однако деятельность в пределах этих возможностей не предоставляет человеку возможность выбора и принятия на себя ответственности за него, эта деятельность не будет для мира чем-то новым, но лишь реализацией его самого.
С другой стороны, солипсизм, как было замечено выше, есть сон сознания, и как деловитость сна никогда не может обрести реальность, так и любая другая погруженная в себя, уснувшая в себе забота никогда не станет настоящим делом. Единственное дело, которое может совершить спящий, - проснуться, открыть глаза миру.
Дело человека в мире, таким образом, можно определить как ответственность, имея в виду под этим, во-первых, то, что это дело есть ответ миру человека, трезвенно располагающего собой и находящегося в сознании мира; во-вторых, то, что, делая дело, человек сознательно принимает на себя ответственность за него, за то, что оно в конечном итоге войдет в его личное дело, даже если неизвестна инстанция, в которой последнее может рассматриваться.
Сознание находится на страже границы я/мир, сохраняя тем самым возможность того, что дело станет ответом и приобретет ответственность.
Тело
Граница я/мир проходит через тело. Сознание и тело оказываются поставлены в особое пограничное, сторожевое отношение друг к другу.
Обретение тела приводит в сознание. Нам никуда не деться от плотского, лазаретного смысла выражений "прийти в сознание" и "потерять сознание". Нам никогда не удастся поместить сознание в какую-нибудь изолированную нишу чисто психологического феномена, закрыть глаза на то, что кусок металла, вторгающийся в нашу плоть, определяет, обретем мы сознание или потеряем. Дело, однако, в том, чтобы увидеть за этим вещь. Примеры другого ряда: основные способы привести человека в сознание (в прямом и переносном смыслах), незаметно передаваемые из поколения в поколение, - дать стакан воды, ударить по щеке, посмотреть в глаза - метят прежде всего в тело человека; последний случай не исключение, говорят ведь "обжигающий взгляд", "от его взгляда меня передернуло"; он лишь показывает нам, что тело есть проблема, оно не найдено заранее, его нужно искать (в пределы тела, например, естественно поместить и некоторое окружающее пространство, пребывание в котором другого заставляет нас нервничать, ощущать вторжение на собственную территорию; и многое другое, присутствующее в этом рассуждении как раз по своему умолчанию). Любое воздействие на тело как на посредника между собой и миром способно немедленно дать почувствовать то, серединой чего тело является, - себя и мир, и тем самым "привести в себя" или "поставить на место" в мире, что значит одно и то же - "привести в сознание". Однако нам не удастся превратить тело в безотказного поставщика сознательности, потому что само тело является искомым, а не найденным. Нельзя, к примеру, рекомендовать приходить в сознание, щипля себя за ногу, просто потому, что однажды можно обнаружить себя без ног: речь идет не о редчайшем и непринимаемом во внимание случае ампутации, а о той крайней, хотя и непредсказуемой, минуте в пределах каждого дня, когда человек ощущает, что ноги его больше не слушаются, когда они становятся "ватными", и он оказывается "без ног" и "с ног валится" - тогда ноги перестают быть частью его тела, они становятся лишь частью тела мира и как любое органическое соединение подчиняются мировой физиологии, а не нашему расчету. Все тело является проблемой, в нем нет исключительных органов: встречаются люди, у которых "нет сердца", "нет глаз" или "нет мозгов". Физическое тело ссужается нам в долг для начала карьеры. Наше дело, как с ним поступить. Тело может потерять роль посредника и стать, например, в случае болезни или ранения полностью не своим. В таком случае человеческое присутствие лишается своего места в мире, а значит и себя.
Только в сознании можно обрести свое тело. Бессознательное - бестелесно: "тело" непереводимо на язык солипсизма; вспомним о "бесплотности" сновидений, о возможности в них "летать"; обретение гравитации, "падение" во сне, обязательно приводит к пробуждению (проблема, которая, естественно, связана с принципиальной проблемой реальности сна, состоит в том, что иногда возникают сны, в которых тело играет важную роль; насколько можно судить, такие сны существенны и запоминаются). Сознание есть обретение себя в мире. Вопрос, который задает человек, пришедший наконец в сознание: "Где я?". Приходя в сознание, человеческое существо заново прорастает в плоть мира, так же как росток пробивается сквозь толщу асфальта. При этом говорят: "встрепенулся", "спохватился", "передернуло" - человек в сознании начинает ощущать свое тело, его протяженность, его возможности, ему хочется владеть им, у него "мурашки бегут по коже" и "захватывает дыхание" от ощущения своей силы. Только в сознании, оказавшись на своем месте в мире, чувствуя твердь под ногами, человек может сказать: "Ich stehe hier, Ich kann sonst nicht"- "Я здесь стою, я не могу иначе". Напротив, о бессознательности времени сказано: "Мы живем, под собою не чуя страны".
Реальность сознания
Потеря чувства реальности всегда квалифицировалась как потеря сознания. Подобное словоупотребление проясняется тем, что, как было сказано выше, сознание удерживает в своих пределах себя и мир, т.е. дает вещи быть вещью, а себе - собой. Если учесть, что последнее есть также вещь в свободном и строгом смысле этого слова (как у Канта: три вещи собственно интересуют разум - Бог, душа, свобода), то можно выразиться короче, не теряя при этом в точности: сознание дает вещам быть собой, реализует их.
Может показаться нелепым то, что здесь говорится о "чувстве реальности" в то время, когда не только чувству, но и самому разуму уже отказывают в реальности. Этот упрек появляется из того же сна бессознательного теоретизирования, что и вопрос о критериях реальности. Надежда на решение последнего питается тайной мечтой о возможности быть бессознательным, когда не придется тратить усилий и брать на себя ответственность за существование вещей, поскольку оно будет гарантировано нам логическим выводом или формулой отбора. Чувство ничуть не менее разума способно предъявлять вещи, однако ничуть не более, но и не менее, оно способно служить критерием реальности. Только некое проблематичное, но от того не менее заметное, "чувство реальности", т.е. сознание и связанная с ним ответственность способны разрешить "конфликт разума и чувства", конфликт, усугубляемый тем, что сам разум и само чувство представляют собой скорее вопросы, нежели готовые к употреблению ответы.
Наше рассуждение, возможно, покажется слишком длинным и банальным тому, кто и так видит то, вокруг чего оно вертится: мы можем как угодно обосновывать правильность своего поступка или хода мысли, однако в следующий момент просто окажется, что все это нам приснилось, и вещи совсем не те. Правильность, стройность и разработанность логики сна просто не имеют никакого отношения к реальности, поэтому прежде, чем начать какое-то рассуждение, необходимо прийти в сознание. Мы сказали, что нет гарантированного пути в сознание, и здесь также нет никакой новости для того, кто и так полагает мышление личным делом в том смысле, что путь мысли совершается под личную ответственность.
Все вещи существуют лишь под чью-то ответственность. Существование вещей роскошь, требующая полной самоотдачи. Проясним это на примере процедуры редукции безответственности, предлагаемой для сравнения с редукцией феноменологической (Гуссерль так формулирует "первый методологический принцип всех наших дальнейших размышлений" (Картезианские размышления, I): "я ... не могу допустить или оставить в силе ни одного суждения, которое не было бы почерпнуто мной из очевидности..."). Оставим в поле нашего зрения лишь те вещи, за существование которых мы могли бы держать ответ. "Держать ответ" здесь значит поставить свою судьбу на существование этой вещи. Если требуется аналогия, то представим себя Галилеем, держащим ответ перед инквизицией за дело своей жизни. Не переводя разговор в плоскость моральных оценок, отметим лишь, что ответ Галилея показывает, что он не взвалил бы на себя груз требуемой ответственности за реальность гелиоцентрической системы мира. Такие вещи подлежат редуцированию. В результате подобной редукции каждый увидел бы лишь несколько вещей, отвечать за реальность которых он готов до конца. Все прочие "вещи" существуют лишь на уровне повседневного бессознательного, и более или менее сильное жизненное потрясение (настоящие вещи) способно пробудить нас от той логики и расчетов сна, которыми они держатся. Подобная редукция не гарантирует нам выявления реально существующих вещей (как и любой другой метод теоретизирования она может превратиться в бессознательную процедуру), однако она, как кажется, имеет какие-то силы на то, чтобы вновь и вновь ставить перед нами проблему сознания и реальности вещей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Соотношение между континуумом и дискретными точечными структурами подробно рассмотрено в статье [1].
2) Погруженность в дление составляет философский идеал Бергсона. Этот философ очень точно улавливает ограниченность дискретизации, совершаемой интеллектом в как бы остановленном потоке. Вообще наше рассуждение, как легко заметит внимательный читатель, очень сильно совпадает с бергсоновским. Поэтому хочется обратить внимание на одно, очень важное для настоящей работы отличие. Попытка философского вживания в дление, предпринимаемая Бергсоном, представляется нам не только невозможной, но и бессмысленной. Нашей задачей было описание знания с позиции сознания, т.е. так, как оно открывается в момент остановки. Иными словами, нам нужно было рассмотреть не процесс, а событие. Последнее собственно и раскрывает всякую длительность и процессуальность. Бергсон, как нам кажется, ошибся, пренебрегая этим обстоятельством. Ему хотелось бы увидеть интеллект (который может лишь случаться в момент остановки) с точки зрения жизни, т.е. непрекращающегося дления. Но в длении нет никакой точки зрения. Лишь событийность знания (интеллекта в бергсоновской терминологии) только позволяет длению раскрыться как реальности. Жизнь невозможно заметить, не оказавшись вне ее потока. Поэтому погруженность в дление не дает ничего, кроме, быть может, душевного комфорта. Но ясность видения возникает лишь в результате выпадения из времени, в статике, в событии. Именно событие включает в себя дление, как регулятив. В событии обнаруживается как само знание, так и его ограниченность. Событие, наконец, оказывается событием сознания, которое сообщает о себе утверждением "Я мыслю". В длении же никакого сознания нет.
Литература:
1. Бергсон А. Творческая эволюция. - М.: Канон-Пресс, Кучково Поле, 1998. 2. Гутнер Г.Б. Дискретность и непрерывность в структуре математического дискурса //Бесконечность в математике: философские и исторические аспекты. - М.: Янус- К, 1997. с. 242-265. 3. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: ТАЙМ-АУТ, 1993. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Изд-во политической литературы, 1991.
Знание как событие и процесс
Гутнер Г.Б.
При обсуждении характера и самой возможности всякого знания возникает проблема представления объекта знания как целого. Идет ли речь о ясном представлении вещи или о способности ориентироваться в ситуации - всегда вещь или некоторое положение вещей рассматривается как известное, если оно представимо не в виде отдельных друг от друга фрагментов, а как определенная завершенность, представленная актуально и сразу (а не частями). Однако сама возможность такого представления должна быть, с другой стороны, поставлена под вопрос. Ведь всякая когнитивная деятельность разворачивается во времени. Любой когнитивный акт (восприятия, переживания, построения) должен быть рассмотрен как длящийся. В такой ситуации все то, на что направлен этот акт, теряет целостность, поскольку в потоке чистого дления актуально существует только точка, момент "теперь".
Простой пример неуловимости целого дает нам восприятие музыки. Музыка представляет набор звуков, последовательно издаваемых музыкальным инструментом или оркестром. Что интересного в этих звуках? Чем их восприятие отличается от восприятия автомобильной сирены или звона бьющегося стекла? Проще всего сказать, что эти звуки как-то связаны между собой. Они воспринимаются не порознь, а в некоторой продуманной взаимосвязи. Следовательно, доставлять удовольствие могут не отдельные звуки, а все произведение как целое. Но существует ли оно как целое - по крайней мере, для слушателя? Ведь в каждый момент времени я слышу только отдельный звук (или аккорд). Все, что с ним связано, либо прозвучало раньше и никак мной не воспринимается, либо прозвучит в дальнейшем и тоже не воспринимается сейчас. Как же образуется для слушателя упомянутая цельность?
Точно такую же проблему обязаны мы решать, объясняя, например, возможность понимания речи или читаемого текста.
Даже если мы попытаемся рассмотреть нашу собственную конструктивную деятельность, мы столкнемся с той же проблемой. Так, решая математическую задачу, ремонтируя водопроводный кран или строя дом, мы совершаем последовательно одно действие за другим и именно это текущее, продолжаемое действие представляет собой ощущаемую реальность. В знаменитой легенде о трех строителях Шартрского собора (из которых один на вопрос "Что ты делаешь?" ответил: "Несу кирпичи", другой - "Зарабатываю на жизнь", а третий - "Строю собор") непосредственно прав только первый. Он указал на реально совершаемое действие, представление которого не требует никаких дополнительных условий.
Блаженный Августин, пытаясь разрешить подобную трудность, обратился к категории памяти. Представление целого, по его утверждению, возможно благодаря воспоминанию о предшествующих восприятиях. Однако одного воспоминания явно недостаточно. Чем воспоминание прошедшего отличается от переживания происходящего? Это такая же длящаяся реальность, вытесняющая все прочее. Актуализируя прошлое, я теряю из виду настоящее - точнее, прошлое становится настоящим, а настоящее прошлым.
Любой объект знания, следовательно, никогда не есть, а постоянно проходит мимо. Знанию он доступен лишь мелкими частями, которые предстают в виде последовательности отдельных восприятий или синтетических актов. В такой ситуации вообще непонятно, что следует называть знанием - пока мы фиксируем лишь поток переживаний, не связанных между собой ничем, кроме отношения "до-после".
Важно, впрочем, обратить внимание на саму возможность выделения в потоке некоторого момента "теперь". Он определен в длящемся времени как точка на отрезке прямой и, если мы оказались в состоянии выделить его, то значит, поток переживаний оказался прерван каким-то событием. Должно случиться нечто, что вызвало разрыв непрерывного дления и привело к остановке. Дление растворяет целостность объекта. Точнее - никакого объекта вообще нет в длящемся времени. Он возможен только в разрыве дления, когда прекращена всякая процессуальность, всякое происходящее переживание или действие. Поэтому рассмотрение знания должно иметь дело именно с остановкой. Если представление целого вообще возможно, то только тогда, когда случилась остановка, произошло событие. Знание, следовательно, не процессуально, а событийно. В дальнейшем мы попытаемся показать, что противопоставление процессуальности действия и событийности знания (дления и остановки) составляет основной принцип сознания и является его необходимым условием.
Объект, как завершенный, не может существовать во времени. Он может быть лишь представлен здесь и теперь в виде нераспадающейся на фрагменты целостности, которую нет уже необходимости последовательно переживать или конструировать, присоединяя одну часть к другой. Остановка потока связана именно с тем, что из длящихся переживаний возникает целый предмет и само это появление позволяет сказать о моменте. Факт схватывания ставшего объекта конституирует момент "теперь". "Теперь" - это тогда, когда произошло событие схватывания, и состоит это событие в том, что все, ранее воспринимавшееся, переживавшееся, делавшееся вдруг предстает в гармоническом единстве, чудесным образом совпав друг с другом и образовав единый объект. Это единство вызывает эффект ясности. Оно контрастирует с размытостью и бессвязностью длящегося и незавершенного. Само событие схватывания целого поэтому понимается как успех, состоявшийся благодаря тому, что все встало на свои места и, следовательно, приобрело смысл.
Событие, наделяющее смыслом длившиеся ранее восприятия (переживания), следует назвать событием знания. Однако то, что представлено в событии знания имеет особую природу. Явленное в знании единство объекта не может быть воспринято. Целый объект не принадлежит восприятию, поскольку восприятие длится, а целостность случается теперь. Следовательно, целый объект есть связь восприятий, установленная мыслью. Он есть лишь мыслимое единство, эйдос или структура воспринимаемой вещи. Воспринимаемое не обнаруживается в событии. Последнее раскрывает только связь, точнее систему взаимосвязей, идеальный проект, позволяющий в будущем воспроизвести схваченный объект. Длящееся и моментальное можно описывать в категориях материи и формы. Они не существуют независимо, но мыслима (познаваема) лишь форма. Она обнаруживается как организующий принцип для того, что длится или производится в продолжающемся действии. Именно благодаря ей мы в состоянии конституировать целое в проходящем переживании. Конституированное целое нетождественно форме, поскольку подразумевает еще и материю. Материя есть то, что длится. Материальная вещь, то есть целое, которое не только мыслится, но и ощущается, нигде не дана и не представлена. Она есть только горизонт, в котором все, что мыслится и воспринимается, подразумевается нами как единое. Так, строительство Шартрского собора воспринимается лишь в качестве ношения кирпичей, замешивания извести, обтесывания камней. Но оно также и мыслится в рамках единого замысла, продуманной процедуры, в которой все названные и многие другие действия осмысленны и взаимосвязаны. Одновременное (даже вневременное - в едином акте схватывания) видение этого замысла, как проекта строительства, позволяет назвать себя строителем собора, а не только каменотесом или носильщиком. Но такое "умное видение" осуществляется лишь на фоне происходящей процессуальности действия (или восприятия). Следовательно, строительство собора - это не только единый замысел строительства. Возможность воспринимать происходящее в непрерывном длении заставляет предполагать в нем бесконечное разнообразие, превосходящее схваченный замысел. Последний может бесконечно уточняться и конкретизироваться, охватывая все больший воспринимаемый материал. Поэтому наряду с схваченной формой мы мыслим несхваченное формально-материальное единство. Оно не мыслится и не воспринимается. Оно лишь предполагается, как горизонт всех возможных смыслов и замыслов, то есть как регулятивное понятие, как необходимый фон всякого возможного знания.
Представление о материальной вещи очень часто фигурирует в рассуждении, как нечто простое. Материальная (или, как иногда говорят, чувственно воспринимаемая) вещь есть, вроде бы, нечто такое, что всегда имеется под рукой, о чем можно особо не задумываться. Такие категории, как материя и форма предстают мысли как весьма абстрактные понятия, для более или менее удовлетворительного описания которых следует прежде всего указать на какой-нибудь стол или дом, чтобы после выяснять - что для этого стола является материей, а что - формой. Поступая так, мы становимся жертвами какой-то странной инверсии, пытаясь объяснить непонятное через еще более непонятное. Вещь, называемая нами материальной, как раз никогда не имеется под рукой. Под рукой (как в прямом, так и в метафорическом смысле) имеется именно материя. Сама же вещь вообще нигде не имеется. Она заведомо превышает пределы всего мыслимого, и когда мы ссылаемся на нечто "вот это" (этого человека, это дерево или это положение дел), то имеем в виду идею вещи (в кантовском, а не платоновском смысле). Возможность отнестись как-то к данному предмету обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, схваченностью формы, то есть мыслимого единства. Благодаря схватыванию формы мы только и в состоянии вычленить нечто из потока, из материальной бессвязности, постоянно протекающей у нас между пальцами. Во-вторых, однако, мы мыслим предмет, как непрерывно воспринимавшийся нами, а потому отдаем себе отчет в том, что схваченная форма отнюдь не полна. Заметим, что мыслить формальное единство вещи и мыслить ее саму, как формально-материальное единство (материальную вещь) суть два разных способа мыслить. Формальное единство устанавливается как конкретное, актуально схваченное единство взаимосвязей. Оно в самом деле имеется, хотя и не под рукой, а в мысли. Материальная вещь мыслится лишь как возможность дальнейшего бесконечного схватывания, то есть как возможность для все более точного представления формы. То различение способов мышления, которое мы пытаемся здесь провести, вполне соответствует кантовскому различению между рассудком и разумом. Формальное единство - это рассудочное единство. Оно конечно и конструктивно. Рассудок устанавливает форму, как нечто готовое, более того, дающее возможность продуктивного действия. Разум есть способность мыслить бесконечные понятия - естественно, не конструктивно. Разум, обнаруживая идею, предполагает (а не устанавливает) безусловное единство всех возможных конституент рассудка, то есть всех возможных форм. Понятие материальной вещи содержит именно такое предполагаемое единство. Важно иметь в виду, что это понятие не имеет прямого отношения к видимому, слышимому или ощущаемому. Оно лишь содержит гипотезу о единстве протекающего во времени восприятия (переживания или действия) со схваченной в момент остановки формой. Сама форма такого единства не устанавливает. Существует непроходимая пропасть между "самой вещью" и ее идеальным (формальным) представлением. Именно эту пропасть ликвидирует разум, сводя вместе то, что не могут совместить ни рассудок, ни чувство. Иными словами, разум снимает противоречие между длящимся действием и статичностью моментального схватывания. Снятие это, однако, всегда остается проблематичным, поскольку никогда не осуществлено. Вещь, предъявленная как материальная и при этом в полной формальной целостности, - это не готовый результат (такой результат недостижим), а проблема. Схватывание формы есть попытка ее решения. Ведь наша задача - это не формальное единство само по себе. Форма возникает лишь как проект вещи, точнее, как проект деятельности, направленной на создание вещи.
Сейчас нам необходимо разобраться с теми терминами, которыми мы описывали отношение к длящемуся. Мы говорили о действии, о восприятии, о переживании. Можно представить различные сценарии их отношений с актом схватывания формы. Восприятие должно ему предшествовать. Воспринимая нечто длящееся (например, слушая музыку или разглядывая геометрический чертеж) мы в какой-то момент схватываем структуру воспринимаемого. Мы словно поняли, что именно протекало перед нами, что это была за вещь. Действие, напротив, должно следовать за схватыванием. Так, процедуре решения математической задачи предшествует открытие того, как ее надо решать. После долгого (и подчас бесцельного) прописывания формул или вычерчивания фигур мы вдруг прозреваем, перед нами открывается структура еще не осуществленного решения. Дальнейшие действия становятся осмысленными и целесообразными. Мы строим решение задачи сообразно схваченному нами проекту. Две описанные ситуации как бы противоположны друг другу. В одном случае мы словно извлекаем форму из потока, восстанавливаем ее, как если бы она была растворена в длящемся восприятии. В другом - напротив, мы вроде бы сами создаем форму, а затем погружаем ее в поток нашего длящегося действия, растворяем в частностях элементов решения.
Однако оба описанных случая мало отличимы друг от друга. Восприятие необходимо подразумевает конструирование. Ведь само восприятие не дает нам никакой целой вещи. Схватывая форму, мы создаем эту вещь, внося единство и связь в бессвязное многообразие, проходящее мимо нас. Увидеть или услышать нечто значит его сконструировать. Схваченная форма есть созданная нами вещь, поскольку ее вообще можно назвать вещью. Сказанное ничуть не противоречит тезису о неполноте схватывания (недостаточности формы). Сконструировать вещь не значит усвоить (понять) ее целиком. Ведь даже тогда, когда мы реализуем свой собственный проект, мы создаем нечто, заведомо более богатое, чем он сам. Реализация проекта есть обращение формы в длящееся действие, ее материализация. Растворяя форму в потоке, мы производим новое многообразие, в котором отнюдь не все подконтрольно нашему структурирующему усилию. Наше действие всегда превосходит наше понимание.
Восприятие и действие, таким образом, едины в том смысле, что оба они направлены на создание (можно даже сказать - конструирование) целой вещи. Однако такое создание, как мы видели, глубоко проблематично. Целая вещь это обозначение проблемы, к решению которой призваны и действие, и восприятие. Именно так следует, по нашему мнению, интерпретировать кантовский термин "регулятивное понятие". Разум, имеющий дело с идеями, ставит проблему для рассудка и чувства. Он обозначает направленность мысли, указывая то единство, которое определяет ее движение, но которое не достигается.
Тем не менее восприятие и действие очевидным образом различены по отношению к событию схватывания формы. Мы уже говорили, что само схватывание есть остановка, обуславливающая одновременное сосуществование многих элементов структуры в едином представлении. Эта остановка дает определение момента "теперь". Само слово "теперь" есть лишь указание на событие. Следовательно, событие как схватывание целого (формы), дает определение времени вообще. Время определяется по отношению к событию и выделенному им моменту. Коль скоро форма извлечена из потока восприятия, дление, из которого произошло извлечение, определяется как прошлое. Коль скоро форма есть проект действия, то дление, в котором она должна быть растворена, определяется как будущее. Представления прошлого и будущего имплицитны событию. Они присутствуют в нем наряду со схваченной формой. Сама возможность судить о времени как о прошлом и о будущем открывается именно благодаря остановке, то есть благодаря выпадению из времени. Схватывание формы необходимо сопровождается представлением о неполноте формального знания, возникающем в виде регулятивного понятия материальной вещи. Мы знаем не только форму вещи. Мы знаем также, что вещь воспринималась в прошлом и будет создаваться (сообразно схваченному проекту) в будущем. Иными словами, представление прошлого и будущего в событии тождественно присутствию в нем регулятивного понятия. Именно регулятив материальной вещи включает в себя дление, представленное в событии, то есть синхронически, наряду со знанием формы. Вещь, следовательно, понимается не только в своей структурной целостности, но и как нечто, разворачиваемое в процессе восприятия и действия. Важно поэтому понять, что представление о времени возникает лишь благодаря остановке. Погруженность во время, то есть вовлеченность в действие или захваченность восприятием, тождественна вневременному существованию. Понятие о преходящести или скоротечности времени возможно лишь благодаря моментальной представленности прошедшего, то есть протекшего восприятия. Но такая представленность возникает только как понимание нетождественности материальной вещи и ее схваченной в момент остановки формы. В понятии материальной вещи словно возникает моментальный срез прошедшего времени, наполненного длившимся восприятием. Причем он возникает как непроницаемый для знания, то есть как то, что осталось несхваченным в событии схватывания формы.
Синхроническая развертка протекшего носит название протяженности. Материальная вещь протяженна по определению. Вопреки Декарту, рассматривавшему протяженность как первичную интеллектуальную интуицию, то есть как нечто ясное, к чему должны быть сведены все остальные понятия, мы склонны думать, что атрибут протяженности несет в себе указание на темноту и непроницаемость представленного предмета. Мысль о протяженной конфигурации подразумевает две несводимые друг к другу составляющие: во-первых, непрерывность действия, состоящего в ее произведении; а во-вторых, дискретность ее структуры, схватываемой синхронически как конечная совокупность геометрических точек. Это особенно ясно видно при рассмотрении геометрических построений. В нем можно уловить два элемента проведение линий и локализация точек на этих линиях. Линия всегда остается чем-то непроницаемым, бесструктурным и несводимым к исчерпывающему словесному описанию. В математике такая бесструктурность носит название континуума. Знание о линии есть знание об отношениях точек, лежащих на ней1). Внесение в разговор о геометрическом объекте слова "континуум" есть своего рода воспоминание о протекшем длении. Оно есть также попытка назвать тот регулятив, которым очерчивается совокупность всех возможных точечных структур, схватываемых как форма протяженной конфигурации. На непрерывной линии можно ставить самые разные точки. Причем отношения между этими точками будут задавать математическую форму линии. Именно благодаря фиксированным отношениям точек линия может быть определена как прямая или, допустим, парабола. Но все дискретные точечные конфигурации вписаны в континуум линии как объемлющее их пространство. Именно этот континуум воспринимается или производится диахронически, в непрерывно длящейся процедуре. Синхронически же он предстает чем-то неизмеримо большим, чем описывающие его дискретные структуры.
Протяженность оказывается тем понятием, которое позволяет сделать непрерывный поток предметом математического исследования. Но в математике понятие непрерывной протяженной конфигурации обязательно связано с представлением о бесконечности. Непроницаемость непрерывного предмета для мысли выражается тем, что он рассматривается как актуально бесконечный. Он содержит в себе безграничное поле возможностей для структуризации. Самое простое, что можно себе здесь представить - это бесконечная делимость. Она указывает на возможность все далее углубляться в предмет, все более уточняя его форму. Таким образом, предмет предоставляет мысли бесконечное многообразие структур, оставаясь при этом одним и тем же. Так проявляется разница между потенциальной и актуальной бесконечностью. Но, обратившись к этому же математическому образу, мы должны констатировать, что безграничность структуризации состоит не только в бесконечном углублении в предмет. Помимо бесконечной делимости возможно еще и бесконечное продолжение. Всякая непрерывная конфигурация, будучи бесконечной для движения вглубь, остается конечной в смысле ограниченности в пространстве. Она выделена из непрерывной среды (объемлющего континуума) при фиксации в нем границ. Бесконечно делимый отрезок появляется только благодаря тому, что на прямой поставлены две точки. Это обстоятельство проявляет важный аспект понятия материальной вещи. Она сама вычленена из потока в результате вносимого мыслью ограничения. Такое ограничение, так же как и схватывание формы, требует остановки, то есть события. Установление в потоке некоторых границ, собственно говоря, и есть простейший случай структуризации. Всякая другая, более детальная, структуризация обязательно его подразумевает. Чтобы сформировать вещь, мы извлекаем из потока наших восприятий и действий небольшой фрагмент. Такое извлечение само по себе трудно помыслить без представления о форме извлекаемого. Извлечение должно произойти тогда, когда понятно, что именно следует извлечь. Но, с другой стороны, невозможно схватить форму (создать структуру) без вычленения из потока нужного материала, то есть без установления границ. Следовательно, само явление вещи тождественно событию схватывания формы.
Из сказанного следует один важный вывод: материальная вещь не может быть единственным регулятивом, описывающим горизонт знания. Есть также другой регулятив, позволяющий мыслить безграничность вещей и бесконечность отношений данной вещи с другими. Мы можем не только уточнять свое понятие о вещи, схватывая все более глубокие структуры внутри ее. Мы может также расширять наши структурирующие усилия и вводить форму каждой вещи в более широкую, объемлющую структуру. Мы можем мыслить систему вещей как завершенную форму, схваченную в событии. Но это событие предполагает также внешнее пространство, бесконечный горизонт, который есть не что иное, как событийный коррелят непрерывного и ничем не ограниченного потока, из которого данная система вещей извлечена. В каждом схватывании, следовательно, присутствует идея бесконечного мира. Она так же имплицитно присуща событию, как схваченная форма. Наряду с идеей материальной вещи она составляет фон, на котором эта форма (или структура) проявляется. Важно заметить, что именно такое присутствие идеи мира в событии позволяет нам составить некое представление о непрерывном потоке. О последнем как о длящемся мы не знаем ничего. Мы только обнаруживаем его бесконечную синхроническую развертку, которая мыслится как непрерывное объемлющее пространство или среда, как бы заполненная бесконечным многообразием еще не схваченных структур. Такому представлению мира в событии также релевантно определение времени как прошлого и будущего. Мы мыслим прошлое как поток, из которого оказалась извлечена схваченная сейчас форма. Мы мыслим будущее как возможность дальнейшей структуризации, как извлечение иных форм, в которые вот эта будет вписана.
Итак, наше знание всегда выступает как недостаточное. Оно существует на фоне бесконечности мира и бесконечности материальной вещи. Однако перед ним всегда открыта возможность восполнения этой недостаточности. То упорядочивание, которое было проведено при схватывании формы, может также рассматриваться как выхватывание из объемлющего порядка вещей. Наличие регулятивов означает не только постоянное присутствие тайны, но и указывает на дальнейшее движение мысли к знанию. Та частная гармония, которая открылась благодаря происшедшему схватыванию формы, является знаком всеобщей гармонии, могущей еще открыться вследствие некоего всеобщего схватывания. Тот факт, что нам удалось узнать нечто сейчас, вдохновляет на последующие усилия. Частное знание есть своего рода залог знания всеобщего. Уж если нам хотя бы однажды удалось извлечь из хаотического потока нечто связное и гармонически целое, то нам трудно мириться с предстоящим негармонизированным длением. Преодолеть его в принципе тем более заманчиво, что такое преодоление сулит избавление от проклятия временности. Мы уже видели, что осознание дления есть результат остановки, то есть выпадения из времени. Именно понимание того, что наряду с частной гармонией схваченного нам постоянно предстоит дисгармоничность длящегося, порождает сознание ненадежности достигнутого порядка. Он - лишь малый остров стабильности в бесконечном потоке. Знание порождает ностальгию по абсолютной ясности, желание преодолеть непроницаемость и темноту непрерывного. Мгновение хочется сделать вечностью.
Еще одно важное следствие неполноты знания делает переживание неясности особенно драматичным. Конечность знания всегда коррелятивна конечности знающего. Здесь происходит то, что уместно назвать явлением сознания в событии знания. Анализ события привел нас к выделению в нем трех сосуществующих аспектов: схваченная форма, идея мира и идея материальной вещи. Но обнаруживается в нем и еще один аспект. Мы говорили, что событие определяет момент "теперь". Последний осознается как точка, являющаяся границей длящегося времени, отделяющая прошлое от будущего. Но эта же точка имеет смысл как предельная локализация в пространстве. Все, что синхронически представлено в событии, определено в нем как пространственное протяжение или пространственная дискретная конфигурация. Вещь схватывается как имеющая место в пространстве. Но подобно тому, как ее (этой вещи как материальной) дление во времени отделено от момента схватывания, также и ее место в пространстве есть иное по отношению к событию схватывания. Иными словами, тот факт, что вещь занимает место, свидетельствует о том, что событие определяет не только время, но и пространство. Вещь познается как расположенная где-то по отношению к точке события, обозначаемой словом "здесь". Событие случается здесь и теперь и относительно него все прочее приобретает смысл сущего там и тогда.
Но событие, коль скоро оно есть событие знания, не может происходить само по себе. Оно происходит с кем-то. Форма, вещь схватывается не просто так. Всегда уместен вопрос о субъекте схватывания. И ответ на вопрос "кто?" может быть только один - "я". Помыслив форму вещи, нельзя не указать на себя, как на мыслящего. Явление связного единства из потока восприятий есть результат моего усилия. Именно я конституировал вещь как целую, я сконструировал ее и я несу ответственность за результат моего гармонизирующего действия. Событие, как происшедшее именно со мной, маркируется поэтому выражением: "Я мыслю". В схватывании формы я конституирую самого себя как схватывающего, то есть как субъекта мысли.
Сказанное вполне соответствует кантовскому рассуждению о трансцендентальном единстве апперцепции. В потоке восприятий нет связи. Только я могу ее установить и приписать своим восприятиям. Трудно сказать, где я беру эту связь. Важно, что она является вместе со мной в тот момент, когда происходит событие. Я не присутствую в длении, но обнаруживаю себя здесь и теперь как мыслящего, то есть устанавливающего синхроническое единство взаимосвязанных элементов формы. Сознание "я" неотделимо от события схватывания. Я случаюсь вместе с этим событием. Иными словами, я сознаю себя именно в момент остановки.
Важно заметить, что сознанием названа именно обнаруженная нами автореференция "я, здесь, теперь". Утверждение "я мыслю" (точнее: "я мыслю здесь и теперь") не выражает знания, поскольку знание есть схватывание формы. Но оно невозможно без знания, т.к. сопровождает всякое схватывание. Оно случается вместе со знанием и тем самым оправдывает свою этимологию.
Таким образом, сознание "я" возникает на фоне непрерывного дления столь же ненадежно, как и та частичная гармония, та неполная ясность, которую оно сопровождает. Конечность и моментальность любой понятой вещи коррелятивна моей собственной конечности и моментальности. Момент остановки, как мы видели, высвечивает само дление. Только выпав из времени, я сознаю его как ушедшее, поскольку в этот момент ушедшее является мне как целое. Но вместе с сознанием преходящести мне является и сознание самого себя. Сам себя я мыслю лишь на фоне постоянно проходящего и изменяющегося переживания. "Я есть" - это то же самое, что "я мыслю", и это только мгновение. Поэтому достижение полной ясности есть способ надежного обеспечения самого себя. Выше мы упоминали о ностальгическом стремлении к полноте знания. Такое стремление имеет экзистенциальный характер, поскольку порождено стремлением к устойчивому существованию. Для этого бесконечность мира и всякой вещи в нем должна быть обращена в структурированную бесконечность всеобщей формы, которая надежно схвачена мной. Такое схватывание означает, прежде всего, бесконечное расширения "я". Вне меня не должно остаться ничего, поскольку ограничение моего знания есть угроза моему существованию. Такое состояние может мыслиться как вечность и повсеместность. Дление оказывается естественным образом прекращено, но и мгновение как граница дления теряет свою определенность.
Вопрос состоит однако в том, сохранит ли свою определенность, а следовательно, сохранится ли вообще само сознание "я". Выше мы говорили, что утверждение "я мыслю" подразумевает ответственность за предмет мышления. Я, установивший связь многообразного, отвечаю за созданное моим усилием единство. Но ведь именно факт ответственности конституирует мое сознание. Нет смысла говорить "я мыслю", если я не отвечаю за то, что мыслю. Но чем обусловлена ответственность? Прежде всего, возможностью мыслить иначе. Я мыслю так, как я мыслю и мой отказ (в данный момент) представить все по-другому и налагает на меня ответственность. Иными словами, всякий акт мысли подразумевает совершенный выбор. Знание необходимо имеет характер нравственного поступка, причем именно потому, что является неполным знанием. Неполнота означает возможность иной мысли. Я устанавливаю именно ту форму, которую устанавливаю. Но поскольку наряду со схваченной формой я мыслю бесконечность мира и бесконечность вещи, то я не только знаю то, что знаю, а еще и сознаю, что мне открыто бесконечное поле альтернатив. Я мог конституировать бесконечно много иных форм, но выбрал именно эту, а потому отвечаю за нее.
Окончательная победа над незнанием, ознаменованная полной ясностью, означает, следовательно, и отсутствие выбора. Но такая ясность исключает также и само сознание, поскольку устранение ответственности необходимо обессмысливает утверждение "я мыслю". Она есть непоколебимая убежденность в совершенной объективности открытого, исключающая всякую субъективность. Мне открылась вся полнота сущего, и я уже не могу допустить ничего другого. Причем отнюдь не в лютеровском смысле. Фраза "Ich kann sonst nicht" как раз предполагает возможность другого и мою ответственность за то, что я стою именно здесь ("Hier stehe ich"), а не там. Абсолютная ясность означает невозможность другого не для меня, а вообще. Но также она означает и невозможность меня, поскольку я сознаю себя только в качестве отделенного от своего предмета, не совпадающего с ним. Если схваченная форма тотальна и покрывает все, то нет той выделенной точки, которая обозначена как "здесь и теперь". Ничто не может быть выделено, поскольку все охвачено разросшейся до бесконечности формой. Автореференция "я, здесь, теперь" обуславливает локальность схваченного и сама возникает одновременно с локализованным предметом, но как отделенная от него. Абсолютная ясность ликвидирует, следовательно, само место сознания. Ведь последнее означает отчужденность от предмета, мою особую позицию вне открывшейся формы и непроясненной непрерывности мира. Выше мы говорили о полноте знания, как о бесконечном расширении "я". Но такое расширение тождественно слиянию с бесконечной формой и утрате возможности сказать о себе "я".
Идеал полной ясности есть представление об абсолютной безвременности, но также и ностальгия по бессознательному. Событие остановки, представляющее собой вспышку сознания, тягостно тем, что указывает мне на мою ответственность, понуждает к выбору. Оно тягостно также и тем, что является напоминанием о конечности, раскрывает нечто как безвозвратно ушедшее. Оно, наконец, всегда содержит проблематичность. Неполнота знания означает и некую нерешенную задачу, и недостаточную обоснованность принятых решений. Поэтому стремление к полной ясности оказывается постоянным фактом сознания. Но с другой стороны - полная ясность есть очевидная иллюзия. Она недостижима ни в каком реальном акте схватывания.
Тем не менее такое состояние мысли, при котором ясность оказывается совершенной, не есть абстрактное философское предположение. Напротив, такое состояние реально - как ни странно, даже более реально, чем то мучительное сознание себя, о котором мы говорили выше. Человеческая мысль обладает удивительной способностью отвергнуть регулятивы и создать полную структурированность там, где ее, казалось бы, не может быть. Представление регулятивных понятий в событии указывает на трансцендентное бытие, непроницаемое для мысли, то есть неформализованное и не подлежащее структурированию. Но мысль обладает удивительной способностью забвения трансцендентного. Она обращает схваченную форму в универсальность и создает возможность беспроблемного существования. Реальность, созданная таким способом, именуется мифом. Миф всеобщ и заключает все внутри себя. Это совершенно прозрачная структура, исключающая тайну, не допускающая трансцендентного. В нем остановлено время, а сознание погружено в сон. Это уже не событие, не момент остановки - это остановка навсегда. Миф возникает тогда, когда нам предстает полная и безальтернативная очевидность. Он представляет собой своего рода потенциальную яму, в которой сознание достигает своего энергетического минимума, хотя, наверное, не исчезает вовсе.
Для мифа не существует ни места, ни времени. Воспроизводясь повсеместно, мифическая структура в состоянии включить в себя самый разнообразный материал. Это необязательно древнее повествование об отношениях природных стихий, олицетворенных в образах богов и титанов. Миф может с тем же успехом представлять исчерпывающую картину новейшей истории, описывая ее как схватку неких квазисубъектов (наций, этносов, цивилизаций и т.п.). Он может претендовать на роль научной картины мира или представать в виде завершенного метафизического построения.
Есть, впрочем, еще один способ "спастись от сознания", по видимости противоположный мифотворчеству. Он состоит в захваченности действием. Мы говорили о том, что время незаметно в длении. Сознание случается в момент остановки. Безостановочность действия дает возможность постоянно пребывать в потоке2), "не приходя в сознание". Миф есть полная остановка. Однако полная остановка имеет тот же эффект, что и непрекращающееся дление. В конечном счете они просто неразличимы. В обоих случаях наступает самозабвение и забвение времени. Трансценденция же, поскольку она понята как синхроническая развертка дления, просто не возникает в состоянии подобной захваченности, поскольку в ней вообще нет никакой синхронии. По-видимому, избавление от трансцендентного требует, прежде всего, действия. Но ведь и миф требует действия. Только миф может придать непрекращающемуся действию смысл. Миф всегда реализуется - в простейшем (и самом безобидном) случае рассказывается. Он творится в действиях и словах мифотворца, который не сознает себя и не замечает времени. Миф есть исчерпывающая картина целого, но это целое захватывает, а не схватывается. Он требует медиума, являющегося в образе мудреца, визионера или харизматического вождя, который ведом мифом, действуя под его внушением, но не видя целого. Ведь схватывание целого приведет к остановке и пробуждению сознания, а следовательно, к разрушению мифа.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Соотношение между континуумом и дискретными точечными структурами подробно рассмотрено в статье [1].
2) Погруженность в дление составляет философский идеал Бергсона. Этот философ очень точно улавливает ограниченность дискретизации, совершаемой интеллектом в как бы остановленном потоке. Вообще наше рассуждение, как легко заметит внимательный читатель, очень сильно совпадает с бергсоновским. Поэтому хочется обратить внимание на одно, очень важное для настоящей работы отличие. Попытка философского вживания в дление, предпринимаемая Бергсоном, представляется нам не только невозможной, но и бессмысленной. Нашей задачей было описание знания с позиции сознания, т.е. так, как оно открывается в момент остановки. Иными словами, нам нужно было рассмотреть не процесс, а событие. Последнее собственно и раскрывает всякую длительность и процессуальность. Бергсон, как нам кажется, ошибся, пренебрегая этим обстоятельством. Ему хотелось бы увидеть интеллект (который может лишь случаться в момент остановки) с точки зрения жизни, т.е. непрекращающегося дления. Но в длении нет никакой точки зрения. Лишь событийность знания (интеллекта в бергсоновской терминологии) только позволяет длению раскрыться как реальности. Жизнь невозможно заметить, не оказавшись вне ее потока. Поэтому погруженность в дление не дает ничего, кроме, быть может, душевного комфорта. Но ясность видения возникает лишь в результате выпадения из времени, в статике, в событии. Именно событие включает в себя дление, как регулятив. В событии обнаруживается как само знание, так и его ограниченность. Событие, наконец, оказывается событием сознания, которое сообщает о себе утверждением "Я мыслю". В длении же никакого сознания нет.
Литература:
1. Бергсон А. Творческая эволюция. - М.: Канон-Пресс, Кучково Поле, 1998. 2. Гутнер Г.Б. Дискретность и непрерывность в структуре математического дискурса //Бесконечность в математике: философские и исторические аспекты. - М.: Янус- К, 1997. с. 242-265. 3. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: ТАЙМ-АУТ, 1993. 4. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Изд-во политической литературы, 1991.
Знание как сознательный феномен
Катречко С.Л.
Начнем с предварительной проработки вынесенного на обсуждение вопроса, т.е. попробуем, изначально не формулируя собственных гипотез о природе знания, прояснить смысловое поле глагола знать, способ его функционирования в обыденном сознании и языке, что, как считают представители современной аналитической философии, необходимо учитывать при проведении любых философских исследований1).
Обратим внимание, прежде всего, на два весьма распространенных в обыденном сознании предрассудка о природе знания.
Первый из указанных предрассудков состоит в том, что под знанием часто понимают некоторый набор непосредственных данных, зафиксированных каким-либо физическим прибором или нашими органами чувств (в последнем случае предполагаются процедуры исключения субъективности восприятия). Например, наблюдая движение Марса, астроном Тихо Браге составил таблицу отдельных местоположений этой планеты. Это так называемые протокольные предложения. На протяжении нескольких десятилетий именно эти предложения служили позитивистским идеалом знания, к которому они хотели редуцировать любой другой тип знания. Однако, как это показало последующее развитие, эти попытки не увенчались успехом. В приведенном нами примере набор фактических данных о различном местоположении Марса в различные моменты времени не содержит сам по себе дополнительного элемента - мысли-знания об орбите движения этой планеты. "Догадка" Кеплера о том, что планеты солнечной системы вращаются по эллиптическим орбитам, несомненно, является знанием. Однако понятно, что этот тип знания, с одной стороны, не относится к тем непосредственным эмпирическим данным, которые фиксируются "протокольными предложениями", а с другой стороны, это знание, которое содержит мысль (мысленную гипотезу) о форме орбиты вращения планеты, не редуцируемо к первичным фактам, зафиксированным Тихо Браге в виде таблицы. В дальнейшем под знанием будет пониматься именно такой феномен, который содержит дополнительный элемент мыслезнания, а не просто первичные данные, зафиксированные каким-либо физическим прибором. Указание на то, что это является мыслезнанием, фиксирует тот момент, что этот тип знания представляет собой опосредованный результат, результат вторичной сознательной (мыслительной) обработки, или интерпретации первичной фактической информации. Можно высказать и более сильный тезис о том, что любой тип знания, в том числе и уровень "протокольных предложений", включает в себя результаты некоторой интерпретации. Если снова обратиться к приведенному примеру, выделенный выше первичный уровень эмпирических данных не более, чем иллюзия, поскольку этот уровень уже предполагает интерпретационную пространственно-временную развертку процесса движения наблюдаемой планеты, и кроме того, процедуры идентификации "объекта" наблюдения в разные моменты времени и в разных местах, что также является результатом интерпретации. В рамках "сильного" тезиса речь идет об антропоморфной обусловленности любого знания, например, априорными формами чувственности (Кант), и даже еще более слабой, чем априорная, зависимости воспринимаемых данных от имеющихся у человека набора и устройства органов чувств. В этом смысле любой современный физический прибор, как будто бы объективно фиксирующий происходящее, есть не что иное, как усовершенствованный и развитый вовне соответствующий орган чувств человека. Причем это утверждение остается в силе и для естественных (природных) устройств, поскольку в качестве прибора выступает лишь то, что поддается прочтению нашими органами чувств. Заметим, что "сильный" тезис об опосредованности любого, в том числе и "протокольного", знания не блокируется аргументом о том, что организация человеческого существа, в свою очередь, является результатом длительной эволюции и приспособления к окружающей среде, поскольку указание на процессы эволюции (приспособления) человека лишь косвенным образом подтверждают не непосредственный, а опосредованный (в данном случае, опосредованный эволюцией) характер воспринимаемого современным человеком. Любое познание с методологической точки зрения предполагает превращение "вещи в себе" в "вещь для нас", т.е. разрушение естественной данности объекта - "вырывание" его из привычной среды обитания - абстрагирование от несущественных характеристик изучаемого "объекта" - антропоморфную интерпретацию воспринимаемого.
Второй из указанных предрассудков заключается в том, что знание нередко отождествляют с текстом, например, книгой, служащей для хранения и последующей передачи информации. Более того, этот предрассудок получил философское закрепление в попперовской концепции "третьего мира", которая соотносит знание с миром объективированного содержания мышления. Книга, например, согласно этой концепции, является хранилищем объективного знания независимо от того, прочитает ее кто-нибудь или нет. Понятно, что этот предрассудок, как и концепция "третьего мира", эксплицирующий его, в отличие от первого предрассудка соотносит знание с результатом вторичной мыслительной обработки, т.е. рассматривает знание как сознательный феномен. Однако, на наш взгляд, при этом постулируется слишком "сильная" гипотеза о том, что возможна полная объективация сознательных феноменов (мира ментальных состояний по Попперу), в том числе и феномена знания, при которой исчезает его субъективно-антропоморфный характер. Покажем несостоятельность этой "смелой" догадки Поппера. Для этого нам потребуется сделать два важных различения, которые им не учитываются.
Во-первых, необходимо отличать знание от материального носителя знания, например, текста, в котором знание представлено. Это различение задает две интересные темы исследования. С одной стороны, указание на потенциальность знания (по отношению к актуально данному носителю) предполагает необходимость дополнительных к содержанию знания процедур "извлечения" этого содержания, или процедур актуализации знания. Сам по себе набор букв книги, например, для древесного жучка, поедающего ее, не является знанием. Это значит, что "мир" объективированного знания несамодостаточен, а предполагает наличие, по крайней мере, еще трех моментов:
+ наличие особых "шифров", позволяющих извлекать знание и "смысл" знания из носителя; + наличие особого устройства или "органа", с помощью которого осуществляется дешифровка и извлечение знания; + необходимость особой активности, или "понимательного" усилия существа, владеющего "шифрами" и "органом" дешифровки. Первое из выделенных нами условий предполагает наличие по крайней мере двух типов "шифров", необходимых для извлечения знания из носителя. С одной стороны, как это уже отмечали авторы "Логики Пор-Рояля", каждый знак (а текст - тоже знак) содержит в своем составе две идеи [2] 2). Во-первых, это, конечно, идея обозначаемого знаком содержания, т.е. той реальности, которая знаком репрезентируется и на которую знак указывает. Когда мы произносим (или пишем) слово "стол" нас в общем случае (за исключением случаев специальных) интересует не сам набор символов, состоящий из четырех букв, а тот предмет, который этим знаком обозначается. Но, помимо содержательной идеи, знак несет в себе и еще одну - формальную - идею, а именно указание на то, что он является знаком, или носителем чуждого ему содержания, например, носителем знания. Если я напишу символ О так, то другой человек поймет, что я написал букву "о", а не некоторую закругленную закорючку. Однако, если я увеличу масштаб написанного символа О, например, в 100 раз, то неискушенный наблюдатель не усмотрит в этом рисунка, и тем более записи буквы. Увеличенная (или уменьшенная), например, в 100 или 1000 раз книга не сможет быть "знанием" просто лишь потому, что она не будет восприниматься как книга, т.е. не будет рассматриваться как носитель знания. Для того чтобы текст (книга) выступал в качестве источника знания, он должен быть, прежде всего, идентифицирован как таковой, т.е. должен быть произведен особый акт идентификации знака как знака, или акт выявления "идеи" знака, согласно авторам "Логики Пор-Рояля". Книга является источником знания для Робинзона Крузо, но она не является носителем знания, например, для первобытного Пятницы. С другой стороны, идентификация текста в качестве источников знания является лишь необходимым, но недостаточным условием для запуска процедуры извлечения знания. Восприятие книги в качестве носителя знания еще не гарантирует автоматического овладения информацией, содержащейся в ней. Дело в том, что любой текст ограничен, и "книжное" знание занимает лишь определенный уровень иерархии знания, имеющегося в культуре. Для извлечения знания того или иного уровня из конкретного текста необходимо приобщение к более широкой и неформализуемой, по крайней мере в этом тексте, иерархии "до-" и "после-" этого уровня знания. И при отвлечении от этих неформализуемых условий, хотя книга как таковая, с записанным в ней набором букв, слов и предложений, останется, но какая-то часть содержания (информации) этой книги просто не сможет быть расшифрована. Например, определенная часть "книжных" знаний достаточно тесно связана с практическими действиями, навыками, умениями (в рамках нашей классификации это уровень "до-знания") которые, можно освоить только путем непосредственной передачи от учителя к ученику. Встретив в книге запись команды "Кругом!", мы понимаем, что это поворот на 1800, а не на 3600, хотя в самом тексте этого указания нет. Понятно, что по книге, например курсу теоретической механики, нельзя научиться практическим навыкам катания на велосипеде и/или плавания. В этом смысле достаточно показательна пословица "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", которая указывает на ситуацию неполноценности "книжного" знания. С другой стороны, "книжное" знание предполагает и уровень "после-знания", а именно уровень идеалов, целей, нравственных ориентиров и моральных норм, которые также вряд ли формализуемы. Например, столкнувшись с проблемой добродетели, понимаешь, что она не является обычным знанием, типа математики или химии, которому можно научить в школе: добродетель предполагает не только знание добра, но и усилие, совершаемое человеком. Поэтому, как отмечал Сократ в диалоге "Менон", не существует учителей добродетели, или учебников добродетели, освоив который, человек автоматически без собственных усилий превратится в доброго человека.
Поэтому вряд ли можно согласиться с попперовским утверждением о том, что если вся остальная часть культуры, помимо библиотеки текстов, будет уничтожена, то она может быть восстановлена в полном объеме. Подобная ситуация описана в фантастической повести К. Булычева "Перевал", когда группа землян потерпела крушение на планете со сходными климатическими условиями и вынуждена была на некоторое время уйти от радиоактивного излучения космического корабля. Смогут ли потомки этих землян, выросших в суровых, практически первобытных условиях планеты, вернувшись к кораблю, освоить оставленную на корабле библиотеку и починить поврежденный передатчик для вызова помощи? Ответ К. Булычева более правдоподобен: без старшего поколения, прибывшего на этом корабле, потомки (внуки и правнуки) вряд ли смогут освоить все богатство библиотеки. Знание, зафиксированное в книгах, не является исчерпывающим знанием, а составляет только лишь часть знания, один из уровней существующей иерархии даже более узкого теоретического знания. Не развивая эту тему подробно, укажем на феномен личностного знания, выявленного М. Полани, который ставит предел процедурам объективации содержания знания в текстах; или на замечание Л. Витгенштейна о том, что помимо "высказанного" знания, есть знание, которое "показывается" и для расшифровки которого одних лишь текстов недостаточно. Поэтому один из недостатков попперовской концепции - неразличение разных типов знаний, например, "декларативного" и "процедурного", которые неравноценны по отношению к их экспликации в текстах, а тем более отвлечение от более объемлющей "до-" - "после-" познавательной иерархии, в которую включен любой уровень "книжного" знания.
Однако наличие "понимательных шифров", т.е. более широкого по отношению к библиотеке текстов культурного контекста, еще не гарантирует "извлечение" знания. Для проведения процедуры дешифровки необходимо иметь особый "понимательный орган" - сознание человека, т.е. определенную "надстройку" над животной психики, позволяющую усматривать смысл происходящего, например, извлекать смысл написанного в книге, трактовать символ О как определенную букву алфавита. В мысленном эксперименте Поппера это условие предполагается, когда оговаривается, что помимо библиотеки остается и наша способность читать и понимать книги. С одной стороны, как об этом говорилось чуть выше, это предполагает причастность индивидуального сознания к культуре как резервуару "понимательных шифров", но, с другой стороны, хотелось бы обратить внимание на то, что эта зависимость и обусловленность индивидуального и социального - взаимная, поскольку образование культуры (общественного сознания) в некотором смысле есть порождение возникшего индивидуального сознания3). В качестве аналогии взаимообусловленности общественного и индивидуального сознания, которая пояснит нашу мысль, можно привести пример возникновения атмосферы Земли. Она возникла благодаря наличию особых механизмов жизнедеятельности отдельно взятых растений, и хотя сейчас является достаточно автономным образованием, но все же зависит от индивидуально совершаемого процесса фотосинтеза. Точно так же для функционирования культуры, которая, как это было показано выше, является необходимым условием для извлечения знания из текстов, необходимо постулировать наличие особого индивидуального механизма - механизма сознания - без которого, расшифровка знания невозможна. В диалоге Платона "Менон" приведен эпизод "обучения мальчика-раба". Автору статьи приходилось участвовать в дискуссии на тему, подтверждает ли этот эпизод платоновскую концепцию анамнезиса. Но и при всем разнообразии взглядов несомненно то, что окажись на месте мальчика другое разумное существо без "органа" сознания, например собака, то процесс обучения как таковой просто не "запустится", поскольку в качестве обязательного условия обучения (как процесса извлечения знания) должно присутствовать сознание.
В качестве третьего необходимого условия, не учитываемого в объективистских концепциях знания, нами была выделена тема особого "понимательного усилия", без которого, даже при наличии "шифров" и "органа" расшифровки смыслов, процесс "распаковки" знания невозможен. Тем самым хотелось бы обратить внимание на еще один изъян концепций попперовского типа, не учитывающих того обстоятельства, что знание является не только результатом познавательного процесса, но и некоторым особым состоянием познающего субъекта, вне которого о знании как таковом говорить не приходится. Развернем эту тему чуть подробнее. Начнем с простого примера. Допустим есть нотная запись музыкального произведения, например симфонии. Зададимся вопросом: является ли эта запись собственно музыкой. Очевидно, что нет, поскольку для того, чтобы превратить эту запись в симфонию, необходимо ее исполнить, например, путем ее проигрывания в уме (последнее предполагает развитие особого "органа" исполнения, что отличает профессиональных музыкантов от остальных людей, таким "органом" не обладающих). Причем симфония, как и извлечение смысла при чтении текста книги, существует только в момент исполнения [3]. Опираясь на этот пример, можно сказать, что знание не сводится, например, к механическому произнесению слов, а является некоторым особым состоянием сознания, которое возникает в момент совершения "понимательного усилия" по извлечению смысла прочитанного, т.е является некоторым дискретным, "мерцающим" феноменом сознания. Точно так же как храбрость есть "мерцающее" состояние человека, которое или возникает, или не возникает "здесь и сейчас", на что обратил внимание Сент-Экзюпери, сказав, что "храбрым надо быть каждый раз заново". Сходным образом подчеркивает особость состояния человека при "понимании слова" Л. Витгенштейн, противопоставляя это "надпсихическое" сознательное состояние другим физиологическим и психическим состояниям человека [1]. Более того, видимо впервые на этот способ бытийствования феномена знания обратил внимание Платон в своей концепции анамнезиса, в которой подчеркивается "мерцающий" характер этого феномена, а познавательный процесс представляется как ряд "вспышек" вс-понимания - вс-поминания.
Зафиксируем важное противоречие, к которому мы пришли. С одной стороны, в рамках концепций попперовского типа фиксируется момент устойчивости феномена знания, что и позволяет говорить, хотя и с некоторыми оговорками, о возможности его объективизации на материальных носителях. С другой стороны, указание на "мерцающий" способ бытийствования знания подчеркивает его неустойчивый, несубстанциональный характер. Таким образом, мы вплотную подошли к глубинному вопросу о природе феномена знания и способе (ах) его функционирования.
Для ответа на этот вопрос проведем второе различение уже "внутри" самого знания, а именно: выделим в нем "субстратную" (вещную) и "несубстратную" (полевую) составляющие (что несколько напоминает известный в физике корпускулярно-волновой дуализм). В первом приближении соотношение этих составляющих можно проиллюстрировать на примере любой фразы, которая помимо "субстратной" составляющей (речи), соотносимой с буквами, слогами и словами, содержит также "несубстратное" молчание, т.е. некоторый ряд пробелов, пауз, интонаций, ударений, играющих подчас не меньшую роль для понимания смысла фразы. Используя другие категориальные ряды, можно говорить о содержании и форме знания, или структурах "что (о чем)-знания" и "как-знания". Первый компонент знания, его субстратный состав можно соотнести с информацией. Причем именно информативная составляющая, стоящая в центре внимания в объективистских концепциях знания, отождествляется со всем знанием. Более того, истолкование знания как информации в последнее время получила мощный импульс со стороны математических теорий информации. Однако указание на "мерцающий" способ бытийствования феномена знания и другие сходные явления, выделение в структуре этого феномена несубстратной (неинформативной) составляющей позволяет говорить об альтернативной методологии исследования феномена знания4). Перспективность этой методологии связана с тем, что любой сознательный (=идеальный) феномен (знание - лишь частный случай) представляет собой подобного "кентавра", обладающего как информативными (более поддающимися объективации на сегодняшний день), так и неинформативными свойствами, для исследования которых необходимо использовать взаимодополнительные и несводимые друг к другу методологии5). Введенное нами различение в составе знания хорошо согласуется с "семиотическим треугольником" Фреге, в рамках которого с каждым знаком соотносится не только то, что знак обозначает (денотат знака), но и то, что знак выражает (менее уловимый смысл знака). В рамках этого неинформативная составляющая знания ("форма") соотносится с тем, что Г. Фреге называл "смыслом" знака, а информативная составляющая знания - с "денотатом", или "значением" знака [5]. Тогда "мерцающий" способ бытийствования присущ именно смысловой составляющей знания, чего нельзя сказать об его информативной составляющей. Дополнительные аргументы в пользу нашего различения дает анализ функционирования термина знание в языке. При этом, в качестве методологии, воспользуемся замечанием Л. Витгенштейна о том, что функционирование разных терминов языка, несмотря на внешнее подобие слов, может сильно отличаться друг от друга, так же как различно функциональное назначение разных инструментов находящихся в одном ящике. В другом месте, продолжая эту тему, мыслитель указывает на то, что глагол быть, "казалось бы, функционирующий подобно глаголам есть и пить", имеет очень специфический способ функционирования в языке, изучение которого и заставляет людей философствовать [6]. Вслед за этим можно сказать, что и способ языкового функционирования термина знать (знание) имеет свои специфические особенности, которые можно выявить в ходе анализа. Для первичной экспликации этого достаточно указать на специфику употребления словосочетаний "получать (передавать) знания", "иметь знания". В этой связи подчеркнем, что употребление глагола знать отлично от функционирования глагола иметь (и сходного с ним целого семейства терминов), поскольку иметь (получать, передавать) можно некоторую вещь, а знание некоторой вещью не является. Например, знание нельзя положить в карман, поскольку оно не есть нечто устойчивое, сохраняющее, и вследствие этого знание нельзя иметь, хотя можно иметь, например, книгу или библиотеку как некоторые "хранилища" знания. Знание как феномен отличается от своего материального носителя тем, что оно просто и не разделяется на части. В этом смысле к знанию неприменимы количественные характеристики, его нельзя передавать (получать), поскольку при этом не происходит его убывания (прибавления), как это случается при передачи вещей. Если я отдал половину имеющихся у меня вещей, то у меня осталось вдвое меньше вещей, а со знанием такая "вещная" арифметика не срабатывает, поскольку при передаче знания его не становится меньше. В этом же смысле не являются совсем корректными выражения типа "багаж знаний", "накопление знаний", "огромные познания", поскольку это не более чем яркие метафоры, при использовании которых сохраняется опасность отождествления знания с вещью. Поскольку знание нельзя иметь, как некоторую вещь, то использование словосочетаний типа "мое знание" также не совсем корректно. В данном случае важно отметить, что знание функционирует как безличный феномен, как некоторое "поле" смыслов, к которому человеческое сознание время от времени "причащается" путем анамнезиса. Если принять во внимание, что правила функционирования того или иного термина языковой системы во многом предопределяются набором принимаемых ею онтологических допущений о мире, то отождествление способов употребления глаголов знать и иметь правомерно только в рамках "вещной" (элементаристской) онтологии, т.е. в рамках такого воззрения на мир, когда первичными кирпичиками мира объявляются вещи, а сам мир трактуется как "мир вещей". Можно заметить, что представления "здравого смысла", связанные со способом функционирования термина знать, во многом определяются той или иной языковой интуицией, поскольку в большинстве языков глагол знать является элементарным. Так, например, в рамках английского языка с глаголом "to know" невозможно образование континуусных форм (типа "is knowing"), что акцентирует внимание говорящего на "субстратной" компоненте знания и предопределяет понимание знания как некоторого приобретаемого человеком и впоследствии устойчивого и уже неотчуждаемого состояния-свойства. В этом смысле знаток конечно же отличается от профана, поскольку знание нельзя, например, как пиджак то снимать, то снова надевать. Однако при этом скрадывается то обстоятельство, что знание имеет "мерцающий" способ бытийствования. Это обстоятельство, в отличие от английского языка, ухватывается интуицией русского языка, в котором процесс познания (понимания) характеризуется как попытка "удержания" или "с(у)хватывания" чего-то в принципе непостоянного, или "неподдающегося" [7]. Т.е. языковая интуиция английского языка акцентирует свое внимание на информативно-денотативной стороне феномена знания, что и приводит к соблазну возникновения концепций попперовского типа, а языковая интуиция русского языка - на неинформативно-смысловых моментах знания.
Введенное нами различение между "формой" и "содержанием" знания, его "смысловой" и "информативной" составляющими позволяет дать общий абрис познавательного процесса. В общем виде процесс познания представляет собой переход от состояния не-знания к состоянию знания, причем, как это отмечалось выше, этот переход не является простым автоматизмом. В этой связи возникает следующий принципиальный вопрос: каким образом возможен переход между двумя противоположными состояниями? Несложная методологическая проработка этой проблематики показывает, что прямой непосредственный переход от состояния не-знания к состоянию знания невозможен: не зная (не догадываясь) чего-либо (о чем-либо), это неведомое "нечто" можно просто не заметить и пройти мимо, т.е. познавательный процесс просто не запустится. Познавать можно лишь то, что уже в каком-то смысле знаешь. В общем виде для "запуска" познавательной активности необходимо постулировать некоторое промежуточное состояние "удивления", в котором это "нечто" уже опознается, идентифицируется, хотя и в качестве неизвестного. Емкая характеристика этого состояния философского "удивления" может быть выражена парадоксальным тезисом Сократа "Я знаю (ведаю - К.С.), что ничего не знаю (о своем незнании - К.С.)", которое может быть соотнесено с состоянием "знания о незнании" и, как подчеркивается Д. Дубровским, является началом "запуска" любого познавательного процесса [8]. Собственно, любая философская концепция, стремящаяся более детально объяснить познавательный процесс, должна ввести своеобразный медиатор, опосредующий эти противоположности, точно так же, как в аристотелевском силлогизме отношения между "крайними" его членами опосредованы "средним" термином. Например, в одной из первой концепции познания, в платоновской концепции анамнезиса таким медиатором между областью незнаемого и познанного является "мир идей", а процесс познания незнаемого трактуется как припоминание. Тем самым Платон решает указанную выше проблему весьма радикально, редуцируя состояния полного не-знания к состоянию временного забывания. Однако введение такого всеобъемлющего медиатора, как "мир идей", является слишком "сильным" допущением. В частности, в рамках платоновской концепции в процессе познания отсутствует элемент творчества, с чем трудно согласиться. В противоположность слишком "сильному" платоновскому медиатору концепция познания Демокрита максимально сужает его область. Медиатором между не-знанием и знанием, обеспечивающим познание вещей, объявляются сами вещи, вернее, испускаемые вещами "видики". Несостоятельность этого и подобного этому других эмпиристских подходов, как это было показано в истории философии, заключается в неспособности объяснить познание не только индивидуальных вещей, но и "сущностей более высокого порядка", к которым можно отнести познание "родов", свойств и отношений.
Согласно нашему подходу, в структурном отношении таким медиатором между состояниями не-знания и знания является выделенная нами форма знания, которая выступает в данном случае в качестве некоторого пред- и протознания - ведения. Первоначально ведение является "пустой" формой, не заполненной пока что никаким содержанием - информацией, в последующем оно выступает как некоторый общий "фон" уже имеющегося знания для получения нового. Первоначальное ведение представляет собой некоторую незаполненную (например географическую) "карту", которая делает возможным последующую деятельность по выявлению и исследованию "белых" пятен не-знания. Именно в этом смысле ведение, выступая как своеобразный медиатор между состоянием не-знания и знания, делает возможным переход от первого ко второму состоянию.
В динамическом аспекте познавательный процесс может быть представлен как некоторый двуединый процесс, заданный "передним" и "задним" фронтами. Передний фронт познания является "схватыванием" "идеи-эйдоса", узрением "пустой формы" подлежащего познанию феномена, усмотрением его "смысла", что и составляет собственно процесс понимания, который в данном случае может быть соотнесен с такими понятиями как "интуиция", "инсайт", "предпонимание", "анамнезис". Основным механизмом "схватывания идеи"6) является имеющаяся у человека спонтанная способность творческого воображения, способность фантазирования. Задний фронт познания (и соответственно, задний фронт знания как результата (итога) познавательного процесса) - есть некоторый "остаток" уже случившегося процесса понимания. Этот остаток может быть соотнесен с тем, что ранее было эксплицировано нами как ведение. Для каждого индивида этот "остаток" предстает как некоторый уже имеющийся в социокультурном пространстве предрассудок, общее мнение, что облегчает культурную жизнедеятельность индивида, в частности его понимание имеющегося знания. Именно этот "остаток" и фиксируется объективистскими концепциями в качестве знания.
Таким образом, познавательный процесс подчиняется своеобразному закону "петли гистерезиса", что аналогично процессам намагничивания и размагничивания железа. С одной стороны, "понимательное усилие" индивида, "вспышка" понимания не проходит совсем бесследно для социума (при наличии необходимых для этого средств фиксации), а оставляет некоторый "сухой" остаток в виде сформировавшегося ведения, а с другой стороны, любой индивид начинает новый познавательный процесс не с чистого листа, а уже сформировавшихся в социуме предрассудков, благодаря произошедшим "вспышкам" понимательных усилий, в том числе и своих собственных. Причем введенные нами различия между передним и задним фронтами познания (и соответственно, между формой и содержанием знания, его смысловой и информативной составляющими) носят условный характер, поскольку изменяются в ходе познания: то, что раньше выступало как неизвестное, становится известным, т.е. постепенно "вытесняется" в уже неосознаваемую "форму" ведения, неявное знание последующих актов познания.
Подводя итог этой части исследования, подчеркнем, что феномен знания занимает срединное, пограничное положение между первым и вторым из указанных предрассудков. С одной стороны, феномен знания нельзя соотносить с непосредственными эмпирическими данными наших органов чувств или физических приборов, поскольку знание связано с процессом вторичной сознательной обработки поступающей информации. С другой стороны, феномен знания нельзя соотносить с объективированной информацией, зафиксированной, например, в тексте (концепция Поппера), поскольку в данном случае не учитывается неинформативная смысловая составляющая этого феномена. Выявленное срединное положение знания позволяет сформулировать центральный тезис нашего исследования о том, что знание является сознательным феноменом и именно с этим связаны его наиболее существенные черты. Причем в данном случае под сознанием понимается не просто сопутствующая феномену знания "приставка" со-знания и не "хранилище" знаний (хотя память как "библиотека" знаний, является важной частью механизма сознания), а особый функциональный орган "переработки" (преобразования) информации, который превращает имеющиеся на чувственных рецепторах данные в собственно знание. Тем самым сознание - есть надпсихический механизм познания, который принципиально отличает его от психических процессов отражения. Соответственно местоположение феномена знания можно представить так (схема 1)7):
Приступим к более детальной характеристике знания как сознательного феномена. Для этого проанализируем акт чувственного восприятия и его сознательной обработки, с которого начинается любое познание. В качестве первого примера возьмем феномен "видения дома". Для того, чтобы "снять" уже накопившиеся в процессе культурного развития предрассудки и зафиксировать некоторый первоначальный процесс восприятия, проведем своеобразную феноменологическую редукцию, т.е. попробуем представить (и проанализировать) процесс восприятия как впервые совершающийся процесс. Необходимость этого связана с тем, что в сознании современного человека незаметно для него действуют некоторые "культурные машины", сформированные ранее и уже неосознаваемые индивидуумом "сцепления сознания" (ср. с ведением, или феноменом личностного знания Полани), которые обеспечивают необходимый автоматизм восприятия, например, "картинки" дома; соответственно задача такой редукции - выявить эти "сцепления" сознания. Дело здесь обстоит примерно так же, как при включении персонального компьютера, когда через несколько секунд на экране появляются две голубые таблицы Norton commander (или заставка Windows 95). Для начинающих пользователей собственно с этого и начинается работа ЭВМ, однако на самом деле появление этих "картинок" - не изначальное состояние машины, а результат предварительного автоматического исполнения при включении ЭВМ программы autoexec.bat, при выполнении которой в оперативную память компьютера загружаются скрытые (резидентные) программы, что предопределяет протекание всех последующих процессов работы и комфортный режим работы машины для пользователя. Вполне возможно, что возникающая у нас "картинка" дома является не началом обработки поступающего на нервные окончания глаза светового потока, а представляет собой результат предшествующего выполнения своего рода мыслительного autoexecа, т.е. ряда уже совершенных в истории развития человека "сцеплений" сознания, ранее эксплицированных как предрассудки, или ведение, и в силу этого, уже неосознаваемых отдельным индивидуумом мыслительных процедур. Прекрасный пример такой редукции дает Даниил Хармс в стихотворении "Что это было?", где поэт удивленно спрашивает, что это за существа, которые к ногам могут приделывать дощечки и крючки для передвижения по льду и снегу8):
Я шел зимою вдоль болота В галошах В шляпе И в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то На металлических крючках. Я побежал скорее к речке, А он бегом пустился в лес, К ногам приделал две дощечки Присел, Подпрыгнул И исчез. И долго я стоял у речки, И долго думал, сняв очки: Какие странные Дощечки И непонятные Крючки!
Допустим, что смотрим на дом впервые, т.е. до этого никогда с домами мы в нашем опыте не сталкивались. Вопрос, который стоит перед нами, может быть сформулирован так: дает ли нам непосредственный ("первичный") психофизиологический акт опытного восприятия - акт "смотрения" на данность, которую мы называем "домом" - видение дома, т.е. идентификацию его в качестве некоторой "целостности" дома, в качестве цельного объемного предмета. Или же видение дома как целого является результатом вторичной сознательной обработки первичной феноменологической данности? Проведем предложенную редукцию и дадим достаточное для цели нашего анализа следующее феноменологическое описание данности "феномена видения дома": передо мной находится предмет прямоугольной формы, содержащий в себе ряд вложенных небольших прямоугольных отверстий и чуть больших нижних прямоугольных ниш. Тем самым мы "сняли" ряд опосредований, связанных с употреблением терминов "дом", "окно", "дверь", которые являются результатом уже имеющегося у нас (пока что непонятно откуда взявшегося) знания. Но откуда мы получили знание о "домах", "окнах", "дверях"...?9) Не помогает здесь ссылка на то, что это знание мы получили в результате научения от родителей или в школе, поскольку здесь анализируется не акт конкретного восприятия дома тем или иным человеком, а акт восприятия дома в принципе (в рамках привычного для нашей культуры мировосприятия), и ставится принципиальный вопрос о механизме образования знания у человека, например, у первого человека, которого никто не мог научить какому-либо знанию. На первый взгляд кажется, что эту проблему можно решить ссылкой на предшествующий опыт. Ранее мы видели дома, и поэтому сейчас, воспринимая что-то похожее на дом, мы соотносим его именно с домом. Однако эта ссылка на предшествующий опыт не оправдывает себя, поскольку оказывается, что никогда и нигде, ни в каком чувственном опыте дом как нечто целое мы увидеть не могли. Вот что пишет по этому поводу М. Мамардашвили: "Допустим, что мы видим дом. Но если мы вдумаемся, видим ли мы его в действительности, то окажется, что не видим. То есть мы можем видеть всякий раз лишь какую-то часть дома, в зависимости от выбора точки наблюдения. Это может быть его крыша, та или иная стена, двери и т.д." [11]. Продолжая эту линию аргументации, можно сказать, что дом целиком никогда, ни в каком возможном опыте не дан нашему глазу, поскольку в силу нашей ограниченности, локализованности в пространстве мы можем наблюдать всякий раз лишь какую-то часть объекта восприятия, но не объект целиком. Причем это справедливо для любого другого "объемного" (трехмерного) предмета, независимо от его размеров10). Не спасает здесь и указание на то, что "картинка" предмета формируется нами благодаря синтезу, объединению различных проекций предмета с разных точек наблюдения, поскольку для подобного синтеза разных точек зрения у нас уже должна быть уверенность (уверенность или знание - ?!) в том, что мы наблюдаем один и тот же объект. Подтверждением этого может служить индийская притча о мудрецах, которых с завязанными глазами подвели к разным частям слона, дав им потрогать соответственно хобот, бивень, хвост, ногу слона, а потом изменили их положение и попросили ответить на вопрос о сходстве нового объекта со старым, на который, разумеется, был дан отрицательный ответ, поскольку бивень слона по своим тактильным ощущениям имеет мало общего, например, с его хвостом. Эта притча является прекрасным примером чисто психофизиологического акта восприятия, без привлечения опосредованных сознательных процедур и может служить примером феноменологического данности в процессе восприятия.
Феномен "видения дома" служит прекрасной иллюстрацией тезиса о срединном расположении знания, о знании как сознательном феномене (см. приведенную выше схему 1). С одной стороны, понятно, что "картинка" дома не возникает на физическом экране. С другой стороны, фраза "Некто видит дом" может быть совершенно непонятна и не нести никакой информации (т.е. не являться знанием) для существ, не обладающих способностью образовывать такого рода "картинки", даже если это существо способно к воспринимать феноменологическую данность.
Перейдем к анализу второго примера - феномену восприятия звуковой мелодии11), который в структурном плане во многом изоморфен первому, но является более "чистым" примером сознательного конструирования и позволяет рельефно выявить более тонкие особенности сознательных механизмов переработки информации.
Рассмотрим феномен восприятия последовательности музыкальных звуков, т.е. осуществим предварительную редукцию известного нам восприятия мелодии к ее феноменологической данности. В нашем случае такой "первичной" данностью будет набор звуков разной тональности, звучащих в разные моменты времени, т.е. некоторая таблица (аналогичная таблице Тихо Браге), фиксирующая высоту и время звучания. Возможны три принципиально различных способа восприятия этой данности, т.е. соответственно три возможных способа "оформления" этой данности с помощью воспринимающего прибора. Во-первых, эту данность можно воспринимать как последовательный набор звуков, не связанных между собой. Описание этого способа восприятия (сделанное человеком!) будет выглядеть примерно так: в момент Т1 звучала нота "до", в момент T2 - нота "ре" и т.д. Собственно это и есть более развернутое описание "первичной" данности, приведенное чуть выше, которое можно зафиксировать на первом - физическом экране схемы 1. Отметим, что мелодия как таковая, т.е как некоторая связанная последовательность звуков, при этом не воспринимается. Во-вторых (на том же физическом экране), звуковую мелодию можно воспринять как одномоментный "аккорд", состоящий из всех нот мелодии. Это происходит, если воспринимающий прибор представляет собой как бы открытый на все время восприятия объектив фотоаппарата, благодаря чему все различающиеся во времени сигналы попадают на один и тот же участок "фотопленки". Понятно, что и в этом случае мелодия как таковая не воспринимается. Если в первом случае набор звуков воспринимался как дискретная последовательность разных звуковых сигналов, то здесь фиксируется суммарная величина (или среднеарифметическая при определенном устройстве воспринимающего "фотоаппарата") звучания за весь интервал восприятия. Тем самым эти два возможных способа восприятия не отражают специфику человеческого способа обработки информации. Третий возможный способ восприятия занимает среднее положение между фиксацией последовательно-несвязанного набора звуков и "схлопыванием" этого набора звуков в аккорд. Это привычное для нас сознательное восприятие последовательности музыкальных звуков в качестве мелодии, т.е. восприятие дискретного набора звуков как некоторой целостности. Именно такой, сознательный, способ оформления информации (представленный уже на "экране" сознания) и порождает "мысленный конструкт" мелодии, что будет соответствовать феномену человеческого знания.
Продолжим анализ примера и постараемся ответить на вопрос: какова специфика построенного сознанием "мысленного конструкта"? Мелодия в качестве "мысленного" оформления последовательности звуков может быть охарактеризована как
1. связанная, 2. целостно-законченная, 3. осознанная в качестве сознательной "целостности". Обратим внимание прежде всего на третью из выделенных характеристик. Любой сознательный акт, помимо собственно деятельности конструирования, или синтеза, который на наш взгляд и является основным специфическим механизмом сознания, предполагает дополнительный к этой деятельности акт, вернее способность к осознанию (осознаванию) своей деятельности. В первом приближении эта способность сознания заключается в способности маркировать, идентифицировать любой "внутренний" - психический или собственно сознательный - процесс, как "внутренний", т.е происходящий "внутри" меня, как мое ощущение, желание, мысль... Этот "слабый", может быть изначальный, смысл термина "сознание", сопровождающий любой другой внутренний процесс, находит свое отражение в этимологии латинского термина "conscience" и может быть выражен дефисным написанием термина "сознание" как со-знание. Видимо, возрождение этой, восходящей к Аристотелю, традиции "слабого" понимания сознания в современное время принадлежит Фр. Брентано [12], хотя сходную характеристику сознания как дополнительной "приставки", сопровождающий любое знание, и дефисное написание этого слова можно найти в работе Вл. Соловьева [13]. Часто эту способность осознания отождествляют с рефлексией, что на наш взгляд не совсем корректно. Природа рефлексии как некоторого самостоятельного сознательного акта, предполагающего для своего осуществления некоторое особое сознательное усилие - сосредоточенность (внимание) на его выполнении, конечно восходит к этой способности сознания маркировать свои акты как собственное достояние, но не сводится к ней. Поскольку сам рефлексивный акт также сопровождается этим дополнительным "актом" осознания (осознавания)! Выделенная нами характеристика может быть соотнесена со способностью человеческого существа к "трансцендентальному единству апперцепции" [9]. Кратко поясним вкладываемый нами в это выражение смысл. Речь идет о том, что вводя инстанцию декартовского cogito, которое обычно трактуется как инстанция сознания, мы фактически вводим бинарную структуру, а именно связку сознание-самосознание, причем, если первый член этот связки - сознание - понимается как экспликация отличных от пассивно-перцептивных психических механизмов отражения, собственно сознательных механизмов, среди которых важнейшими являются активные, или спонтанные аналитико-синтетические акты, то второй член этой связки самосознание - призван указать на другое необходимое (трансцендентальное) условие этой активности, а именно способность представлять, или осознавать свои "внутренние" представления. Тем самым инстанция cogito связана с появлением, во-первых, особого "внутреннего экрана" - экрана сознания, на котором представлены результаты психической репрезентации (отражения)12), и, во-вторых, с введением самосознания в качестве как бы стороннего наблюдателя за "экраном сознания". Последнее можно трактовать, как появление на "экране сознания", в противоположность юмовской трактовке сознания, особой выделенной точки "Я" - некоторой устойчивости, некоторой выделенной "точки отсчета", наличие которой позволяет структурировать, или "разметить" весь "экран сознания". Именно эта разметка "экрана сознания", т.е маркировка всего имеющегося на экране как сознательного (приставка со-), является трансцендентальным условием для последующей, собственно сознательной, обработки имеющегося на экране, поскольку дает возможность для активной деятельности по его варьированию, комбинированию, преобразованию, т.е. является условием для последующей аналитико-синтетической деятельности. Результаты этой деятельности относятся уже не к области психики, а к области сознания.
Если снова вернуться нашему анализу восприятия мелодии, то выделенная нами характеристика осознанности мелодии проявляется в том, что мелодия как некоторая последовательность звуков осознается, т.е. фиксируется самосознанием на "экране сознания" как факт сознания. Понятно, что для восприятия мелодии мы любой предшествующий звук должны каким-то образом "пометить" (т.е. осознать) как предшествующий и "сохранить" (т.е. запомнить)13), для того чтобы его впоследствии можно было "связать" с последующими звуками. "Помечание" звука и есть начало собственно сознательной обработки информации. Теперь отдельный звук есть не просто психический феномен, а выступает как отмеченный на "экране сознания" первичный факт сознания, который может быть впоследствии соотнесен - связан - с другими первичными сознательными фактами. Что такое первичный факт сознания? Чем он отличается от факта, представленного на физическом экране схемы 1, который в рамках введенного противопоставления "сознание versus психика" может быть соотнесен с психическим фактом? Допустим, что мы видим кошку около блюдца с молоком, которая издает звук "мяу". Означает ли этот звук, что кошка видит молоко в том же смысле, что и мы, т.е. как некоторую структурированную целостность? Полагать это было бы слишком опрометчиво. Конечно, кошка как-то репрезентирует описанную выше ситуацию и что-то видит, но "видит" ли она молоко в том же самом смысле, что мы, т.е. в качестве некоторой особой субстанции, отличной от имеющихся у нее свойств "белизны", "вкуса"...; фиксирует ли она субстанциональную специфику молока как жидкости; отличает ли она молоко от емкости, в которое молоко налито; сможет ли она идентифицировать молоко от другой беловатой жидкости в прозрачной, но полностью герметичной упаковке? Ряд поставленных вопросов дает понять, что "экран сознания" является не просто однородным зеркалом, в котором "отражаются" поступающие от наших рецепторов данные, а некоторым структурированным n-мерным семантическим пространством. Структурирование этого пространства определяется прежде всего принимаемой и зафиксированной в языке категориальной сеткой (например категориальной сеткой Аристотеля), которая фактически "расщепляет" введенный нами единый "экран сознания" на ряд категориальных "экранов сознания". То, о чем шла речь выше, является лишь черновым наброском не исследуемых здесь подробно сознательных механизмов аналитической деятельности, задача которых - дать более "четкую", хорошо дифференцированную "картинку" происходящего. Здесь нам хотелось бы обратить внимание, что наряду с этой аналитической деятельностью рассудка существует не менее важная для понимания специфики сознательных механизмов и более изначальная для последующей аналитической работы синтетическая деятельность воображения14). Ведь для того, чтобы аналитически уточнять картину происходящего и проводить ее категориальную обработку, сначала необходимо сформировать "картинку", или образ, т.е. образовать из массы однородных данных какую-то устойчивую формально-эйдосную структуру15). Мы смотрим на звездное небо, состоящее из множества светящихся точек (звезд), и упаковываем этот хаос в созвездия. Мы смотрим на причудливое нагромождение камней и вдруг замечаем изображение человеческого лица. Примеры подобного рода можно множить и множить, поскольку результаты этой работы видны на каждом шагу. Один из них, связанный с "догадкой" Кеплера, мы уже приводили в начале статьи. То же самое происходит, когда мы говорим: "Это - молоко!". Важно понимать при этом, что молоко - такой же "конструкт" воображения, как и созвездия, который, может быть, в принципе не доступен на уровне психического отражения действительности. Первичными фактами "экрана сознания" являются такого рода "конструкты", "картинки", или целостности, которые являются "надстройкой", структурированием исходного материала, поставляемого психикой. В случае с восприятием мелодии таким исходным фактом "картинкой" - сознания является выделение звуков "до", "ре", "ми"... определенной тональности и длительности, т.е. определенное структурирование, разметка "звуковой реальности", отвлечение от шумовых эффектов и сосредоточение внимания на выделенных сознанием фактах. Такое же структурирование происходит и позже, на следующем уровне структурирования, когда образуется законченная мелодия как таковая, т.е происходит структурирование нот - целостностей первого уровня - в более высокую мета-целостность мелодии.
Хотелось бы обратить внимание на трудность, возникающую при исследовании целостностей как фактов сознания. Эта трудность заключается в том, что эти явления настолько привычны для нас как сознательных существ, что кажутся нам не результатом вторичной (образной) обработки, а самой первичной реальностью. Как говорил К. Маркс: самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы наличием у него внутреннего плана-образа будущей постройки. Эту мысль можно было бы усилить. Человек как сознательное существо "пронизывает" образами не только свою внутреннюю, но и внешнюю жизнь. Он все воспринимает как некоторый образ ("картинку"), а изначальная цель образования - приучить его к такому образному восприятию реальности. Более того, результаты этой деятельности воображения, с чем связана сложность ее экспликации, прочно укоренились в грамматическом строе языка. Речь идет о существенно субстанциональном характере большинства европейских языков, проявляющемся в функционировании института имен существительных, что, как показали исследования Сэпира-Уорфа, не является обязательным элементом языка вообще. Например, в языке американских индейцов нутка преобладающими являются глагольные формы и явление падающего камня, которое в европейских языках описывается фразой "Камень падает", выражается с помощью сложного глагольного слова "Камнит". Институт имен существительных служит для фиксации в языке результатов деятельности сознания по "образному" структурированию реальности. Для того чтобы дать "почувствовать" феномен образности языка воспользуемся примером более образного, по сравнению с европейским мировосприятием, языка, взятым из [15]. В языке индейского племени чинук Северной Америки правомерна фраза: "Злоба мужчины убила бедность ребенка", в которой подчеркнутые нами существительные, служащие для обозначения более абстрактных объектов платоновского типа, не соответствуют европейской интуиции устройства мира, поскольку для европейца злоба и бедность репрезентируют не самостоятельные предметы, лишь свойства предметов (что фиксируется в языке с помощью прилагательных). Соответственно, европейская фраза звучала бы так: "Злобный (злой) мужчина убил бедного (беззащитного) ребенка". Если обратиться к нашему примеру "видения дома", то можно сказать, что мы видим уже определенным образом структурированную ситуацию, где дом занимает центральное место, а другие элементы ситуации игнорируются нашим "видением" и соответствующим ему описанием. В несколько мистифицированной форме эту фундаментальную особенность человеческого сознания, видимо, впервые осознал Платон, постулировав причастность человеческой души к "миру идей", который является не чем иным, как совокупностью образов. В отличие от рассуждений Платона, наш тезис имеет более слабый онтологический статус (см. прим. 6). Он заключается в том, что человеческое сознание обладает способностью к порождению образов - целостностей, и именно эта способность, которая может быть названа творческой способностью воображения, или фантазированием, коренным образом отличает сознание от психических механизмов обработки информации16). Примечательно, что именно эта способность определяет сущность собственно человеческого в библейском мифе о сотворении человека. Чем человек, созданный по образу и подобию Бога, отличается от остальных тварей? Тем, что он может давать имена всему окружающему. Но для этого он должен предварительно сформировать на "экране" своего сознания образ того, чему он собирается дать имя, образовать некоторую целостность, отличающуюся от других составляющих окружающего, увидеть, например, лошадь, в ее автономной законченности и отличить ее от окружающих деревьев, камней, очертаний гор. Причем в этом образно-именующем акте человек подобен Богу, поскольку он творит то, чего до этого не было, творит, если не в субстратном (материальном), то в структурном (=идеальном, =смысловом, =эйдосном) плане: лошади как таковой до этого акта именования просто не было, точно так же, как нельзя на физическом экране найти дома, нот, созвездий... М. Бахтин характеризует эту творческую природу человеческого сознания как деятельность по радикальному преобразованию бытия (мира) в надбытие [17] 17).
Главная черта целостностей сознания - их фантомный характер. Они не существуют в том же естественно-природном смысле, в котором существуют элементы, из которых сознание (воображение) их создает: не существует столов, стульев, цветов, полей, рек...- все это фантомы нашего сознания. Более яркий пример фантазийной деятельности - конструирование "рассудочных" понятий (категорий), без которых рассудочная деятельность просто не может начаться, а еще более яркий - создание кантовских "идей разума" (Мир - Я Бог), которые вообще являются чистыми фикциями, т.е. не являются объектами в обычном смысле этого слова, поскольку человек как субъект познания всегда находится "внутри" этих целостностей и не может "выпрыгнуть" из них, посмотреть на них со стороны [18, 19] 18). Для того чтобы подчеркнуть существенно фантомный характер нашего знания, подойду к нему с другой стороны. Зададимся вопросом: чем экран сознания принципиально отличается от физического экрана (см. схему 1)? Очевидно, что содержимое физического (психического) экрана полностью детерминировано поступающими на него сигналами. Для того чтобы получить на физическом экране изображение цветка, нам необходимо наличие цветка вне экрана и возможность его воздействия на экран. Т.е. невозможно на физическом экране получение копии без внешнего воздействия оригинала. По отношению к экрану сознания это требование наличия оригинала в общем случае не необходимо: здесь можно получить изображение цветка, не имея реального прообраза, т.е. без оригинала. Тем самым сознание создает такие "чистые" фантомы, которые трудно отличить от фантомов-образов, имеющих реальные прообразы. Это связано с самоактивностью, или спонтанностью сознания, проявляющейся в способности воображения (фантазирования). Причем нередко эти чистые фантомы сознания получают статус даже более чем реального существования. Вспомните, например, поиск в нашей стране в 30-е годы "врагов народа", который увенчался более чем грандиозным успехом.
Приведем небольшой отрывок из работы У. Матураны, в котором отмеченная нами фундаментальная способность человеческого сознания по созданию образов (Матурана использует для экспликации этого термин описание, который в данном случае несет сходную смысловую нагрузку с термином образ) сопоставляется с принципиально отличным от него "процедурным" типом жизнедеятельности:
"Предположим, что нам необходимо построить два дома. С этой целью мы нанимаем две группы рабочих по тринадцать человек в каждой. Одного из рабочих первой группы мы назначаем руководителем и даем ему книгу, в которой содержатся все планы дома со стандартными схемами расположения стен, водопроводных труб, электрических проводов, окон и т.д., а кроме того, несколько изображений дома в перспективе. Рабочие изучают эти планы и по указаниям руководителя строят дом, непрерывно приближаясь к конечному состоянию, которое определено описанием.
Во второй группе руководителя мы не назначаем, а расставляем рабочих, определяя для каждого исходное положение на рабочем участке, и даем каждому из них одинаковую книгу, в которой содержатся указания относительно ближайшего пространства вокруг него. В этих указаниях нет таких слов, как дом, трубы, окна, в них нет также ни планов, ни чертежей дома, который предстоит построить. Эти указания, касающееся только того, что рабочий должен делать, находясь в различных положениях и в различных отношениях, в которых он оказывается по мере того, как его положение и отношения изменяются. Хотя все книги одинаковы, рабочие вычитывают из них и применяют различные указания потому, что они начинают свою работу, находясь в разных положениях, и движутся после этого по разным траекториям изменения. Конечный результат в обоих случаях будет один и тот же, а именно [построенный] дом" [20, с.136-137].
Как отмечает Матурана, второй способ соответствует биологическому механизму генома и нервной системы, который может быть соотнесен с некоторой алгоритмической процедурой, успешно реализуемой на современных ЭВМ. К положительным чертам этого механизма относится его безусловная эффективность, которая достигается за счет жесткой детерминации локальных действий. Правда, за эту эффективность приходится расплачиваться тем, что случайный сбой на каком-либо шаге процедуры приводит к фатальной неудаче, поскольку здесь нет механизма корректировки ошибок. После ошибки действие алгоритма (действия рабочих) вполне возможно будут продолжаться и даже вполне возможно алгоритм завершит свою работу, но конечный результат может сильно отличаться от первоначальной цели строительства - дом не будет построен, поскольку представления о конечной цели строительства у рабочих этой группы, в отличие от рабочих первой группы или стороннего наблюдателя, имеющего образ цели строительства, просто нет.
Первый способ строительства дома, опирающийся на предварительное создание "картинок" дома, окна, трубы..., присущ сознательным системам, к которым относится и человек. Тем самым любое действие опосредуется предшествующим ему образом, который находится во "внутреннем" плане действователя (строителя в данном случае, или человека в общем случае) и фиксируется его самосознанием. Кажется, что этот способ менее эффективен, так как здесь нет четких процедурных инструкций. Вместо того, чтобы дать процедурную команду типа "Подай!", выраженную глаголом, строителю сообщают декларативное описание типа "Кирпич!" (выраженное существительным), не конкретизируя необходимую процедуру. "Внутреннее" опосредование команды замедляет ее выполнение. Более того, в этом случае вполне может быть нарушена необходимая технологическая цепочка и будет построен дом с множеством недостатков, что сплошь и рядом наблюдается в повседневной жизни (в русском языке существует даже специальный термин - халтура - для обозначения этого феномена). Однако у этого способа есть одно важное преимущество, а именно невозможность фатальной ошибки, которая приводит системы первого типа к тому, что дом не будет построен. В силу того, что у действователя есть "картинка" конечной цели цепочки действий, появляется возможность корректировки ошибок. Можно сказать, что системы этого типа (сознательные системы) обладают двумя замечательными свойствами. С одной стороны, у этих систем появляется свобода воли, которая состоит в том, что действователь (человек) может изменять в определенных пределах последовательность и содержание своих действий. Человек как сознательное существо не связан жесткой процедурной (алгоритмической) инструкцией и может в определенных пределах варьировать последовательность и содержание своих действий. С другой стороны, у систем такого типа появляется новый тип детерминации, отсутствующий в жестких алгоритмических системах: приобретенная свобода накладывает свои ограничения: (ср. с известным положением "Свобода - есть осознанная необходимость"). Речь идет о так называемой целевой детерминации, ошибочно распространенной Аристотелем в качестве универсальной причины на любые природные явления. Суть этого феномена заключается в том, что на действия человека оказывают влияние не только обычные причины, предшествующие во времени его действиям (хотя влияние этих причин ослабляется появляющейся свободой), но и дополнительная к физическим детерминантам "фантомная" целевая причина которая, в отличие от обычных причин как бы находится в будущем; его поведение детерминируется не только цепочкой предшествующих физических событий, но и находящейся в его самосознании "картинкой" конечной цели его действий. Его конкретное действие (в рамках разбираемого нами примера строительства дома) определяется не только тем, что он как исполнительный "винтик", находясь внутри технологического процесса, выполняет ту или иную локальную операцию, не задумываясь о сути происходящего, но и тем, что он, конструируя образ дома - цель своей деятельности, тем самым занимает позицию внешнего наблюдателя и становится подобным Богу. Эта причинность фиксируется в языке указанием на имеющиеся во внутреннем мире человека такие феномены сознания, как воля, желания, побуждения, вера, надежда..., без учета которых нельзя предсказать (объяснить) поведение человека как "сознательной системы".
Одна из особенностей фантазийного конструирования - возможность творческой ошибки. Этот феномен возникает, когда сознание пытается сформулировать некоторую "догадку" о происходящем, которая впоследствии оказывается неверной. Например, в приведенном в начале статьи примере с движением планет в качестве начальной догадки может выступать гипотеза о движении планет по круговым орбитам, которая неверна. Важно подчеркнуть, что связанная с синтезом воображения возможность ошибки не является чем-то случайным, а заложена в само основание человеческой способности фантазирования. Ядром фантазирования является механизм "опережающего отражения". Суть этого механизма заключается в том, что сознание вместо того, чтобы отразить имеющееся (понятно, что абсолютно точное и полное отражение в принципе невозможно, поскольку любое отражение является некоторой аппроксимацией действительности), как бы забегает вперед и "строит" (с помощью воображения) возможную модель, заведомо превышающую потребность решения локальной задачи, стоящей перед ним. И только потом начинает проверять допустимость, адекватность и ограничения построенной модели. В методологическом отношении этот механизм выражается тезисом Н. Бора о полезности для развития науки "сумасшедших идей" или указанием К. Поппера на полезность и даже необходимость "смелых допущений". Есть ли достаточные основания для этого? Думаю, что да. Допустим, нам надо принять решение в непростой ситуации в условиях жесткого временного цейтнота. Рассудочный механизм последовательного перебора вариантов решения неприемлем из-за длительного времени работы, а решение необходимо принимать быстро. Описанный выше механизм образного структурирования реальности, осуществленный с помощью способности воображения, позволяет мгновенно, без перебора вариантов, "схватить идею" решения и начать незамедлительно действовать, что компенсирует собой ее возможную некорректность. Видимо, с точки зрения выживания этот механизм оказался достаточно эффективным, получил мощное развитие в ходе эволюции и привел к его систематическому использованию как одного из основных механизмов сознания. К сожалению, отметим, что этот механизм еще не получил должной философской проработки, хотя некоторые подходы к его анализу существуют. Речь идет о выявленном марксизмом феномене так называемых превращенных форм, задача которых заключается в том, чтобы дать возможность быстрого ориентирования и относительно успешного поведения в условиях сложно организованной среды [21]. Примером такой "превращенной формы" в условиях экономики является формула "Д - Д+", которая дает простую стратегию поведения, заключающуюся в том, что имея определенное количество денег, можно получить их большее количество, просто положив их, например, в банк. Понятно, что закономерность, выраженная формулой "Д - Д+" слишком груба, и не срабатывает, например, в условиях нестабильности банковской системы.. Как показал в свое время К. Маркс, эта формула должна быть уточнена путем введения в ее состав фактора человеческого труда, который и осуществляет собственно производство прибавочной стоимости, т.е. она должна выглядеть так: "Д - Т - .. - Т+ - Д+". Современная экономическая теория в еще большей степени корректирует первичную закономерность, зафиксированную в формуле "Д - Д+". Но оказывается, что несмотря на заведомую "топорность" первичной "превращенной формы", использование ее как тактики поведения в повседневной жизни (в условиях стабильной экономики) правомерно. С другой стороны, "превращенные формы" являются достаточно устойчивыми образованиями сознания. Наглядным примером устойчивого "сцепления сознания" является фраза "Солнце всходит" [21], которая также основана на неверном с точки зрения современной науки допущении о движении Солнца вокруг Земли, но, несмотря на господство в современном научном мировоззрении коперниканской концепции, продолжает функционировать на уровне обыденного сознания и, более того, выполнять роль основной концептуальной схемы для широкого спектра практической деятельности. В частности, именно на основе этой "превращенной формы" осуществляется успешное локальное ориентирование: например, определение востока как стороны "восходящего солнца" или ориентирование на местности с использованием положения Солнца. Другим примером устойчивой "превращенной формы" - "сцепления сознания" - является астрология, в основе которой, если вдуматься, лежит придание бытийственного статуса созвездиям как "мысленным конструктам" второго уровня. Понятно, что какое-то рациональное зерно в тезисе о влиянии созвездий (+ Солнца и планет) на человека есть, но можно ли на основании этих фантомных "мысленных конструктов" сознания делать предсказания, претендующие на научную точность и строгость? 19)
Для прояснения сути феномена творческой ошибки приведу описание интересного эксперимента, идея которого принадлежит С. Маслову (если читатель имеет элементарную математическую подготовку, то он может провести его на себе и убедиться в правомерности итогов нашего анализа) [22].
Начало эксперимента
Пусть нам дано следующее исчисление:
алфавит исчисления - {a, b}
правильно построенной формулой (п.п.ф.) будем считать любое, возможно пустое, слово. Например, abba, baba суть п.п.ф. исчисления.
аксиомой исчисления является слово abb;
правила вывода: 1. bXbY =>XYbb
2. XabYbZ =>XbYabaZ ; где X, Y, Z - п.п.ф.исчисления
Выводом будем называть последовательность п.п.ф., начинающуюся с аксиомы исчисления, каждая формула которой получена по правилам вывода из предшествующих формул последовательности.
Например, если нам дана формула babab, то мы можем, применяя первое правило вывода, получить либо формулу ababb, при отождествлении X с aba, а Y - с пустым словом (формула babab представляется как babab__), либо формулу aabbb при отождествлении X с a, а Y - с ab (формула babab в данном случае представляется как babab). В данном случае к формуле babab применимо и второе правило вывода, которое позволяет получить формулу bbaaba, при отождествлении X с первым b, Y- со вторым a, Z- с пустым словом (т.е. если формулу представлять как babab).
Собственно эксперимент заключается в построении вывода в условиях жесткого временного цейтнота (2-3 минуты). Вопрос таков: выводима ли в исчислении формула aaaaaaaaaaaaaabb (a <14> bb)?
Конец эксперимента
Анализ эксперимента
Важным итогом эксперимента является постулирование ошибочного утверждения о выводимости данной формулы. При проведении эксперимента в различных аудиториях в зависимости от ужесточения временного цейтнота процент неправильных ответов колебался, причем, что интересно отметить, математическая подготовка аудитории при ужесточении временного цейтнота часто оказывала весьма плохую услугу, повышая удельный вес неправильных ответов. Анализируя условия эксперимента, можно видеть, что появление неправильных ответов связано с тем, что начальные шаги построения вывода: abb - baba - aabb - ababa - baabaa - aaaabb - .... подталкивают к формулированию естественной и кажущейся верной догадке, что выводимыми в данном исчислении являются формулы вида a <2n> bb, ошибочность которой становится очевидной при дальнейшем построении вывода.
Временные ограничения как раз и необходимы для того, чтобы испытуемый успел проделать всего лишь несколько первых шагов построения, экстраполяция которых и приводит к порождению ошибочной гипотезы, вероятность формулирования которой усиливается при наличии у испытуемых математической интуиции.
Зададимся вопросом: способны ли на подобные ошибки стандартные программы "искусственного интеллекта"? Очевидно, что нет, поскольку этому препятствует сама идеология построения такого рода систем. Конечно, любая система "искусственного интеллекта" может ошибиться в результате случайного технического сбоя, но механизма систематического порождения творческих ошибок, которым обладает сознание как "орган" переработки информации, у систем машинного интеллекта нет. Следовательно необходимо отличать сознание не только от физических приборов, но и от существующих систем "искусственного интеллекта", которые на сегодняшний день далеки от моделирования глубинных механизмов сознания, например, механизма "схватывания" идей20). Соответственно в составе любого человеческого знания в том или ином виде присутствуют указанные выше превращенные формы, например, помимо уже приведенных примеров, можно вспомнить о концепциях теплорода или флогистона в физике, которые на определенном этапе развития познания позволяют дать универсальные объяснительные схемы для широкого класса явлений. В рамках этого становится понятным статус (и необходимость!) метафизических концепций, которые в свете вышесказанного можно трактовать как своеобразные превращенные формы21). Их задача обеспечить необходимое для развертывания познавательной активности "поле" ведения ("карту незнаемого"), т.е. выполнить роль медиатора (и катализатора), что, как отмечалось выше, необходимо для "запуска" и развертывания любого познавательного процесса.
В заключении этой части исследования, посвященной механизму фантазийного конструирования, обратим внимание на еще один интересный - семиотический аспект проблемы. Для создания и нормального функционирования "мысленных конструктов" в общем случае необходим переход к языку с более богатыми выразительными возможностями. Вспомним пример с восприятием мелодии. Термин "мелодия" выражает новое понятие, которое невыразимо на "языке" фиксации первичных чувственных данных. Таким же метаязыковым статусом обладает и любой другой термин, служащий для обозначения целостностей. Рассмотрим пример из нашей обыденной жизни: мы подходим к кассе и получаем зарплату. Проведя введенную выше феноменологическую редукцию, надо было бы сказать, что на самом деле происходит процесс получения нами определенного количества денежных знаков. Однако мы описываем это более экономным способом, говоря, что мы получаем зарплату. Введенный нами термин зарплата является термином метаязыка. С точки зрения стороннего наблюдателя, который не ведает о феномене заработной платы, термин зарплата избыточен для описания ситуации получения денежных знаков, поскольку получение зарплаты является для него такой же фикцией, как и видение человеком на звездном небе созвездий. Релевантен в данном случае и пример Х. Патнема, который справедливо замечает, что феномен прохождения колышка размером 15/16 дюйма через квадратное дюймовое отверстие и невозможность его прохождения через круглое дюймовое отверстие прекрасно фиксируется на языке обычной механики, но принципиально не может быть описан на более "тонком" языке квантовой механики [24]. В свете нашего анализа это связано с тем, что язык макрофизики (механики), в котором фигурируют такие метапонятия, как круглость, квадратность, твердость, является метаязыком по отношению к языку квантовой механики. А это означает, что выразительные возможности языка классической механики достаточны для выражения метапонятий, а он сам, в силу этого, является достаточно эффективным языком22).
В этой связи отметим два обстоятельства. С одной стороны, такой переход к метаязыку позволяет повысить эффективность человеческой деятельности. Приведем для подтверждения этого тезиса лишь один красноречивый пример, взятый из области логики.
Пусть нам дано аксиоматическое исчисление:
Как отмечается в [25], вывод W в данном исчислении занимает около двух страниц. Однако ситуацию можно принципиально изменить, если ввести новую абстракцию - метапонятие - "четное число", что, в свою очередь, предполагает переход к метаязыку с более богатыми выразительными возможностями. В рамках метаязыка задачи вывода формулы решаются тривиально, простым подсчетом "четности" встречающихся в формуле переменных, а корректность этой процедуры обеспечивается теоремой: каждое высказывание W, построенное только из пропозициональных переменных с помощью связки эквивалентности "? " таким образом, что любая пропозициональная переменная p входит в W четное число раз является теоремой. Обобщая этот пример, можно высказать следующий тезис: существенный прогресс в развитии той или иной области знания связан с появлением в ее аппарате новых целостностей (абстракций), для выражения которых необходим переход к метаязыку с более богатыми выразительными возможностями. Особенно нагляден в этом отношении "переход от арифметики к алгебре, который связан с появлением языка X-ов и Y-ов и правил преобразований в этом языке" [23].
С другой стороны, использование фантазийных механизмов накладывает определенные требования на язык, используемый для фиксации знания. Этот язык должен обладать свойством семантической незамкнутости, т.е. быть смесью языков разного уровня. Собственно говоря, уже само различение синтаксической и семантической составляющих языка указывает на этот (семантический) менее формализуемый уровень языка (см., например, теорему А. Тарского о невыразимости семантических понятий в синтаксисе). Такой язык должен достаточно легко, без существенной перестройки "нижних этажей", достраиваться за счет расширения семантики, т.е. путем введения в его состав новых целостностей, образованных механизмом фантазирования. С этой точки зрения естественный язык, который калькирует стоящий за ним "внутренний" язык сознания (lingua mentalis) хорошо согласованы с образным механизмом сознания23).
Есть ли другие, помимо образности, особенности знания, детерминированные спецификой и устройством его познавательных (сознательных) механизмов? Безусловно. Если обратиться к приведенной выше схеме 1, то, как бы мы к этому ни относились, К. Поппер прав: преимущественной формой культурного функционирования знания является текст. Зададимся вопросом: что делает возможным "оформление" образного знания в текст; какой механизм сознания стоит за этим преобразованием? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что таким механизмом является рассудок, задача которого заключается в том, чтобы "преобразовать" имеющееся на "экране" сознания и "свернутое" в идею знание в некоторую "растянутую" последовательность, доступную другому сознанию. Речь идет о рассудочно-дискурсивном преобразовании образованного воображением образного знания человек, в силу специфики устройства "органа" сознания, никогда не может выразить одномоментно, например, передать имеющуюся у него мысль мгновенно телепатически, а вынужден передавать ее последовательно, небольшими дискретными порциями с помощью языка. Вспомним наш пример с восприятием мелодии. Представьте, что кто-то просит вас передать суть того, что мы "схватили" в качестве мелодии. Единственно возможный способ полноценного ответа - напеть ее, или придумать специальный язык (нотная запись), с помощью которого мы сможем записать ее так, чтобы передать ее последовательно-временной характер. Причем дело здесь не в изначальной дискурсивности языка, а в специфике устройства сознания: дискурсивность языка есть лишь следствие изначальной дискурсивности рассудочного механизма сознания человека. Судя по всему, рассудочные механизмы сознания человека - более поздние эволюционные образования, чем образно-фантазийные механизмы воображения. Появление рассудочно-дискурсивных механизмов сознания фиксируется в более позднем, по сравнению с мифом о сотворении, библейском мифе о грехопадении человека, в котором описывается важное онтологическое событие - возникновение современного "греховного" человека. Правда, в большинстве интерпретаций мифа о грехопадении это первичное событие как бы спрятано за вторичным событием вкушения от древа добра и зла, на которое и обращают основное внимание. Речь идет об событии вкушения от древа познания24). Это событие имеет два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, в результате акта грехопадения человек начинает выделять себя из окружающей действительности, т.е. здесь появляется зачатки сознания как "Я", последующее развитие которого привело к формированию инстанции cogito, что было зафиксировано Декартом. С другой стороны, в акте грехопадения появляется сознание как новый "орган" познания, т.е. рассудок (разум), который позволяет человеку проводить аналитические процедуры сравнения или различения, без которых невозможен никакой познавательный акт25). Отличение добра от зла - только один из примеров этой рассудочно-познавательной деятельности "греховного" человека. Не случайно, что одним из первых актов "греховного" человека (помимо прикрытия своей наготы) является осуществление рассудочной операции логического рассуждения, с помощью которого Адам оправдывается перед Богом. Ее осуществление свидетельствует о важном изменении "внутреннего" мира Адама: появлении у него сознания. Таким образом, рациональное ядро мифа о грехопадении заключается в том, что здесь фиксируется момент завершения процесса формирования механизма сознания человека, вернее второй его составляющей - рассудка, одна из задач которого заключается в последовательно-дискурсивном развертывании открывшейся человеку в фантазийном акте "схватывания" идеи, в аналитическом "распутывании" сформировавшегося у него образа.
Другой, помимо аналитической, важной функцией рассудка является его синтетическая деятельность по связыванию полученных в результате анализа элементов содержания. В нашем примере мелодия воспринимается нами как связанная последовательность звуков. Связанность мелодии - есть результат ее рассудочной обработки. Способность связывания, т.е. привнесение правил упорядочивания в многообразное содержание посредством "временных схем", является прерогативой рассудка: рассудок, по Канту, и есть спонтанная способность связывания26). Заметим в этой связи, что синтез, осуществляемый рассудком, с одной стороны, уже использует результаты предшествующего синтеза воображения и рассудочной дискурсивно-аналитической проработки, являясь в этом смысле мета-синтезом, а с другой стороны, синтез рассудка отличается от синтеза воображения тем, что он является синтезом другого рода - последовательным синтезом. Целостность нот или дома, образованная воображением, является как бы нерасчлененным единством, простой формой, неразложимой далее на составные части, главное назначение которой отличение разных целостностей друг от друга. Это как бы качественный (предварительный) уровень познания, когда мы просто отличаем луг, например, от леса, не умея еще дать более детальную спецификацию этого отличия. На этом этапе мы проводим разграничительные линии, не выявляя внутренней структуры сконструированных воображением феноменов (этап описания). Рассудочная обработка представляет собой дальнейший этап, когда делается попытка выявить внутреннюю структуру целостности, выявить правила связывания элементов структуры, а в идеале достичь такого конструктивного объяснения, которое позволит воссоздавать исследуемый предмет (этап объяснения). Одним из эффектов этой рассудочной деятельности по выявлению правил связывания элементов является возможность порождения целостностей более высокого порядка. Достаточно хорошо это можно проиллюстрировать на примере феномена языка. Зададимся вопросом: что делает язык языком; чем язык отличается от отдельных выкриков животных; что является элементарной ячейкой языка? Чуть ранее мы выявили в языке важный институт имен существительных, которые образуют понятийную структуру языка. Но можно ли трактовать понятия как элементарную структуру языка? Видимо, нет. Язык делает языком не набор исходных, образованных воображением понятий, а предложение. Звук "мяу", издаваемый кошкой при виде молока, и человеческое слово "молоко" при всех их различиях являются только исходным материалом, но сами по себе не выражают мысли. Мыслью будет предложение "молоко горячее", т.е. некоторый новый синтез, заключающийся в связывании между собой представлений (=образов) о "молоке" и "теплоте (горячести)". Любое предложение является результатом такого рассудочного связывания, и именно это отличает человеческий язык от звуков, издаваемых животными. В нашем примере с мелодией связывание звуков приводит к образованию новой, более высокой целостности - целостности мелодии как связанной последовательности нот, осуществленной по законам музыкальной гармонии. И вслед за последовательным синтезом рассудка снова вступает в игру воображение. Представление мелодии в качестве целостности - это новый, следующий за рассудочной обработкой акт воображения, более компактно представляющий результаты аналитико-синтетической работы рассудка. Воображение как бы принимает эстафету рассудка и пытается "схватить идею" мелодии, т.е. представляет ее как некоторую простую "форму" - целостность, что позволяет предвосхитить последующий ход ее звучания, точно так же, как "схватывание идеи" (понимание) математического доказательства позволяет предвосхитить его ход и впоследствии существенно сократить процесс его полного пошагового развертывания.
Заключение
Подведем итоги нашего исследования. При анализе феномена знания было выявлено, что знание появляется на особом "экране сознания" в результате вторичной - сознательной - обработки поступающих на органы чувств данных, т.е. является сознательным феноменом, и имеет образно-дискурсивный характер или, говоря платоновским языком, содержит в своем составе структуры Зримого и Говоримого. Образный характер феномена знания связан с кантовской способностью воображения, а его дискурсивный характер - с деятельностью рассудка. Тем самым в основе сознательной обработки информации лежит двоякий синтез: образно-эйдетический синтез воображения (фантазирования) и последовательный, основанный на предварительной аналитическо-дискурсивной проработке синтез рассудка, которые взаимно дополняют и переходят друг в друг. Их взаимодействие в ходе длительной эволюции образуют сознание как функциональный "орган" человеческого познания, который принципиально отличается от физических приборов, механизмов психического отражения и существующих систем "искусственного интеллекта".
ПРИМЕЧАНИЯ
1) В этой связи заметим, что способ функционирования глагола знать во многих случаях идентичен словоупотреблению термина знание, если термин знание фиксирует состояние некоторой особой, познавательной активности субъекта. В этом смысле термин "знать" и означает знать знания, или состояние знания некоторых знаний, хотя при этом необходимо отличать глагол знать от выделенных с помощью подчеркивания знаний как итога, результата уже свершившегося и "угасшего" познавательного процесса. В силу этого вопрос "что значит ЗНАТЬ?" может быть редуцирован к вопросу "что значит ЗНАНИЕ?" Если попробовать указать на ближайший смысловой аналог такого понимания глагола знать, то таковым будет глагол понимать, который также обозначает некоторое особое сознательное состояние субъекта. Это отождествление состояний знания и понимания необходимо иметь в виду при дальнейшем чтении.
2) В рамках второго предрассудка, который мы сейчас обсуждаем, справедлив близкий нам более "слабый", чем попперовский, тезис о знаковой природе знания, который блокирует ситуацию "тайного", не выразимого в словах знания, отстаиваемого, например, мистиками.
3) Разрешение этой сложной и самостоятельной проблемы (размыкание герменевтического круга типа "курица - яйцо"), которую на наш взгляд можно решить по пути прослеживания генезиса сознания, не входит в задачи данного исследования статьи, хотя некоторые подходы к решению проблемы генезиса сознания будут намечены по ходу статьи.
4) Отметим, что интересный подход исследования знания в несубстратном ключе (постулирование знания как "волны"), правда, с некоторым преувеличением роли физического корпускулярно-волнового дуализма к области сознательных явлений, представлен в работах М. Розова [4].
5) Обратим внимание на то, что введенное различение позволяет совершенно по-новому рассмотреть дилемму "материализм-идеализм". В рамках нашего различения она превращается в дилемму двух взаимодополнительных исследовательских подходов. Идеальное как несубстратное противостоит уже не материальному, а субстратному, "вещному".
6) Обратим внимание на некоторый нежелательный оттенок закавыченного выражения, который состоит в том, что идея как таковая уже есть, например в платоновском "мире идей" или в качестве "врожденной идеи" (Декарт). Для более точной экспликации нашей мысли, близкой к конструктивизму Канта, надо было бы сказать не столько о "схватывании" имеющейся, сколько о порождении новой идеи.
7) Обратим внимание, что сознание понимается нами в декартовско-кантовско-гуссерлевском смысле как некоторая инстанция cogito, в рамках которого несущественно, например, фрейдовское выделение подсознательных, или бессознательных компонентов, поскольку они тоже входят в область сознания; более существенным в данном случае оказывается различение "сознание versus психика" как указание на два принципиально различных механизма переработки информации, а за основу нашей методологии взят кантовский анализ сознания, предложенный в [9].
8) Цель предлагаемой нами редукции, в отличие от собственно феноменологической редукции, не столь радикальна. Она предназначена для выявления "первичного" культурного горизонта восприятия, т.е. тех предрассудков, которые составляют "обыденное" мировоззрение, картину мира "здравого смысла", за счет "снятия" других, более "тонких" и специальных наслоений. Если воспользоваться бэконовской классификацией "идолов разума", то наша задача - снятие всех остальных "идолов", кроме "идолов рода". Например, наш анализ не предполагает радикального отказа от так называемой вещной онтологии, рассматривающего "мир" как некоторую совокупность вещей, что осуществляется Л. Витгенштейном в "Логико-философском трактате", предложившего трактовать "мир" как совокупность "фактов" (со-бытий), а не как совокупность "вещей" [10; см. также дискуссию в 10-a].
9) Заметим, что данное нами описание не достигает уровня первичного феноменологического описания, поскольку включает отсылки к более слабым, чем дом, но тем не менее "картинкам" ("образам"), а именно: к предметам прямоугольной формы, которые также в непосредственном акте восприятия нашим органам чувств не даны. Можно сказать, что данное нами выше описание основано на менее конкретном (более "слабом"), но тем не менее уже имеющемся у нас знании, т.е. априорном по отношению к данному восприятию знания о прямоугольниках, по отношению к которому можно, в свою очередь, также поставить вопрос о механизмах генезиса этого более "слабого" знания. Однако это замечание не только не противоречит нашему анализу, но, наоборот, подтверждает высказанный ранее "сильный" тезис об опосредованном характере любого знания.
10) Видимо, "объемность" (трехмерность) предмета восприятия для формулирования здесь столь радикального тезиса о принципиальной невозможности его опытного "схватывания" играет в данном случае существенную роль, поскольку "плоскостные" объекты в определенном смысле могут быть "схвачены" целиком в опыте, причем известен даже принцип этого "схватывания", реализованный в механизме телевизионной развертки.
11) Отметим, что анализ феномена "видения дома" осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, здесь присутствует не только временной, но и пространственный синтез, характерный для восприятия предметов "внешнего" восприятия. Во-вторых, в феномене "видения дома" помимо смыслового конструирования "здесь и сейчас", характерного для способа бытийствования, например, мелодии, присутствует более инерционное субстанциональное конструирование: дом построен и бытийствует независимо от акта его сознательного "схватывания" в восприятии.
12) Обратим внимание на то, что до появления сознания "экрана", где можно поместить "психические данные", не было. Собственно сознание и есть этот пустой экран, "форма", предназначенная для представления и преобразования "психических данных". В этом смысле сознание есть аристотелевская душа, которая является "формой форм", предназначенной для представления некоторого уже "оформленного" содержания. Другое дело, что оформление содержания в "форму", что для Аристотеля выступает в качестве первичных феноменов, - также результат действия сознательных механизмов. Задача данного исследования - экспликация этих сознательных механизмов.
13) Т.е. необходимо выделить еще один важный компонент сознательного механизма обработки информации - способность памяти, - на котором мы не будем здесь специально останавливаться.
14) Отметим, что анализ деятельности воображения при более внимательном рассмотрении показывает, что синтетическая деятельность в чистом виде, без определенных аналитически-абстрагирующих рассудочных процедур сознания, в общем случае невозможна. Принципиальный вопрос, который можно поставить в этой связи, таков: какая из этих деятельностей является первичной? Кант не дает однозначного ответа на этот вопрос, хотя эволюция кантовских взглядов, осуществленная им во 2-м издании "Критики чистого разума" [9] и последующих его работах, дает повод для приписывания ему ответа о приоритете аналитических (рассудочных) процедур. В современных исследованиях позиция о приоритете рассудка - деятельность сознания как прежде всего "опыт различия" - отчетливо представлена в [14]. Мы же отдаем приоритет синтезу, прежде всего процедурам мысленного конструирования целостностей, поскольку анализ, как процедура разложения, может разлагать только уже сконструированную целостность. Этим определяется то, что в данном исследовании фиксация параллельных синтезу аналитических процедур сознания (деятельности рассудка) для простоты изложения практически повсеместно, за исключением последней части статьи, опускается.
15) Видимо, пришло время уточнить, что термины "образ", "картинка" мы понимаем как целостности, не сужая значения этих терминов до статуса определенных чувственных (психических) феноменов. Другими словами, под образом мы будем понимать результат сознательной (мыслительной) структуризации чувственно воспринимаемого, т.е. некоторую модель реальности, полученную после прочерчивания отграничительных линий и конструирования целостностей. Тем самым любой сознательный феномен имеет образный характер. Например, образом является круглый квадрат, который чувственно (пространственно) не представим. Образами являются и другие "мысленные конструкты", например кантовские "идеи разума". При таком понимании любое чувственное представление, которое может быть дано лишь пространственно, например на рисунке, является только частным случаем образа.
16) В рамках кантовского подхода наиболее близок к ней "синтез схватывания в созерцании" (см. 1-е издание "Критики чистого разума"), тему которого Кант практически не разработал, исключив его из 2-го издания "Критики...". Более того, в своей "Антропологии..." [16] Кант отказывает способности воображения в творчестве, т.е. в способности создавать что-то принципиально новое. Деятельность воображения по образованию "целостностей", на наш взгляд, - творческий акт, поскольку "целое" не сводимо к сумме своих "частей". В философской традиции, видимо, наиболее близким аналогом введенного нами механизма фантазирования является так называемая интеллектуальная интуиция, а из более современных философских подходов к исследованию проблемы сознания - гуссерлевская эйдетическая интуиция.
17) Вот как М. Бахтин вводит категорию надбытия: (хотя, с самого начала надо оговориться, что в рамках философской традиции (языка), бахтинский термин "бытие" соответствует философской категории "сущее", а вводимый им термин "надбытие" - категории "бытие"): "С появлением сознания в мире (в бытии), а может быть, с появлением биологической жизни (может быть, не только звери, но и трава свидетельствуют и судят) мир (бытие) радикально меняется. Камень остается каменным, солнце - солнечным, но событие бытия в его целом (незавершимое) становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события свидетель и судия. И солнце, оставаясь физически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем и судиею. Оно перестало просто быть, а стало быть в себе и для себя (эти категории появились здесь впервые) и для другого, потому что оно отразилось в сознании другого (свидетеля и судии): этим оно в корне изменилось, обогатилось, преобразилось... Этого нельзя понимать так, что бытие (природа) стало осознавать себя в человеке, стало самоотражаться. В этом случае бытие осталось бы самим собою, стало бы только дублировать себя самого (осталось бы одиноким, каким и был мир до появления сознания - свидетеля и судии). Нет, появилось нечто абсолютно новое, появилось надбытие (подчеркнуто мной - К.С.). В этом надбытие уже нет ни грана бытия, но все бытие существует в нем и для него... Пусть свидетель может видеть и знать лишь ничтожный уголок бытия - все непознанное и увиденное им бытие меняет свое качество (смысл), становясь непознанным и неувиденным бытием (надбытием! - К.С.), а не просто бытием, каким оно было без отношения к свидетелю" [17, с.341-342]. Обратим внимание на выделенный текст, где Бахтин замечает, что осознавание не является простым отражением, дублированием имеющегося в мире. Данное исследование, в определенном смысле, является расшифровкой этого замечания. Осознание бытия и его превращение в надбытие - есть не что иное, как образное структурирование реальности и последующая дискурсивная обработка образа.
18) В этой связи отметим, что Кант при всей своей проницательности пропустил вопрос: как возможны категории рассудка; каков механизм их образования? Наш ответ (как это видно из текста) - заключается в фиксации трансцендентального по отношению к рассудку сознательного механизма фантазийного порождения "мысленных образов" (см. прим. 15). Причем надо отметить близость нашего подхода конструктивизму Канта в противовес традиции, постулирующей (вечное) наличие понятий в "мире идей" или в качестве "врожденных идей" (см. также прим. 6).
19) Еще одно возможное развитие этой темы - анализ так называемого мифологического мышления (мышления первобытного человека), в котором феномен "превращенных форм" для современного исследователя представлен очень ярко, или анализ особенностей мышления более ранних исторических периодов и других культурных традиций. "Превращенные формы", как это уже отмечалось выше, выполняют роль "сцеплений сознания", которые выявляются лишь задним числом. Видимо, вера современного человека в абсолютную истинность и объективность научных законов (поклонение Науке) - не более чем набор "превращенных форм", образующих комфортную для современников культурную "атмосферу" ("поле" ведения), которые в будущем будут восприниматься как своеобразные "сцепления сознания", подлежащие существенному уточнению и/или "снятию".
20) На сегодняшний день, как отмечается в [23], хорошему моделированию поддаются лишь "левополушарные" - рассудочные - механизмы сознания. Более того, сама архитектура современных компьютеров нацелена на моделирование аналитических (вычислительных) процедур. Однако рассудок является важной, но не единственной частью, механизма сознания. В этом смысле современные ЭВМ представляют собой не более чем достаточно специализированные "усилители" аналитико-рассудочной деятельности человека, которые в принципе не предназначены для моделирования сознательных механизмов воображения ("правого полушария" - в рамках метафоры "левое-правое полушарие" из [23]), что не позволяет всерьез говорить об их "сознательности" ("интеллектуальности"). Для этого необходимо создание машин, имеющих структуру (архитектуру) "двухпалатного мозга" и способных к моделированию фантазийных механизмов образного конструирования (некоторые более конструктивные соображения по поводу интеллектуальности систем и возможности моделирования сознания приведены в прим. 22, 23).
21) Если продолжить тему примечания 19, то можно указать на некоторую некорректность концепции "трех стадий" О. Конта, которая проявляется в возможности сосуществования (а не в постулируемой Контом последовательной смене) всех трех стадий. На наличие "превращенных форм", характерных для стадии мифологического мышления, указывает возникающий в определенные исторические периоды бум оккультных и магических обрядов (наглядный пример - современная Россия). В пользу существования "превращенных форм", составляющих основу метафизических концепций можно привести ряд более серьезных аргументов, которые основаны на признании наличия так называемых метафизических объектов. Примером такого объекта является мир, который имеют объемлющий человека способ бытийствования, в силу чего невозможно его изучение в рамках науки, которая работает с обычными "физическими" объектами, данными нам с точки зрения внешнего наблюдателя. Мира как некоторой "физической" данности нет! Точно так же как нет созвездий. Поэтому для исследования - синтеза! и анализа - метафизических объектов (метафизический объект - и есть целостность в прямом смысле этого слова) необходимо постулировать особый, отличный от науки, тип познавательной активности - метафизику [18, 19].
22) Этот пример Х. Патнема замечателен в том аспекте, что подсказывает интересную аналогию о возможном взаимодействии воображения и рассудка в рамках общего механизма сознания. Суть этой аналогии в том, что соотношение между способностью воображения и рассудка - есть не что иное, как соотношение разных "масштабов" рассмотрения имеющегося. Поясним это на нескольких примерах. Во-первых, снова обратимся к примеру со строительством дома У. Матураны. Здесь необходимо учесть, что введенное нами противопоставление процедурного и декларативного не абсолютно, а относительно. Вернее, в силу присущей человеку образности сознания, любой процедурный (алгоритмический) способ освоения реальности использует декларативные описания, правда, более мелкого масштаба (хотя вполне возможно, что описание Матураной биологического механизма генома результат более слабой антропоморфизации, а геном вообще не работает как алгоритм). Для построения любого алгоритма необходимо использовать некоторый язык описания, который содержит тот или иной набор исходных целостностей (например язык, предназначенный для описания молекулярной структуры языка кирпича). Другое дело, что в рамках этого языка нельзя выразить целостность другого (более крупного) масштаба (например мета-целостность кирпича). Во-вторых, сошлемся на один пример из личной практики. Как-то мне пришлось работать в компьютерном графическом редакторе, и стояла задача нарисовать ряд замысловатых очертаний с помощью "мыши". В силу неразвитости моих художественных способностей и навыков работы с "мышью" сразу нарисовать нужное очертание не всегда удавалось. Приходилось переходить в режим графического "микроскопа" для рисования нужного очертания с помощью дискретных микроотрезков (в силу принципиальной дискретности устройства компьютерного монитора), образующих на макроуровне нужную кривую. Понятно, что на уровне "микроскопа" "увидеть" круг, эллипс и другие более сложные кривые невозможно (более того, их как таковых, т.е. как непрерывных кривых, просто не существует), однако феномен "видения" возникает при переходе на макроуровень. В качестве третьего примера напомним о гигантских рисунках животных в пустыне Наска, которые хорошо различимы с высоты птичьего полета, но на "поверхностном" уровне воспринимаются как ряд несвязанных между собой линий (ср. с предыдущим примером). В рамках этой аналогии деятельность воображения можно трактовать как переход "вверх" к более крупному масштабу рассмотрения, что и позволяет "замечать" (=конструировать!) целостности, трудно различимые на микроуровне, а деятельность рассудка - как переход "вниз" на более мелкий масштаб рассмотрения, что позволяет ставить вопрос о конструктивном (дискурсивно-последовательном) механизме (алгоритме) построения целостностей (кантовский схематизм рассудка). Тогда, важная особенность механизма сознания будет заключаться в способности сознания сочетать в своей работе несколько масштабов рассмотрения, т.е. в возможности сознания "дрейфовать" между разными масштабами рассмотрения.
23) В развитии темы семиотического аспекта рассмотрения механизма образно-эйдетического синтеза сознания можно высказать некоторые соображения о возможном характере не только "внешнего" (естественного), но и "внутреннего" языка сознания - lingua mentalis. Этот язык должен состоять по крайней мере из двух уровней, т.е. представлять собой сочетание языка и метаязыка. Поясним наш тезис, обратившись к примеру с видением дома. Допустим, у нас есть фотография дома (этот пример восходит к хайдеггеровскому анализу образа, осуществленному им в [26, с.52-57]). Что мы видим, когда смотрим на фотографию. Вернее, каковы два возможных модуса нашего внимания при рассмотрении фотографии. Во-первых, наше внимание может быть направлено на "содержание" фотографии, т.е на дом, который на ней изображен. Во-вторых, любая фотография, помимо конкретного содержания, показывает нам вид фотографии как таковой: рассматривая эту фотографию, мы можем сосредоточить наше внимание не на конкретном содержании фотографии, а обратить внимание на особенности фотографии вообще в ее отличии, например, от рисунка или объемной скульптуры. Соответственно, на вопрос "Что это?" мы можем ответить двояко: 1) - "это дом"; 2) - "это фотография". Тем самым в описании нашего акта видения должны потенциально присутствовать эти два модуса восприятия "частного" и "общего", "конкретного" и "абстрактного", "содержания" и "формы". Собственно, мы уже затрагивали эту тему, когда приводили суждение авторов логики Пор-Рояля о том, что в знаке содержится две идеи: идея "содержания знака" и идея "знака как такового" [2], или различение Витгенштейна между "сказанным" и "показываемым" [10]. Здесь же хотелось бы обратить внимание на то, что lingua mentalis должен иметь два этих уровня, между которыми происходит "дрейф", или переключение, нашего сознания (внимания). Этот "дрейф" (с учетом предыдущего примечания) можно трактовать как смену масштабов рассмотрения. Например, для того чтобы "увидеть" вид фотографии (фотографию как таковую, отвлекаясь от ее содержания) надо занять позицию "удаленного" наблюдателя, а для фиксации содержания фотографии на уровне целостностей - необходимо подойти поближе и внимательно вглядеться в нее, т.е. занять более близкую позицию "среднего" наблюдателя. Более того (см. проведенный выше анализ феномена "видения дома"), можно говорить и о третьем (начальном) уровне "внутреннего" языка сознания, с помощью которого фиксируется первичная феноменологическая (до-домная) данность воспринимаемого - это будет соответствовать самому мелкому масштабу рассмотрения, т.е. ее рассмотрению с точки зрения "ближнего" наблюдателя. Учет этой языковой иерархии (+ привлечение "масштабной" аналогии) позволяет ввести следующий критерий сознательности, или интеллектуальности систем: система является интеллектуальной только в том случае, если она может сочетать в процессе своей работы, по крайней мере, три "масштаба" рассмотрения, а язык системы, претендующей на моделирование сознания, должен иметь, по крайней мере, три уровня (этот критерий можно сравнить с критерием интеллектуальности, введенным в [27]).
24) Фактически, анализ и данная интерпретация двух библейских мифов является указанием на принимаемую нами концепцию "2-скачкового" генезиса сознания человека, суть которой заключается в том, что одного "скачка" перехода от человекообразной обезьяны к homo sapiens, - постулируемого, например, в рамках дарвинистских концепций явно недостаточно для объяснения появления сознания современного человека (пример подобной концепции можно найти в [28], где в качестве методологической основы взят гегелевский механизм "отрицания отрицаний"). В рамках принимаемой нами концепции, первый "скачок", приведший к отличению человека от животных, связан с возникновением фантазийных механизмов сознания. Это эпоха так называемого мифологического мышления. Сознание первобытного человека, появившегося на этом этапе, принципиально отличается как от животной психики, так и от сознания современного человека. Оно представляет собой, как пишет Дж. Джейнс [29], господство чистой фантазии, или состояние "шизофренического" человечества, когда есть один лидер (например шаман), генерирующий фантастические образы, и ряд более "слабых" особей, вследствие повышенной внушаемости, воспринимающих эти галлюцинации как истинную реальность. Именно здесь формируются наиболее значимые для человечества религиозные символы и практики - "священный" Космос. М. Элиаде связывает этот "скачок" с появлением homo religiosus и приводит характерный пример, когда отдельные племена австралийских кочевников (ахилпы) погибают при утере или повреждении "священного" столба, сделанного из эвкалипта, который символизирует для представителей этих племен некую космическую ось, превращающий хаос в мир, т.е. является символом космического порядка [30, с.28-29]. Второй "скачок" связан с переходом от Мифа к Логосу, что предполагает обуздание фантазии с помощью рассудка, т.е. формирование рассудочной контролирующей "надстройки" сознания (заметим, что подобное соотношение фантазии и рассудка фиксируется психоаналитическим противопоставлением "сознание versus бессознательное"). В культурно-историческом плане этот "скачок" - акт "грехопадения" происходит на рубеже первого тысячелетии до н.э. и связан с появлением сознания современного "греховного" (профанного - в терминологии Элиаде) человека. На место Мифа (миф + магия) приходят феномены Философии (середина VI в. до н.э.) и Науки (конец XVI - начало XVII вв.). Достаточно интересным в этой связи представляется анализ текстов переходных от мифа к логосу поэм Гомера "Одиссея" и "Илиада" (Х в. до н.э.), который позволяет выявить существенные черты мифологического мышления [31].
25) Способность к сравнению, или к различению (на основе сравнения) является одной из основополагающих функций рассудка. Без этой способности невозможно никакое познание. Как говорили схоласты: "Хорошо учит тот, кто хорошо различает". Осознание этого происходит уже у Платона. Если обратиться к его творчеству, то стандартным платоновским примером, доказывающим причастность души к миру идей является наличие в душе идеи "равенство самого по себе". А это (при процедурной интерпретации платоновской идеи) и есть не что иное, как имеющаяся у человека способность к сравнению предметов, свойств...
26) Детальное развитие этой линии кантовского анализа сознания можно найти в рамках феноменологической традиции (Гуссерль, Хайдеггер). Важнейшим результатом феноменологии является тезис о временности сознания. В этой связи обратим внимание на следующее. Во-первых, временность принципиально отличается от пространственности, что не учитывается в господствующей на сегодняшний день физической картине мира, например, в современных физических концепциях пространственно-временного континуума [32]. Во-вторых, временность выступает как характеристическая черта выделенной Декартом "субстанции мыслящей" (инстанции cogito). Если декартовская "субстанция протяженная" полностью вывернута "наружу" и не имеет никаких "внутренних" качеств (см., например, геометрическую интерпретацию общей теории относительности), то способ бытийствования - временения "субстанции мыслящей", наоборот, чисто внутренний, без "внешней" пространственной представленности. Развитие этого подхода позволяет выделить объекты, имеющих разный онтологический статус: 1) объекты неживой природы; 2) объекты живой природы; 3) "сознательные" объекты [33, 34].
Литература:
1. Витгенштейн Л. Философские исследования //Его же. Философские работы. Ч.1. - М.: Гнозис, 1994. 2. Арно А., Николь П. Логика, или искусство мыслить. - М.: Наука, 1991. 3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию //Его же. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1992. 4. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996. 5. Фреге Г. Смысл и значение //Его же. Избранные работы. - М.: Дом интеллектуальной книги (далее - ДиК), 1997. 6. Витгенштейн Л. Культура и ценность //Его же. Философские работы. Ч.1. - М.: Гнозис, 1994. 7. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. - М.: Русские словари, 1996. 8. Дубровский Д.И. Обман (философско-психологический анализ). - М.: РЭЙ, 1994. 9. Кант И. Критика чистого разума //Его же. Соч.: В 6 т. - М.: Мысль, 1964. Т. 3. 10. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат //Его же. Философские работы. Ч.1. - М.: Гнозис, 1994. 10-а: "Путь" ?? 7, 8/1995: дискуссия В.В.Бибихина и М.С.Козловой по поводу онтологии "Трактата...". 11. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1992. 12. Брентано Фр. Психология с эмпирической точки зрения //Его же. Избранные работы. - М.: ДиК, 1996. 13. Соловьев Вл. Теоретическая философия //Его же. Соч. В 2 т. Т.1. - М.: Мысль, 1988. 14. Молчанов В.И. Парадигмы сознания и структуры опыта //Логос, 1992, ?3/(1). - с.7-37. 15. Леви-Строс К. Неприрученная мысль //Первобытное мышление. - М.: Республика, 1994. 16. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения //Его же. Соч.: В 6 т. - М.: Мысль, 1964. Т. 6. 17. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. 18. Катречко С.Л. Философия как метафизика //Материалы межвузовской научной конференции "Философия: ее предмет, методы, язык". - М.: Изд-во УРАО, 1998. С. 14-15; 19. Катречко С.Л. Философия как работа с "метафизическими объектами" //Государственное управление: исторические аспекты. - М.: Университетский гуманитарный лицей (далее УГЛ), 1997. 20. Матурана У. Биология познания //Язык и интеллект. - М.: Прогресс, 1994. 21. Мамардашвили М.К. Форма превращенная //Его же. Как я понимаю философию. - М.: Прогресс, 1992. 22. Маслов С.Ю. Теория поиска вывода и вопросы психологии творчества //Семиотика и информатика, Т.13. С.17-46. -М.: ВИНИТИ, 1979. 23. Маслов С.Ю. Теория дедуктивных систем и ее применения. - М.: Советское радио, 1986. 24. Патнем Х. Философия и наша ментальная жизнь //Его же. Философия сознания. - М.: ДиК, 1999. 25. Айелло Л., Чекки К., Сартини Д. Представление и использование метазнаний //ТИИЭР. - 1988. Т.84. - октябрь (?10). С.12-31 26. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. 27. Сергеев В.М. Искусственный интеллект как метод исследования сложных систем //Системные исследования: методологические проблемы. Ежегодник. 1984. - С. 113-130. 28. Поршнев Б.Ф О начале человеческой истории. - М.: Мысль, 1974. 29. Jaynes J. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. - Boston: Houghton Miffin, 1977. 30. Элиаде М. Священное и мирское. - М.: Изд-во МГУ, 1994. 31. Катречко С.Л. Мое понимание философии (вводная лекция к курсу "философия") //Интернет-сервер "Философия в России": ., 1998. 32. Аскольдов С.А. Время онтологическое, психологическое и физическое //На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение (сост. Алексеев П.В.). - М.: Политиздат, 1990. 33. Катречко С.Л. Способ бытия сознательных объектов //Проблемы управления в контексте гуманитарной культуры. - М.: УГЛ, 1997. 34. Катречко С.Л. Сознание и бесконечность //Бесконечность в математике: философские и исторические аспекты. - М.: Янус-К, 1997.
Что сознание понимает в знании?
Киященко Л.П.
Разбиение темы "Что значить знать?" на три узловые составляющие: обучение-понимание-сознание - представляется фундаментальным. И в этом смысле классически аналитично, без полутеней, заявлен основной контур, граница, в рамках может идти рассмотрение заявленной темы. Может, но давайте задумаемся, какими преимуществами он обладает, а что остается как бы за порогом внимания, но от того не исчезает из самого процесса познания, давая о себе знать некоторыми симптомами присутствия.
Откуда рождается такая симптоматика? Предчувствие и ощущение присутствия того, что не укладывается в классическую схематику познания приходят извне, существуя как бы одновременно, но в параллельных мирах рассмотрения. Обучение, понимание и сознание в настоящее время потеряли свою классическую прозрачность и девственность. Они разобраны и вместе, и порознь по различным философским направлениям мысли. Обучение, например, представимо как вид действия, поступка, и об этом можно найти в контексте философии действия. Понимание проходит по ведомству герменевтики, о феномене сознания можно узнать, например, в феноменологии. И обо всем этом нам уже не дано не знать.
Одновременность существования различных представлений как бы об одном и том же - обучение-понимание-сознание - рождает геометрию пересечения параллельных миров не в точке, а в пространстве взгляда, способного к подобной аккомодации.
Но, кроме того, решающей проблемой и при данном рассмотрении остается языковая проблема, проблема переводимости языков столь различных представлений на один, хоть в какой-то степени, полностью это невозможно, избежавший угрозы эклектики, язык, чтобы попытаться сделать ощутимым присутствие неклассичности в классике. Показать в пространстве привычного классического рассуждения точки роста иного, не укладывающегося в его границы.
* * *
Изложение и разбор процесса познания в такой цепочке последовательности через обучение и понимание к сознанию - предполагает изначально накопление некоторой, как минимум, суммы знания. Понимание образованности, как владение некоторым обязательным набором, суммой знания достаточно общепринято. Классическая схема обучения: дословный пересказ прочитанного, краткая формулировка смысла и, наконец, оценка и отношение и к пересказу, и к смыслу - как бы также следует принципу накопительства знания. Основное внимание в данном случае обращено на отработку автоматического усвоения, на основе сериальности и повторяемости, образование памяти, обусловленные ближайшей эмоциональной мотивировкой (оценка учителя).
Неучтенный ракушечник, который "налипает" по мере приобретения знания, отнюдь не всегда является балластом. Вот, например, даже если не ставится специальная задача, в процессе обучения неявным образом происходит научение возможности или реализации врожденной способности перевода условного в безусловное. Речь идет о приобретении навыка оперировать обобщенными представлениями различного уровня. Наличие такого навыка дает в свою очередь возможность в процессе познания начинать как бы "с любого места" с понимания или с уровня сознания, в дальнейшем проходя через те же этапы: обучение-понимание-сознание. Особенности "старта" в получении знания, может показаться, нарушат линейность классического, первичного этапа накопления знания, сделают процесс приращения знания более объемным. Появляются параметры глубины, пространственной размещенности "выше", "ниже" и т.п., дают себя знать "скрытые" параметры. Но "непотопляемость" классического образования станет очевидной, если мы заметим, что все отклонения от него нам дано знать по отношению именно к нему.
Если мы начинаем с понимания, то при таком раскладе процесс познания может проявляться в опробывающих, так сказать прощупывающих действиях. Такого рода действия в среде понимания можно рассматривать как некий аналог обучения, может быть самообучения по структурации знания в этой среде, не исчерпывая ее в целом. Понимание образует невидимую часть айсберга, который на поверхности светится знаньевыми образованиями. Выявление структур знания способствует новому витку ее понимания, что ведет, в свою очередь, к пополнению сферы сознания. Сфера сознания, если и далее прибегать к сравнению - с айсбергом, постоянно до-образовывается с помощью обучения-понимания-сознания, при всей своей кажущейся монолитности и стабильности.
Сейчас, когда вторичность сознания по отношению к бытию, при всей уничижительности, как может показаться, такой субординации, общепризнана, неявным образом было проведено признание относительной самостоятельности существования этого феномена при всем разнообразии его толкований. И именно разнообразие его толкований выступает подтверждением существования реальности такого рода.
Процесс познания может начинаться с сознания. Понятно, что, придерживаясь уместной и в данном случае указанной последовательности: обучение-понимание-сознание, мы получим дополнительные особенности процесса познания. И прежде всего то, что подсказывает сама классическая схема обучения, запущенная в обратном порядке. Уже сознание выбирает, что познавать в сложившейся к данному моменту сфере понимания. Мы познаем то, что опосредованно, представимо через наше понимание. Что, может быть, отчасти присутствует в виде вопроса: что сознание понимает в знании?
Сознание в рационалистической традиции ориентировано на внешний мир, и оно в первую очередь изучает то, что представимо в форме ментальных репрезентаций. Это мысли, язык, перцептуальные образы и т.п. И это отнюдь не архаика, она воспроизведена в настоящее время в концепции "компьютерного сознания", которая выбрала для познания следующие темы: восприятие, способы представления и организации знаний, семантическая память, обработка языка, компьютерные методы обучения.
Сознание само свело себя удобства ради только к знаньевой своей составляющей. Оно целе-сообразно с согласия самого сознания в познании присутствует, свернувшись до образа "окна", через которое мы видим, не видя его самого.
Такой способ рассмотрения предрешен основной ориентацией: образованием современного человека в качестве познающего субъекта, ориентированного активизмом "предметного" исследования как универсального приема, авторитарного, силового воздействия на познаваемое любой природы. Нацеленность на предмет с уже заявленными или возникающими в процессе обучения границами, о-пределивание его, сопровождается фокусировкой, сведением в точку всех качественных особенностей самого познающего, кроме одной, как считается при таком подходе, беспроблемной, казалось бы, простейшей способности познающего -"видеть" предмет, упуская из "виду", что "видеть" - это, прежде всего, обратить внимание. Поскольку ведь можно видеть, то есть смотреть, не видя. Чье внимание и чем оно обусловлено выведено за скобки рассмотрения, видения предмета.
И тем не менее "видеть" предмет, при всей ассоциативной схожести с обыденно-житейским употреблением слова "видеть", в этом контексте может иметь и иные смыслы. Перекатывание смысла от конкретно-чувствующего видения к представлениям образного видения и в обратную сторону было схвачено в древнегреческой традиции толкования эйдоса то как идея (Платон), то как вид (Демокрит).
Глагол "видеть", как неоднократно уже отмечалось, склонен к синестезии и имеет стойкие когнитивные коннотации. Его можно понимать то как "слышать", то как "видеть" в смысле "представлять" в различных сферах, например, воображения, сознания, ума, наконец. Стойкое употребление слова "видеть" во взаимоотношении с миром, при всех особенностях как самого процесса видения, так и его результата, говорит о метафоричности такого употребления.
Отмечая или указывая на метафоричность употребления слова "видеть", мы касаемся той сферы, которая как бы лишена "права голоса" в рассматриваемом процессе, процессе, который, как становится все более очевидно, можно условно назвать первичным приобщением к дисциплинарно организованному, предметно ориентированному знанию. Речь идет о языке, который в данном случае тем более хорош, чем меньше его видно. Необходимость и удобство его использования гарантировано беспроблемной эластичностью устоявшегося языка той или иной дисциплины. В частности, одним из отличительных признаков такого языка является форма существования в нем метафоры. Речь в данном случае идет о крайне стереотипизированном, расхожем, натурализованном употреблении метафоры. Больше того, если задаться целью восстановить саму эту предполагаемую метафоричность, может быть к удивлению носителей дисциплинарного языка, то надо будет провести дополнительную аналитическую работу по разбору "стертых", "холодных" метафорических выражений. Метафора в данном случае выступает как освоенная техника, в режиме автоматизма. В таком употреблении разменивается основной и, может быть, первичный эффект метафоры как "семантического сдвига", "семантического смещения" столь необходимый при инновационном движении в познании, но и не только в нем. Метафора как идеология новых значений рождается в результате взаимодействия гетерогенных сущностей - эмоций, экстралингвистических знаний, житейского опыта носителей языка, иногда случайных наблюдений, впечатлений, утилитарных оценок [1, с.369].
Ситуация употребления слова "видеть" показывает один из принципов использования такого языкового средства, как метафора. Метафора "видеть" в своих, прямо скажем, контрастных приложениях имеет законное право на такое широкое употребление. И это право уместно упаковано до поры до времени в скобках, содержащих обусловленность "видеть" по принципу "обратить внимание", который в свою очередь напрямую выходит на актуальную сегодня в философии науки проблему наблюдателя.
И все же принцип "видеть" - "обратить внимание" покоится на фундаментальной генетической предрасположенности, расположения "пред", нацеленности построения взаимоотношений с миром и именно, прежде всего, на основе различных форм визуализации. Форма визуализации может менять свои значения ( точно так же, как и формы знания) при сохранении ее значимости в целом как непроявленной многозначности. Ведать - познавать даже самые абстрактные идеи помогают различные средства видения - это и ощутимые очертания движения рук, линии графики, объемные конструкции, числовые и буквенные обозначения и тому подобное. Догадываясь о небуквальном характере опосредующих взаимодействий с миром, с помощью, так называемых "видимых предметов", мы привычно прибегаем к первичному опыту бытия - иметь дело с отдельно выделенными предметами внешнего мира.
"Человек сначала имеет дело (именно дело) не с именем и не со знанием, с бытием и небытием ["Теэтет"]. Прежде имени и знания - да и нет, утверждение и отрицание, которые звучат в говорящем молчании до всякой речи, не столько суждения, сколько рискованные поступки принятия или неприятия человеческим существом того, что есть или чего нет. ... В необратимом поступке принятия и неприятия бытия и небытия человек осуществляется в своем существе" [2, с.12].
В первичном поступке-действии, только в нем создается то, что по-настоящему будет известно нам, то, что в последующем при готовности сознания как модель воспроизводится в процессе обучения. Поскольку не всякое действие непременно предполагает знание о том, как это действие следует выполнять. Действие в таком случае является лишь условием возможности появления такого знания. "Только создаваемое как действие способно породить знание" [9, с.24]. Больше того, по словам В.В. Бибихина, действие как возможность, как первичное "могу, до всякого осознания есть уже мысль. Сознание возникает как вторичная возможность, а именно возможность не вводить в действие все возможности, какие открыты человеческому существу" [2, с.81].
И действительно, при первичном накоплении собственного знания, с которого начинается дисциплинарное образование человека, редко апеллируют к сознанию познающего, к пониманию значимости этого дела, упуская из виду, что сознание действующего так или иначе уже существует. Приберегая возникновение как понимания, так и сознания в той или иной форме как идеальную цель, лишь в той или иной степени достижимую. Очевидно, поэтому достижение как понимания, так и сознания, находящихся где-то впереди, как о-своение чего-то чужеродного (предметно противопоставленного по аналогии с дисциплинарным познанием) в качестве аргумента, призывающего к необходимости обучения, как правило, остается пустым звуком. Так как сознание в цепочке обучение-понимание-сознание дисциплинарно закреплено. Сознание в этом случае, можно сказать, разорвано на точки видения отдельных предметов.
На данном этапе, считается, еще не пришло время появиться сознанию. Так же остаются пока без должного внимания, неучтенными, личностные и просто человеческие предпочтения обучаемого, предполагающие сопоставительную корректировку познанного, исходя уже не только из познавательных критериев, а эстетических, нравственных и моральных оценок. Всего того, что существует как бы наряду со знанием и уже по поводу познанного. Право на их проявления как вторичное возникает, как правило, с признанием у образованного, так сказать обученного, наличия оформленного в той или иной степени конгломерата знаний о мире, о себе - как некоторого результата процесса обучения.
Эффект избыточности накопленного знания может проявиться в необходимости перехода в некоторое иное качественное состояние самого сознания, поиска состояния связности и целостности, того, что обычно связывается с осознанностью. Что по сути уже не является фактическим знанием, поскольку уже исчерпан ресурс возможного накопления такого рода знания при условии сохранения бесконечности самого процесса познания. Дальнейшее приращение знания возможно только через этап осознания накопленного массива знания. Сознание наводит в нем порядок, выявляет возможные связи и отношения в познанном и готовность его воспринять новое знание.
Новое качественное, именно качественное состояние сознания, способного на такого рода действия, представимо как одно из возможных следствий междисциплинарного освоения знания. Сознание вступает в новый цикл расширения, преодолев свою междисциплинарную разорванность, восстанавливает как бы на новом витке существовавшее до дифференциации знания по предметам синкретическое единство мировидения в действии-поступке. Видения, по преимуществу, умом, сохраняя, в основном, дистанцию в отношениях с миром.
"Разум остался способностью возможного универсального понимания, причем в условном наклонении (Konditionalis)" [12, с.81]. Условность наклонения разума проистекает из его ориентации на междисциплинарность и возникновения на этой почве такого феномена как "коммуникативный разум". Он обладает способностью "стереоскопии" различных "точек зрения", с которых мы смотрим на мир. Сознание с помощью языка вынуждено прибегать к прямому цитированию различных существующих мнений, использовать рационально отработанные "точки зрения" [7]. Возможный упрек в эклектизме снимается, если таким заимствованием мы компенсируем неполноту своего знания и приобретаем дополнительные (по принципу дополнительности) его особенности.
Особенностью коммуникативного разума является расширение знания в русле рациональной критической дискуссии (К. Поппер), диалога, который как бы между прочим вводит и иные параметры того, что существует между дисциплинарно-ориентированным знанием. Это личный интерес при внимательном и уважительном отношении к партнеру по диалогу, плюрализм мнений и множественность представлений о мире, отказ от принятия единого для всех метафизического первоначала и владения истиной в последней инстанции и тому подобные "посредники", которые заполняют пространство между познающим и предметом знания. Это заполнение не проходит бесследно для обоих участников познавательного отношения. Предмет познается в неустойчивом пространстве "между", теряя тем самым предшествующую жесткую однозначность дисциплинарного знания. Сознание вынуждено, успевая, а может быть где-то и предваряя такие подвижки в процессе познания, маневрируя "между", быть более гибким и динамичным, способным к синтетическому охвату не только знания, но и своего и чужого отношения к этому знанию. Всего того, что может быть пока, а может быть никогда как жесткий, однозначный предмет представить невозможно. Расширение сознания происходит за счет приобретения знания, рожденного в коммуникативном опыте, но это небесплатное приобретение. Одновременно оно уплотняется. Знаньевые, ментальные репрезентации (структуры, конструкции, системы различного познавательного толка) помещены в среду, до поры до времени остающуюся безвидною. Это среда самого сознания, понимаемая как феномен синергетики чувствующего мышления, преодолевшего рамки обычного предметно-чувственного восприятия и разросшегося, вобрав в себя все то, что предшествовало ему.
Это прежде всего деятельность как исполнение и как пополнение знания, понимание как особый интеллектуальный процесс, выполняющий функцию, привязывания знания к действию и действия к знанию [8, с.17]. Понимающая связь самоорганизует знание, стремящееся ко всеобщему, и действие, стремящееся к одномоментности, при различении множественности способов его реализации [3, с.6-7].
Как нам кажется, знание о сознании еще не делает сознание проходящим только по ведомству знания, как то, что может быть сполна освоено через предметное знание. Но о существовании сознания, которое целиком непредставимо предметно, можно судить по косвенным проявлениям, в результатах, полученных с его помощью. И конечно, о существовании сознания во всем объеме его существования, а не только в виде его ментальных репрезентаций, мы узнаем с помощью языка, в языке. Сознание выражается в словах одновременно само, если возьмем теорию Выготского, являясь внутренней речью. Сознание указывает на себя в языке, и в этом смысле оно нуждается в нем, как и языку небезразличны проявления сознания в нем. Сознание и язык имеют между собой то общее, что как об одном, так и о другом в целом нельзя судить предметно. Но каждый из них предоставляет другому такую возможность. С помощью языка мы рассуждаем об особенностях сознания: сознание действия-поступка, разорванное междисциплинарное сознание, сознание "коммуникативного разума", сознание чувствующего мышления.
Сознание оставляет свои следы в языке, обнажая и препарируя язык в предметных его составляющих. Синтаксис языка представляет сознание в его наиболее очевидных ментальных репрезентациях. Семантика языка представляет собой пространство, в котором сознание "засекается" в процессах порождения и существования смысла. Наконец, прагматика языка демонстрирует сознание как синтетическое деятельное начало.
Сознание в языке, язык, представляющий сознание, не мешают друг другу быть попеременно прозрачными. Невидимость среды, через которую мы видим все, что видим, не исключение, а скорее правило в классической традиции. Свет, который высвечивает, но сам не видим. Человек неслучайно понимаем как "lumen naturalis". Если бы среда поддавалась познанию, то есть требовала бы такого к себе отношения, то она переставала бы быть прозрачной. Собственно, что и происходит, когда она мутнеет взвесью выделенных предметов.
И тем не менее процесс обучения, организованный по классической схеме обучение-понимание-сознание, представляет собой легко просматриваемый, последовательный и контролируемый порядок, с четко заявленными стадиями и их результатами. Например, в нем можно зафиксировать момент, когда в нем накоплен необходимый минимум знания. Об этом мы узнаем потому, что составляющие последовательности "обучение-понимание-сознание" могут менять места приоритетности по преимуществу. Знание может "выражаться" в том или ином целенаправленном действии ( например, в самом процессе обучения, но и не только) или же словами "прорастать" из понимания, может "засекаться" в указаниях, метках присутствия сознания. Кроме того, приоритетность проявления или возникновения знания по преимуществу из процесса обучения или состояния понимания или же из указаний сознания не отменяет при этом одновременного, но разной степени выраженности присутствия всех составляющих указанной последовательности.
Немаловажным здесь является и то, что при всех разночтениях и несхожих толкованиях процесса обучения, понимания и сознания есть примирение в том, что при ответе на вопрос, что значит знать, они могут быть предметом совместного рассмотрения при том, что каждый из них не исчерпывает при этом всего своего содержания. Поэтому само "это" есть указующее предчувствие одного из возможных свойств каждого из составляющих получения знания - быть предметом.
Свойство предметности знания возникает, если мы фиксируем свое внимание на связности, на отношениях, лежащих в основе всех определений, которые мы пытаемся дать как обучению, так и пониманию и сознанию. Оно схватывается либо в употреблении общего имени для различных рассматриваемых процессов, в нашем случае - "знание". Либо, наоборот, в явлении деноминации, когда возникают проблемы с тем, что мы хотим сказать, когда слово не найдено, для того, что только ощущается как существующее, но знания как такового о нем еще нет. Расставляются "ловушки-сети" для отлова смысла еще не проявившегося, но предчувствуемого предмета - через сопоставление описаний условий и обстоятельств его существования, то есть в построении системы умозаключений, рассуждений, которые не получили (а может быть, и никогда не получат) своего обозначения как предмета знания. Процесс смыслопорождения и смысловыражения, как нам представляется, можно связывать с возникновением в нем предметности как его свойства, который лишь частично покрывается процессом познания. Другими словами, процесс смыслообразования проходит как бы сквозь, через процесс познания, не исчерпываясь им и объемля его уже в сфере сознания [11].
* * *
Фундаментальность - бесспорное достоинство подхода к научению знанию через обучение-понимание-сознание, успех усвоения которого обеспечивается рафинированной чистотой, отказом от рассмотрения экзистенциальных, прикладных аспектов знания. Но именно такая схематика рассмотрения дала возможность представить то, на что она указывала косвенным образом. Когда эффективная простота предметной выделенности перестает удерживать свернутую сложность под видимой поверхностью, и предметы "расползаются" на весь спектр возможных составляющих их взаимоотношений. И тогда, сохраняя преемственность в неотменяемой классической представленности, "видимости" предметов, мы научаемся "видеть" "мягкие" предметы, которые меняют свои очертания, самоорганизуясь в зависимости от порядка, застигнутого в данный момент. Предмет как ключевое представление процесса познания становится частным случаем рассмотрения свойства "предметности", фиксируемое мышлением чувствующим. Чувствующее сознание - это собственно то, что полноправно существует в человеке по поводу знания в приставке "со". Оно представляет собой сознание, прошедшее и вобравшее в себя: обучение как действие, понимание со своей особой топикой и метрикой по поводу знания, различные формы само-образующегося сознания.
И в этом смысле допустимо с некоторого момента говорить о первичности сознания, позволяющего "говорить о более тонких детерминациях знания" или о наличии в "составе" человеческого сознания, являющегося языковым сознанием, структур чувственности и рассудка, которые структурируют феномен знания как согласование "Зримого" и "Говоримого" [6, с.14].
Синергетизм такого сознания обладает потенцией восстановить со-бытийное существование в мире, используя традицию обращения к накопленным возможностям, образующим традицию. Традиция, объединяющая человеческое сообщество проходит прежде всего по каналу знания - вербализуемого опыта одному "из механизмов социальной памяти общества" [10]. Но даже в таком виде традиция, представленная как вербализованное знание, дает возможность поместить ее в более широкий контекст понимающего сознания.
Традиция научения знанию в таком случае может быть рассмотрена как натурализованный подход, выполняющий адаптивную функцию социума к окружающей среде (Матурана). Так представленная традиция восстанавливает в правах натурализм, нередко бранимый, но в данном контексте подчеркивающий необходимое присутствие чувствующей компоненты по всему спектру возможного знания.
Понятно, что это восстановление, как говорят, происходит на новом витке, в тандеме с уже наработанными стереотипами рассудочного мышления.
Можно сказать, что в закономерностях формирования знания в филогенезе с доминированием деятельной вращенности в окружающий мир, синергетически представлен весь спектр возможных отношений к нему от чувствующего до рационального. Повторение процесса приобретения знания на онтогенетическом уровне знания в истории отдельного человека происходит по понятным причинам не буквально, но с сохранением, правда, не всегда устойчиво, тенденции экологически-адаптивного отношения к знанию. Одно из существенных событий этой истории - восстановление в должной мере деятельной включенности через ее осознание. Деятельная включенность в мир допускает его предметную рядоположенность лишь на момент при условии одновременной и взаимной скоррелированности между видом деятельности и окружающим миром.
Но что при этом происходит с самим знанием, меняется и как "что" и "значит" знания в вопросе "Что значит знать?"
"Механизм социальной памяти" в контексте сознания, трактуемого как чувствующее мышление, удачно моделирует "вс-поминание" как "вс-понимание" [5, с.8]. "Следы" "работы такого механизма памяти" засекаются в привязанности накопленного знания с действием по производству нового знания. Филогенетическое могу, образовавшее ресурс знания, в онтогенезе сохраняет функции понимания как посредника между могу-понимаю-знаю. "Значит" знания формируется сегодня в поглощающем его контексте понимания. "Понимаются прежде всего цели, задачи, направления и горизонты движения, способы, операторика действия" [3, с.6], что принципиально снимает противопоставленность носителя действия (познающего) и результата действия (познанного). "Понимание трансформирует универсальные знания при решении о конкретном персональном действии в локальной ситуации" [3, с.6], при сохранении значимости самого универсального знания. Необходимость существования которого проистекает из необходимости доопределения языка события, ориентированного на конкретное персональное действие в локальной ситуации. по принципу дополнения для целостного видения познаваемого мира, постичь которое можно только в сознании.
И тогда ответ на вопрос, "что" понимает сознание в знании, предварительно можно представить следующим образом. Это "что" возникает в сфере чувствующего мышления (сознания) как отношение, как свойство предметности, пришедшее на смену классического предмета, которое может формироваться на множестве различных мест. Здесь нет ясной начальной точки, а преобладает ощущение связности. Когда сознательное отношение рассматривается как динамическая сеть взаимосвязанных со-бытий. О каких со-бытиях идет речь в рамках персонального чувствующего мышления? О событии на уровне бытийного прощупывания поступка-действия(накопление знания). О событии на уровне первичной рефлексии - переломе , по выражению Твардовского, психического в логическое при подготовке к оформлению дисциплинарно-организованного знания). О событии на уровне логики знания о формах знания. Наконец о событии на уровне представлений о представлении, восстанавливающем связность событийного присутствия в мире.
"Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не является фундаментальным - все свойства одной части вытекают из свойств других частей и общая связанность взаимоотношений определяет структуру всей сети" [4, с.44]. структуру всей сети" [4, с.44].
Литература:
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998 2. Бибихин В.В. Язык философии. - М.: Прогресс, 1993. 3. Грязнова Ю.Б. Функция знания и понимания в современном интеллекте //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (знание и понимание). М.: УРАО. с.6. 4. Капра Ф. Уроки мудрости. - Киев, 1996. 5. Катречко С.Л. Мерцающий способ бытийствования феномена знания //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (знание и понимание). - М.: УРАО, 1998. - С.8. 6. Катречко С.Л. Природа знания и "сократический" метод преподавания //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (в контексте философии и педагогики). - М.: УРАО, 1998. - С. 14. 7. Лотман Ю.М. Феномен культуры //Его же. Избранные статьи в 3 т. Таллин, 1992. - Т.1. 8. Нуждин Г.А. Знание и понимание как способ и деятельность //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (знание и понимание). - М.: УРАО. С. 17. 9. Родин А.В. Знание-сила //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (в контексте философии и педагогики). - М.: УРАО, 1998. - С.24. 10. Розов М.А. Природа знания и проблема онтологизации //Тезисы научного симпозиума "Что значит знать?" (в контексте философии и педагогики). - М.: УРАО, 1998. - С. 26-29. 11. Событие и смысл. Синергетический опыт языка. (Научный сборник). - М., 1999. 12. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. - М., 1995.
Сознание и его структуры
Нуждин Г.А.
Введение
Разговор о значении оказывается очень длинным, вовлекающим вопросы о сознании, смысле и понимании. И дело даже не в традиции такого обсуждения. Самый простой вопрос - а что мы знаем? - вынуждает нас вводить новые термины и объясняющие механизмы, которые только и могут придать этому вопросу смысл. Поэтому намерение данной работы - не показать возможность или невозможность знания о мире, не отличить знание от мнения или опыта1), а распознать знание в круге смежных вопросов.
Первым из них будет вопрос о значении и вещи. За ним последует вопрос о сознании и событии. Затем мы попробуем прояснить связку знание-понимание.
В этой работе очень много примеров. Возможно, это самая ценная ее часть, поскольку именно хорошие примеры позволяют поставить правильные вопросы.
Смысл
Говоря о смысле и значении, мы хотели бы ориентироваться на одноименную работу Г. Фреге [3]. Однако для Фреге значение было непосредственно связано с вещью, поэтому видение вещи обязательно приводило к актуализации единственного! - характеризующего его значения.
Научимся отличать видимое от вещи. Ведь глядя на одну и ту же вещь, я вижу ее по-разному.
Пускай я смотрю на сахарницу. Вот я фокусирую на ней взгляд и вижу уходящую внутрь воронку, которая меня пугает. Также я замечаю что-то розовенькое на боку.
Вот я увожу взгляд и вижу только самое основание сахарницы. А теперь смотрю на нее пристально и вижу сахар, белый и желтый от попавшей туда заварки.
Сахарница всюду присутствовала в моем видении - как то, чему принадлежит белое основание, как посуда с дырой, как фон и вместилище для сахара. Видимо, такое постоянство заставило Хайдеггера [4, с.36-39] сказать, что мы обладаем не представлениями о вещах, а самими вещами. Хотя, конечно, трудно представить себе обладание вещами - мы ведь не держим сахарницу "в уме".
Однако представим, что эта сахарница оказалась в непривычном для нее окружении - на дне протекающей байдарки, например. Тогда вполне возможна замена "дай скорее эту кружку/миску/ плошку..." Сахарница исчезнет, а скажи нам, что мы, оказывается, черпали воду сахарницей - мы не поверим. Пропала ли вещь? Нет, изменилась лишь ее функциональная взаимосвязь с окружающим смысл.
Следовательно, вещь дается нам не в конкретности своего значения. Вещь делает вещью ее эйдетическая уникальность, а это-то как раз подвержено ситуативной замене. В нашем видении остается только "вещность" как скрепляющее единство - но не является ли она попросту трансцендентальным условием любого видения? Тогда можно предположить, что "вещность" обязательно несет в себе предполагаемый смысл - необходимость функциональной связи значения с другими значениями ситуации, контекстом.
Из приведенного примера видно, что мы не воспринимаем вещи как значения-эйдосы. Иначе мы не смогли бы увидеть "одну и ту же" для постороннего наблюдателя вещь как разные значения. Следовательно, сами значения не поддаются непосредственному усматриванию, они даны нам в конкретной объемлющей категории - смысле. Смысл "сахарницы" в байдарке черпало, смысл ее на кухонном столе - вместилище сахара, смысл ее в коллекции сахарниц - фарфор того или иного мастера. Эта вещь становится "заметна" нам как сахарница только на уровне наиболее частого ее употребления, на "базовом" уровне (Рош, Лаков). Это заставляет нас предпочитать имя "сахарница" как буквальное. Однако высокая частотность отнюдь не повод к тому, чтобы онтологизировать этот смысл!
Смыслы шире, чем вещь
Когда мы говорим, что любуемся картиной, мы уже изменяем буквальности. Что представляет собой картина как вещь? Доски, на которые натянут холст, на холсте положены краски, образующие цветовые пятна разной величины и насыщенности. Однако именно этого мы обычно не замечаем, поскольку научены видеть другое2).
Другое - это сам рисунок. Но что такое рисунок? Разве он есть непосредственно, как вещь? Я помню, как мы стояли однажды перед картиной Боннара и считали, сколько на ней собак. На первый взгляд, собак там вообще не было. Но вдруг мой друг заметил где-то на краю картины собаку. Это заставило нас заинтересоваться, приглядеться и напрячь внимание. Вскоре одну за другой мы нашли еще пять собак! Сейчас я спрашиваю себя: были ли это собаки, а не волки или койоты? Я не могу дать ответ, потому что не обращал на это внимания. А строго говоря, и не мог обратить: на той картине, возможно, не было шести собак. Их создало мое внимание, нацеленное на то, чтобы этих собак увидеть.
Итак, мы уверены, что рисунок представляет собой вещь, которую можно разглядывать, изучать и т.д. В процессе разглядывания рисунка мы разбиваем его на набор значений, связанных определенным смыслом, подобно тому, как недавно выделяли в сахарнице ручку, отверстие... При этом рисунок отличен от вещи, являющейся его материальным носителем.
Вправе ли мы говорить о рисунке как о вещи, если он в материальном плане несамостоятелен? Да, потому что в плане значения он самостоятелен, что подтверждается языковым употреблением. Следовательно, под "вещью" не следует понимать что-либо вещественное, принадлежащее некоему истинному Миру. Но вещь не является и чем-то данным феноменально, в индивидуальном мире - мы выяснили, что даны нам связи вещей, смыслы. Следовательно, та "вещность", которую мы ощущаем, есть условие нашего видения. А конкретность нашего видения (когда мы все время видели одну и ту же сахарницу) вызвана тем, что вещность требует означивания, интендирования значения. Интенциональность запрещает нам возможность "пустого" видения. Однако, как мы показали, наряду с интендируемой темой видения (значением), мы схватываем целое поле вовлеченных в смысловые связи с темой значений смыслы видения.
Значит, видение шире, чем значение, хотя и направлено на значение. Это значение - фикция, в том смысле, что не вызвано никакой Вещью (подобно увиденным собакам).
Как существуют смыслы и значения?
Для Фреге объективное существование смыслов было очевидно в силу личного опыта понимания других мыслителей.
Однако поставим перед картиной кошку - и она не испугается нарисованной там страшной собаки. Поставим перед картиной ребенка, и он, мимоходом глянув на него, пойдет играть дальше - его не заинтересует рисунок. Разве он не схватит зафиксированные в картине смыслы? Столетие назад никто не понимал и не ценил постимпрессионистов. Однако это не означает, что в их картинах "нет смысла" - ведь те значения, которые мы в них распознаем (лица, собаки и т.д.), даны нам вполне определенным, "постимпрессионистским" образом. Это и есть смысл. А значит, утверждая, что "в картине нет смысла", мы всего лишь говорим, что для нас способ взаимосвязи значений в данной картине "не имеет значения", неактуален для нас, незнаком, и не интересен.
То, что смысл, соотносимый с темой-значением сам может "иметь или не иметь значение", выводит нас на другой уровень рассмотрения. Он описывается словами: "что он хотел этим сказать?" У любого поступка (будь то произнесение фразы, рисование картины) есть замысел, подоплека. У зрителей тоже есть подоплека их действий, набор прагматических целей. И, конечно, выращенной в академическом духе публике подоплека импрессионистов была непонятна, что не позволяло им добиться своих прагматических целей любования их картинами.
То есть, любование картиной предполагает не только выяснение смыслов, но и раскрытие замысла? Но разве можно раскрыть замысел, который подчас самому автору картины бывает неизвестен? Значит, зритель должен не "раскрыть" чей-то замысел, а создать свой; опираясь на выделенные в картине смыслы, объединить их в решающее единство Картины.
Обладаем ли мы техникой такого воссоздания? Очевидно, что да. Публика, которая восхищалась академизмом, делала это не в силу "объективного превосходства" таких картин, а потому, что овладела техникой их видения, в то время как техника видения импрессионистов была пока что ей недоступна.
Рассмотрим удивительное состояние: я иду по залу импрессионистов и вдруг останавливаюсь перед какой-то картиной, которая заставляет меня приблизиться и стоять, рассматривая ее долгое время. Я делаю попытку уйти, но картина "не отпускает" меня. Я прекрасно владею техникой видения этих полотен - ведь я же с удовольствием хожу по выставке. Почему же именно эта картина привлекла меня - видимо, в ней что-то "такое" есть? То есть, замыслы существуют "объективно"?
На самом деле, мы остановились перед этой картиной именно потому, что наша техника видения не сработала. Мы встали в тупик, пытаясь вычленить в этой картине какой-то явный замысел. Однако наша честность заставляет нас заинтересоваться ею, искать необходимое связующее звено, смысл, который откроет нам путь к единству замысла. Перед этой "темной лошадкой" мы и проводим время в попытках разгадать ее. Не раскрыть ее "внутреннюю" структуру (ее в картине нет, как нет собак, лиц...), а подобрать значение из числа известных или создать новую фикцию, через которую все прочие смыслы свяжутся в единое целое.
Итак, в простом акте восприятия выделим три компонента:
1. Компонент значения - тема, на которую направлено видение, конституируемая как интенция. 2. Компонент смысла - поле значений, связанных с темой и определяющих контекст и прагматическую направленность видения. 3. Компонент замысла - то, что делает видимое "вещью", целостность последовательно увязываемых друг с другом смыслов. Это тоже значение, но пустое, сконструированное нами в акте интереса. С этим (пока не проясненным) значением мы связываем картину как "говорящую что-то", "несущую весть". Фреге говорил о смысле как о способе проявлении значения. Однако как может "проявиться" чистое значение - не образ и не представление? Очевидно, говоря о способе явления значения, не следует думать о проявлении какой-то сложной структуры внутри загадочного единства: значение подобно вещи и потому просто и неделимо. Сложными могут быть его системные взаимоотношения. Скажем, "синий" может проявляться в связи "синий/красный" (холодный/ теплый цвет), "синий/белый" (цвет жизни/цвет пустоты) и т.д. Таким образом, смысл значения - это те системные связи, которые на данный момент актуализированы и та категория, в рамках которой они объединены и противопоставлены.
По причинам, рассмотренным нами ниже, любое употребление значения осмысленно, то есть на каждый момент времени какие-то системные связи востребованы, а какие-то - нет.
Это простое замечание очень важно. В сущности, оно позволяет нам говорить о работе сознания как о последовательной актуализации тех или иных системных связей.
Сознание
В "Логических Исследованиях" Гуссерль пытается ограничить область сознания последовательностью переживаний. В сущности, он пытается уйти от привычного представления о сознании как медиаторе феноменальной данности, независимом органе, без которого восприятие и мышление невозможны. И действительно, в ходе осуществления трансцендентальной редукции, на позитивном ее шаге, Гуссерль приходит к понятиям "трансцендентального субъекта", его "второго я" - полюса склонностей и привычек и, наконец, ассоциированной с ним психофизической структуры. Как видно, сознание в эту череду необходимого конституирования не входит.
Гуссерль, однако, боролся не с идеей сознания, а с попытками развести сознание и "эго" как независимые сущности. Вообще, трансцендентальная редукция направлена на устранение "сущностного" взгляда на мир. Сознание, видимо, мыслилось Гуссерлем как существенно временной способ протекания восприятия и мышления. В рамках этого способа в "Феноменологии внутреннего сознания времени" были выделены определенные механизмы сознания, среди которых важнейший - механизм формирования ожиданий, будущих переживаний на основе прошедших, так называемые ретенциальность и протенциальность. Суть ретенциальности в том, что пережитое не исчезает бесследно, а на какой-то срок удерживается в сознании. Суть протенциальности в том, что из удержанных переживаний формируются ожидания будущих, которые впоследствии замещаются настоящими.
"Где", однако, оседают переживания? Ведь сознание является потоком, в котором действительно только "Теперь". Наиболее естественно сказать, что переживания удерживаются индивидуальностью (ведь у каждого они свои) и, стало быть, попадают в сферу "второго я"3). Появляется термин "горизонт" область удержанных переживаний. Этот горизонт подвижен, он пополняется за счет опыта новых переживаний. Что, впрочем, значит, "новых"? Отводя взгляд от дерева и вновь возвращаясь к нему, мы не получаем "нового" дерева - мы видим то же самое дерево. Гуссерль объясняет это тождество как совпадение протенции дерева с увиденным заново. Ясно, что если наше видение сходно с фотографированием, никакого совпадения реальности с ожиданием мы не получим (дул ветер, опадали листья). Выход в том, чтобы предположить эйдетическую природу видения, то есть утверждать, что видение происходит через сетку (по Гуссерлю -неизменных и изолированных) значений.
Сразу оговорим принципиальные возражения. Во-первых, один и тот же предмет может вести себя различным образом (например стул - качаться и падать). Следовательно, механизм формирования ожиданий должен как-то справляться с такой неопределенностью. Во-вторых, постулирование ad hoc эйдетической сетки (необходимое для оправдания тезиса о постоянстве смыслов) не выдерживает развернутой в середине ХХ века критики "буквального значения", которая сводится к тому, что не существует не осмысленных контекстом значений. А раз в расчет принимаются только смыслы (набор системных связей), само значение (узел системы) теряет свою семантику. Вопрос о познании как прозрении скрытых пока значений заменяется вопросом о познании как возникновении новых узлов и структурных связей.
Наконец, надо сказать, что видение и вызывающее его внимание не могут существовать как изолированные акты сознания. Раз есть внимание, есть и "моменты невнимательности", когда сознание не озабочено ухватыванием. Для осмысления внимания Гуссерль вводил метафору "потока сознания", непрерывный компонент, на фоне которого мы имеем право говорить о внимании как об остановке. Однако этот непрерывный компонент не был осмыслен как компонент прежде всего индивидуальный и потому выполняющий определенные функции конституирования индивидуальности.
Таким образом, наша критика Гуссерля может свестись к четырем пунктам:
1. Не следует отказываться от понятия сознания, мыслимого как индивидуальный способ видения и мышления, то есть как система значений субъекта. 2. Механизм внимания должен быть объяснен исходя из индивидуальной системы значений (поскольку мы обращаем внимание на то, что нам интересно). 3. Необходимо выяснить, что происходит в сознании между актами внимания. Еще Пуанкаре указывал на то, что определенная работа сознания происходит вне нашего рефлексивного контроля. Однако такая работа не является целиком бессознательной, поскольку она объяснима и фиксируема на уровне системы значений. 4. Необходимо объяснить механизм возникновения и перестройки индивидуальной системы значений. Ту часть сознания, которая производит ненамеренную работу со значениями, непрерывную его составляющую, мы называем "настроением". Для объяснения генезиса индивидуальной системы значений мы вводим понятие "событие".
Событие
Событием мы называем неоднозначность формирования ожиданий, которая приводит к возникновению оппозиции (структурной связи) двух значений в определенной категории. Грубо говоря, событие - это осознание необходимости выбора одной из возможностей. Существенно, что одна из возможностей необязательно должна быть нам известной, она может быть, например, гипотетической оппозицией данной возможности ("А если это не так?").
Типичный случай такой оппозиции - зарегистрированное отклонение феноменальной данности от ожиданий. Это отклонение может вылиться в осознанное предложение типа "Этот стул сломан", а может остаться смутным и неопределенным ощущением "что-то не так, что-то мешает, что-то случилось". В последнем случае никакое значение с горизонта известных не актуализировано, поэтому события - нет, есть только повод для его возникновения. Чтобы событие возникло, нужен интерес - конституирование новой возможности в оппозиции предполагаемой.
Например, если мы сели на стул и он упал, возникает оппозиция предполагаемого ("крепкий стул") и реального ("шаткий стул"). Обе возможности присутствовали на горизонте, поскольку мы в жизни не раз падали со стульев. Все же хотя событие не было для нас абсолютно неожиданным, оно стало неожиданным в данном контексте ожиданий.
Однако если стул взлетел, то однозначной возможности у нас не будет (если, конечно, у нас не было опыта летающих стульев). Произошедшее станет для нас совершенно неожиданным, неопределенным, хотя и описуемым (оппозиция "стул стоит/стул летит"). Поэтому произошедшее тоже станет для нас событием, хотя и потребует разъяснения, уточнения категории оппозиции (летит, потому что с мотором или потому что мы выпили лишнего, и так далее).
Наконец, бывают ситуации, вообще неописуемые в рамках наличной системы значений (трансцендентный опыт). Такие ситуации не являются для нас событиями сами по себе, поскольку они нам несоизмеримы. Соизмеримо нам наше состояние, условия, в которых происходил опыт (время суток, обстановка). Эти явления и станут для нас событием, поскольку будут нести на себе печать произошедшего.
В этом случае интерес конституирует новую возможность - "что-то произошло", а сознание, пытаясь справиться с произошедшим, заменяет его на видимое в пределах нашей системы значений.
Например, в ходе какого-то важного для меня разговора я чувствую, что нечто решающее ухвачено мною. Я оглядываюсь кругом, но нигде не вижу следов произошедшего (они неразличимы). Тогда я переношу решающее значение на мое окружение. Я вижу, что мой собеседник ходит кругами, а не стоит на месте, и это становится для меня событием. Я слышу тиканье часов в соседней комнате, и это тоже становится событием. Пытаясь вспомнить тот разговор через год, я не могу припомнить ничего иного, кроме однообразного тиканья и напряженных шагов по комнате моего собеседника - они остались как знак о произошедшем, но бессильны отобразить произошедшее.
Из определения события вытекает, что новое доступно нам только в событии. Вне события - только воспроизводящие уже известные нам структуры ожидания. Событие же есть то, что изменяет наш горизонт, перестраивая прежние структуры и добавляя новые.
Событие противопоставлено ожиданиям, следовательно, всегда неожиданно. Поэтому нельзя говорить о "событии вообще". Рассматриваемые в аналитической философии "события" типа "сражение при Бородино" не являются событиями в нашем рассмотрении. Событие, о котором мы говорим, - индивидуально. Рождение у Галочки второго ребенка не может стать для нас событием, если мы не знаем, кто такая Галочка или если нам не интересна ее жизнь. Событие есть то, в чем мы принимаем активное участие как ожидающие или интересующиеся. Если нам не интересна война в Ираке, то событием для нас станет не прорыв американских войск, а раздражающее гудение телевизора. Один и тот же факт, таким образом, воспринимается одними так, другими иначе, а третьими вообще не воспринимается как событие.
Каковы условия того, что событие происходит
Во-первых, для возникновения события необходимы ожидания. Иначе не может возникнуть неоднозначность.
Во-вторых, существенно, что не все значения могут быть противопоставлены. Некоторые значения не связаны ни в какой обобщающей категории, поэтому их сопоставление не приводит к осмыслению (ср. шуточные задачи "что общего между..."). Пустые, не определенные пока (то есть ни с чем не связанные) значения также ничему не служат оппозицией. Например, если ребенок первый раз в жизни слышит слово "война", то приписываемое этому слову значение будет для него совершенно бессмысленно. При необходимости осмыслить это слово, ребенок сделает это произвольно ("война - это когда купаются в ванной"). Постепенное увязывание этого значения с другими создаст определенную сферу смыслов, в рамках которой это значение будет соизмеримо с другими.
Следовательно, когда мы говорим о формировании ожиданий, надо учитывать не конкретные значения, а целые смысловые сферы связанных с данным узлом значений. Очевидно, что сфера ожиданий "одних и тех же" значений у разных людей разная. Скажем, у энтомолога с бабочкой могут быть связаны такие смыслы, как "период спаривания" или "время окукливания", а у ребенка "пятнистость" или "любит она меня или нет".
Пусть мы сидим в комнате, и до нас доносится явственный запах из кухни. Если мы - люди, не привыкшие готовить, скорее всего, этот запах будет означать "на кухне что-то готовят" или мы не заметим его вообще. Этот запах не поставит нас в тупик двух равнозначных возможностей. Однако для кулинара, отлучившегося из кухни, запах может стать вестником того, что за едой не следят и она пригорает. Эта весть заставит кулинара побежать на кухню, проверить, все ли в порядке. То есть проверка призвана разрешить потенциальный выбор - горит еда или нет.
Однако даже кулинар может "засмотреться" или "заслушаться" и упустить еду. Следовательно, его сознание будет заинтересовано не столько в готовке, сколько в других вещах, чьи проекты сознание и будет раскручивать.
Поэтому сфера ожидаемого на данный момент всегда у'же сферы потенциально возможного. Это связано с тем, что ожидания вне события всегда однозначны. Сознание не умеет раскручивать два проекта одновременно4). А значит, какая-то часть сферы возможных ожиданий всегда оказывается неактуализирована.
Настроение
Ту часть сознания, которая обеспечивает определенную актуализацию ожиданий, мы назовем настроением. Почему такая часть есть? Потому что сфера возможных ожиданий шире ожидаемого на данный момент. Любое намерение, связанное с конкретным значением, также может быть осуществлено многообразнейшими способами. Предположим, мы роняем чашку. Наши ожидания могут построить оппозицию двух вариантов: разобьется/не разобьется. Это то, что актуально на данный момент. Однако сознание не ограничится тем, что изберет одну из этих возможностей как таковую, оно выработает проект развития ситуации представит, как осколки разлетаются по полу, как переживает ребенок, столкнувший чашку, и т.д. Чем вызвана эта избыточность? Это следствие протенциальности сознания, способности строить забегающие вперед проекты. Без нее наша жизнь стала бы бессобытийна. Существенно же то, что проект всегда формируется в достаточной определенности. Чем вызвано то, а не иное развитие проекта? Случайно ли формирование ожиданий?
Настроение легче проследить на автоматизмах - реализациях ожиданий. В нашей повседневной жизни мы не просто воспринимаем в основном мир ожиданий, но и исполняем их. Умение поднести ложку ко рту, прыгать через ступеньки - это автоматизмы, сформированные на основе подтверждающихся ожиданий тела.
Предположим, мы спускаемся по лестнице. Это автоматизм. Однако мы можем идти медленно или быстро, перепрыгивая ступеньки или проходя по каждой. Выбор автоматизма не является следствием нашего окружения, он обусловлен чем-то, касающимся непосредственно нас (скажем, идущий с нами друг может выбрать иной автоматизм). В обыденном употреблении мы говорим о настроении как о регуляторе автоматизмов. Мы говорим: "Смотри, как он весело прыгает по лестнице, у него, наверно, хорошее настроение". Или наоборот: "Спускается медленно, как на виселицу". И само слово "настроение" указывает на определенный предпочтительный строй развертывания автоматизмов. Настроение нацеливает и ограничивает чрезмерно широкую сферу ожиданий.
Сама возможность говорить о настроении вызвана наблюдаемой непрерывностью наших действий. Мы можем сказать: "Пако весь день был мрачен и зол". Раз мы можем говорить о "мрачности Пако", мы видели его и в других модусах. Мы знаем, что все поступки, совершенные Пако за этот день, могли бы быть иными, однако Пако избрал те поступки, которые принадлежат смысловому полю "мрачный и злой". То есть всем избранным им автоматизмам было присуще нечто общее.
Настроение есть всегда, поскольку всегда есть возможность выбора ожиданий. Это своего рода способ бытия сознания, состоящий в предпочтении определенных смысловых полей. В дальнейшем мы иногда будем отождествлять настроение с актуализированными ожиданиями, по которым мы только и можем судить о настроении. Однако не следует думать о настроении как о каком-то "содержании сознания" - сознание есть способ нашего видения и мышления, а настроение есть способ явления, актуализации этого способа в данный момент.
Удивительная способность настроения в том, что оно контролирует доступ к феноменальной данности. Действительно, феноменальная данность (мир) поступает к нам как "остаток" от сконструированных ожиданиями проектов. Поэтому если ожидания настроены на определенное смысловое поле, то все значения, не попадающие в это поле, будут отброшены. Скажем, если мы в "рабочем" настроении, то ни предложение поработать по дому, ни визит соседки, ни работающий телевизор просто не будут замечены как несущественные, чуждые избранному полю смыслов.
Настроение не постоянно, оно меняется (раз Пако сегодня мрачен, значит, бывает и не мрачен). Очевидно, что развертывание потока ожиданий не может оборваться само, необходимо событие, которое скорректирует этот поток. Поэтому мы вправе утверждать, что настроение меняется дискретно.
Поскольку событие не появляется в результате чистой активности субъекта, мы не можем полностью контролировать наше настроение. Например, сломанная рука, которая все время напоминает о себе (мы ожидали, что сможем этой рукой что-то сделать, а она не позволяет - событие), заставляет включить в поле смыслов представление о неудобстве нашего положения. Этот новый смысл изменит наши ожидания так, чтобы мы больше не пытались сделать что-то сломанной рукой. Однако смысл неспособности двигать рукой может быть связан в нашем сознании с бессилием, жалостью и т.д., то есть с тем, что мы привыкли называть "упадническим настроением".
Тем не менее настроение - не бессознательное. Во-первых, настроение - это механизм, который понадобился нам для феноменологического объяснения определенности выбора сиюминутных ожиданий из потенциально более широкой сферы возможных ожиданий. Поэтому этот механизм не имеет ничего общего с психологическим феноменом настроения. Во-вторых, настроение не служит материалом для рефлексивного сознания, а всего лишь отбирает круг возможного материала. Фрейдистская позиция пытается обосновать, почему какие-то значения, являясь существенными для сознания, не получают в него прямой доступ. Мы же пытаемся объяснить сам механизм "существенности" как возможности получения доступа к Миру.
Не является настроение и "модусами" восприятия, поскольку модусы всего лишь определяют круг смыслов, в которых будет представлено данное значение, у них нет функции отбора воспринимаемого. Модус восприятия - это статус, приписываемый схваченному в сознании. Настроение же не относится к схватываемому, но определяет круг производимых сознанием ожиданий.
Непрерывность настроения
Представим себе, что утром мы поссорились с важным для нас человеком и что он в гневе накричал на нас и заявил, что больше общаться с нами не намерен. Ближе к вечеру мы возвращаемся из театра и, пытаясь проанализировать свои ощущения от пьесы, замечаем, что в них присутствует нечто чужеродное - мы встревожены и недовольны замечательнейшим спектаклем. Тут мы догадываемся, что чувство неприятия и злости, скорее всего, напрямую со спектаклем не связано, на нас наслоилось утреннее раздражение и недовольство.
С одной стороны, мы воспринимаем утреннюю обиду как элемент, единичное событие. С другой стороны, действие его непрерывно и конституирует реальный поток переживаний. То есть событие не просто вызывает изменения в системе значений, но и вызывает к действию некоторый непрерывно протекающий процесс. Этот процесс заставляет нас в спектакле увидеть только дурные стороны, более того, управляя нашим вниманием, он производит непрерывное самоконституирование утреннего события. Такими чертами может обладать только настроение.
Отсюда ясно, что настроение непродуктивно, а является самоконституированием, бесконечным разворачиванием одного и того же.
Рассмотрим навязчивую мелодию, непрерывно прокручивающуюся в голове. Это прокручивание достаточно устойчиво: сколько бы мы ни обращались к тому, чем занято наше сознание, мы все время будем обнаруживать там одну и ту же мелодию - до тех пор пока не обнаружим, что мелодия давно уже не звучит.
Чем сложен этот пример? Казалось бы, он свидетельствует о непрерывности настроения. Ведь мы выяснили, что именно в функцию настроения входит постоянное раскручивание ситуаций. Однако как доказать, что между актами фиксации мелодии в сознании эта мелодия присутствовала и раскручивалась? Аргумент может быть таков: мелодия должна раскручиваться последовательно. Мы не умеем "скакать" внутри мелодии на автомате, поскольку автомат - это воспроизводство услышанной последовательности. Однако в разные моменты времени фиксируются разные части мелодии. Следовательно, меду актами внимания происходит развертывание мелодии от одной части к другой.
Можно было бы возразить: а почему бы не считать, что мы вообще не воспроизводим мелодию, а всего лишь "переводим взгляд" с одних запомнившихся мест на другие? На это следует ответить, что мелодия не дана нам как вещь - ее надо всякий раз конструировать заново, причем каждый перескок мелодии не дан нам феноменально, поэтому не присутствует как ожидание и, следовательно, должен вызываться каким-то намеренным актом.
На самом деле, раскручивание мелодии - феномен того же типа, что и почесывание в затылке или позвякивание ключами в кармане: он осуществляется автоматически, без осознанного участия сознания. Именно поэтому этот акт доступен непрерывной рефлексии - мы способны наблюдать за внутренним прокручиванием мелодии так же, как на концерте, и точно так же мы можем наблюдать почесывание в затылке и т.д.
Идея непрерывности настроения вызывает естественное следствие: в сознании всегда что-то есть. Оно не бывает пустым. Представим себе, что мы слышим урчание холодильника. Погрузившись в работу, мы замечаем через некоторое время, что урчание давно прекратилось. Как проинтерпретировать это "давно"? Если мы уже давно заметили, что холодильник умолк, почему сознание сразу же не дало об этом сигнал? Очевидно, потому, что мы были заняты, и нам молчание холодильника было не важно (не входило в ожидания и потому не стало событием). Освободившись, мы восприняли молчание как не соответствующее ожиданиям. Значит, ожидания были - то есть все время, пока мы работали, сознание прокручивало урчание холодильника, несмотря на феноменально данное молчание.
Существенно непроясненным остается одно: характеристика "давно". Мы знаем, что время осознается в событиях, которые смещают важность с определенных вещей, делая их более тусклыми и незаметными. Какие, впрочем, события могли произойти во время работы? Ведь мы напряженно концентрировали внимание и интерес на чем-то одном.
Следовательно, мы вообще не можем судить, давно ли на самом деле отключился холодильник. "Давно" здесь выступает синонимом "не только что". "Только что" произошло событие, заставившее нас оторваться от работы, а урчание холодильника воспринимается нами как прекратившееся раньше. "Давно" поэтому означает, что мы заметили не действительное (феноменально данное) событие, а событие, являющееся временной проекцией действительного.
Сходное с рассмотренным событие - "мелодия давно не звучит". В данном случае мы тоже не должны предполагать, что мелодия исчезла из сознания давно. Ее активное прослушивание действительно прекратилось, стало неважным, и с этого момента содержание настроения стало нам фактически недоступным. Поэтому следующее обращение к настроению является уже конституирующим, прекращая выполнение мелодии и активизируя новый автоматизм. Ощущение "давно" здесь всецело обманчиво и говорит только о том, что зарегистрированное сознанием исчезновение мелодии не произошло в данный момент.
Заметим, что как только мы перестаем концентрировать внимание, оно тут же обращается к прослушиванию настроения. То есть сознание не просто всегда полно, но и стремится к осознанию своей полноты, к регистрации настроения.
Сознание, удерживающее мир
Мы говорили о сознании как о способе восприятия мира и о способе протекания "внутренней" жизни человека. В этот способ входят, во-первых, система значений, в которых происходит видение и мышление, во-вторых, механизм формирования ожиданий на основе увиденного, в-третьих, механизм соотнесения ожиданий и восприятия, в рамках которого система значений меняется.
Ясно, что без этих механизмов никакое стабильное действие не было бы возможно - простейший акт типа поднесения ложки ко рту каждый раз требовал бы новых проб и ошибок, новых усилий выработки верной координации. И эти усилия никогда не увенчивались бы успехом, поскольку суть успеха - в формировании смыслов и значений (в нашем примере - "ложки", "ко рту", "не спеша" и т.д.), то есть в реализации сознательных механизмов.
Но функция сознания, не просто в налаживании взаимоотношений с миром, без сознания не существовало бы и мира. Ведь механизм "остановки" внимания, в котором только нам дается что-то как нечто, - сознательный механизм. Без сознания ничто не было бы дано нам как вещь, как часть мира. Представим себе, что мы отправились в лес и через некоторое время вернулись. Нас спрашивают: "Ну, что с тобой там случилось?" Мы осознаем, что нечто произошло - но только благодаря тому, что наша прогулка вычленяется в сознании как целостность. Ведь ежесекундно что-то с нами происходит! Значит, немыслимым огрублением будет вписать многоликое происходящее в ограниченный пространственно-временной интервал, да еще и осмелившись описать его как "я неплохо погулял"!
Впрочем, мы всегда осознаем, что у нас нет слов для описания происходящего. Точнее, наши слова несоизмеримы с происходящим. Поэтому мы никогда не описываем Мир - феноменальную данность. Мы описываем другой мир, который получаем в наследство от других людей и потом изменяем и воссоздаем. Почему мы заведомо не поверим тому, что камень говорит? Потому что мы знаем: у камня - язык "камней", несоизмеримый с человеческим языком. Собственно, утверждение экзистенциалистов о несоизмеримости человека и Мира сформулировано неточно: у нас нет представления о Мире, Мир мы только ощущаем и воспринимаем внесознательными органами (если такие есть). Наши представления, напротив, сознание черпает из мира знаний, возникающих из событий: "мир" - есть совокупность событий, а Мир - совокупность происходящего.
Поэтому страх экзистенциализма - не встретиться лицом к лицу с Миром (мы и так неосознанно делаем это ежесекундно), а потерять мир. Представим себе, что сознание перестало воспроизводить мир в ожиданиях. Исчезло привычное течение мира, исчезли и события. Исчезло и течение времени, исчезла сама жизнь!
Эта ситуация великолепно описана Сент-Экзюпери [2, с.261]: "Он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего". Это - о человеке, стоящем на крыле горящего самолета с мертвым экипажем, в то время как его поливают пулями немецкие истребители! Но спросим себя, а что он мог сделать? Что в этой ситуации могло указать ему на то, что надо сделать? Ему было все равно, а это означает, что сознание выключилось, перестав вырабатывать предпочтения. Единственный голос, который он слышал, был голос Мира, но диктовал он свои указы не сознанию, а телу. И он спрыгнул.
Страх потерять мир - это страх потери логоса, человеческого. Напротив, функция сознания - воссоздавать человеческое. В этом смысле сознание консервативно и традиционно. Мамардашвили пишет [1, с.215-216]: "Сознание есть какая-то устойчивость живых форм, их тенденция воспроизводить себя". Эта устойчивость необходима нам для действия. А воспроизводство себя - и есть жизнь, как мы понимаем ее, - последовательность событий, разворачивающаяся в целостности мира сознания.
Знание
Теперь, наконец, мы можем сформулировать взгляд на знание. В философском употреблении этого слова смешаны как минимум три понятия: 1) акт познания, направленный на Мир, 2) состояние или модус бытия человека, 3) причастность некоего утверждения "абсолютной истине". Во избежание этого смешения "знанием" мы будем называть второе из описанных понятий - точнее, систему значений, в которых человек мыслит и воспринимает. Такое знание, конечно, нельзя отличить от "мнения", поскольку индивидуальная система значений ни в каком смысле не абсолютна.
В силу такого релятивизма никакое значение мы не можем считать "абсолютным" и потому "абсолютных истин" сознания нет. Утверждение "красный волк - это волк" не является "более истинным" по отношению к утверждению "я человек" с точки зрения способа существования такого знания. И то, и другое утверждение могут быть включены в способ нашего видения мира в результате акта познания - понимания, - который состоит в наделении смыслом5).
Знание-"что" и знание-"как"
Это различение было достаточно четко сформулировано Райлом. Знание-"что" направлено на вещь, которую мы хотим как можно полнее осмыслить. Знание-"как" направлено на то, чтобы успешно разрешить ту или иную жизненную ситуацию. Эти два вида знания безусловно плохо коррелируют друг с другом.
Некий физик6), приехав ранним утром на биостанцию, оставил рюкзак на берегу и пошел искать дирекцию. Вернувшись, он не нашел рюкзака. Велико же было его удивление, когда он заметил рюкзак, плавающий метрах в двадцати от берега!
Будучи образованным человеком, этот физик, конечно, знал, что такое прилив и какие он имеет последствия. Однако у него не было автоматизма осторожного обращения с приливами, поскольку до этого у него ничего в море не уплывало (не было события-прецедента)7).
Напротив, из знания-"как" не следует знание-"что". Умение играть на скрипке, например, не означает, что мы способны описать его (ср. с притчей о сороконожке). В книге о неявном знании М. Полани содержится много других подобных примеров.
Знание и понимание
В параграфе о событии мы говорили об акте единичного выбора как об источнике изменения системы значений. Нетрудно заметить, что вся наша сознательная жизнь является либо актами внимания, либо актами выбора. Мы либо отслеживаем наше настроение, либо меняем его.
Деятельность выбора все же сильно отличается от деятельности слежения тем, что она требует намеренной активности (актуализации системы значений). Мы должны затратить определенные усилия, чтобы совершить выбор, поскольку от него зависит, что с нами произойдет. Поэтому деятельность выбора - это деятельность, ориентирующая нас в нашем мире, и она по праву может быть названа деятельностью понимания.
В процессе этой деятельности мы понимаем текущую ситуацию. Это означает, что мы либо впервые формируем ожидания, либо корректируем их. При этом наше решение должно быть обусловлено стоящей перед нами задачей. Парадокс понимания в том, что мы не можем знать заранее, какие действия мы должны предпринять для решения данной задачи.
Например, проигрывая в первый раз музыкальное произведение, мы еще не имеем представления о том, как его играть. Мы отображаем написанные ноты и следуем значкам композитора, как это сделал бы автомат. Здесь еще нет понимания. Понимание появляется, когда мы затрудняемся сыграть ту или иную часть произведения, потому что не понимаем, как это надо сделать. Затруднение и есть начало процесса понимания. Мы затруднились сыграть какую-то определенную часть, следовательно, она выявилась и, тем самым, противопоставилась всему остальному произведению. Возник зародыш структуры.
В ходе дальнейшего исполнения каждая из выделенных частей разбивается на другие части, которые осмысливаются во взаимосвязи и т.д. Существенно, что выделяющиеся части - это не обрывки каких-то мелодий, а части одного произведения. Их объединяет наше намерение сыграть одно произведение. То есть начиная с первого затруднения, мы затрудняемся над чем-то одним.
Результат процесса понимания - образовавшаяся структура значений. Эту структуру мы уже можем воспроизводить автоматически, где надо замедляя, где надо утихая. Напротив, новые усилия понимания приведут к новой трактовке произведения.
Спросим себя: каковы основания, позволившие нам произвести именно это структурирование? Их нет. Событие затруднения, основа процесса понимания, произошло спонтанно, само собой. Отчасти оно было обусловлено материалом (заранее разбитым на части), отчасти - нашей несостроенностью с ним. Важно то, что, случившись, оно дало нам ключ к возможности ввести какую-то структуру. Насколько успешной оказалась введенная структура может показать только ее дальнейшая судьба. Неуспех, затруднение же приведут к необходимости понять заново.
Аналогично решение математической задачи начинается с выявления "ключевых" мест-затруднений. Иногда успешная догадка, то есть выявленное место затруднения, сразу переводит решение в пласт ожидаемого, тогда окончить его - дело техники. Иногда для того, чтобы достичь известных ожиданий, требуется развертывание сложной структуры. Важно, что это развертывание происходит постепенно, пошагово. Основанием же для перехода к следующему шагу служит успех действия - осмысление той или иной части задачи.
Мерцание
Вспомним, как мы первый раз ходили в гости по описанию. Каждый переулок привлекал наше внимание - возможно, именно в него нам предстояло свернуть. Постоянно мы сверялись с ориентирами, а один раз, когда мы проскочили поворот, нам пришлось возвращаться. Мы поняли, что дошли, только услышав знакомый голос -"Кто?" - за дверью. Ничто до этого не давало нам гарантии успеха.
Когда же мы уже в сотый раз навещали моего друга, все было иначе. Мир стал гораздо у'же! Исчезли лишние переулки и дома - они нам стали заведомо неинтересны, поскольку никуда не вели. Прохождение дороги вообще перестало замечаться нами как труд, оно стало одним из автоматизмов. Возможно, мы даже не замечали, как оказывались перед знакомой дверью.
Проблема возникла только тогда, когда нас попросили описать дорогу туда. Мы не смогли это сделать сразу - мы даже не понимали, что объяснять! Нам пришлось мысленно проделать тот путь, который мы делали в первый раз. Мы детально описали поворот, который тогда проскочили, но, видимо, упустили что-то другое, поскольку в тот раз они так и не дошли.
Виной этому - мерцание понимания. Суть мерцания в том, что мы можем понимать только непонятные нам вещи. Автоматизм же является для нас вполне понятным (раз однажды был понят) и требует особых усилий внимания для того, чтобы выявить в нем потенциальную неоднозначность - событие. Однако достаточных условий появления события нет, поэтому у нас нет гарантии того, что мы сможем повторить понимание.
Приведем два примера мерцания. Думаю, всем известна ситуация, когда человек, отлично подготовившийся к экзамену, вдруг забывает, с чего надо начать ответ, что рассказывать. Виновато мерцание. Выучив (исполнив) задание, человек понимает его, делает для себя привычным автоматизмом. Однако при попытке заново понять - что предполагается на экзамене - он не находит в материале ничего непонятного. События структурирования не происходит. Ничто не указывает ему на то, откуда он должен начать ответ.
Второй пример более тонкий. Он связан с тем, что любимые нами произведения вдруг становятся нам неинтересны. Мы более не находим в них того, что находили раньше. Причина тому все та же. Каждое исполнение любимого произведения приводит к созданию определенной структуры, которая, в конце концов, становится неотъемлемой частью этого произведения. Мы уже не способны исполнять его по-настоящему. Мы не видим в нем ничего загадочного, поскольку раскрыли его структуру, ставшую слишком понятной. С исчезновением загадки исчезает и интерес.
Горизонты понимания
Существенной особенностью понимания является неполнота. Мы не можем совершенно точно ухватить событие в силу несоизмеримости с происходящим. Тем не менее в ухватывании события через оппозицию мы ухватываем нечто большее. Мы ухватываем возможность дальнейшего раскрытия терминов оппозиции. Эта возможность - не голая возможность, поскольку имея определенные ожидания и цели, мы догадываемся, где эту возможность искать. Поэтому каждое событие, хоть и не точно, несет в себе намерение дальнейшего исполнения. В каждом открытии есть интерес раскрыть его дальше. Эта избыточность связана с тем, что за значением мы склонны конституировать референт. Мы не можем ограничиться тем, что чашка - это "чтобы черпать или пить". Мы хотим поинтересоваться историей, составом, формой и т.д. Хотя референт, как часть Мира, нам недоступен, он выступает неявной темой наших разговоров как замысел. Он нужен именно как цель нашей деятельности. Стало быть, этот референт непрерывно конституируется нами как значение, подлежащее неограниченному раскрытию.
Интерсубъективность как выразимость в Слове
В каждом событии ухватывается новый способ видения, которому мы даем имя. Это имя становится чем-то большим, чем просто имя, поскольку выступает в доселе немыслимой для него роли - служить вестником вот этого, несоизмеримого с нашими словами, события. Поэтому помимо структурного аспекта слова включают и нечто большее. Отсюда наша доверчивость к словам.
В нашей жизни появляются неудобства, и я говорю: "наверное, и к этому можно привыкнуть и полюбить". И вы понимаете мои слова. Но разве я употребил их правильно? Я безусловно не знаю, что такое "полюбить". Я не способен даже просуммировать мой личный опыт, сказав: "вот это - любовь, а это - нет". Эти слова словно бы вырвались против моей воли, но я не хочу от них отказываться. Я беру за них ответственность. Потому что уверен: сказав "полюбить", я обратился не к "идее" (ведь идея - не смутна), не к "употреблению" (я не умею употреблять), а к загадочно существующему слову загадочному для меня и для вас. Сказанное мною слово словно расширилось над своим предполагаемым смыслом, включив в себя возможность, даже уверенность взаимопонимания. Так птица клюет зерно, оставаясь при этом птицей.
Поэтому если мы так уверены в том, что птица понимания сопутствует каждому намеренно сказанному слову, мы обретаем право на выговаривание. Нам не следует заботиться о подрезании крыльев словам. Познание становится самовыяснением в самовыговаривании (не "выговаривании себя"!). Напротив, если мы отрицаем значимость слова как мостка понимания, мы вынуждены бесконечно урезать слова, ограничивая их единственными смыслами, в постоянной борьбе с естественным языком.
Интерсубъективность
Вопрос об интерсубъективности - это вопрос о генезисе системы значений в событиях. Поскольку единственным условием интерсубъективности является общность события, надо понять, как связать с происходящим определенное значение-событие.
Оказывается, что ответа на этот вопрос нет. Вспомним наше затруднение определить то, что с нами произошло в лесу. Мы способны осознать (или конституировать), что это было, создав новое значение на горизонте ("проделав новую дыру в стене"). Это значение, тем не менее, окажется никак не обусловлено происходящим. В силу того, что сфера ожиданий события, наши намерения, были связаны с лесом, значение события будет увязано с лесом, прогулкой, пушистыми деревьями и прочими замеченными благодаря определенному настроению значениями с горизонта. Тем самым загадочное, чудесное событие будет осмыслено без всяких на то оснований, "по смежности". Ведь в сущности ощущение "что-то важное произошло" не зависит от того, много ли выпало снега в лесу и, вообще, было это в лесу или нет.
Напрашивающийся выход из затруднения состоит в том, что каждое событие конституирует новое значение. Однако, казалось бы, мы умеем мыслить события в рамках уже существующих значений. Например, если стул, на котором я сидел, внезапно сломался, произошло событие, вполне укладывающееся в рамки наличной системы значений.
На самом деле, происходящее, конечно, никогда не укладывается в рамки значений, хотя бы в силу несоизмеримости. У нас нет механизма соотнесения происходящего со значением, однако есть механизм восстановления события.
Действительно, если бы происходящее было как-то связано с системой значений, мы бы не колеблясь смогли различить действия "упасть со стула" и "встать со стула". Но маленький ребенок, которому стул велик, произведет одни и те же действия, если захочет встать или если нечаянно свалится постепенно сползая. У нас нет критерия различения этих действий. Мы различаем их, исходя из ожиданий, которые сообщают нам, собирался ли ребенок встать или он нечаянно свалился.
Отсюда видно, что мы вообще не воспринимаем сознательно действия, которые реально (в Мире) совершил ребенок. Мы формируем их как ожидания, относительно мира нашего сознания.
Единственным критерием, позволяющим соотнести Мир с миром является успешность наших ожиданий. Если мы открываем дверь, а она при этом ломается, происходит событие, позволяющее внести коррективы в нашу систему значений по параметру (категории) открывания дверей. Аналогично, если с нами что-то непроизвольно случилось, однако мы знаем, что сидели на стуле и соответственно, ожидали либо со стула встать, либо упасть, то только неудача попытки опуститься на стул может показать нам, что мы не непроизвольно вскочили, а непроизвольно упали.
Подчеркнем, что альтернатива "упасть/вскочить со стула" - не неизменный эйдос, а возникшая когда-то благодаря первому осмысленному падению со стула оппозиция. Имя ее также произвольно и культурно обусловлено. Например, если на пол падает чашка и разбивается, для нас, предсказавших этот результат, события не происходит. Для ребенка, не догадывающегося о том, что бывают бьющиеся и небьющиеся предметы, события также нет, поскольку нет оппозиции. Однако как только мы обращаем его внимание на то, что "чашка разбилась", у него формируется новое (пока что ни с чем не связанное) значение "разбилась". Если плюшевого мишку ему не запрещают кидать на пол, то он тоже может посчитать, что упав он "разбился" (поскольку не знает, что это такое). Событие произойдет, когда взрослый скажет ему, что нет, не разбился, он не бьется. С тех пор он будет ожидать от мишки вполне определенных свойств и в его сознании новая оппозиция бьется/не бьется увяжется с оппозицией мишка/чашка8).
Необходимое условие понимания
Свойство полагания за событием какого-то значения - фундаментальное свойство, без которого взаимопонимание не было бы возможно. В параграфе о смысле мы говорили о "замысле" или "вести", сопутствующих любому видению. Поскольку наше видение всегда нацелено на вещь, мы и событие уподобляем вещи, предполагая за ним всегда существующий план значения. Событие мы невольно трактуем как весть. Мы можем не верить в то, что событие вообще несет какую-либо весть. Однако как только мы пытаемся осознать событие как нечто, поддающееся разъяснению, мы фактически конституируем "замысел" события.
Сконструированное нами значение, которое означивает ту самую "весть события", изначально бессмысленно, ни с чем не связано. Все мы - свидетели события - обладаем теперь этим новым узлом системы значений. Он одинаков именно потому, что ни с чем не связан. Он - тема нашего разговора. Теперь все события будут отсчитываться относительно этого узла. Узел начнет раскрываться в - совершенно идентичную для всех нас - структуру. И только по окончании разговора это тождество рассыпется, когда созданная структура встроится в индивидуальную систему значений участвовавших в разговоре субъектов.
Представим, что мы разговариваем с эллином V века до нашей эры. Вдруг рядом раздается грохот. Все дальнейшее выяснение - справа или слева, пострадал ли кто, произойдет совершенно идентично для нас обоих. В ходе расследования наши системы значений могут пополниться (если я спрошу грека про осколок, то мне придется объяснять, что это и что такое бывает), измениться. Однако по расставании я буду уверен, что это мальчишки взорвали серу, а эллин что это было знамение Зевса, непосредственно к нему относящееся.
Наше сходство не в настоящем, поскольку наши миры различны. Наше сходство в будущем, в принципиальной возможности соизмеримости, возможности нового видения. То есть в возможности конституировать значение, единственным свойством которого будет его общность разным мирам, и, отталкиваясь от этого значения, создать идентичные структуры.
Сент-Экзюпери говорил: "Мы признаем наше родство с теми, кто не похож на нас. Но какое это необычное родство! Оно основывается на будущем, а не на прошлом. На цели, а не на истоках. Мы друг для друга - странники, разными путями устремляющиеся к одному и тому же свиданию" [2, с.351].
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что мир (феноменальная данность) - это все, ухваченное сознанием. Однако только часть мира доступна вниманию, а именно часть, отфильтрованная настроением. Над этой частью происходит работа понимания, которая приводит к изменению системы значений субъекта (знания). В свою очередь, знание определяет способ явления феноменальной данности, и здесь круг замыкается.
Видение оказывается существенно определено четырьмя компонентами:
1. самой вещью, феноменом; 2. системой значений, в рамках которой вещь ухватывается; 3. настроением, определяющим ожидания, на фоне которых вещь должна выделяться как иная; 4. намерением или интересом, указывающим горизонт ухватывания, конституирующим область, в которой вещь будет рассмотрена. ПРИМЕЧАНИЯ
* Работа выполнена при поддержке РГНФ: грант ?98-03-04230
1) Автор втайне уверен, что это невозможно.
2) Известно, что дети рисуют без перспективы. Отсутствие перспективы в детских рисунках не мешает им корректно воспринимать изображенные смыслы. Более того, есть опыты, подтверждающие то, что мы умеем видеть вне перспективы, что перспектива - это только способ осмыслить видимое.
3) Мы не видим причин, почему совокупность удержанных переживаний нельзя называть "неактуальным содержанием сознания". Ведь сказать, что в моем сознании есть значение дома, гораздо естественнее, чем сказать, что значение дома находится во "втором я". Однако Гуссерль борется с естественным языком, стремясь к однозначности употребления, поэтому он термин сознание толкует только как последовательность переживаний. Мы же будем говорить о сознании расширительно, включая в него индивидуальную систему значений.
4) Сент-Экзюпери пишет: "Поле действия сознания совсем недалеко. Разом оно вмещает только одну проблему" [2, с.260].
5) Например, "я человек, а не Бог, поскольку не всемогущ" или "красный волк - не медведь, поскольку медведь - не волк".
6) Я благодарен Н. Константинову за этот пример.
7) Впрочем, надо напомнить, что даже обладая определенным автоматизмом, мы не имеем гарантии успешного действия. Это связано с тем, что настроение, отбирающее автоматизмы, не поддается полному контролю. Приехав на море, мы можем настолько обрадоваться простору и крепкому ветру, что автоматизм "следить за приливами" станет нам недоступен.
8) Это, конечно, предполагаемая реконструкция.
Литература:
1. Мамардашвили М. Необходимость себя. - М.: Лабиринт, 1996. 2. де Сент-Экзюпери А. Планета людей. - Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1973. 3. Фреге Г. Избранные работы. - М.: ДиК, 1997. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. - Томск: Водолей, 1998.
Тезисы о возобновлении понимания
Родин А.В.
1. Знание и сила
1.1. Знание соотносится со своим предметом как возможность с действительностью. Это соотношение может осуществляться двояко. Во-первых, знание может быть возможностью будущих действий, предполагать практическую реализацию в будущем. Таково инструментальное знание, то есть знание того, как достичь требуемого результата. Именно к этому аспекту знания в первую очередь применим афоризм Бэкона "knowledge is power". Во-вторых, знание может быть возможностью прошлых событий, предположительной реконструкцией прошлой действительности. Если в первом случае знание формулируется в виде правила того, что нужно сделать, чтобы достичь нужного результата, то во втором случае - в виде факта, утверждения о том, что в такое-то время в таком-то месте происходило то-то. Эти два типа знания различаются как теория и история.
Теоретический и исторический типы знания могут смешиваться и, более того, никогда не существуют совершенно отдельно, в чистом виде. Даже сколь угодно строго "придерживаясь фактов", нельзя избежать "теоретизирования", и наоборот, никакая теория не избегает отсылки к фактам, пусть и "теоретическим". Экспериментальное математическое естествознание комбинирует теоретический и исторический типы знания сознательно и последовательно. Свои выводы оно строит на экспериментально полученных фактах, которые, с одной стороны, являются историческими, поскольку соответствующие экспериментальные события действительно имели место в прошлом, но, с другой стороны, в отличие от событий, например, гражданской истории, экспериментальные события нарочно и целенаправленно производятся исследователем для проверки своих теоретических построений. Действительность научного эксперимента остается половинчатой: экспериментальное событие выступает как действительное по отношению к чисто умозрительным теоретическим спекуляциям, но, с другой стороны, эксперимент претендует на то, чтобы "не вмешиваться" в действительность, а только давать правдивую "картину" действительности и поэтому не подлежать этической оценке. Это позволяет экспериментальному знанию в целом сохранять теоретический характер и подлежать практическому "использованию".
Сочетание теоретического и исторического аспектов не является отличительной чертой только экспериментального естествознания: таково и всякое "практическое" знание, которое, с одной стороны, основывается на прошлом опыте, а с другой стороны, предполагает будущие действия, основанные на этом знании. Однако нельзя сказать, что всякое действие непременно предполагает знание о том, как это действие следует выполнять. Если, например, при строительстве производится расчет, то это само по себе не означает, что здесь применяется знание: расчет может быть просто одной из манипуляций, составляющих строительство, как и обработка камня. Расчет, как и обработка камня, могут быть условиями строительства, тем, что делает строительство возможным. Но это еще не делает их знанием. Здесь мы подходим к следующей основополагающей характеристике знания вообще.
1.2. Знание - это всеобщая возможность, которая может быть предоставлена каждому, независимо от места, времени и каких угодно обстоятельств. Знанием о том, как построить дом, может воспользоваться всякий независимо от своего происхождения и страны проживания. Разумеется, это не означает, что всякий с равным успехом всегда и везде может построить дом, независимо ни от каких условий. Но это означает, что эти условия везде, всегда и для каждого индивида суть одни и те же. То же самое касается и объективности фактов: даже если они не вполне "надежны", а только вероятны, эта вероятность не зависит от времени и места. Обо всем, о чем говорится с пропозициональной установкой знания ("я знаю, что..."), говорится sub species aeternitatis. Будучи возможностью прошлой или будущей действительности, знание располагает себя в моменте настоящего здесь и теперь, который может быть отождествлен с любым местом и любым моментом времени: дважды два всегда и везде равно четырем. Предполагается также, что знание не зависит от языка, на котором оно выражается: теорема Пифагора остается той же самой, будучи сформулирована и доказана на любом естественном языке. Это свойство знания можно назвать утопичностью - абстрагированием от места, времени, способа представления, то есть всякого топоса. Утопичность знания постулируется как возможность и не допускает решающей эмпирической проверки. Если, допустим, на каком-либо естественном языке не получается сформулировать теорему Пифагора, то будет сделан вывод о "примитивности" этого языка. С другой стороны, достаточно широкое распространение знаний, в том числе (хотя и в меньшей степени) и на родных языках, косвенно оправдывает идею знания, сообщает ей реальность.
Другим важным моментом всеобщности знания (кроме всеобщности по месту и по времени) является его индивидуальная всеобщность: знание (опять-таки только потенциально) доступно каждому. Естественно, это не означает, что все люди одинаково способны к обучению, способны одинаково пользоваться существующим знанием и производить новое знание. Это значит, что способность индивида к усвоению и производству знания не может быть a priori ограничена по культурным, социальным или биологическим признакам. Индивидуальная всеобщность знания реализуется аналогично всеобщности по месту и времени: через потенциальное отождествление "я" с любым индивидом. Знание принадлежит потенциально всем потому, что оно может принадлежать только каждому по отдельности: что-то знать можно только самостоятельно, независимо от источника этого знания. Этим знание отличается от мнения, которое всегда принадлежит некоторой группе людей, которое всегда локально. Знать, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, значит уметь самостоятельно, без посторонней помощи доказать это утверждение. Знание может и не предполагать доказательства, но всегда предполагает какую-то форму индивидуальной ответственности, которая стоит за словами "я знаю". Знание не только везде и всегда утверждается "здесь" и "теперь", но и каждым индивидом - с точки зрения его "я". Заметим, что словам "здесь", "теперь" и "я" придаются, таким образом, абсолютные значения, независимые от значений слов "там", "тогда", "ты", "вы", "она", "он" и т.д.
1.3. Как идея всеобщего знания реализуется на практике? С одной стороны, можно сказать, что распространение знаний происходило и происходит весьма успешно, преодолевая исторические, культурные и языковые границы. С другой стороны, такая экспансия знания неизбежно создает маргинальные группы, невосприимчивые к знанию, но имеющие свои специфические культурные и политические интересы. Теперь вряд ли можно сказать, что распространение знаний является каким-то безусловным благом: современная постколониальная истекающая кровью Африка - это тоже плод европейского просвещения (разумеется, взятого в рамках колониальной политики в целом). Абстрагируясь от местных и временных обстоятельств, в частности, от естественного языка, знание, тем не менее, остается связанным с местными и временными обстоятельствами по своему происхождению. Недаром во всех языках мира все "научные" слова имеют греческие или латинские корни. В этом отношении знание отличается от других культурных феноменов (в частности от искусства) только своей высокой способностью к экспансии, к распространению в иных культурах, которое, вообще говоря, не сопровождается уничтожением специфики этих культур (можно сказать, что знание обладает высокой способностью к "колонизации"). Поэтому в реальном плане о знании нужно говорить как о самом общем международном кросс-культурном языке, прагматически оценивая как все потенциальные достоинства такого языка (возможность самой широкой коммуникации и совместных действий в глобальном масштабе), так и его принципиальные недостатки (стандартизованность, причем, неизбежно основанная на доминировании какой-то одной культуры и языка, неспособность быть локально адекватным, отражать культурные и исторические особенности мышления).
2. О локальности понимания
Выше я определил знание как всеобщую и "утопическую", то есть безотносительную к конкретному месту, времени и лицу, возможность овладения своим предметом. Постулированная таким образом возможность не предполагает обязательной реализации в действительности. Знание того, как строить дом, предполагает не то, что всякий человек в любое время и в любом месте в действительности успешно строит дом, а только то, что посредством этого знания всякий человек в любое время и в любом месте может понять, что делать, если в данной конкретной ситуации нужно построить дом (в частности, можно понять, что здесь и теперь строить дом нельзя). Понимание, таким образом, оказывается действительностью самого знания (в отличие от действительности познаваемой реальности). Практиковать знание значит понимать. Всеобщность знания означает не всеобщность понимания, а только всеобщность возможности понимания, открытость и экспансию знания. То обстоятельство, что теория относительности представляет собой истинное знание, не означает, что все всегда и везде ее действительно понимают. Это означает только, что никому не возбраняется попытаться ее понять вне зависимости от происхождения, родного языка и любых обстоятельств места и времени. В этом отношении всеобщность знания носит негативный характер, характер закона, запрещающего a priori исключать кого бы то ни было из числа потенциальных носителей (практикантов) знания. С другой стороны, если бы экспансия знания поверх этнических, культурных, политических и географических границ не была бы реальностью, такого рода закон вряд ли получил бы поддержку в обществе. Другими словами, если бы всеобщность знания оставалась чистым предположением, ничем не подтвержденной возможностью, а не подтверждалась бы частично, но достаточно полно в практике науки и образования, это предположение было бы вполне курьезным и вряд ли могло бы кого-нибудь всерьез заинтересовать. Отсюда следует, что идея всеобщности знания - это эмпирическая идея, основанная на опыте обучения.
Попробуем теперь проследить, как происходит понимание и каковы его критерии. Возьмем простую школьную ситуацию: учитель объясняет школьникам геометрическую теорему, а на следующем уроке пытается проверить, насколько хорошо ученики поняли пройденный материал. Понять теорему - значит уметь провести ее доказательство "самостоятельно". Каковы критерии этой самостоятельности? Как отличить ситуацию, в которой ученик механически повторяет зазубренный текст учебника или слова учителя, от ситуации, в которой ученик "действительно понимает", что говорит?
В качестве простейшего критерия учителя часто используют способность ученика проводить доказательства с помощью самостоятельно введенных обозначений. Совсем несложно написать компьютерную программу, которая повторяла бы одно и то же доказательство с разными, случайным образом выбираемыми обозначениями, проводя всякий раз соответствующую подстановку. Казалось бы, таким же образом следовало бы объяснить и поведение ученика, самостоятельно доказывающего теорему (очевидно, это самое простое объяснение). Удивительно, что обычному, не обладающему аномальными комбинаторными способностями человеку действовать таким образом оказывается намного сложнее, чем "понять смысл" доказательства и провести его действительно рассуждая, а не вспоминая слова учителя.
Правомерно усомниться в реальности предложенной альтернативы. Может быть, термином "понимание" мы обозначаем именно способность бессознательно производить указанные подстановки? Во всяком случае, такое объяснение феномена понимания математической теоремы оказывается недостаточным. "Более глубокое" понимание теоремы означает умение переформулировать ее "своими словами", способность отвечать на вопросы, обосновывать и комментировать каждый шаг рассуждения, вписывая его в локальный языковый и понятийный контекст. Таким образом, понимание в отличие от знания имеет не всеобщий логический, а локальный эмпирический характер. Одно и то же рассуждение может быть понятным для одной аудитории и непонятным для другой. Одно и то же рассуждение может быть изложено понятно или непонятно для одной и той же аудитории. Более того, судить о том, было ли рассуждение понятно или непонятно и искать причины понимания или непонимания можно только post factum.
Понимание некоторой формулы, в которой фиксируется соответствующее знание, означает действительное общение, взаимодействие вокруг этой формулы. Нет другого критерия понимания, кроме реального взаимодействия в локальном контексте, в простейшем случае - ответов ученика на вопросы преподавателя в присутствии класса. Обсуждаемая формула оказывается при этом своего рода местом (топикой) понимающего общения наряду с классной комнатой.
Интересно, что понимание, которое является действительным аспектом всякого всеобщего знания, оказывается таким же локальным, исторически и географически переменчивым как и мнение. Это заставляет заново переосмыслить платоновское противопоставление знания мнению. Очевидно, что знание нельзя понимать как некоторое неизменное мнение, как "вечную истину" вроде 2 x 2 = 4. Если знание и остается неизменным, то ведь не в том смысле, что одна и та же формула бесконечно повторяется слово в слово. Наоборот, понимающее знание характеризуется вариацией формулировок, включением их в новые и новые локальные контексты, повторением "того же самого по-другому". Пределы, в которых могут меняться формулировки одного и того же мнения, гораздо уже. Повторение мнения может быть только буквальным или близким к буквальному. Что касается формул, то, очевидно, в случае мнения они более стабильны, чем в случае знания, поскольку только в случае мнения буквальное сохранение формулы оказывается существенным. В знании же неизменной остается только сама ситуация возобновления понимания.
3. Философия и конец истории
3.1. Фундаментализм и деструктивизм в философии
Я начну с проблемы философского фундаментализма. Этим термином в современной англо-американской философской литературе (foundationalism, но не fundamentalism, который используется как политический термин, - впрочем, оба термина взаимно коннотированы) называют понимание задачи философии как построения оснований, фундамента любой культурной и цивилизационной деятельности: науки, искусства, политики. Хотя еще греки определяли философию как науку об основаниях (arcai), "фундаментализм" следовало бы отнести в первую очередь к философии Нового времени, когда общей задачей философии являлись не просто прояснение или разбор оснований и даже не просто ответы на некоторые вопросы, а именно построение оснований как готовых принципов, которые были бы "твердыми", то есть не подлежащими пересмотру, и отталкиваясь от которых можно было бы "двигаться дальше" во-первых, в науку, а во-вторых, в более специальные области философии. Сетования по поводу того, что философия-де, не смотря на свою 2000-летнюю историю так, и не достигла такого рода результатов, можно найти и у Декарта, и у Спинозы, и у Канта. Как на обратный пример, достойный подражания, некоторые философы ссылались на математику, которой вроде бы удается сохранять такого рода твердое ядро, несмотря на все метаморфозы развития. Хотя математика, как и философия, пересматривалась очень основательно (особенно в Новое время), старые математические результаты могли оправдываться в новой науке, пусть в "усовершенствованном" и "лучше обоснованном" виде. Философия же всякий раз буквально начинала с начала, каждый раз декларируя, что твердые начала "наконец" найдены. Постоянные неудачи построения общего философского фундамента, которые, вместе с тем, не кажутся неудачами собственно философскими (ведь трудно назвать неудачными философские работы Декарта, Спинозы и Канта!), закономерно привели к критике фундаментализма и отказу от него. В современной философии можно выделить две альтернативы фундаментализму. Первая альтернатива это "дескриптивная" философия, которая, перефразируя Маркса, ограничивается тем, чтобы описывать основные принципы мышления, но не создавать и не пересматривать их. Философ-"описатель" не будет предписывать ученому, на каких фундаментальных принципах тому необходимо строить свою науку, а будет анализировать реальную деятельность ученого, выявляя скрытые предпосылки его работы. Другая важная модификация описательной философии - это философия естественного языка, которая ставит своей целью фиксацию, но не изменение принципов обыденной речи. Вторая альтернатива фундаментализма, восходящая к Хайдеггеру, это деструктивизм, который видит цель философии не в построении, а, напротив, в разрушении господствующих культурных принципов. Эти две альтернативы, на самом деле, не так уж далеки друг от друга, как это может показаться на первый взгляд. Старое понятие анализа, на которое опирается описательная философия, подразумевает современную де(кон)струкцию. Можно сказать, что современные понятия деструкции и деконструкции уточняют понятие анализа применительно к философии, подчеркивают радикальный характер именно философского анализа. Если научный анализ всегда может остановиться, дойдя до основных принципов, базисных элементов анализируемой реальности, - так, например, геометр, доходит до точки - то философский анализ только тут, собственно говоря, и начинается. Поэтому он, действительно, состоит не просто в "разложении" предмета на составные части, которые без проблем всегда можно собрать обратно, получив предмет в прежнем виде, но в полном преображении предмета, уничтожении старого и рождении нового.
Таким образом, и фундаментализм, и деструктивизм в философии представляются одинаково однобокими интерпретациями , абсолютизирующими только одну из сторон философской задачи, которая состоит в переобосновании, переопределении культуры, в воспроизведении оснований заново. Категории "твердого" и изменчивого, понятия о фиксации результата и его развитии являются вторичными по отношению к понятию "заново". Даже научная теория "существует" как "полученный результат" только в воспроизведении, которое никогда не бывает буквальным. Тем не менее в науке действительно можно говорить о новых результатах, полученных на основании старых. В философии это невозможно, поскольку всякая философия бывает новой только в том смысле, что она заново делает то, что делает всегда - переобосновывает. В этом, если угодно, состоит специфика философского дискурса. Нельзя сказать, делает ли это философия каким-то новым способом или же только повторяет старое, поскольку оба эти суждения предполагают возможность удержать старое и сравнить его с новым. Но философия не может этого сделать, поскольку она переобосновывает культуру не частично (сохраняя старое для сравнения с новым), а полностью, радикально заново. Поэтому остается противоречие между философским радикализмом (как фундаменталистским, так и деструктивистским) и умеренной "научной философией", ограничивающей себя как в анализе, так и в синтезе. Таким образом, я считаю, что критику фундаментализма можно принять только как критику проекта построения такого фундамента, который не нужно будет перестраивать, а нужно будет только достраивать. Но нельзя принять критику фундаментализма как критику философской радикальности, ибо отказ от радикальной философии равнозначен отказу от философии вообще.
3.2. Философский и политический радикализм
В связи с философским радикализмом встает вопрос, который отнюдь не является только теоретическим: о соотношении философского радикализма с политическим. Часто считают, что философский радикализм является оправданием радикализма политического (и что вообще философия является "теорией политики"). Некоторые, усматривая в философском радикализме собственно философскую ценность, считают, что философский радикализм должен ограничиваться во имя якобы нефилософского требования стабильности политической системы. Я считаю эти мнения неверными в принципе и основанными на полном непонимании того, что такое философский радикализм. Правильно, что всякий подлинный философский акт подобен природному или социальному катаклизму - землетрясению, изменяющему естественные границы ландшафтов и материков, войне, изменяющей границы между государствами, рождающей и уничтожающей государства, революции, полагающей новые принципы власти и порывающей преемственность с прошлым. Из этой аналогии, однако, вовсе не следует причинная связь, в частности не следует, что философия влечет за собой войны и революции. Философия, наоборот, невозможна в состоянии войны и революции. Нужно различать философский и политический радикализм внутри самой философии. Свое оправдание в войне и насилии ищет слабая философия, которой не хватает собственно философского радикализма.
Более того, именно благодаря своему "подобию" войне, философия является реальной альтернативой войне. Дело не в том, что философия, подобно спорту и торговле, симулирует войну и таким образом отвлекает людей от настоящей войны. Рано или поздно любому человеку становится недостаточно подобий и он хочет испробовать настоящего - и ради чего от этого отказываться?
В своем проекте вечного мира, основанном на господстве права, Кант принимает за аксиому, что наряду с законами природы существуют объективные законы человеческой свободы, на которых строится система права. Неправовое поведение, в частности войну, Кант понимает как "природное состояние", когда люди просто игнорируют одно из царств бытия, а именно свободу, и остаются вместе с другими животными полностью в царстве природы. Однако такое постулирование свободы мало что проясняет и оказывается совершенно догматическим так же, как и определение войны как естественного состояния. Ведь не только в обществе людей, но и в природе мы можем найти примеры мирной (хотя, разумеется, и не основанной на праве) жизни животных. В сообществах животных, как и в обществе людей, стоит проблема войны и мира. Рассмотрим ее несколько подробнее.
Война в природе - это, по Дарвину, борьба видов за существование. Эта война отличается от человеческих войн в первую очередь тем, что воюющими сторонами в природе являются различные биологические виды, тогда как участники человеческих войн принадлежат к одному виду Homo sapiens. Целью и смыслом естественного отбора является биологическая эволюция, появление новых, в том числе и более сложно организованных биологических видов. Целью и смыслом человеческих войн является установление государственной власти, установление справедливости (в частности отмщение). Кроме того, естественный отбор и человеческие войны существенно отличаются по способу, которым мы о них говорим и знаем. Естественный отбор в природе - это биологическая гипотеза, сконструированная на основании различных эмпирических свидетельств, которые (в идеале, конечно) всегда могут быть предъявлены непосредственно. Человеческие войны принадлежат истории: мы знаем о них, главным образом, по пересказам свидетельств их участников. Я не знаю, можно ли с точки зрения современной биологии говорить о том, что закон естественного отбора к человеку неприменим, однако можно наверняка сказать, что биологическая эволюция не является целью и смыслом жизни человека. Фактически, дело обстоит так, что сегодня как никогда раньше Homo sapiens способен доминировать на биологической арене и истреблять другие биологические виды (впрочем, соперничество с микроорганизмами все еще остается актуальным), однако сегодня все видят в этом трудность, а не достижение. Основные смыслы и цели людей перенесены в историю, в область политики и экономики. Заметим, между прочим, что переход от биологической эволюции к истории существенным образом связан с языком и письменностью: история в узком смысле слова начинается там, где появляются письменные свидетельства; воюющие между собой народы отличаются друг от друга в первую очередь языком, а законы, устанавливаемые в результате войн - это записанные тексты. Конечно, история состоит не только из войн, а жизнь животных - не только из истреблений мутантами существующих видов, однако как войны, так и "удачные" мутации являются ключевыми, смыслополагающими моментами соответственно человеческой истории и биологической эволюции. Обычным образом понимаемая история просто лишится смысла, если в ней не будет войн - в этом, на мой взгляд, и состоит главная сложность реализации любых проектов вечного мира, подобного кантовскому. (Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что Кант видел смысл истории без войн в том, что он называл "свободой". Нам нужно только точнее определить этот смысл.) Никакие установления не могут существовать не возобновляясь - здесь стоит по-новому применить оппозицию старого и нового, - не возобновляясь, установления быстро дряхлеют и умирают. Поэтому пацифизм в истории почти всегда имеет бранный оттенок, оттенок слабости. Конечно, обычно человеку мир часто кажется предпочтительнее войны. Может быть, однако, это только человеческая слабость? Наверное так оно чаще всего и бывает. Конечно, такой основанный на трусости, лени и слабости пацифизм не может устоять перед такими военными добродетелями, как бесстрашие, самоотверженность и исполнение долга, в которых человек находит оправдание собственной жизни в истории. Однако сказанное не означает фатальной неизбежности или даже необходимости войны, поскольку история имеет свои пределы так же, как и биологическая эволюция. Говоря о конце истории, я имею в виду мнение японского философа, который связал конец истории с концом "холодной войны" и распадом СССР: после того, как соперничество двух социальных систем закончилось распадом одной из них, сам вопрос общественного устройства и государственной власти потерял свой драматизм, свою смыслополагающую функцию и стал чем-то рутинным, гигиеническим (смазывание порезанного пальца йодом или санитарная обработка квартиры по своему смыслу не является шагом в борьбе видов за существование, хотя формально указанные действия могут быть квалифицированы именно так). Конец обычной истории, истории власти выводит на первый план другую историю, которая на самом деле началась уже давно, - культурную историю (культуру), в которой смыслополагающую функцию выполняет не война, а философия.
Если еще раз сопоставить гражданскую историю с биологической эволюцией, то переход от гражданской истории к культурной не покажется столь уж радикальным: язык и письмо, которые определили переход от биологической эволюции к истории, при переходе к культурной истории получают еще больше прав: если есть перо и бумага, не нужно писать на земле кровью. Сказанное не дает никакой уверенности в том, что практический проект по установлению вечного мира в моей редакции имеет больше шансов на успех, чем кантовский. Если, однако, прямо сейчас, немедленно, изменить точку зрения на историю и войну и увидеть в них не область и способ смыслополагания, а только лихорадящее социальное тело, нуждающееся в подходящем лечении и профилактике, для того, чтобы более эффективно действовать в культуре, есть шанс, что нужные для этого практические шаги будут сделаны.
Познание как фрактальное блуждание в мире
Тарасенко В.В.
Я размышляю о процессе познания как о специфическом - фрактальном блуждании в мире.
Что есть мир? С миром у меня получается некоторая начальная скороговорка: я только помечу, что он есть. Мир есть. Мир дан. И в этом смысле познание уже тоже есть. Или - можно сказать осторожнее - познание возможно.
Интуиции мира, на мой взгляд, связаны с целостностью мира, погруженностью в мир. Очень интересный анализ категории мира проделан В.В. Бибихиным в трактате "Мир". Мир - очень сложное взаимодействие сознания и бытия, познающего и познаваемого. Невидимое поле игр, среда познания, связанная с началами познания.
Но где начала того, что мы познаем? Бибихин мудро и осторожно замечает: "С началами не просто, они слишком просты, чтобы с ними можно было просто. Мы хотим их схватить, а захватывают они нас. Сознание на самом деле не раньше бытия: бытие раньше сознания. Раньше, чем сознание отразило бытие, бытие незаметно для сознания успело дать ему эту возможность. Сознание думает, что никакой другой возможности, кроме как отражать, бытие ему не дает и не может дать. Но бытие раньше и этой возможности: оно не эта возможность, оно возможность просто. Возможность просто нельзя отразить: отразив, мы отразим уже не ее, потому что отражаем благодаря ей. Возможности просто можно только отдать себя" [5].
Познание связано с возможностью. И в этой связке виден мир.
Я не могу пройти мимо связи мира и возможностей. Мир разворачивается как целостная среда возможностей.
Существо, живущее в мире, познающее мир отдает себя возможностям. Я буду разделять как минимум три типа возможностей: визуальные возможности возможности того, что мы видим, телесные возможности - возможности положений нашего тела в мире, возможности телесной организации, языковые возможности - возможности внутри некоторой знаково-семиотической системы, среды.
Дж. Гибсон [6, с.188] развивает интересную теорию возможностей, связанную с его представлениями о восприятии.
Например, животное, видя опорную поверхность - поверхность земли, интуитивно понимает, что такая поверхность предоставляет возможность опереться. Животное фиксирует эту возможность как зрительную, изменяя согласно ей свое тело и реализуя телесную возможность (отдавая себя этой возможности). На те или иные поверхности можно вскарабкаться, упасть, подлезть и пр., осуществляя тем самым различные телесные возможности. Иногда может возникнуть зрительная аберрация. В этом случае зрительная и телесная возможности и их телесная реализация не совпадают, например, когда болото или зыбучие пески принимаются за опорную поверхность.
Возможности по Гибсону связываются с некоторыми интуициями, непосредственными ощущениями вещей. Согласно его взглядам, "значение" и "смысл" вещей в мире могут восприниматься непосредственно хотя бы потому, что человек или животное способно прямо (пусть даже и с ошибкой), но без привлечения абстрактных понятий и категорий оценить, что несет ему та или иная возможность - пользу или вред, жизнь или смерь.
Пометим в этом месте термин "интуиция". И сразу же зададимся вопросом о механизмах такого рода непосредственностей. Ответ на этот вопрос мы будем искать в этом тексте дальше.
Продолжая разговор о возможностях, можно заметить, что, по Гибсону, возможность обращена в обе стороны - и к окружающему миру, и к наблюдателю. Информация, задающая полезность окружающего мира, сопутствует информации, задающей самого наблюдателя, - его тело, ноги, руки, рот. Воспринимать мир - это одновременно и воспринимать себя. Постижение мира не связано с дуализмом как противопоставлением психического и физического, души и тела.
Восприятие есть всегда дополнительность постигающего и мира. Поэтому и возможности всегда соотнесены с наблюдателем. Они не являются ни физическими, не феноменальными. Проблема возможностей - это не проблема предзаданности или случайности их выбора - возможности не навязываются и не появляются ниоткуда, но формируются в результате соотнесенности, взаимодействия, синергизма познающего и мира.
Из-за этой соотнесенности сам мир - как среда возможностей - не является жестким, заданным и абсолютно прозрачным: возможности, влияя на мир, могут рождаться, умирать, эволюционировать, зависеть от познавательных практик. Мир, в свою очередь, может накладывать ограничения на возможности. Этот факт, по Гибсону, отражает экологическое понятие ниши.
Однако в этих рассуждениях Гибсона есть одна, на мой взгляд, недоработка, используя которую, я попытаюсь развернуть свои построения.
Возможностей в мире всегда не просто много, а очень много. Возможности образуют какие-то комбинации. Живое существо всегда производит отбор нужных ему здесь и теперь возможностей из колоссального количества различных комбинаций.
Гибсон достаточно ярко описывает селективность - неслучайность выбора той или иной (визуальной, телесной) возможности у животных и человека, однако он проходит мимо принципиального различия у них механизмов выбора возможностей. Если у животных выбор возможностей определяется их видовой спецификой, генетической программой - зная условия существования животного, можно оценить, как будет вести себя тот или иной вид или порода, - то у человека выбор возможностей не определяется прагматичными факторами биологического выживания. Выбор возможностей человека связан с человеческой культурой. Возможности творят культуру, а культура творит возможности.
Говоря иначе, возможности животного детерминированы его видовой спецификой, средой обитания. У человека мы видим постоянную связь возможностей с культурой и социальными институтами.
Культурные и институциональные изменения связаны с эволюцией возможностей. Хотя многие возможности являются заданными достаточно жестко в рамках определенной культурной ситуации.
Переход от восприятия к познанию невозможен без культуры, без вхождения в культурные коммуникации с миром.
Об этом я скажу подробнее ниже, надо сделать перед этим важное замечание, связанное с возможностями. Собака, помещенная в такую же культурную среду (семью, окружение людей) как и ребенок, тем не менее, не начинает познавать мир так же, как человек. Можно предположить, что в теле собаки нет чего-то такого, что давало бы ей, будучи помещенной в человеческую культуру, познавать по-человечески. А в теле человека есть. Что есть? В этом пункте мы подходим к известной теме о врожденном знании.
С чем человек начинает познавать мир - с "чистой доской", с врожденными понятиями, или же с понятиями априори?
Мне интересно рассмотреть по этому вопросу точку зрения известного биолога и философа Конрада Лоренца [8], считающего, что врожденное знание в человеке не имеет вида математических или логических понятий, а состоит из структур, делающих возможными усвоение информации о мире. То есть, по мнению Лоренца, мозг новорожденного организован таким образом, что содержит устройства, делающие возможным познание мира. Он просто способен более сложно организовываться, чем мозг щенка или собаки.
Моя точка зрения состоит в том, что возможности невозможны без встреч телесного, физического и культурного. В практиках познания должны встретиться возможности телесные и культурные. При этом и телесные и культурные возможности способны к эволюции.
Но любая встреча - это движение. Так вот, врожденным качеством, необходимым для познания, у человека является телесное и визуальное движение, самодостраивающееся до познавательного движения. Но об этом чуть позже. Сейчас я возвращусь к теме культурных коммуникаций.
Александр Лобок в своей блестящей книге "Антропология мифа" [7] приводит примеры создания культурой различных возможностей. Например, у животных возможные сексуальные практики жестко связаны со способом обитания вида: внутривидовые отличия сексуальных практик очень малы. Человек, с точки зрения биологии, - один вид, однако его сексуальные практики связаны в большей мере с культурными, а не с биологическими потребностями - это можно понять, анализируя колоссальное различие и эволюцию сексуальных практик в различных культурах.
Культура создает новый, искусственный, избыточный по отношению к природе мир - как в визуальных, так и в телесных и языковых практиках. Люди, живущие в разных культурах, по-разному видят и интерпретируют одни и те же феномены, по-разному двигаются, имеют разные характерные жесты и позы, по-разному строят объяснения явлений в своих языках.
Избыточность культуры проявляется в постоянном порождении все новых и новых возможностей. Например, язык человека (в отличие от системы сигналов шимпанзе или дельфинов) всегда перенасыщен контекстами, значениями, которые часто не имеют никакого отношения к прагматическим задачам выживания человека как вида или потребностям передачи той или иной информации в конкретной ситуации.
Язык способен сам формировать особенности бытия человека в культуре, особенности выделения и освоения тех или иных возможностей. Лингвисты Сэпир и Уорф выдвинули гипотезу, согласно которой восприятие мира человеком преломляется в зависимости от системы связей, сложившейся в языке. Язык это не просто система инструментов для передачи информации, он участвует в индивидуальном сознании, непосредственно связан с мышлением.
Можно сказать, что для человеческого познания, выраженного в языке, в создании телесных и зрительных артефактов "простота хуже воровства". Возможностей в познании всегда много, они наслаиваются, дублируют друг друга, образуя сложные комбинации. И эта сложность является необходимой для познания.
Язык теснейшим образом связан с интуициями, переживанием непосредственных "само собой разумеющихся" вещей, которые и согласуются с понятием возможности в смысле Гибсона.
Познание связано с культивированием (культурными практиками) человеческих возможностей - в видении и понимании старых, в поиске и организации новых.
Как происходит настройка на эти возможности? Как реализуются культурные практики понимания?
Для ответа на этот вопрос мне надо ввести категорию фрактального (хаотического) блуждания, или фрактального движения. Практики познания это практики блуждания, перескоков между различными возможностями, практики комбинаций, подборов новых возможностей. Такого рода познавательное движение-блуждание открыто к новым образам зрительного восприятия, к новым смыслам и значениям языка, к новым ритуалам и телесным практикам культуры.
Прилагательное "фрактальный" в словосочетаниях "фрактальное движение", "фрактальное блуждание" имеет у меня оттенок описания формы. Говоря о фрактальном движении, я хочу отличать этот тип движения от случайного движения (движения, протекающего по тому или иному статистическому закону распределения вероятностей случайной величины - характеристики движения) и динамического движения (описываемого функциональным законом изменения характеристики движения во времени).
Примером случайного движения может быть движение, связанное с попаданием рулетки в казино на определенное поле. Выпадение того или иного поля является случайным событием, подчиняющимся статистическому закону. Если бы этого закона не было, то деятельность казино была бы невозможной: нельзя было бы однозначно утверждать, что при достаточно большом числе игр игровое заведение не разорится.
Другим примером случайного движения является часто приводимый в книгах по кибернетике пример обезьянки, с равной вероятностью ударяющей по клавишам пишущей машинки. Событие -удар по клавишам машинки - мыслится в этом примере случайным, независимым от других событий - ударов. Эти события происходят на ограниченном поле возможностей - число возможностей равно числу клавиш.
Если обезьянка поставит во взаимно-однозначное соответствие номер удара по клавише и определенную клавишу, то мы получим пример динамического, функционального движения, сходного с динамическим движением, описываемым уравнениями движения, например движением, подчиняющимся законам Ньютона. Предположение, на котором основывается введение динамического описания движения, подразумевает наличие некоторого внешнего по отношению к движению образца. Обезьянка в этом случае должна печатать по образцу, предписывающему ей, какую клавишу нажимать, так же как тело, летящее под действием силы, должно подчиняться образцу в виде универсальных законов движения.
Но ведь возможна и третья ситуация - когда нет образца. Например, нет взаимно-однозначного соответствия между ударами и клавишами у печатающей обезьянки, но есть вероятностные правила формирования ансамблей возможностей. Можно запретить ударять по клавише с мягким знаком после гласных, ввести правило введения пробелов, вероятности возникновения одних знаков после других или их сочетаний.
Эта ситуация принципиально отличается от первых двух. Подобного рода движение уже предполагает корреляции между событиями - ударами по клавишами. Но эти корреляции не жесткие, не функциональные.
Этот третий тип движения - не случайный и не функционально-динамический - я и связываю с фрактальным движением, или фрактальным блужданием.
Вместо прилагательного "фрактальный" можно использовать прилагательное "хаотический" в смысле понятия детерминированного хаоса, хаоса, имеющего сложные структуры. Однако в обыденном языке этот термин вносит некоторую путаницу - ведь хаос обычно ассоциируется с полной бесструктурностью, присущей, скорее, случайному движению.
Все описанные мной три типа движения - случайное, фрактальное и функционально-динамическое - подразумевают при их введении и формализации некоторый детерминизм в постановке задачи. Под термином "детерминизм" в данном случае не стоит понимать полную причинно-следственную зависимость. Скорее, это предположение о наличии адекватных природе моделей, проявляемое в виде поиска некоторых инвариантов - характеристик движения, связываемых с тем или иным законом движения.
Детерминизм фрактального описания подразумевает поиск и интерпретацию масштабных инвариантов, скейлинга, характеризующих нерегулярность, изрезанность формы на различных масштабах.
Детерминизм подразумевает некоторую веру в то, что предлагаемое описание природы является истинным. Описание и природа отождествляются. Эту веру ярко демонстрирует творец термина "фрактал" и "фрактальная геометрия природы" Бенуа Мандельброт: "Почему геометрию часто изображают "холодной" и "сухой"? Одна из причин этого состоит в невозможности описать с помощью геометрии форму облака, горы, побережья или дерева. Облака это не сферы, горы - не конусы, побережья - не окружности, и кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой. Более того, я заявляю, что многие природные структуры являются сильно нерегулярными и фрагментированными по сравнению с евклидовыми (этот термин используется в данной работе, чтобы обозначить стандартные геометрии). Природа демонстрирует нам не просто высокую степень, а совершенно другой уровень сложности. Число различных масштабов длин в природных структурах практически бесконечно.
Существование этих структур призывает нас изучать те формы, которые Евклид отбросил как "бесформенные", исследовать морфологию "аморфного". Математики, однако, пренебрегли этим вызовом, все больше отдалясь от природы и разрабатывая теории, не имеющие отношения к любой из тех вещей, которые мы можем увидеть или почувствовать.
Отвечая на этот вызов, я задумал и разработал новую геометрию природы и осуществил ее использование в разнообразных областях. Описание многих нерегулярных и фрагментированных структур вокруг нас ведет к полноценным теориям, идентифицируемым с семейством форм которые я назвал фракталами. Наиболее полезные фракталы предполагают наличие случайности и как регулярности, упорядоченности, так и статистической нерегулярности. К тому же описанные здесь формы обладают свойством скейлинга как одинаковой на всех масштабах нерегулярности и/или фрагментированности" [15].
Можно предложить несколько физических образов фрактального блуждания. Любимый образ Мандельброта - это образ блуждания броуновской частицы, образ прерываний движения в каждой точке движения. Образ не совсем удачный с точки зрения разделения на динамическое, фрактальное и случайное движения не совсем понятно, чем блуждание броуновской частицы отличается от случайного движения. Но отличие есть. Мандельброт показывает, что движения броуновской частицы обладают персистентностью или антиперсистентностью - то есть они могут обладать неслучайными макро-характеристиками дрейфа.
Еще одним примером-аналогией фрактальной структуры является образ видео-обратной связи. Простейшим примером видео-обратной связи служит структура, получаемая в зеркале, отображающем зеркало, стоящее напротив. Наблюдатель, помещенный между двух зеркал, видит некоторую бесконечную картинку, полученную в результате отражений между зеркалами. Зеркала отображают то, чего вне этих зеркал нет, - бесконечность изображающих друг друга изображений.
Другим примером видео-обратной связи может быть изображение, полученное в результате наведения видеокамеры на монитор телевизора, порождающее совершенно фантастические по своей красоте картины.
В результате кажущейся неупорядоченности отдельных перескоков-движений вырастает сложноупорядоченная макроструктура. Важно то, что эта самая макроструктура вырастает не по какому-то внешнему трансцендентному образцу, априорно заданной категории или понятию. Образец достраивается в результате фрактального блуждания. Выстраиваемый макро-образец не "вываливается" во внешнее - он способен изменяться, но он способен и быть причиной по отношению к микро-блужданиям.
В этом смысле с миром происходит что-то подобное тому, что американский институционалист Торстейн Веблен называл кумулятивной причинностью ("cumulative causation")1), а немецкий физик-теоретик, один из основателей синергетики Герман Хакен ([14]) - циклической причинностью.
Фрактальное блуждание - цепь самоподдерживающихся изменений, самоорганизующихся вокруг самодостраиваемого внутреннего образца.
Именно специфические блуждания, перескоки, а не познавательное усилие, связанное с фиксацией внимания на познаваемом, являются необходимой чертой познания мира. Точнее, фиксация возможна только тогда, когда процесс творчества закончен, когда предмет познания сотворен и выпал во внешнее фиксация внимания на предмете познания невозможна без механизма трансценденции, механизма создания внешнего образца.
Но как создается и выходит во внешнее этот образец? Через фрактальные познавательные блуждания.
Наиболее ярким примером для иллюстрации моих взглядов может быть пример мышления ребенка, визуально, телесно, понятийно осваивающего мир. Освоение мира ребенком происходит на первый взгляд случайно и бессистемно - первые попавшиеся на глаза образы соединяются со случайно взятыми звуками, накладываются на телесные артефакты. Ребенок творит мир и себя в мире, опираясь не на понятия и категории, а на собственные - достаточно хаотические - движения, соединяя, комбинируя все со всем.
Л.С. Выготский, анализируя особенности детского мышления, сделал вывод о том, что мышление ребенка протекает не в понятиях, а в комплексах - в своеобразных обобщениях, способах систематизации, селективного избирания возможностей, соединениях несоединяемого, предшественником которого является детский синкретизм.
Л.С. Выготский вычленяет пять основных комплексов: ассоциативный комплекс, когда в основу обобщения кладутся ассоциативные связи; коллекционный комплекс - когда различные предметы подпираются по принципу дополнения к основному признаку; цепной комплекс, выстраиваемый на основе ветвящейся цепи ассоциаций, - когда вещь, собираемая в комплекс может быть связана какой-либо ассоциацией с непосредственно предыдущей вещью, но не связана с вещью с пред-предыдущей вещью; диффузионный комплекс - признак, по которому объединяются различные предметы как бы диффундирует, становится неопределенным, меняется; псевдопонятие - когда ребенок приходит к традиционному понятию (например понятию треугольника) путем каких-то своих ассоциаций (цвета, похожести формы, диффузионных факторов).
А. Лобок верно подмечает, что эти особенности характерны не только для ребенка, но и для и для человеческого понимания вообще:
"Любое подлинное понимание начинается вовсе не на понятийном уровне, а на уровне интуитивного схватывания образа понимаемого. И только через личностные образные структуры происходит восхождение к сущности собственно понятия. И хотя образ не обладает точностью и четкостью понятийных структур, зато он обладает огромным потенциалом эвристичности. Образ всегда личен. В нем нет универсальной всеобщности понятия, но есть свернутая пружина огромного познавательного интереса" [7, с.122].
Откуда это схватывание? Откуда интерес? Откуда интуиция? От движения, блуждания. Интуиции без движения быть не может. Это движение у ребенка первоначально телесно. Это простое движение руками, глазами. Это движение сродни самообучающимся движениям новорожденных каракатиц и цыплят, приводимых Лоренцем в "Оборотной стороне зеркала":
"Как известно, механизмы автомобиля подвергаются адаптивному изменению с помощью процесса, именуемого "обкаткой". Нечто подобное происходит так же, по-видимому, со многими механизмами поведения. Например, М. Уэллс установил, что у только вылупившейся из яйца каракатицы (Sepia officinalis) реакция поимки добычи уже в первый раз происходит с совершенной координацией, хотя заметно медленнее, чем после многократного повторения. Улучшается так же и точность прицела. Э. Гесс наблюдал подобный же эффект упражнения при клевательном движении только что вылупившихся цыплят домашней курицы. Как он показал, попадание в цель не играет никакой роли в улучшении этой формы движения. Гесс надевал цыплятам очки, призматические стекла которых имитировали боковое смещение цели. Цыплята так и не научились корректировать отклонение и все время продолжали клевать в ожидаемом направлении мимо цели. Но после некоторого упражнения это движение стало иметь гораздо меньший разброс".
Первоначальное движение-блуждание без цели, движение ради движения, запрограммированное только что рожденным телом, накладываясь на определенные возможности формирует, самодостраивает цель.
Возвращаясь к помеченному нами термину "интуиция", можно сказать, что интуиция напрямую связана с типом движения - с блужданием по полю визуальных, телесных языковых возможностей. Такого рода блуждание производит сборку понимания. И это понимание у отдельного человека может синхронизироваться с уже существующими в языке, в практиках познания понятиями и категориями, а может и образовывать новые понятия и категории, может быть творческим.
Исходя из этого, можно вычленить два типа фрактальных блужданий. Условно говоря, фрактальное блуждание I - как блуждание по уже сформированным (языком, телесными, зрительными практиками) возможностям. По возможностям, уже имеющим определенный институциональный статус в культурных практиках. Блуждание, подразумевающее выход на уже сформированные, внешние понятия.
И блуждание II - как творческое блуждание по становящимся, незавершенным, формирующимся возможностям.
Чтобы пояснить этот тезис, можно использовать известную метафору Бергсона, основанную на его высказывании, что "механизм нашего познания имеет природу кинематографическую" [4, с.294].
Бергсон приводит пример изображения движущегося полка в кинематографе и выстраивает аналогию между движением ленты в киноаппарате (как наиболее простым движением, через которое кинематограф схватывает движение полка) и механизмами схватывания движения нашим сознанием. Наше сознание схватывает отпечатки проходящей реальности, являясь некоторым "внутренним кинематографом". По Бергсону, такого рода представление движения искусственно. Во-первых, потому, что оно трансцендентно по отношению к движению. А во-вторых, потому, что само движение принципиально неразложимо на составные части. Остановить "прекрасное мгновенье" нельзя. Остановка убивает и мгновенье и красоту.
Гибсон, не ссылаясь на Бергсона, постоянно подчеркивает процессуальность зрительного восприятия. Экспериментально показано, что зрительные инварианты не образуются при неподвижном зрачке. Глаз, взгляд должен постоянно совершать движения, перескоки, блуждания. Причем это блуждание не есть вынужденное движение, вызванное внешними изменениями. Это необходимо работающий внутри человека "моторчик", автомат.
Сходная ситуация, по-видимому, происходит и с практиками познания. Распространяя метафору блуждания, можно сделать вывод о том, что наши понятия, используемые нами в познании, должны постоянно поддерживаться блужданиями, перескоками, припоминаниями. С одной стороны, эти перескоки, припоминания являются характеристиками культуры, они различны в разных культурах. С другой стороны, они не являются чисто внешними по отношению к познающему. У познающего есть внутренний "моторчик" познавательных движений.
В качестве примера можно привести характерные для различных ситуаций общения метафоры, идиомы, цитаты из книг и кинофильмов, анекдоты своеобразные штампы, в которые сваливается коммуникация после серии перескоков и блужданий. Так же, как давно знакомые вещи в уютной и обжитой квартире, эти штампы помогают нам держаться за наши понятия. В общении, как правило, они занимают маргинальные позиции, служа своеобразной "инкрустацией", довеском к понятиям. Однако, на мой взгляд, именно эти "обрамления" создают синхронность, синергизм и как следствие - возможность для понимания и общения. Без этого обрамления понятия были бы непонятны. Блуждание по ним, припоминание их по поводу и без повода как бы поддерживает общую коммуникативную реальность.
Возвращаясь к образу обезьянки за пишущей машинкой заметим, что фрактальное блуждание I напоминает случай, когда правил становится так много, что обезьянка становится как бы их заложницей - напечатав "А" она, следуя правилу, должна напечатать "Б". Но внешнего образца по-прежнему нет обезьянка не перепечатывает текст. Текст сжат, зашифрован в правилах. Уже потом, сличая вроде бы разные тексты, написанные по одним и тем же правилам, можно сделать вывод об общих культурных ситуациях познания.
Например, штампы, употребляемые графоманами, несут некоторую культурную информацию об архетипах, о пространстве блуждания I по понятиям. Один образ устойчиво связывается с другим, образуя штамп: если "лайнер" - то "серебристый", если "любовь", то обязательно "кровь". Визуальные образы, звуки, цепляясь друг за друга, не выпускают за пределы понятий и ассоциаций, сформированных культурой.
Открытие графоманом рифмы "ночь-прочь" и цепочек образов, известных еще Ломоносову, имеет для графомана ценность. Хотя бы ценность личного, персонального переживания непосредственной радости творчества, открытия, познания. И эта радость педагогична. Она является познавательной и образовательной практикой.
Но какова разница между графоманом и поэтом? То есть - можно ли различить блуждание I и блуждание II? Можно ли разделить ситуации: познающий заложник языка (блуждание I) и познающий - творец языка (блуждание II)? Ведь если мы зададим, к примеру, правило, согласно которому всякий, кто использует рифму "ночь-прочь" является графоманом, то заведомо ошибемся, эту рифму можно обыграть, поставить в неожиданный контекст, создав интересное стихотворение.
Ситуация власти языка над познающим достаточно остро переживается современной философией.
Наиболее ярко ее анализирует Мишель Фуко. Приведу цитату из главы VIII его книги "Слова и вещи": "Выражая свои мысли словами, над которыми они не властны, влагая их в словесные формы, исторические измерения которых от них ускользают, люди полагают, что их речь им повинуется, не ведая о том, что они сами подчиняются ее требованиям. Грамматические структуры языка оказываются априорными предпосылками всего, что может быть высказано. Истина дискурсии оказывается в плену у философии. Отсюда необходимость возвыситься над мнениями, философиями, быть может, даже науками, чтобы добраться до слов, которые сделали их возможными, и еще далее - до мысли, чья первоначальная живость еще не скована сеткой грамматик. Этим и объясняется столь заметное в XIX веке возобновление практики толкования текстов. Это возобновление обусловлено тем, что язык вновь обрел загадочную плотность, которая была ему свойственна во времена Ренессанса. Однако теперь уже дело не в том, чтобы вновь отыскать скрытую в нем первоначальную ветвь, но чтобы расшевелить слова, которыми мы говорим, выявить грамматический склад наших мыслей, развеять миры, которые одушевляют наши слова, вновь сделать звучным и слышимым то безмолвие, которое всякая речь уносит с собой, когда она выражает себя. Первый том "Капитала" - это толкование "стоимости", весь Ницше - это толкование нескольких греческих слов, Фрейд - толкование тех безмолвных фраз, которые одновременно и поддерживают, и подрывают наши очевидные дискурсы, наши фантазмы, наши сны, наше тело. Филология как анализ всего того, что говорится в глубине речи, стала современной формой критики. Там, где в конце XVIII века речь шла о том, чтобы очертить границы познания, теперь стараются распутать синтаксис, сломать все принудительные способы выражения, вновь обратить слова к тому, что говорится сквозь них и вопреки им. Пожалуй, бог теперь находится не столько по ту сторону нашего знания, сколько по сю сторону наших фраз; и если западный человек неразлучен с ним, то это не из-за неодолимого стремления выйти за рамки наличного опыта, но из-за того, что сам язык постоянно пробуждает его под сенью своих законов: "Боюсь, что мы не можем избавиться от бога, покуда мы верим еще в грамматику". [16, с.130]. В XVI веке интерпретация шла от мира (одновременно вещей и текстов) к Божественной речи, которая в нем расшифровывалась; наша интерпретация или, точнее, та интерпретация, которая сложилась в XIX веке, идет от людей, бога, от наших познаний или химер к словам, которые делают их возможными, и обнаруживается при этом не суверенность первозданной речи, а то, что мы, не раскрыв еще рта, подвластны языку и пронизаны им. Таким образом, современная критика посвящает себя весьма странному роду толковательства: оно движется не от констатации существования языка к раскрытию того, что он означает, но от явственного развертывания дискурсии к выявлению языка в его собственном бытии".
То есть толкование - это уже не столько интерпретация теста, сколько поиск и самодостраивание некоторых познавательных механизмов. И эти механизмы могут быть различными. Это различие я вижу в различии блуждания I и блуждания II.
Можно предположить, что блуждание I отличается от блуждания II степенью осознания той познавательной ситуации, в которую погружен сознающий. Сама постановка вопроса о том, что язык это не средство, нужное для объяснения "настоящих вещей", постановка вопроса о подвластности языку радикально меняет ситуацию. Действительно, графоман не видит того, что он говорит штампами, - так же как господин Журден не знает, что он говорит прозой.
Отсюда можно сделать вывод о том, что блуждание I и блуждание II различаются по рефлексивным позициям познающего. Рефлексивные позиции - это некоторые параметры порядка, макрохарактеристики блуждания непосредственно из самого блуждания не следующие.
Несомненно, что осознание зависимости от языка предстает как такого рода рефлексивная позиция.
Для осознания своей зависимости от языка необходимо некоторое познавательное усилие, связанное с постоянной фиксацией этой зависимости: язык говорит мной, я зависим от языка, поэтому с познанием дела обстоят совсем не просто.
Это усилие, с одной стороны, способствует развитию познавательных практик, но с другой, оно уводит познающего от классической субъект-объектной схемы познания. Познающему кроме предмета своего исследования надо познавать еще и себя, и свой язык.
В.И. Аршинов и Я.И. Свирский в своей статье "Синергетическое движение в языке" рассматривают язык как активную самоорганизующуюся среду познавательного процесса, связывая акты понимания с особого рода синергетическим движением. Познающий способен организовать свои познавательные практики таким образом, чтобы (говоря на моем языке) видеть разницу между блужданием I и блужданием II.
Согласно авторам, использующим концепцию Бергсона, синергетическое движение в языке связано с интуициями, специальными практиками блужданий по пространству языка:
"Единственная задача философии здесь должна состоять в возбуждении известного рода духовной деятельности, затрудненной у большинства людей более полезными в жизни привычками ума. Выбирая возможно менее связанные друг с другом образы, удастся избегнуть того, чтобы один из них не занял место интуиции, так как тогда он был бы немедленно смещен одним из своих соперников. Действуя так, можно будет приучить сознание к совершенно особой и определенной склонности. Но для этого нужно еще, чтобы оно само пошло на такие усилия" [4, с.202].
Научиться постигать мир интуитивно, по Бергсону, можно лишь через внутреннее изменение отношения к миру и к себе, требующее в конечном счете некоего сознательного усилия, скачка, "вспышки". Средством инициации такой вспышки интуиции и должен выступать посвящаемый ей текст. М. Мамардашвили неоднократно подчеркивал, что любой процесс научения сопровождается такими вспышко-подобными актами сознания.
Приведенное пояснение косвенным образом указывает и на то, что синергетическое движение в языке, претендующее, по сути дела, на открытие доступа к становящемуся бытию, само должно нести в себе элемент становления и, соответственно, ускользать от четко артикулированных форм. Нетерпимость к застывшим формам является одной из его характеристик. Это свойство, пожалуй, может быть проинтерпретировано как одно из правил запрета запрета на употребление "готовых" понятий и представлений. Это правило внутри себя в некоем смысле парадоксально, ибо каркасом любого, в том числе и естественного, языка можно считать именно готовые статичные формы: имена собственные и нарицательные, между которыми существуют "правила перехода", выраженные глаголами. Рассматриваемое же движение в языке опирается в основном на глагольные формы, оставляя собственным именам и категориям вторичную, контекстную роль [2, с.33-48].
Сходное, на мой взгляд, правило было концептуализировано Сергеем Эйзенштейном применительно к языку кино, выразительным средствам кинематографа. Новое ищется в коллажах, слиянии разного. Познавательное внимание фиксируется на поддержании внимания к подобного рода деятельности.
В результате этого рождается, выкристаллизовывается неслучайность случайных сочетаний - формируется макро-образ, гештальт фрактального блуждания.
Макро-способ может быть неустойчивым, катастрофическим с точки зрения образуемых им коммуникативных схем, способов понимания, зависеть от контекста его восприятия, но может быть и устойчивым, организовывая выделенные направления - русла, каналы, "линки", засечки, те или иные порядки и структуры в мире.
Я считаю, что говорить о фрактальном блуждании можно не только с точки зрения познавательных практик отдельного человека, но и с точки зрения формирования понятий и категорий.
Понятие и категория и есть некий макро-образец, выпадающий во внешнее в результате блуждания.
Причем для понимания понятия зачастую блуждание типа блуждания I просто необходимо - так как у многих категорий и понятий нет четко заданных внешних образцов-определений.
Например, у понятия множества нет строгого определения. Это фундаментальная категория. Как мне понять - что такое множество? Или (что то же самое): как мне сформировать способ неслучайного выбора из тех или иных возможностей чего-то такого, о чем я могу сказать, что это - множество? Надо воспитать интуицию. Надо поблуждать - рассмотреть конкретные примеры употребления, оснастить понятие перескоками, ссылками на другие понятия.
Схожая ситуация возможна и при введении нового понятия в научное знание.
Как ввести новое понятие? Как сделать так, чтобы у людей возникали неслучайные механизмы отбора? Надо оснастить это понятие ссылками с помощью фрактальных блужданий.
То есть я думаю, что введение фундаментального понятия, и как следствие этого - формирование знания идет по схеме: "комплекс-затравка" плюс блуждания по полю языковых возможностей. На основании "затравочного комплекса" дается первое (пусть и неверное, недостаточно точное), пробное определение, в "блуждании" от которого ищутся новые смыслы и интерпретации. Блуждания создают механизм отбора из возможностей и служат провокациями для создания новых "затравок"2).
Самой лучшей "затравкой" является, скорее всего, метафора. Из блуждания по метафорам и формируются определения. Или вообще отбрасываются, как в случае с понятием множества, у которого, как известно, нет точного определения блуждания сами делают понимание очевидным и интуитивно-ясным.
Еще одной иллюстрацией познавательных практик фрактального блуждания в мире медиа может быть предложенная мной [1, 9-13] метафора Человека Кликающего (от англ. click - щелчок, нажатие, засечка) - постнеклассического субъекта "кнопочной" культуры, разворачивающего свои нарративы и дискурсивные практики в формируемом им самим мире.
Фрактальный нарратив мира, по аналогии с фрактальными структурами видео-обратных связей, можно рассматривать как некоторую коммуникативную макроструктуру, образованную через итерации, нажатия Человека Кликающего между познавательными "зеркалами" - танцами с другими представителями рода Человек Кликающий в коммуникативном пространстве мира. Человек Кликающий формирует фрактальный нарратив своими перескоками. Фрактальный нарратив, перескоки формируют Человека Кликающего.
Подводя итог вышесказанному, я еще раз подчеркну особенность познания как создания, с помощью специфического телесно-познавательного движения, среды возможностей, влияющей на движения. Возможности тела и возможности культуры, взаимодействуя друг с другом, создают цепь кумулятивных причинностей. Познание это не зеркальное отображение предмета, это блуждание как минимум между двумя зеркалами.
Блуждая, изменяясь, мы познаем, и уясняем себе то, что мы что-то знаем.
ПРИМЕЧАНИЯ
* Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 98-06-80282.
1) С помощью представлений о кумулятивной причинности Веблен пытался оценить процессы, происходящие в науке: "... современная наука все больше становится теорией процесса последовательных изменений, понимаемых как изменения самоподдерживающиеся, саморазвивающиеся и не имеющие конечной цели" [17, с.31].
2) типа: точка - это то, что не имеет частей, множество- это совокупность элементов и т.д.
Литература:
1. Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации //Онтология и эпистемология синергетики. - М.: ИФРАН, 1997. с.101-119 - Электронная версия находится на странице Московского международного синергетического форума: /~mifs/; 2. Аршинов В.И., Свирский Я.И. Синергетическое движение в языке //Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. - М., 1994 3. Бергсон А. Творческая эволюция. - М.: Канон-Пресс, Кучково Поле, 1998. 4. Бибихин В.В Мир. - Томск: Водолей, 1994. 5. Гибсон Дж., Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 1988. - с.188. 6. Лобок А. М. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997. - с.122. 7. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. - М.: Республика, 1998. 8. Тарасенко В.В. Фракталы и измерение хаоса.//Информация и самоорганизация. - М.: Изд-во РАГС, 1996. 9. Тарасенко В.В. Самоорганизация фрактального способа освоения коммуникаций сложного мира и образование //Синергетика и образование. - М.: Изд-во Гнозис, 1997. - с.47. 10. Тарасенко В.В. Человек Кликающий (Глобальная компьютерная сеть как философская проблема) //Планета ИНТЕРНЕТ, ?4(6)/1997. - с.62. 11. Тарасенко В.В. Вариации на темы Маршалла Маклуэна, Тимоти Лири и Бенуа Мандельброта - . 12. Тарасенко В.В. Парадигмы управления в информационно-коммуникативной культуре //Синергетика и социальное управления. - М.: Изд-во РАГС, 1998. 13. Haken H. Principles of Brain Functioning. A Synergetic Approach to Brain Activity, Behavior and Cognition. - Springer, 1996. 14. Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. - Freeman, NY., 1983. 15. F. Nierzsche Le Crepuscule des idoles, 1911. 16. Veblen Thornstein The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays. - NY, Huebsch, 1991. Бергсон А. Введение в метафизику //Его же. Время и свобода воли. - М., 1910.
Знание и референция
Черняк А.З.
Если говорят, что некий Х обладает знанием относительно чего-то, то под этим, как правило, подразумевают, что Х можно приписать, по крайней мере, следующие три типа свойств:
1. Х осмысленно употребляет некий термин в качестве субъектного термина (имени индивида, которому приписываются свойства) в некоторых своих конструкциях субъектно-предикатного вида; причем то, как он его в этих контекстах употребляет (например, что он склонен оценивать соответствующие высказывания как истинные или ложные), указывает, по крайней мере, окружающим, говорящим с ним на одном языке, на то, что данный термин в употреблении Х указывает на нечто определенное, т.е. имеет референт или, иначе, референциально значим (при том, что оговорены еще другие условия, которым должен отвечать контекст употребления Х данного термина, например, что это должно быть не идиоматическое, не поэтическое и т.д. употребление). В этом случае Х приписывается или относительно него предполагается знание референта соответствующего термина.
2. Х осмысленно употребляет некий термин в качестве предиката в некоторых своих конструкциях субъектно-предикатного вида в контекстах, требующих приписывания этим соответствующим высказываниям истинностных значений, при том что и сам Х склонен оценивать подобные контексты таким же образом - т.е., в конечном счете, склонен оценивать соответствующие высказывания как истинные или ложные. В этом случае Х приписывается или относительно него предполагается знание некоего свойства или отношения, иначе говоря, некоей абстракции.
3. Х осмысленно употребляет и склонен оценивать как истинное некое высказывание или группу высказываний, которые он в согласии с окружающими, говорящими на том же языке, что и он, склонен считать констатациями относительно некоего а, где "а" - термин, который Х употребляет в качестве субъектного термина, по крайней мере, в некоторых своих конструкциях субъектно-предикатного вида; и в качестве адекватного ответа на вопрос "Что есть а?" Х склонен ставить в соответствие первому высказыванию или группе высказываний другое высказывание (или группу высказываний), имеющее такую же эксплицитную форму, что и констатации относительно а - "а есть то-то" но другой состав элемента, обозначаемого здесь символом "то-то". При этом высказывания второго типа считаются Х объяснениями а. В этом случае Х приписывается или относительно него предполагается знание природы, сущности или идеи а, чем бы оно ни было - индивидом, свойством или отношением. Для двух первых случаев не обязательно сохранять традиционное предполагаемое различие между сингулярными и общими терминами, поскольку как сингулярный (если мы вообще признаем существование таковых), так и общий термины могут отвечать условию 1. Различие, которое здесь подчеркивается, - не между разными видами терминов, а между разными типами ситуаций, в которых демонстрируются соответствующие когнитивные характеристики Х, или, по-другому, контексты употребления. Это различие представляется мне важным в том смысле, что оно позволяет указать на дальнейшее различие между теориями, способными справиться с задачами экспликации соответствующих двум первым типам демонстративных ситуаций когнитивных феноменов. Для экспликации первого случая необходима теория референции, чтобы ответить на вопрос: каковы условия референциальной значимости и определимости референта терминов? Для экспликации второго случая необходима теория значения в самом широком смысле или, при определенной интерпретации последней, теория истины, поскольку вопрос, ответ на который здесь требуется получить, такой: каковы условия предицируемости терминов и определения познавательной значимости соответствующих языковых конструкций? Если исходить из того, что оценка предицируемости зависит от принимаемых в расчет ее следствий, фиксирующих истинностные значения предложений, получаемых посредством соответствующей предикации, а познавательная значимость высказываний - от обладания ими истинностными значениями, то наши требования могут быть ограничены теорией истины. Здесь не подчеркивается еще никакого содержательного различия между разными типами теорий значения, одну из которых я назвал теорией референции, но только различие, касающееся их применимости: возможность проводить дальнейшие различения между этими двумя типами теорий значения зависит от того, насколько познавательная ситуация первого типа не сводима к ситуации второго типа. Отношение между ними можно приближенно охарактеризовать таким образом: в когнитивной ситуации второго типа устанавливается семантическое отношение между субъектом и предикатом, и в той степени, в какой оно не может быть установлено без знания условий истинности для данного предиката, оно должно опираться на определенное знание в отношении субъекта - а именно, есть ли у субъектного термина референт. Наконец, для экспликации третьего случая - здесь нам надо получить ответ на вопрос: каковы условия объясняющей значимости для высказывания или группы высказываний? - необходима теория объяснения.
Задачу этой статьи можно сформулировать как попытку ответить на вопрос: "Что значит знать нечто в смысле, на который указывает первая из трех упомянутых типов когнитивных ситуаций?". Если можно было сказать о некоем Х, что он знает референт некоего термина "а", а не просто не выказывает непонимания, когда сталкивается с его материальными образцами, то это традиционно считалось достаточным основанием для того, чтобы приписать Х определенные мнения, а именно: что а существует и что все высказывания субъектно-предикатной формы с "а" в качестве субъектного термина (разумеется, с оговорками, касающимися специфики некоторых контекстов конструирования таких высказываний) должны быть истинными либо ложными. Однако попытки ответить на вопрос "Каковы условия референциальной значимости терминов?" обычно сталкиваются с трудностями, ставшими уже классическими. Так, если считать, что субъектным термином в высказываниях субъектно-предикатной формы должно быть имя, т.е. выражение, указывающее на конкретный объект - индивид - или сущность благодаря некоему отношению (денотации или референции), которым он с данным конкретным индивидом или сущностью связан, и что в языке есть класс выражений, отвечающих этому условию, т.е. класс имен, то попытка ответить на вопрос "Как именно имена связаны с тем, что они именуют?" (что можно расшифровать как: "Почему в соответствующих контекстах они указывают на определенные индивиды или сущности и только на них, независимо от прочих обстоятельств употребления) сталкивается с проблемой синонимии кореференциальных терминов, т.е. таких, относительно которых предполагается, что они во всех соответствующих контекстах именуют одного и того же индивида или одну и ту же сущность"). Можно сформулировать проблему так, как это сделал Фреге: если считать, что два термина "а" и "в" синонимичны на том основании, что они обозначают одно и то же, то чем будут тогда различаться высказывания "а = а" и "а = в"? [2, с.25]. Между тем они как будто имеют различную познавательную значимость: первое считается аналитическим, тогда как второе - нет. Фреге нашел решение проблемы в приписывании именам характеристики обладания не только значением (референтом), но и смыслом, которым, следовательно, могут различаться кореференциальные термины. Рассел отказал именам в обладании смыслом; для решения проблемы синонимии терминов он воспользовался критерием взаимозаменимости синонимичных терминов во всех контекстах с сохранением истинности - salva veritate. При этом обнаружилось, что существуют контексты, относительно которых никакие два термина нельзя считать синонимичными - например, "Георг IV хотел знать, является ли Скотт автором романа Уэверли" меняет свое истинностное значение, если подставить "Скотт" на место "автор Уэверли" [6, с.204-205]. Куайн назвал такие контексты референциально непрозрачными (иначе их еще называют интенсиональными) (см., например [4, c.141-156]). Решение Рассела состояло в том, чтобы исключить большинство так называемых собственных имен из этого класса, показав, что они являются не чем иным, как неполными символами, т.е. могут быть приведены к своему логически правильному виду - к виду предикатов: так "автор Уэверли" в логически правильной форме представляет собой выражение "тот, кто написал Уэверли" (или даже правильнее, как замечает Рассел, "то, что написало Уэверли"). Куайн пошел по этому пути еще дальше и перевел все вообще имена в разряд общих терминов, демонстрируя принципиальную, по его мнению, преобразуемость всех имен в предикаты (например, "Пегас" преобразуется, согласно Куайну, в "нечто, что есть Пегас" или "нечто, что пегасит" даже для тех, кто не знает, что "Пегас - это крылатый конь" и, стало быть, не может заменить имя "Пегас" на дескрипцию "нечто, что есть крылатый конь")1). У общих терминов, в отличие от собственных имен, нет денотата или референта в виде некоего определенного индивида, на который бы данный термин указывал исключительным образом во всех соответствующих контекстах, а есть только объем или экстенсионал - т.е. множество всех объектов, относительно которых предикация данного термина дает истинное высказывание. Если так, то отдельная теория референции для первого из трех указанных выше типов когнитивных ситуаций вообще не нужна, поскольку ответ на вопрос "Каковы условия истинности для высказываний с данным термином в составе предиката?" или, шире, "Каковы условия предицируемости данного термина?" будет одновременно и ответом на вопрос "Каков референт данного термина?" Поэтому прежде чем выяснять, каковы условия референциальной значимости терминов, следует обосновать необходимость отдельной теории референции для первого типа когнитивных ситуаций: не правильнее ли редуцировать первый тип когнитивных ситуаций ко второму?
Один из тезисов, которые защищает Куайн, - холизм: предложения науки предстают перед судом опыта не по отдельности, а все вместе и любое из них в принципе может быть признано ложным, а также - любое научное положение может быть сохранено, как бы оно ни противоречило опыту. В отношении теории значения холизм утверждает, что языковые выражения имеют значения не сами по себе и не в связи с какими-то нелингвистическими характеристиками, а лишь как части сложного языкового целого: языка или концептуальной схемы. Если следовать этому подходу, то ответом на вопрос "Каковы условия референциальной значимости термина?" будет ответ на вопрос "Каковы условия истинности высказываний формы "х есть Р", где "Р" - данный термин или производная от него (например глагол, если термин - существительное) в языке L?"2). Истинность экзистенциальных высказываний, т.е. высказываний формы "Существует, по крайней мере, одно х такое, что х есть Р", при таком подходе зависит от внеязыковых факторов: каким-то образом должно быть известно, например, что нет таких сущностей, относительно которых было бы истинно "х пегасит". Однако в какой мере подобное можно считать данностью относительно концептуальной схемы. Во множестве познавательно значимых ситуаций именно истинностное значение экзистенциальных утверждений является величиной, требующей определения, а не чем-то a priori определенным относительно некой концептуальной схемы.
Предположим, что некий Х разделяет основные положения некой концептуальной схемы, в частности, он признает истинными некое конечное число теоретических положений, одно из которых - "Для всех а (при таких-то условиях), если а есть Р, то а есть Q" (1). Значит ли это, что Х признает истинным соответствующее экзистенциальное положение "Существуют такие х, что х есть Q" (2), если он, к примеру, никогда даже не артикулировал его? Предположим, Х принужден решить, истинно ли (2). Прямо оно не выводимо из (1) и правил вывода, принятых Х, даже если добавить к посылкам "Существуют х такие, что х есть Р", поскольку а в (1) и х в (2) - переменные разных видов: первая интерпретируется (связывается с Р) при заданных условиях, а именно тех, что описаны в (1) - в явном виде она обычно репрезентируется такими выражениями, как "наблюдается" или "имеет место" (например в предложении "Если при соблюдении таких-то условий наблюдается отклонение стрелки..., то...", где "отклонение стрелки..." есть Р); переменная же х в (2) интерпретируется при любых условиях, поскольку последние просто не оговорены, вследствие специфики этого типа предложений (нечто либо существует, либо нет, безотносительно к условиям существования). Вывод будет выглядеть обоснованнее, если добавить к посылкам (3) "Такие-то и такие-то условия соблюдены" и (4) "а есть Q". Если для Х истинны соответствующие устойчивые предложения, в числе которых (1), а также правила ввода и принципы интерпретации, то истинность (4) должна автоматически следовать из истинности (5) "а есть Р" и (3). Этого в принципе должно быть достаточно для вывода: "Существует, по крайней мере, один х такой, что х есть Q". Для того чтобы редуцировать из множества высказываний, из которых выводимо (2), экзистенциальное утверждение, касающееся сущностей вида Р, в это множество надо ввести положение, описывающее условия приписывания переменной а значения Р (обозначим его как (6), а также, по крайней мере, для случая, когда эти условия не совпадают полностью с условиями, описанными в (1) (и описание которых не идентично соответствующему описанию из (1) - положение, описывающее отношение между двумя типами условий. В предложениях этого последнего вида и предложениях вида (3), как видно, выражение, описывающее условия интерпретации употребляется как имя. Чтобы вывод, о котором здесь идет речь, мог состояться, эти условия также должны входить в число онтологических обязательств Х: однако сказать, что они являются таковыми, нельзя, основываясь только на том, что в некоторых высказываниях системы соответствующие термины фигурируют как имена; такой вывод, согласно Куайну, может опираться только на характер употребления Х предложений с квантифицированной переменной. Таким образом, для вывода (2) концептуальной схемы Х последняя должна быть дополнена соответствующими экзистенциальными предложениями - а именно такими, в которых утверждается, что объемы терминов, описывающих условия интерпретации а в (1) и в (6), не пусты. Системы предложений, из которых выводимы подобные экзистенциальные высказывания, также должны включать в себя описания условий приписывания некоторой переменной в соответствующего значения (значения условий интерпретации а), а следовательно, они имплицируют дополнительные онтологические обязательства. Истинность последних, в свою очередь, должна устанавливаться подобным же образом; в результате оказывается, что реальная система предложений, из которой выводимы экзистенциальные импликации, должна быть бесконечно широкой, что делает затруднительным вывод о выводимости подобных высказываний как таковой. Другой путь сохранить их выводимость - признать за некоторыми экзистенциальными высказываниями статус аналитических предложений системы; однако насколько такой вывод приемлем? Ведь это фактически означает, что в онтологию концептуальной схемы нельзя внести определенных изменений: пусть так, но как определить, какие именно из экзистенциальных импликаций системы должны быть признаны аналитическими предложениями - мы ведь произвольно выбрали точку отсчета выводимости, окажись она другой, пришлось бы соглашаться не с тем, что признание за "Q" непустого объема основано на признании такового за неким "F", описывающим условия интерпретации а, а, возможно, наоборот - да и где поставить точку?
Различие между когнитивными ситуациями первого и второго типа в принципе можно формализовать следующим образом. Ситуация первого типа: "S есть то-то и то-то" (7); ситуация второго типа - "S есть Р". В первом случае символ, обозначающий субъектный термин, выделен, чтобы показать, что контекст его употребления, соответствующий когнитивной ситуации первого типа, предполагает то, что называют иногда его de re интерпретацией - т.е. в этом случае значим именно референт субъектного термина, а не то, что о нем высказывается. В контексте же, соответствующем когнитивной ситуации второго типа, референт субъектного термина не значим, важна предикация относительно некоего субъектного термина, каков бы ни был его референт (поэтому жирным шрифтом выделен символ, обозначающий предикат). Если предполагать, что когнитивная ситуация первого типа разрешима посредством преобразования (7) в форму "Нечто есть Рs, и это нечто есть то-то и то-то" (где Рs - предикат, производный от S) и выяснения условий истинности для высказываний этого вида, то необходимо одновременно предполагать, что семантические характеристики S, какими бы они ни были, характеризуют и Рs, так чтобы можно было считать, что, установив их для некоего предиката, мы таким образом устанавливаем их и для соответствующего субъектного термина. Можно исходить из того, что семантические характеристики сохраняются при преобразованиях такого вида, если установлены и соблюдены правила преобразования соответствующего типа для данного языка. Однако мало вероятно, чтобы такие правила могли быть полностью сформулированы для естественных языков хотя бы потому, что трудно предполагать, что какие-то правила, формулируемые для естественных языков, вообще могут охватить все случаи того или иного типа. Между тем семантическая связь между S и Рs кажется зыбкой только если считать, что носителями семантических характеристик вообще являются не пропозиции, а предложения или высказывания и, соответственно, не межъязыковые понятийные и дескриптивные единства концепты, а идентичные по материальному составу образования - выражения данного языка (или даже конкретные образцы - токены выражений). Только в этом случае, действительно, похоже, на законных основаниях может быть поставлен вопрос: почему семантические определения для выражений "пегасить" или "автор Уэверли" должны быть определениями для отличных от данных по материальным составам выражений "Пегас" или "тот, кто написал Уэверлей"? Но другой способ предполагать между ними семантическую связь - предполагать, что есть нечто общее, что позволяет объединять выражения разных языков и разных видов внутри данного языка в одну категорию: это значит просто предполагать какую-то семантическую характеристику выражений уже данной, например общность смысла. Но с этой точки зрения проблема референции вообще не может быть решена экстенсионально, поскольку сама процедура логического анализа (7) должна основываться на понятии семантической общности материально не идентичных выражений: но это фактически то же самое, что сказать, что смысл или некое дескриптивное содержание фиксирует референт термина, каким бы он ни был.
Этих сомнений достаточно, по крайней мере, для того, чтобы на законных основаниях рассматривать потенциал других подходов в решении вопроса о критериях референциальной значимости терминов. Интенсиональные контексты, такие как "Георг IV хотел знать, является ли Скотт автором Уэверли" или "Джон попросил принести ему книгу, которая лежит на столе" предполагают , по крайней мере, два способа их интерпретации: de re - когда соответствующие термины (в упомянутых случаях - "Скотт" и "автор Уэверли" и "книга, которая лежит на столе") предполагаются значимыми именно как указывающие на конкретные предметы и только на них, и de dicto - когда предполагается значимым отношение синонимии между терминами (как в первом случае) или удовлетворение соответствующей характеристике (как во втором) независимо от того, каковы референты терминов. От способа интерпретации зависят условия истинности высказываний (как в первом случае) или условия выполнимости соответствующих действий (как во втором случае). Логический анализ в стиле Рассела, если применяется ко всем без исключения случаям, когда некое выражение претендует на роль именующего нечто термина, нацелен на устранение de re интерпретаций; но если на настаивать на непременной принадлежности всех таких выражений к классу предикатов (а значит - на сводимости знания референта к знанию условий истинности высказываний определенного вида), то вопрос о критериях выбора релевантной интерпретации остается открытым. Один из способов решить эту проблему опирается на концепцию значения выражения как способа его употребления. Такую позицию, например, разделяет К. Доннелан (в статье "Референция и определенные дескрипции"): согласно его подходу референциальность - это характеристика не выражений языка, а определенных способов употреблять их; противоположную ей характеристику, предполагающую de dicto интерпретацию, Доннелан назвал "атрибутивностью" [3, с.231-244]. Доннелан рассматривает, как употребляются определенные дескрипции, но его аргументы применимы и к употреблению имен. Говорящий, употребляющий в утверждении определенную дескрипцию атрибутивно, утверждает, по его мнению, нечто о ком бы то ни было или о чем бы то ни было, что удовлетворяет данной дескрипции (имя, конечно, в этом смысле не может употребляться атрибутивно, если не признавать за ним никакого дескриптивного содержания, но атрибутивность или , по крайней мере, не референциальность имени при таком его употреблении может, по крайней мере, пониматься как упоминание чего бы то ни было, что может называться этим именем); говорящий же, употребляющий в утверждении определенную дескрипцию референциально, употребляет ее для того, чтобы подтолкнуть своих слушателей к пониманию того, о ком или о чем он говорит и утверждает нечто именно об этой личности или вещи [3, с.233]. "При референциальном употреблении определенная дескрипция есть просто один из инструментов для производства определенной работы - привлечения внимания к личности или вещи - и в общем любой другой инструмент для производства этой же самой работы, другая дескрипция или имя сделают это с тем же успехом" [3, c.233]. Критериями различения между двумя указанными контекстами употребления определенных дескрипций должны быть, по видимому, определенные существенные для этих контекстов обстоятельства. Примеры, которые приводит Доннелан, иллюстрируют, какого рода должны быть эти обстоятельства, или, иначе, что надо знать о говорящем, чтобы утверждать, что он употребляет определенную дескрипцию референциально или атрибутивно. Так, если некто, хорошо знавший покойного Смита, произносит высказывание "Убийца Смита невменяем" (8), находясь под сильным впечатлением от картины злодейского преступления, но не зная, кто именно его совершил, мы вправе будем заключить, что здесь выражение "убийца Смита" употреблено атрибутивно. Нам для этого достаточно знать о говорящем все вышеперечисленное; более того, вероятно, нам достаточно всего лишь знать о говорящем, что он не знает и не предполагает, кто именно убил Смита. Конечно, наблюдатель не может быть абсолютно уверен, что в момент произнесения фразы у говорящего не мелькнуло подозрение относительно личности убийцы и что соответствующая дескрипция не была употреблена именно с целью указания на него, даже если исходное намерение, мотивировавшее произнесение фразы, было атрибутивным (мгновение спустя, быть может, подозрения рассеялись и как у говорящего, так и у наблюдателя благодаря этому сохранилась иллюзия атрибутивности употребления дескрипции, что впоследствии может быть установлено из ответа "Никого конкретного" на вопрос "Кого вы имеете в виду?"), но в принципе мы вправе любой случай употребления определенных дескрипций оценивать, исходя из презумпции нереференциальности. Настоящие трудности возникают при определении условий референциального употребления выражений вообще и определенных дескрипций в частности. Доннелан так описывает обстоятельства, в соответствии с которыми выражение "убийца Смита" должно быть употреблено референциально: некий Джонс обвинен в убийстве Смита и посажен на скамью подсудимых, обсуждается странное поведение Джонса во время процесса и в ходе этого обсуждения звучит рассматриваемая фраза. Здесь перечислены внешние обстоятельства: то, что Джонсу вменяется в вину убийство Смита, есть общепризнанный факт, а не частное предположение высказывающего фразу; наконец сама фраза включена в разговор, который уже ведется о Джонсе. Действительно, подобные обстоятельства вполне могут подтолкнуть наблюдателя к предположению, что рассматриваемая дескрипция, включенная в подобный разговор, употреблена референциально. Но достаточно ли этого, не оказывается ли еще необходимым для вывода о референциальной значимости дескрипции в данном контексте принять дополнительную гипотезу относительно мотивации говорящего к произнесению именно этой фразы и даже, у'же, к вербализации именно данной дескрипции в составе этой фразы? Предположим, ее произносит человек, который так же, как и все, верит в виновность Джонса, но не хочет, чтобы его обвинили: как мы должны рассудить в таком случае - употребляет ли он соответствующую дескрипцию, чтобы в очередной раз указать на Джонса, или чтобы привлечь внимание или даже намекнуть на некоторые индивидуальные черты, которым явно должен отвечать убийца Смита, но, похоже, не отвечает Джонс? Такой человек может даже на вопрос "Кого вы имели в виду? Кто именно безумен?" ответить "Джонс, конечно, его я имел в виду", а потом добавить "Если, конечно, он убийца". Суть возражения состоит в том, что, если мы принимаем в качестве критериев референциальной значимости термина обстоятельства упомянутых типов, конституирующие контекст его употребления, то в том случае, когда мы знаем или предполагаем, что у говорящего, например, двойственное отношение к индивиду, признанному в контексте разговора референтом термина, мы должны принять дополнительную гипотезу, утверждающую, какое именно отношение мотивировало его употребление выражения в данном контексте. Исходно концепция Доннелана как будто не привлекает таких критериев, как интенция говорящего или коммуникативная цель, поскольку предполагается, что все это может быть установлено (если в этом есть какая-то надобность) вместе с референциальной или атрибутивной значимостью термина на основании внешних обстоятельств его употребления, таких как наличие определенной конвенции, регулирующей дискурс (как в случае с судом над Джонсом), или факты биографии говорящего. Но все же при ближайшем рассмотрении подобные критерии нуждаются в "подпорке" из внутренних обстоятельств употребления термина, чей референциальный статус рассматривается, т.е. в гипотезах, касающихся индивидуальных мотиваций употребления термина. Это связано с тем, что условия существования конвенции относительно референта термина недоопределены. В самом деле, достаточно ли того, что проходит суд над Джонсом, который обвиняется в убийстве Смита и что разговор в зале суда идет преимущественно о Джонсе для того, чтобы считать, что сформирована конвенция, согласно которой референтом дескрипции "убийца Смита" в данном контексте следует считать Джонса? Похоже, что нет, хотя бы потому, что функция суда - установить виновность Джонса в убийстве Смита, т.е. установить истинность утверждения "Джонс есть убийца Смита" (9); таким образом, по крайней мере, не необходимо, чтобы высказывание "Убийца Смита невменяем" интерпретировалось в данном контексте исходя из признания истинности утверждения (9), истинность которого еще только должна быть, согласно принципам судопроизводства, установлена. Такая конвенция в полной мере может считаться сформированной только после вынесения приговора, т.е. признания истинности (9) или его отрицания. Тем не менее можно считать, что некоторые из участников заседания уже признали (9) истинным, а другие, возможно, ложным; более того, можно сказать, что относительно истинности или ложности (9) уже в ходе заседания и даже до него сформировались, по крайней мере, две локальные конвенции. Такое предположение позволяет считать, что произнесение высказывания (8) кем-то, кто разделяет одну из конвенций, будет предписывать считать соответствующую дескрипцию, употребленную им, референциально значимой (назовем эту конвенцию конвенция А), а если (8) высказано тем, кто разделяет противоположную конвенцию, следует считать ее не значимой референциально или значимой атрибутивно. Проблема только в том, чтобы четко установить, когда можно утверждать, что подобные конвенции уже сформированы; очевидно, они должны стать более или менее устойчивыми регулятивами речевого поведения, чтобы можно было оправданно ссылаться на них как на критерий значимости тех или иных выражений. Если границы таких конвенций не установлены, то в принципе любой случай употребления таких выражений, как "убийца Смита", может интерпретироваться как референциальный или атрибутивный, если не привлекать дополнительных гипотез, касающихся индивидуальных мотиваций.
Если принять, что к моменту суда над Джонсом конвенция А уже сформирована, то, если Х разделяет эту конвенцию, это значит не только то, что он считает (9) истинным высказыванием, но и что он владеет неким дескриптивным целым, однозначно определяющим для соответствующего контекста (для любого разговора, ведущегося о том, кто убил некоего Смита, о котором известно то-то и то-то) референт термина "убийца Смита" - это Джонс, вернее, человек, подсудимый на судебном процессе, проходившем там-то, тогда-то, чье имя Джонс и которого характеризуют такие-то и такие-то паспортные и биографические данные. Таким образом, чтобы определить, значим ли референциально некий термин, будучи употреблен в той или иной ситуации, нам достаточно знать две вещи: 1) существует ли некая конвенция А, определяющая референт термина для тех, кто ее разделяет, и, если да, то 2) разделяет ли ее употребивший интересующий нас термин в рассматриваемой ситуации. Если в отношении некоего термина выполнено условие 1) и не выполнено условие 2), то термин употреблен не референциально, а например атрибутивно, если же в отношении данного термина не выполняется условие 1), то это значит, что он не принадлежит к числу референциально значимых терминов языка. Таким образом, в отношении термина, удовлетворяющего условию 1), можно различить два контекста формирования его значимости, соответствующих двум способам его употребления: обозначим их как специальный и общий. Первый характеризуется тем, что предписывает определять значимость термина какой-либо конвенции А. Тех, кто ее разделяет, соответственно можно назвать специалистами относительно значения данного термина, поскольку для них его референт однозначно определен; второй характеризуется конвенциями другого рода - например, предписывающей не принимать некое дескриптивное целое в качестве определения референта термина. Такой способ определения критериев референциальной значимости терминов позволяет привлечь другую классическую концепцию референции, согласно которой референт термина фиксируется некоторым дескриптивным целым. Такой подход развивает, например, П. Стросон, согласно которому общим условием идентификации некоего индивидуального объекта (что соответствует референциальному употреблению термина) является знание некоего индивидуирующего факта (или фактов) о некоем индивиде, которому тождественен референт рассматриваемого термина, а знать такой индивидуирующий факт - значит знать, что то-то и то-то истинно относительно данного индивида и только его [7, с.23]. Главная характеристика общего контекста значимости термина, соответственно, такова: в нем не действует никакая конвенция А, т.е. никакое дескриптивное целое не признается в качестве определения референта термина, но максимум - в качестве репрезентанта некоего релевантного пониманию термина представления или стереотипа или, иначе, используя терминологию Стросона, никакой факт не считается в этом контексте индивидуирующим фактом в отношении возможных объектов референции, приписываемой данному термину (при этом конвенция, характеризующая общий контекст определения значения термина, может и даже должна - поскольку относительно термина выполнено условие 1) - предписывать считать его в принципе референциально значимым, т.е. признавать за ним характеристику указания на индивиды; только условия их идентификации, согласно этой конвенции, не определены или неизвестны). Специалиста отличает способность при определенных условиях непосредственно указать на объект, тождественный референту термина и удовлетворяющий определяющим его дескрипциям или, если такое указание невозможно, сформулировать для него общие условия, при которых оно могло бы быть осуществимо.
Возвращаясь к примеру с дескрипцией "убийца Смита", можно заметить, что, если некий Х разделяет конвенцию А, т.е. является специалистом, знающим референт этого термина, совершенно не обязательно, чтобы он был также специалистом в отношении значения термина "Смит"; для знания референта дескрипции "убийца Смита", видимо, вполне достаточно иметь какие-то согласованные с другими разделяющими конвенцию А членами общества представления о Смите, какие-то факты относительно него, но не обязательно, чтобы какие-то из этих фактов были индивидуирующими. Или, иначе говоря, необходимо, чтобы какие-то дескрипции относительно предполагаемого референта термина "Смит" признавались истинными, но не необходимо, чтобы какие-то из них признавались относительно него определяющими (хотя, разумеется, условие 1) для термина "Смит" должно выполняться).
Но почему бы не предположить, что в отношении термина Пегас существует своя конвенция А, определяющая индивида, удовлетворяющего дескрипции "крылатый конь, пойманный Беллерофонтом", как референт этого термина и в рамках которой сформулированы условия демонстративной идентификации такого индивида? По-видимому, что-то еще должно характеризовать конвенцию А, что исключало бы такие возможности. Условие наличия специального контекста значимости у термина может быть обогащено следующим образом: индивидуирующий факт относительно референта термина должен включать в себя указание, по крайней мере, на одну образцовую ситуацию, когда объект, тождественный референту термина, был демонстративно идентифицирован, причем имя субъекта идентификации, фигурирующего в таком указании, также должно быть для соответствующих специалистов референциально значимым. Однако, если знание референта в конечном счете предполагает возможность прямого указания на объект, тождественный референту термина, то относительно всех, например, абстрактных математических понятий мы в таком случае должны согласиться, что они не могут употребляться в качестве имен и быть при этом референциально значимыми, поскольку прямо указать мы можем только на конкретные материальные объекты - значки или сочетания звуков, которыми обозначаются числа и другие математические объекты. Между этими объектами и математическими объектами, указание на которые мы хотим приписать соответствующим символам языка, - репрезентативное отношение как будто такого же типа, что и между конкретным изображением Пегаса и самим Пегасом: так же как нигде нет "самого Пегаса", а указать мы можем только на его изображения, так же и на "сами числа" мы не можем указать, а всякий раз указываем только на их репрезентации (тем более, что изображения в принципе можно подвести под категорию иконических символов). Между тем, несмотря на видимое сходство репрезентативных отношений, в случае отношения "Пегас изображение Пегаса" и отношения "число - знак числа" между этими случаями имеется и принципиальное различие: в то время как со знаками чисел мы можем делать именно то, что предполагается делать с числами, т.е. приписывать им именно те операциональные характеристики, какие можем приписывать самим числам (это прежде всего способность участвовать в математических операциях, приводить к математически релевантным результатам), с изображениями Пегаса мы можем делать только то, что со всякими изображениями, а не то, что, предполагается, можно делать с самим Пегасом (например мы не можем приписать изображению Пегаса операциональную характеристику "быть оседланным" или "летать под седоком" и т.д.) - в этом смысле знаки чисел, можно сказать, "операционально эквивалентны" самим числам, и таковы же другие знаки других абстрактных объектов, относительно которых в языке выполняется условие 1).
Но как идея определения референта термина посредством установления его связей с определенными дескрипциями может противостоять упомянутым уже трудностям, вытекающим из не-взаимозаменимости с сохранением истинностного значения терминов, которым приписывается кореференциальность, в интенсиональных контекстах? Так, если референт термина "Фалес" определяется дескрипцией "философ, считавший, что все есть вода", то отсюда, при применении принципа взаимозаменимости salva veritate кореференциальных терминов к высказыванию "Фалес не считал, что все есть вода", должно следовать противоречие - "Философ, считавший, что все есть вода, не считал, что все есть вода" (из ложного высказывания получаем ни истинное, ни ложное). Это было бы так, если бы дескрипция "философ, считавший, что все есть вода" определяла бы референт термина "Фалес" согласно некой конвенции А, т.е. в специальном контексте установления значимости данного термина. Однако такая конвенция должна была бы предписывать считать референтом термина "Фалес" конкретного человека (это следовало бы хотя бы из определения понятия "философ" - что это "человек, занимающийся тем-то и тем-то") и, соответственно, должна была бы включать дескриптивные элементы, допускающие при определенных, выполнимых условиях непосредственное указание на объект, тождественный референту термина. Между тем в этом смысле - как имена конкретных людей - такие термины, как "Фалес" или "Александр Македонский", не употребляются; существующие относительно них конвенции А определяют их не как имена людей, а как обозначения исторических персонажей, и эти конвенции не могут использовать такие дескрипции, как "философ, считавший, что все есть вода", в качестве определений референта термина (а стало быть, приписывать им статус кореференциальных определяемым терминам). Употребление имен исторических персонажей скорее подобно употреблению имен мифических и литературных персонажей, таких как "Пегас" или "Гамлет"; относительно них, наверное, существуют свои сообщества специалистов, но в рамках этих сообществ они, если употребляемы референциально, то во всяком случае не как имена реальных живых существ. Упрощенно выражаясь, чтобы употреблять имя человека референциально, нужно как минимум входить в число его современников - т.е. всех тех, кто непосредственно знаком хотя бы с одним непосредственно знавшим этого человека (хотя этот "круг современников", видимо, при большом желании, можно расширить, включив в него знакомых, непосредственно знакомых с теми, кто был непосредственно знаком с теми, кто..., кто был непосредственно знаком с этим человеком. Тогда главное, чтобы выполнялись условия верификации непрерывности такой цепи знакомств). Аргумент, однако, имеет более общий характер: на основании его предполагается, что, если какая-то дескрипция Д определяет референт термина Т, то 1) Д и Т кореференциальны и 2) подстановка Д, каким бы оно ни было, на место Т в предложения вида "Т не есть Д" (10) изменит истинностное значение последнего. Справиться с этим возражением можно пытаться, по крайней мере, тремя способами: можно отрицать, что если Д в рамках конвенции А определяет референт Т, то Д и Т должны признаваться в рамках этой конвенции кореференциальными терминами; можно настаивать на том, что оцениваемое с точки зрения конвенции А (а только как оцениваемое с такой точки зрения (10) может быть однозначно ложным) (10) не должно быть оцениваемо как необходимо противоречивое высказывание, что оно также может считаться просто ложным; наконец, можно признать, что определение референта термина в рамках любой конвенции А не обязательно должно включать только дескриптивный компонент, а может еще опираться, например, на принятые в рамках данной конвенции и используемые в обучающей практике образцы стимуляций. В последнем случае высказывание вида (10) в рамках конвенции А просто не формулируемо. Здесь мы рассмотрим возможности первого способа справиться с этой трудностью. Предположим Т "убийца Смита", а Д - "Джонс, т.е. человек, о котором известно то-то и то-то". Очевидно, если о некоем Х можно сказать, что он употребляет термин "убийца Смита" референциально и что он разделяет соответствующую конвенцию, согласно которой референт этого термина определяется данной дескрипцией, то ему следует также приписать и обязательство референциально употреблять данную дескрипцию. В самом деле, знать, что Джонс и никто иной есть убийца Смита, и знать, кто человек, убивший Смита, т.е. быть способным указать на него при определенных условиях, нельзя, не зная, кто такой Джонс. В этом смысле как будто термин и определяющая его в рамках конвенции А дескрипция должны быть кореференциальны с точки зрения этой конвенции. Между тем может так случиться, что не все, кто референциально употребляет термин "Джонс" как имя конкретного человека, считают его убийцей Смита: для них "Джонс" и "убийца Смита" - далеко не кореференциальные термины. О всех, употребляющих референциально термин "Джонс", можно сказать, что они разделяют соответствующую конвенцию - назовем ее конвенцией А1: в рамках этой конвенции референт термина "Джонс", разумеется, как-то определяется, но совершенно не обязательно так же, как в рамках конвенции, регулирующей референциальное употребление термина "убийца Смита" (назовем ее конвенцией А2). Например, в рамках А2 для определения референта термина "Джонс" может использоваться дескрипция "человек, сидевший на скамье подсудимых там-то и тогда-то", тогда как в рамках А1 он может определяться как "человек, родившийся там-то, тогда-то, делавший то-то, с таким-то характером, привычками и т.д."; соответственно будут различаться и условия демонстративной идентификации для этих двух конвенций. Разумеется, конвенция А2 опирается на конвенцию А1, но важно, что А2 регулирует именно употребление термина "убийца Смита" в определенных контекстах, а не термина "Джонс"; поэтому, когда кто-либо, разделяющий конвенцию А2, употребляет термин "Джонс" так, что мы должны приписать этому термину, так употребленному, характеристику референциально значимого (учитывая, что всякий, употребляющий выражение "убийца Смита" согласно А2, должен употреблять и выражение "Джонс" референциально), важно, что он употребляет его референциально либо согласно конвенции А1, либо согласно такой конвенции, которая определяет термин "Джонс" как "человек, сидевший на скамье подсудимых там-то и тогда-то". В обоих случаях термины и определяющие их дескрипции не могут считаться кореференциальными относительно А2, поскольку последняя определяет только условия референциальности для термина "убийца Смита", но не для термина "Джонс"; когда последний употребляется референциально, это регулируется другой конвенцией. Таким образом, когда мы заменяем Т на Д в (10), мы уже не можем оценивать получившееся предложение (11) с точки зрения конвенции, по которой (10) ложно, поскольку референциальное употребление Д регулируется другой конвенцией; а в рамках этой другой конвенции Д может определяться посредством другой дескрипции, Д1 например. Иначе говоря, надо различать статус определяющих дескрипций, устанавливаемый конвенциями А, и статус кореференциальных терминов: конвенция А не устанавливает кореференциальность, хотя опирается на другие конвенции, регулирующие референциальное употребление терминов, используемых данной конвенцией в своем определении; чтобы разделять конвенцию А2, необходимо разделять и конвенцию А1, но обе конвенции сформированы для разных контекстов употребления соответствующих терминов, и то, как употребляется "Джонс" согласно А2, не устанавливается в А1 - следовательно, будучи использован в определении, устанавливаемом в А2 для термина "убийца Смита", соответствующий термин, чье референциальное употребление определяется А1, не употребляется референциально. А когда он употребляется референциально как в (11), - его связь с термином "убийца Смита", предполагаемая согласно А2, а именно, что есть некоторые факты, которые характеризуют референт термина "Джонс" и эти же факты характеризуют референт термина "убийца Смита", - не может приниматься в расчет, поскольку, согласно А2, факты, характеризующие Джонса, никак не связаны или, во всяком случае, необходимым образом не связаны с фактами, характеризующими убийцу Смита. Т, иначе говоря, просто нельзя заменить в (10) на Д без потери релевантного контекста оценки истинности. Идея кореференциальности, основывающаяся на принципе взаимозаменимости с сохранением истинностного значения, не применима к рассматриваемой концепции; согласно ей два термина могут быть кореференциальны только в том случае, если относительно каждого из них существует конвенция А и определения референтов терминов, устанавливаемые в рамках этих конвенций эквивалентны, - да и в этом случае принцип взаимозаменимости salva veritate в качестве метода верификации такой кореференциальности неприменим.
С. Крипке, критикуя идею определимости референта посредством дескрипций, приводит в статье "Загадка контекстов мнения" пример с билингвом Пьером, который как всякий средний француз знал, что Лондон - это столица Англии, самый большой ее город и т.д. (т.е. владел дескрипциями, призванными однозначно идентифицировать индивидуальный объект), и разделял мнение, что Лондон - красивый город, и мог утверждать: "Londres est jolie" ("Лондон красив"), а затем, переехав в Лондон, в один из некрасивых его районов, выучил английский на уровне среднего англичанина и стал придерживаться мнения, что Лондон не красивый город, и готов теперь утверждать (уже по-английски) - "London is not pretty" ("Лондон некрасив") [1, c.218-231]. При этом Пьер, по мнению Крипке, не отказывается и от своего старого "франкоязычного" мнения, что Лондон - красивый город, даже при том, что оно переводится им на английский и что имя Londres в этом переводе оказывается созвучно названию того места, в котором он теперь живет. Между тем в его взглядах как бы нет противоречия, иначе бы он его заметил. В конце концов Крипке разделяет в отношении Пьера презумпцию, что с логикой у него все в порядке, так как он просто не считает, что оба имени имеют один и тот же референт. Этот пример призван показать, что никакие дескрипции не способны фиксировать референт имени, поскольку, несмотря на то, что Пьер владеет такими дескрипциями и на английском, и на французском (одни применяются им к одному имени, другие - к другому, а перевод французских дескрипций на английский - к переводу французского имени на английский, но не к созвучному этому переводу английскому имени того места, где он теперь живет), этого оказывается недостаточно, чтобы он установил референциальную синонимию между двумя именами. Такой подход к проблеме основан на определенной теории перевода: она предполагает, что имена и термины естественных видов не переводятся посредством какого-либо прямого сопоставления: их употребление осваивается практически по мере освоения чужого языка, а соответственно, никогда нельзя быть окончательно уверенным, что усвоенное таким образом значение некоего имени соответствует усвоенному прежде значению некоего другого имени родного языка. Поскольку всякие идентифицирующие дескрипции включают в себя имена или термины естественных видов, то они сами нуждаются в сопоставлении (название Букингемского дворца или Англии на английском и на французском языках, например, нуждаются в сопоставлении, чтобы быть признанными референциально синонимичными или кодесигнативными, используя термин Крипке), что требует апелляции к новым дескрипциям и т.д. Конечно, в таких случаях, как этот, довольно трудно однозначно определить, каким требованиям должен отвечать средний носитель языка, чтобы считаться специалистом в отношении употребления соответствующего термина, что, иначе говоря, он должен знать, чему бы можно было приписать свойство фиксировать референцию термина в языке L. Однако можно предположить, что это нечто, представляющее собой достаточное условие для референциального употребления имен городов, должно включать в себя не только вербальные - дескриптивные - элементы, но также и образные или, иначе, стимульные, а именно, специалист, разделяющий конвенцию А в отношении имени города, должен уметь связывать определенные образы достопримечательных мест города с оригинальными образцами - с самими наблюдаемыми местами или их изображениями3). Таким образом, если Пьер, будучи монолингвом, владел как частью своего определения того, что такое Лондон, определенными визуальными образцами, но, попав в Лондон, не имел возможности применить их в качестве идентификантов (например как в ситуации, описанной Крипке, поселившись в районе, где нет ни одного из известных ему уголков и не выезжая из него), то проблема, на которую здесь обращается внимание, может быть разрешена указанием на то, что, скорее всего, Пьер как средний носитель английского языка не референциально употребляет термин "Лондон" (когда он не является переводом его французского названия для города своей мечты): ведь не все средние носители какого-либо языка обязательно должны употреблять все имена, имеющие в нем хождение, референциально, даже если они умеют ими пользоваться - это показывает хотя бы пример с различиями в идиолектах между двумя средними носителями языка, по разному употребляющими либо имя "Цицерон", либо имя "Туллий". В этом случае, если уж мы признаем, что Пьер смог выучить английский язык и по всем параметрам отвечает требованиям, предъявляемым к средним носителям английского языка, то нет оснований не допускать, что он в конце концов окажется способен построить на английском языке вопрос: "А не обозначают ли английское слово, которым я перевожу французское слово, обозначающее то, что я на английский язык перевожу как "самый большой город Англии и его столица, и т.д.", то же самое, что и название города, в котором я сейчас живу, синтаксически и фонетически подобное этому английскому слову?" Если мы в состоянии признать за Пьером право задать такой вопрос, то по какому праву мы должны отказывать ему в возможности применить те дополнительные средства подтверждения или опровержения предполагаемой кодесигнативности имен, которыми он располагает как носитель французского языка4). Для этого ему всего лишь нужно сопоставить эти образцы с реальными достопримечательными местами города непосредственно или при помощи какого-либо авторитетного посредничества. Применительно к конкретной ситуации данного Пьера, ему всего лишь надо добраться до центра города - ведь относительно концепта "центр города" у него как носителя английского языка нет резкого расхождения во мнениях со своим французским визави или во всяком случае оно на практике вряд ли проявится, а для успешного применения дополнительных средств идентификации это - вполне достаточное условие. Таким образом, он в конечном итоге будет обладать достаточными основаниями для утверждения, что то, что обозначается французским словом таким-то, и то, что обозначается английским словом таким-то, есть одно и то же, а эти термины - кодесигнативны; а затем он заметит и постарается устранить, будучи логически лояльным, противоречие, которое, как выяснилось, имеется в его взглядах. Но собственно, никакого противоречия в этом случае не было, поскольку просто он не употреблял соответствующее английское имя референциально - не владел во всей полноте той информацией (а именно, визуальными ее составляющими), которой должен владеть средний носитель английского языка, чтобы быть специалистом в отношении употребления данного термина, а следовательно, его мнение, что Лондон - некрасивый город, утверждалось и имело значение "истинно", относительно чего-то другого (если вообще относительно чего-то), но не относительно того, что представляет собой референт термина Londres. Роль дескриптивных идентификантов этого другого индивидуального объекта, предположительно тождественного референту термина London, Пьером употребляемого в качестве имени того места, где он живет, до ознакомления с дополнительной информацией, позволяющей дополнить созвучность этого имени с переводом соответствующего французского слова их кодесигнативностью, в идиолекте Пьера играли не те элементы, какие играют эту роль в специальном контексте значимости термина London в английском языке; но возможно, эти элементы играют роль определяющих в отношении референта термина, созвучного этому последнему, но употребляемого теми малограмотными жителями окраин, которые никогда не были в центре города, согласно соответствующей конвенции, разделяемой ими и отличной от той, которой продолжала придерживаться франкоязычная часть Пьера. Так же точно противоречие на поверку оказывается ложным в случае, если Пьер не референциально употреблял соответствующее французское слово (и соответственно позже став, билингвом, его английский перевод); в этом случае его мнение, что Лондон - красивый город, утверждалось и было истинным не относительно референта английского коррелята этого французского имени, а относительно чего-то другого. Это "другое" можно поставить в соответствие, например, некой идее или концепту Лондона в идиолекте Пьера как носителя французского языка. Если термин "смысл" имеет какую-либо семантическую значимость, то, применительно к данному случаю, смысл выражения Londres в идиолекте французского языка Пьера, можно сказать, состоял как раз в том, что в его употреблении это слово соозначало некий концепт, относительно которого и формировались и имели истинностные значения все мнения Пьера, в которых нечто предицировалось этому имени. Такое положение дел также выглядит вполне исправимым при описанных условиях: став билингвом и референциально употребляя соответствующее имя английского языка, Пьер может дополнить теперь и свои средства идентификации референта соответствующего имени французского языка до уровня, необходимого, чтобы считать Пьера специалистом относительно употребления этого имени. Хотя последнее, конечно, не обязательно, и также возможно, труднее практически осуществимо, если только Пьер не переберется опять во франкоязычную среду.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Все имена, фактически, онтологически бессодержательны, так как я показал, в связи с терминами "Пегас" и "пегасить", что из имен можно сделать дескрипции, а Рассел показал, что дескрипции могут быть устранены: "Чтобы мы ни говорили с помощью имен, можно сказать на языке, избегающем всяческих имен. Быть признанным в качестве сущности значит в чистом виде просто считаться значением переменной" [5].
2) Ср. в связи с этим следующий пассаж из "On What there is": "Мы легко можем взять на себя онтологические обязательства, сказав, например, что есть нечто (связанная переменная), что красные дома и закаты имеют общего; или что есть нечто, что есть простое число, большее миллиона. Но это, по существу, единственный способ, каким мы можем взять на себя онтологические обязательства: посредством нашего употребления связанных переменных. Употребление предполагаемых имен не является критерием, поскольку мы можем без колебаний отказать им в именовании до тех пор, пока не сможем обнаружить соответствующую сущность в вещах, которые мы утверждаем в терминах связанных переменных".
3) Возможно, имело бы смысл даже говорить о некоем "поле" дополнительных или ассоциированных идентификаций, однозначно фиксирующих референты соответствующих терминов (таких, как "изображение т", "намек на т", "аллюзия т", "идеализация т" и т.д., где т обозначает референт термина), которые специалист в отношении употребления данного термина способен осуществлять; соответственно наличие специального контекста значимости одного термина может и даже в отношении некоторых таких связей - должно имплицировать наличие специальных контекстов значимости некоторого множества других терминов, включающих в себя первый в качестве значимой составляющей - в смысле, описанном выше: а именно - что одни конвенции опираются на другие, т.е. что употреблять референциально один термин из этой группы нельзя, не владея критериями референциального употребления другого, иначе говоря, не зная его референт.
4) Но которые вообще говоря транслингвистичны (по крайней мере, на множестве, состоящем из английского и французского языков, а возможно, и на множестве всех языков, которые Пьер способен освоить так, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к среднему носителю каждого из них), поскольку это визуальные образцы и регулировать их значимость в принципе могут конвенции, не ограниченные рамками только одного языка, а предполагающие би- и более- лингвистические интерпретативные структуры.
Литература:
1. Крипке С. Загадка контекстов мнения //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. - М.: Прогресс, 1986. 2. Фреге Г. Смысл и значение //Его же. Избранные работы. - М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. 3. Keith Donnelan Reference and Definite Descriptions //The Philosophy of Language (3 edition), A. P. Martinich (ed.), Oxford University Press, 1996. 4. Quine W. V. O. Word and Object, MIT Press, Cambridge Massachusetts. 5. Quine W. V. O. On What there is //Его же. From a Logical Point of View, Harper and Row, N. Y. 6. Russel B. On Denoting //The Philosophy of Language (3 edition), A. P. Martinich (ed.). - Oxford University Press, 1996. 7. Strawson P. F. Individuals. - London, Methuen & CO LTD.


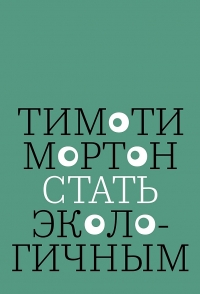
Комментарии к книге «Философия как схематизм образного мышления», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев