Фридрих Ницше Ницше contra Вагнер Из досье психолога
Предисловие
Все последующие главы были не без осмотрительности отобраны из моих прежних произведений — некоторые из них относятся аж к 1877 году, — местами они, возможно, стали яснее, но прежде всего короче. Если прочесть их одну за другой, они не оставят ни малейшего сомнения ни касательно Рихарда Вагнера, ни касательно меня: мы антиподы. При этом станет понятно и ещё кое-что другое: в частности, что это эссе предназначено для психологов, но не для немцев… У меня есть читатели повсюду — в Вене, в Санкт-Петербурге, в Копенгагене и Стокгольме, в Париже, в Нью-Йорке — у меня нет их на европейской равнине, в Германии… Возможно, я бы сказал на ушко словечко и господам итальянцам, которых я люблю столь же, как я… Quousque tandem, Crispi… Triple alliance[1]: с «рейхом» у интеллигентного народа вечно выходит один лишь mésalliance[2]…
Фридрих Ницше Турин, Рождество 1888.Чем я восхищаюсь{1}
Я думаю, художники зачастую не знают, что́ им удаётся лучше всего: для этого они слишком тщеславны. Их чувство нацелено на нечто более гордое, чем производить впечатление тех маленьких растений, которые умеют по-новому, причудливо и прекрасно, в подлинном совершенстве произрастать на своей почве. Настоящий дар их собственного сада и виноградника оценивается ими кое-как, и их любовь иного порядка, чем их проницательность. Вот музыкант, который больше, чем какой-либо другой, обладает мастерством извлекать звуки из царства страждущих, угнетённых, измученных душ и одарять речью даже немое ничтожество. Никто не сравнится с ним в красках поздней осени, в неописуемо трогательном счастье последнего, ускользающего, мимолётнейшего наслаждения; ему ведомы звуки для тех таинственно зловещих полуночей души, когда, казалось бы, распадается связь между причиной и действием и в каждое мгновение может возникнуть нечто «из ничего». Он удачнее всех черпает с самого дна человеческого счастья и словно бы из опорожнённого кубка его, где горчайшие и противнейшие капли за здравие и за упокой слились со сладчайшими. Он знает, как устало влачится душа, которая уже не может прыгать и летать, не может даже ходить; у него робкий взгляд затаённой скорби, безутешного понимания, разлуки без объяснения; да, как Орфей всякого таинственного убожества он выше кого-либо, и им впервые было вообще внесено в искусство нечто такое, что до сих пор казалось невыразимым и даже недостойным искусства, — к примеру, циничный бунт, на который способен только самый страждущий, равно как и нечто совсем крохотное и микроскопическое в душе, словно чешуйки какой-нибудь амфибии, — да, он мастер по части совсем крохотного, Но он не хочет быть им! Его натура любит, скорее, большие стены и отважную фресковую живопись! Он не видит того, что его дух обладает иным вкусом и склонностью — совершенно обратной оптикой — и любит больше всего ютиться в уголках развалившихся домов: там, скрытый от самого себя, пишет он свои подлинные шедевры, которые все очень коротки, часто длиною лишь в один такт, — там лишь становится он вполне искусным, великим и совершенным, может быть, только там. — Вагнер — человек, который глубоко страдал: это даёт ему преимущество перед другими музыкантами. Я восхищаюсь Вагнером во всём том, где он помещает в музыку себя.
В чём я возражаю{2}
Это не означает, что я нахожу такую музыку здоровой, — особенно там, где она говорит нам о Вагнере.{3} Мои возражения против музыки Вагнера суть физиологические возражения: к чему ещё переряжать их в эстетические формулы? Эстетика ведь не что иное, как прикладная физиология. — Мой «факт», мой «petit fait vrai»{4} заключается в том, что я уже не дышу с лёгкостью, когда на меня действует эта музыка; что на неё тотчас же начинают злиться и роптать мои ноги — с их потребностью в такте, танце, марше, — под вагнеровский «Кайзеровский марш» не смог бы маршировать даже юный немецкий кайзер, — с требованием от музыки прежде всего восторгов, заключающихся в хорошем ходе, шаге, танце. — Не протестует ли, однако, и мой желудок, моё сердце, моё кровообращение, не огорчаются ли мои внутренности? Не становлюсь ли я при этом внезапно охрипшим?.. Чтобы слушать Вагнера, мне нужны леденцы Gérandel…{5} Итак, я спрашиваю себя: чего, собственно, хочет всё моё тело от музыки вообще? Я думаю, своего облегчения: словно того, чтобы все животные функции были ускорены лёгкими, смелыми, шаловливыми, самоуверенными ритмами; словно того, чтобы железная, свинцовая жизнь утратила свою тяжесть благодаря золотым и нежным, как масло, гармониям. Моя тоска хочет отдохнуть в тайниках и пропастях совершенства: для этого нужна мне музыка. Но Вагнер делает меня больным. — Что мне театр! Что мне судороги его нравственных экстазов, в которых народ — а кто не «народ»!{6} — находит своё удовлетворение! Что мне весь мимический фокус-покус актёра! — Вы видите, я создан антитеатралом по существу; к театру, этому массовому искусству par excellence, я отношусь в глубине души с безграничной иронией, с которой относится к нему сегодня каждый артист. Успех на театре — от этого в моих глазах можно упасть ниже некуда; провал — тут я навостряю уши и начинаю обращать внимание… Но Вагнер, напротив, помимо Вагнера, создавшего самую одинокую музыку, какая есть на свете, был по существу человеком театра и актёром, самым вдохновенным мимоманом из всех когда-либо существовавших, даже как музыкант… И, говоря мимоходом: если теорией Вагнера было, что «драма есть цель, а музыка всегда лишь средство», — то практикой его, напротив, было от начала до конца, что «поза есть цель, драма же, а также и музыка лишь её средство». Музыка как средство для толкования, усиления, углубления драматических жестов и актёрской очевидности; и вагнеровская драма лишь как повод для множества интересных поз! — Он обладал, наряду со всеми другими инстинктами, командующими инстинктами великого актёра, во всём без исключения: и, как сказано, в том числе и как музыкант. — Это я однажды, не без труда, уяснил одному вагнерианцу pur sang[3] — ясность и вагнерианец! я не говорю ни слова больше. Были основания ещё добавить к этому: «Будьте же немножко честнее по отношению к себе: мы же не в Байройте! В Байройте честны только в массе; в одиночку же лгут, оболгивают себя. Отправляясь в Байройт, оставляют себя дома, отказываются от права на собственный язык и выбор, на свой вкус, даже на свою храбрость в том виде, в каком обладают её и применяют её в собственных четырёх стенах по отношению решительно ко всему. В театр никто не приносит с собою утончённейших чувств своего искусства, менее всех — художник, работающий для театра; для этого там недостаёт одиночества, всё совершенное не выносит никаких свидетелей… В театре становишься народом, стадом, женщиной, фарисеем, голосующим скотом, патронажным братом, идиотом — вагнерианцем: там даже и самая личная совесть подчиняется нивелирующим чарам большинства, там правит сосед, там становишься соседом…»
Интермеццо{7}
Я скажу ещё одно слово для самых изысканных ушей: чего я в сущности хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, презренная и прелестная… Я никогда не допущу, чтобы немец мог знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были иностранцы, славяне, хорваты, итальянцы, голландцы — или евреи; в ином случае немцы сильной расы, вымершие немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам всё ещё достаточно поляк, чтобы отдать за Шопена всю остальную музыку: по трём причинам я исключаю «Зигфрид-идиллию» Вагнера, может быть, также Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов всё, что взросло по ту сторону Альп — по эту сторону… Я не мог бы обойтись без Россини, ещё меньше без моего Юга в музыке, без музыки моего венецианского maëstro Пьетро Гасти. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею различать между слёзами и музыкой — я знаю счастье думать о Юге не иначе, как с дрожью робости.
В юности, в светлую ночь раз на мосту я стоял. Издали слышалось пенье; словно по ткани дрожащей капли златые текли. Гондолы, факелы, музыка — В сумерках всё расплывалось… Звуками втайне задеты, струны души зазвенели, отозвалась гондольеру, дрогнув от яркого счастья, душа. — Услышал ли кто её песнь?Вагнер как опасность{8}
1
Намерение, которое в новейшей музыке преследуется в том, что в наши дни весьма выразительно, но неясно называют «бесконечной мелодией», можно уяснить себе с помощью того, как входят в море, постепенно теряют почву под ногами, и в конце концов отдаются на милость стихии: дальше нужно плыть. В прежней музыке, в изящных или торжественных или огненных движениях и поворотах, ускорениях и замедлениях, приходилось делать нечто совсем иное, а именно — танцевать. Требующаяся для этого мера, соблюдение определённых, равновесных временных и силовых пропорций вынуждало душу слушателя к постоянной духовной трезвости, — на контрасте между этим прохладным сквозняком, которым тянуло от трезвости, и прогретым дыханием резвого воодушевления и основывалось волшебство всякой хорошей музыки. — Рихард Вагнер захотел движений иного рода, — он опрокинул физиологическую предпосылку прежней музыки. Не ходить и не танцевать — а плавать и витать… Возможно, этим сказано самое главное. «Бесконечная мелодия» словно бы хочет сломать все временные и силовые пропорции, временами она издевается сама над собой, — богатство её изобретательности как раз в том, что́ для прежнего слуха звучало бы ритмическим парадоксом и даже святотатством. Из подражания, из господства подобного вкуса для музыки может возникнуть опасность, страшнее которой нельзя и помыслить — полное вырождение ритмического чувства, хаос на месте ритма… Эта опасность достигает крайности, когда подобная музыка всё больше находит себе опору в совершенно натуралистическом, не управляемом никакими законами пластики, актёрстве и искусстве жестикуляции, желающих эффекта и ничего кроме эффекта… Экспрессивность любой ценой, и музыка на службе, в рабстве у поз — это конец…
2
Как? Неужели главным достоинством исполнения и в самом деле, как это, похоже, нынче полагают музыкальные исполнители, является достижение непревзойдённой рельефности в любых обстоятельствах? Не есть ли это, применительно, скажем, к Моцарту, настоящий грех против моцартианского духа, ясного, мечтательного, влюблённого духа Моцарта, который, к счастью, не был немцем, и самая серьёзность которого есть благонравная, золотая серьёзность — а не серьёзность немецкого бидермана… Не говоря уж о серьёзности «каменного гостя»… Но вы полагаете, что любая музыка есть музыка «каменного гостя», — что любая музыка должна проступать на стенах, пронимая слушателя до самой печёнки?.. Вот теперь музыка производит впечатление! — Впечатление на кого? На нечто такое, на что благородный художник вообще не должен производить впечатления, — на массу! на незрелых! на равнодушных! на болезненных! на идиотов! на вагнерианцев!..
Музыка без будущего{9}
Из всех искусств, которые умеют вырастать на почве той или иной культуры, музыка прорастает самой последней, возможно, потому, что она самая задушевная из всех, и потому созревает позднее других — в пору осени и увядания породившей её культуры. Лишь в искусстве голландских мастеров нашла свой отзвук душа христианского средневековья, — их звуковая архитектура есть поздно родившаяся, но родная и полноправная сестра готики. Лишь в музыке Генделя прозвучало лучшее от Лютера и родственных ему душ, еврейско-героическая черта, придавшая Реформации черты величия — музыкой стал Ветхий Завет, а не Новый. Лишь Моцарт вернул в звучащем золоте век Людовика XIV и искусство Расина и Клода Лоррена; лишь в музыке Бетховена и Россини допело себя восемнадцатое столетие — столетие мечтательности, разбитых идеалов и мимолётного счастья. Всякая подлинная, всякая оригинальная музыка — это лебединая песня. — Может быть и так, что у нашей теперешней музыки, как бы она ни властвовала и не стремилась к власти, впереди просто совсем не много времени: поскольку она порождена культурой, почва которой находится в состоянии быстрого погружения — культурой, которая скоро утонет. Её предпосылки — некий католицизм чувств и интерес к какой-то пра-исконной «национальной» несусветной сущности[4]. То, как Вагнер освоил старинные саги и песни, в которых учёный предрассудок приучен видеть нечто германское par excellence, — сегодня мы смеёмся над этим, — то, как вдохнул в этих скандинавских чудищ доводящую до бесчувствия жажду экстатической чувственности — всё, что Вагнер взял и дал в отношении материала, образов, страстей и нервов, тоже явственно выражает дух его музыки, при условии, конечно, что она, как всякая музыка, способна не недвусмысленно говорить о себе: ведь музыка — женщина… Не стоит обманываться насчёт такого положения дел тем, что как раз сейчас мы живём в период реакции внутри реакции. Эпоха национальных войн, ультрамонтанного мученичества, весь этот антрактовый характер, свойственный нынешним состояниям Европы, может на деле способствовать нежданной славе такого искусства, как вагнеровское, отнюдь не гарантируя ему тем самым будущего. У немцев у самих нет никакого будущего…
Мы антиподы{10}
Быть может кое-кто, по крайней мере среди моих друзей, припомнит, что поначалу я набросился на этот современный мир с некоторыми заблуждениями и преувеличенными оценками, и уж во всяком случае — как надеющийся. Я понимал — кто знает, на основании каких личных опытов? философский пессимизм девятнадцатого века как симптом высшей силы мысли, более победного избытка жизни, который выразился в философии Юма, Канта и Гегеля, — я принял трагическое познание как наивысшую роскошь нашей культуры, как самый её дорогостоящий, самый аристократичный, самый опасный способ расточительства, и всё же, вследствие её чрезмерного богатства, роскошь дозволенную. Равным образом толковал я себе и музыку Вагнера, как надлежащее выражение дионисической мощи души: мне казалось, я слышу в ней землетрясение, с которым, наконец, вырывается на волю издревле запруженная первобытная сила жизни, равнодушная к тому, что при этом шатается всё, называющее себя сегодня культурой. Вы видите, в чём я ошибался, вы видите, чем я одаривал Вагнеров и Шопенгауэров — самим собой…{11} Всякое искусство, всякую философию можно рассматривать как целебное и вспомогательное средство возрастающей или же нисходящей жизни: они всегда предполагают страдание и страждущих. Но есть два типа страждущих: во-первых, страждущие от избытка жизни, которые хотят дионисического искусства, а также трагического понимания и трагической панорамы жизни, — и, во-вторых, страждущие от оскудения жизни, которые от искусства и философии желают покоя, тишины, гладкого моря, или же опьянения, конвульсий, оглушения.{12} Отомстить самой жизни — высший род опьянённого сладострастия для таких оскудевших!.. Двойной потребности последних отвечают как Вагнер, так и Шопенгауэр — они отрицают жизнь, они чернят её, потому они мои антиподы. — Преизбыточествующий жизнью — дионисический бог и человек — может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние и любую роскошь разрушения, разложения, отрицания, — у него злое, бессмысленное и безобразное предстаёт как бы дозволенным, так же, как предстаёт оно дозволенным в природе, вследствие избытка порождающих, восстанавливающих сил, которые способны из всякой пустыни создать цветущий плодоносный край. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью больше всего нужна кротость, миролюбие и доброта, — то, что мы сегодня называем гуманностью, — как в мыслях, так и в поступках, а по возможности — и Бог, который был бы исключительно Богом для больных, спасителем, равным образом нужна логика, отвлечённая понятность бытия даже для идиотов — все типичные «вольнодумцы», как и «идеалисты» и «прекрасные души», суть декаденты — словом, нужна некоторая тёплая, оберегающая от страха теснота и заключённость в оптимистических горизонтах, способствующая отупению. Так научился я постепенно понимать Эпикура, эту противоположность дионисического грека, а равным образом и христианина, который на деле есть лишь некий род эпикурейца и со своим «блаженны верующие» заходит в принципе гедонизма настолько далеко, насколько вообще возможно — за пределы всякой интеллектуальной порядочности… Если у меня есть некоторое преимущество перед другими психологами, то оно заключается в том, что мой взгляд лучше других прослеживает тот труднейший и каверзный путь обратного заключения, на котором делается большинство ошибок, — обратного заключения от творения к творцу, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, кому он нужен, от всякого образа мыслей и оценок к командующей из-за кулис потребности. — По отношению к артистам любого рода я пользуюсь теперь следующим основным различением: стала ли тут творческой ненависть к жизни или преизбыток жизни? В Гёте, например, творческим стал преизбыток, во Флобере — ненависть. Флобер — это новое издание Паскаля, но артистическое, с идущим из глубины инстинктивным приговором: «Flaubert est toujours hai ssable, l’homme n’est rien, l’oeuvre est tout»[5]… Он истязал себя, сочиняя,{13} точно так же, как Паскаль истязал себя, думая — оба они в ощущениях были неэгоистичны… «Самозабвение» — принцип декаданса, воля к завершению как в искусстве, так и в морали.
Где Вагнеру место{14}
Ещё и теперь Франция является средоточием самой возвышенной и рафинированной духовной культуры Европы и высокой школой вкуса — но нужно уметь находить эту «Францию вкуса». «Северо-германская газета», к примеру, или те, чьим рупором она служит, видят во французах «варваров», — я же в свою очередь искал бы чёрный континент, где нужно освобождать «рабов», в непосредственной близи от северных немцев… Кто принадлежит к той Франции, умеет хорошо скрываться: быть может, есть небольшое число людей, в которых она живёт, к тому же, быть может, людей, не очень твёрдо стоящих на ногах, отчасти фаталистов, угрюмых, больных, отчасти изнеженных и пропитанных искусственностью, — таких, у которых есть честолюбие быть искусственными. Но в их распоряжении — всё высокое и нежное, что ещё осталось на свете. В этой Франции духа, являющейся вместе с тем и Францией пессимизма, даже Шопенгауэр сегодня более у себя дома, чем когда-либо в Германии; его главное произведение переводилось уже дважды, во второй раз — превосходно, так что я предпочитаю теперь читать Шопенгауэра по-французски (он был случайностью среди немцев, как и я являюсь среди них случайностью, — у немцев просто нет рук, чтобы почувствовать нас, у них вообще не рук, а есть только лапы). Не говоря уж о Генрихе Гейне — l’adorable[6] Гейне, говорят в Париже, — уже давно вошедшем в плоть и кровь наиболее глубоких и одухотворённых лириков Франции. Что могут понимать в таких délicatesses[7] подобной натуры немецкие бараны! — Что же, наконец, до Рихарда Вагнера, то очевидно, хотя и не видно сразу, что Париж — самая подходящая почва для Вагнера: чем более французская музыка приспособливается к нуждам «âme moderne»[8], тем более будет она вагнеризироваться, — она уже и теперь делает это в достаточной мере! — Сам Вагнер не должен вводить нас в заблуждение касательно этого — со стороны Вагнера было настоящей низостью насмехаться над агонизирующим Парижем в 1871 году…{15} В Германии Вагнер, несмотря на это, просто недоразумение: кто может быть менее способным хоть что-нибудь смыслить в Вагнере, чем, к примеру, молодой кайзер? — Для каждого знатока европейского культурного развития, тем не менее, остаётся очевидным тот факт, что французский романтизм и Рихард Вагнер теснейшим образом связаны между собой. Все они подвластны литературе всем своим существом вплоть до глаз и ушей — эти первые художники Европы со всемирно-литературным образованием, — большей частью они даже сами пишущие, сочиняющие, посредники и смесители чувств и искусств; все они фанатики выразительных средств, великие первооткрыватели в области возвышенного, а также безобразного и отвратительного, ещё большие первооткрыватели в области эффектов, в искусстве выставлять напоказ, в искусстве витрины; все они таланты далеко за пределами сферы их гения, — виртуозы до мозга костей, с неслыханными доступами ко всему, что соблазняет, привлекает, принуждает, опрокидывает; прирождённые враги логики и прямых линий, алчные ко всему чуждому, экзотическому, чудовищному, ко всем опиатам чувств и разума. В общем это отважно-смелая, великолепно-мощная, высоко парящая и высоко стремящаяся порода художников, которые впервые преподали своему столетию — а это столетие масс! — понятие «художника». Но они больны…
Вагнер как апостол целомудрия
1{}
— Что тут немецкого? В немецком духе разве эти завыванья? В немецком теле эти самоистязанья? Иль это рук горе вздыманье И чувств кадильное благоуханье? То замирать в молитвенном экстазе, То падать ниц в немецком духе разве? А эти звоны, эти переливы И к небесам фальшивые порывы?.. — Что тут немецкого? Нет, вы в преддверьи лишь, я уверять готов… Ведь в этих звуках Рим, — католицизм без слов!2{}
Между целомудрием и чувственностью нет никакого неизбежного противоречия; всякий добрый брак, всякая настоящая, идущая от сердца любовная связь выступают за рамки этого противоречия. Но и в том случае, когда это противоречие действительно существует, ему, к счастью, ещё долгое время не приходится быть противоречием трагическим. Это можно отнести, по крайней мере, на счёт всех лучше удавшихся, гармонично устроенных смертных, которые далеки от того, чтобы без обиняков причислять своё шаткое равновесие между ангелом и petite bête[9] к аргументам против существования, — наиболее тонкие и просветлённые натуры, подобно Гёте, подобно Хафизу, усматривали в этом даже дополнительную привлекательность… Подобные противоречия как раз и являются соблазном к существованию… С другой стороны, слишком очевидно: если уж несчастных зверей Цирцеи довести до того, что они будут поклоняться целомудрию, что будут видеть и чтить в нём лишь свою противоположность — о, с каким трагическим хрюканьем и рвением! можно вообразить, — ту именно мучительную и совершенно излишнюю противоположность, которую Рихард Вагнер, бесспорно, намеревался в конце своей жизни переложить на музыку и инсценировать. Зачем же? уместно будет спросить.
3{}
При этом, конечно, нельзя обойти и другого вопроса: какое, собственно, было ему дело то той мужского пола (ах, столь немужественной) «деревенщины», до того бедолаги и бурсака природы Парсифаля, которого он под конец столь ухищрёнными средствами делает католиком — как? был ли этот «Парсифаль» вообще задуман всерьёз? Поскольку с тем, что над ним смеялись, я едва ли могу поспорить, и Готтфрид Келлер тоже… Право, можно было бы желать, чтобы вагнеровский «Парсифаль» был задуман в шутку, словно завершающий аккорд и сатирическая драма, посредством которой трагик Вагнер самым подобающим ему образом желает проститься с нами, а также и с собой, но прежде всего с трагедией, — а именно, с помощью эксцесса возвышенной и забавнейшей пародии на само трагическое, на всю ужасающую земную серьёзность и земную юдоль прежних времён, на преодолённую наконец глупейшую форму противоестества аскетического идеала. Ведь «Парсифаль» — это оперетточный сюжет par excellence… Есть ли «Парсифаль» Вагнера тайный смех его превосходства над самим собой, триумф его последней высочайшей художнической свободы, художнической иносторонности — Вагнер, умеющий смеяться над собой?.. Этого, как сказано, можно было бы желать: ибо чем оказался бы «Парсифаль», задуманный всерьёз? Действительно ли нужно видеть в нём (как выразились в мой адрес) «выродка взбесившейся ненависти к познанию, духу и чувственности»? Некое проклятие чувствам и духу одним махом, не переводя дыхания и ненависти? Отступничество и поворот к христианско-болезненным и обскурантистским идеалам? И под конец даже самоотрицание, самозачёркивание художника, который до той поры всею силою своей воли ратовал за противоположное, за высочайшее одухотворение и очувствление своего искусства? И не только своего искусства, но и своей жизни. Вспомним, сколь вдохновенно шёл в своё время Вагнер по стопам философа Фейербаха. Слова Фейербаха о «здоровой чувственности» звучали тогда, в тридцатых и сороковых годах, для Вагнера, как и для многих немцев — они называли себя молодыми немцами — словами освобождения. Отучился ли он под конец от этого? По крайней мере, впечатление таково, что он под конец был готов разучиться… Возобладала ли в нём ненависть к жизни, как у Флобера?.. Ибо «Парсифаль» — это творение коварства, мстительности, тайного отравительства по отношению к предпосылкам жизни, дурное творение. — Проповедь целомудрия остаётся подстрекательством к противоестественности{19}: я презираю всякого, кто не воспринимает «Парсифаль» как покушение на чувственность.
Как я освободился от Вагнера
1{20}
Ещё летом 1876 года, в разгар первого фестиваля,{21} в душе своей я расстался с Вагнером. Я не выношу двусмысленностей; с тех пор, как Вагнер оказался в Германии, шаг за шагом он всё более склонялся ко всему тому, что я презираю — даже к антисемитизму…{22} Тогда и в самом деле был лучший момент, чтобы расстаться: подтверждение этому я получил почти сразу же. Рихард Вагнер, казавшийся триумфатором, на деле же прогнивший отчаянный декадент, внезапно, беспомощно и сломленно пал ниц перед христианским крестом… Неужели же ни у одного немца не нашлось тогда глаз для этого зрелища, не нашлось сочувствия к нему?.. Неужели я был единственным, кто страдал от него? — Но полно об этом, мне самому это неожиданное событие, словно молния, дало со всей ясностью увидеть, что за место я покинул, а также почувствовать дрожь, какую испытывает каждый, кто, не ведая того, подвергался чудовищной опасности. Меня трясло, когда я, уже в одиночестве, продолжил свой путь; вскоре после этого я оказался больным, больше, чем больным — усталым; усталым от невыносимого разочарования во всём, что только осталось в мире воодушевляющего для нас, современных людей; усталым от растраченных там и сям впустую сил, трудов, надежд, юности, любви; усталым от всей этой идеалистической лживости и изнеженности совести, которая здесь снова одержала верх над одним из храбрейших; усталым, наконец, и не в последнюю очередь, от тоски беспощадного подозрения, что отныне я приговорён недоверять глубже, презирать глубже, быть одиноким глубже, чем это когда-либо бывало со мной. Потому что у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера… Я всегда был приговорён к немцам…{23}
2{24}
Тогда-то, оставшись в одиночестве и испытывая болезненное недоверие к самому себе, я, не без ожесточения, выступил против себя, взяв сторону всего, что именно мне было больно и трудно: так я снова нашёл путь к тому отважному пессимизму, являющемуся противоположностью всякой идеалистической лживости, а заодно, как мне представляется, путь к себе — к моей задаче… То потаённое и властное нечто, которому мы долго не можем найти никакого имени, покуда оно наконец не проявит себя нашей задачей, — этот тиран в нас сводит с нами страшные счёты за всякую нашу попытку уклониться или ускользнуть от него, за каждое преждевременно принятое решение, за то, что мы поставили себя на одну доску с теми, кто не одной крови с нами, за все наши занятия, сколь бы почтенными они ни были, коль скоро из-за них мы избегаем своего главного дела, — и даже за каждую добродетель, которая пытается защитить нас от жестокого суда той ответственности, которую мы несём перед самими собой. Болезнь всякий раз является ответом, когда мы пытаемся усомниться в своём праве на собственную задачу, когда мы начинаем в чём-то облегчать себе жизнь. Удивительно и в то же время страшно! За то, что́ облегчает нам жизнь, нас ждёт самая жестокая расплата! Если же вслед за этим мы захотим снова вернуться к здоровью, нам не остаётся иного выбора: мы должны взвалить на себя такую ношу, какую не взваливали ещё никогда прежде…
Слово берёт психолог
1{25}
Чем более психолог — прирождённый, неизбежный психолог и разгадчик душ — начинает заниматься выдающимися случаями и людьми, тем более грозит ему опасность задохнуться от сострадания. Ему нужна суровость и весёлость — больше, чем кому-либо другому. Порча и гибель высших людей как раз является правилом: ужасно иметь такое правило постоянно перед глазами. Многообразные мучения психолога, который открыл эту гибель, который раз открыл и затем почти беспрерывно снова открывает в объёме всей истории эту общую внутреннюю «неисцелимость» высшего человека, это вечное «слишком поздно!» во всех смыслах, могут, пожалуй, в один прекрасный день сами сделаться причиной погибели… Почти у каждого психолога замечается предательское пристрастие к общению с заурядными и уравновешенными людьми: этим выдаёт себя то, что он постоянно нуждается в исцелении, что ему нужно своего рода забвение и бегство от того, чем отягощают его совесть его прозрения и вскрытия, его ремесло. Ему слишком знаком страх перед собственной памятью. Он легко становится безгласным перед суждением других: с бесстрастным лицом внимает он, как поклоняются, изумляются, любят, прославляют там, где он видел, — или он даже скрывает своё безгласие, нарочно соглашаясь с каким-нибудь поверхностным мнением. Быть может, парадоксальность его положения доходит до такой ужасающей степени, что как раз там, где он научился великому состраданию наряду с великим презрением, «образованные» со своей стороны учатся великому почитанию… И кто знает, не случалось ли во всех значительных случаях именно и только это, — что поклонялись богу, а бог был лишь бедным жертвенным животным… Успех всегда был величайшим лжецом, — а ведь и творение, и деяние есть успех… Великий государственный муж, завоеватель, первооткрыватель замаскирован, скрыт в своих творениях до неузнаваемости; произведение, созданное художником, философом, только и создаёт того, кто его создал, кто должен был его создать… «Великие люди» в том виде, как их чтут, представляют собою после этого ничтожные, слабенькие выдумки, — в мире исторических ценностей господствует фальшивомонетничество…
2{26}
Эти великие поэты, например эти Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь — я не отваживаюсь назвать гораздо более великие имена, но подразумеваю их, — если взять их такими, каковы они на самом деле, какими они должны быть: люди минуты, чувственные, абсурдные, пятиликие, легкомысленные и взбалмошные в своём недоверии и в доверии; с душами, в которых обыкновенно надо скрывать какую-нибудь трещину; зачастую мстящие своими произведениями за внутреннюю загаженность, зачастую ищущие в своих взлётах забвения от слишком верной памяти, идеалисты, одной ногой завязшие в трясине — каким мучением являются эти великие художники и вообще так называемые высшие люди для того, кто только что разгадал их… Мы все заступники посредственного… Понятно, что именно в женщине, отличающейся ясновидением в мире страданий и, к сожалению, одержимой такой страстью помогать и спасать, которая далеко превосходит её силы, вызывают они так легко те вспышки безграничного сострадания, которые толпа, и прежде всего почитающая толпа снабжает в изобилии любопытными и самодовольными толкованиями… Это сострадание регулярно обманывается в своей силе: женщине хочется верить, что любовь может всё, — таково её своеверие. Ах, сердцевед прозревает, как бедна, беспомощна, притязательна, склонна к ошибкам даже самая сильная, самая глубокая любовь — как она скорее губит, чем спасает…
3{27}
Духовное высокомерие и брезгливость всякого человека, который глубоко страдал — то, насколько глубоко могут страдать люди, почти определяет их иерархию, — его ужасающая, насквозь пропитывающая и окрашивающая его уверенность, что благодаря своему страданию он знает больше, чем могут знать самые умнейшие и мудрейшие, что он узнал и даже освоился во многих далёких и ужасающих мирах, о которых «вы ничего не знаете!»… это духовное безмолвное высокомерие, эта гордость избранника познания, «посвящённого», почти принесённого в жертву нуждается во всех видах переодевания, чтобы оградить себя от прикосновения назойливых и сострадательных рук и вообще от всего, что не равно ему по страданию. Глубокое страдание облагораживает; оно обособляет. — Одной из самых утончённых форм переодевания является эпикуреизм и связанная с ним выставляемая напоказ храбрость вкуса, которая легко относится к страданию и выставляет себя на защиту от всего печального и глубокого. Есть «весёлые люди», пользующиеся весёлостью для того, чтобы под её прикрытием оставаться непонятыми: они хотят, чтобы их не поняли. Есть «учёные умы», пользующиеся наукой, потому что она придаёт бодрый вид и потому что научность позволяет заключить, что этот человек поверхностен: они хотят спровоцировать на такое ложное заключение… Есть свободные дерзкие умы, которые хотят скрыть и отрицать, что по сути у них разбитое, неисцелимое сердце — таков случай Гамлета: и тогда само шутовство может служить маской злосчастному, слишком несомненному знанию.
Эпилог
1{28}
Я часто спрашивал себя, не обязан ли я самым тяжким годам моей жизни больше, чем каким-либо другим. Как меня учит тому самая сокровенная моя природа, всё неизбежное, если взглянуть на него с высоты и в масштабе большой экономии, оказывается одновременно и тем, что полезно само по себе, — если следует не только выносить, но и любить… Amor fati: это и есть моя сокровеннейшая природа. — И что касается моей долгой хвори, то не обязан ли я ей несказанно бо́льшим, нежели моему здоровью? Я обязан ей высшим здоровьем — таким, которое становится только крепче от всего, что его не убивает! Я обязан ей также и моей философией… Только великая боль есть последний освободитель духа, как наставник в великом подозрении, которое из всякого U делает X, подлинное, действительное X, т. е. предпоследнюю букву перед последней… Только великая боль, та долгая, медленная боль, в которой нас сжигают как бы на сырых дровах, которая делает своё дело, никуда не торопясь, вынуждает нас, философов, погрузиться в нашу последнюю глубину и отбросить всякое доверие, всё добродушное, заволакивающее, кроткое, среднее, во что мы, быть может, до этого вложили нашу человечность. Я сомневаюсь, чтобы такое страдание «улучшало», но я знаю, что оно углубляет нас… Всё равно, учимся ли мы противопоставлять ему нашу гордость, нашу насмешку, силу нашей воли, уподобляясь индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, облегчает свои муки, язвя своего истязателя словами; всё равно, отступаем ли мы перед страданием в это Ничто, в немую, оцепенелую, глухую покорность, самозабвение, самоугасание: из таких долгих опасных упражнений в господстве над собою выходишь другим человеком, с бо́льшим количеством вопросительных знаков, — прежде всего с волей спрашивать впредь больше, глубже, строже, твёрже, злее, тише, чем когда-либо прежде спрашивали на Земле… Доверие к жизни исчезло; жизнь сама стала проблемой. — Пусть не думают, впрочем, что непременно становишься от этого сычом, совой! Даже любовь к жизни ещё возможна, — только любишь иначе. Это любовь к женщине, которая вызывает в нас сомнения…
2{29}
И вот что самое странное: после этого у тебя появляется другой вкус — второй вкус. Из таких пропастей, в том числе и из пропасти великого подозрения возвращаешься новорождённым, облупленным, более чувствительным к щекотке, более каверзным, с более истончённым вкусом к радости, с более нежным языком для всех хороших вещей, с более весёлыми чувствами, со второй, более опасной невинностью в радости, одновременно более ребячливым и во сто крат более рафинированным, чем был когда-нибудь до этого. Мораль: за то, что являешься глубочайшим умом всех тысячелетий, не остаёшься без наказания — не остаёшься и без награды… Я незамедлительно явлю пример этому.{30}
О, как противно теперь тебе наслаждение, грубое, тупое, смуглое наслаждение, как его обычно понимают сами наслаждающиеся, наши «образованные», наши богатые и правящие! С какой злобой внемлем мы теперь той оглушительной ярмарочной шумихе, в которой «образованный человек» и обитатель большого города нынче позволяет насиловать себя искусством, книгой и музыкой во имя «духовных наслаждений», с помощью духовитых напитков! Как режет нам теперь слух театральный крик страсти, как чужд стал нашему вкусу весь романтический разгул и неразбериха чувств, которую любит образованная чернь, вместе с её стремлениями к возвышенному, приподнятому, взбалмошному! Нет, если мы, выздоравливающие, ещё нуждаемся в искусстве, то это другое искусство — насмешливое, лёгкое, летучее, божественно безнаказанное, божественно искусное искусство, которое, подобно чистому пламени, возносится в безоблачное небо! Прежде всего: искусство для художников, только для художников! Мы после этого лучше понимаем, что для этого прежде всего нужно: весёлость, всякая весёлость, друзья мои!.. Мы теперь знаем кое-что слишком хорошо, мы, знающие; о, как мы теперь учимся хорошо забывать, хорошо не слишком-знать, как художники!.. И что касается нашего будущего: нас вряд ли найдут снова на стезях тех египетских юношей, которые ночами проникают в храмы, обнимают статуи и во что бы то ни стало хотят разоблачить, раскрыть, выставить напоказ всё, что не без изрядных на то оснований держится сокрытым. Нет, этот дурной вкус, эта воля к истине, к «истине любой ценой», это юношеское помешательство на любви к истине — опротивели нам вконец: мы слишком опытны, слишком серьёзны, слишком веселы, слишком прожжены, слишком глубоки для этого… Мы больше не верим тому, что истина останется истиной, если снять с неё покрывало, — мы достаточно пожили, чтобы верить этому… Теперь для нас это дело приличия — не стремиться видеть всё обнажённым, при всём присутствовать, всё понимать и «знать». Tout comprendre — c’est tout mépriser…[10]{31} «Правда ли, что боженька находится везде? — спросила маленькая девочка свою мать. — Но я нахожу это неприличным» — намёк философам!.. Следовало бы больше уважать стыд, с которым природа спряталась за загадками и пёстрыми неизвестностями. Быть может, истина — женщина, имеющая основания не позволять подсматривать своих оснований?.. Быть может, её имя, говоря по-гречески, Баубо?.. О, эти греки! они умели-таки жить! Для этого нужно храбро оставаться у поверхности, у складок, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии! Эти греки были поверхностными — от глубины… И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа, взобравшиеся на самую высокую и самую опасную вершину современной мысли и оглядевшиеся оттуда, посмотревшие оттуда вниз? Не являемся ли мы именно в этом — греками? Поклонниками форм, звуков, слов? Именно поэтому — художниками?..
О бедности богатейшего
Прошло десять лет, — ни капли меня не коснулось, ни влажного ветерка, ни росинки любви — земля без дождей… Теперь я прошу свою мудрость, средь засухи этой скупою не быть: излейся сама, сама упади росою, сама стань дождём пожелтевшей пустыни! Прежде я гнал облака прочь от моих вершин, — «больше света, вы, скопления тьмы!», — говорил им. Сегодня маню их, чтобы они пришли: сгустите тьму вкруг меня своими сосцами! — Хочу подоить вас, вы, коровы высот! парную мудрость, росную сладость любви я разолью над землёй. Прочь, прочь, те истины, что мрачно глядят! Не желаю я на вершинах своих горькие, нетерпеливые истины видеть. Златой осиянна улыбкой, напитана сладостью солнца, с румянцем любви, пусть идёт ко мне истина нынче, — только зрелую истину я срываю с дерев. Ныне я руку тяну к кудряшкам случая, довольно научен, чтоб случай, словно ребёнка, вести, и перехитрить. Ныне желаю я быть гостеприимным к нежданному, против самой судьбы не хочу я ощетиниваться — Заратустра не ёж. Душа моя ненасытным своим языком облизала уже всё хорошее и дурное, во все глубины ныряла она. Но всегда, словно пробка, снова всплывала наверх. Лоснится она на бронзово-смуглых волнах: из-за этой-то души называют меня счастливцем. Кто мне мать и отец? Не отец ли мне принц Изобилье, а мать — радостный смех? Не их ли союз породил меня, диковинную загадку, меня, светлого демона, меня, расточителя мудрости Заратустру? Болен нежностью ныне и влажным ветром, сидит Заратустра и ждёт, ждёт на своих горах, сварившийся и налившийся сладостью в собственном соку, под вершиной своей, подо льдом своим, усталый и блаженный, творец на седьмой день творенья. — Тише! Истина проплывает надо мной, словно облако, — невидимыми молниями бьёт она в меня. По широким медленным лестницам сходит ко мне её счастье: приди, о приди, возлюбленная истина! — Тише! Вот она, моя истина! — Из медлящих глаз, из бархатного трепета разит меня её взгляд, милый, язвящий девичий взгляд… Она угадала, в чём моё счастье, она разгадала меня — ха! что это она задумала? — Огненно затаился дракон в бездне её девичьего взора. — Тише! Моя истина говорит! — Горе тебе, Заратустра! Ты похож на того, Кто золото проглотил: тебе ещё вспорют брюхо!.. Слишком уж ты богат, ты, развратитель многих! Слишком многих делаешь ты завистниками, слишком многих делаешь бедняками… На меня саму тень бросает твой свет, — меня бросает в озноб: прочь уйди, ты, богач, прочь, Заратустра, из твоего солнца!.. Ты мог бы дарить, раздарить свой излишек, но сам ты — излишество! Пойми ты, богач! Сперва раздари себя самого, о Заратустра! Прошло десять лет, — и ни капли тебя не коснулось? ни влажного ветерка? ни росинки любви? Но кто же мог бы тебя любить, ты, богатейший? Счастье твоё всё иссушает вокруг, безлюбыми делает — землёй без дождей… Никто тебе не благодарен. Но ты благодарен всякому, кто у тебя берёт: тебя узнаю́ я в этом, ты, богатейший, ты, беднейший из всех богачей! Ты в жертву приносишь себя, тебя мучит твоё богатство, — ты себя раздаёшь, ты себя не жалеешь, ты не любишь себя: всё время терзаем великой мукой, мукой переполненных житниц, переполненного сердца — но никто тебе не благодарен… Беднее должен ты стать, неразумный мудрец, коль хочешь любимым быть. Любят только страдальцев, любовь дают только голодным: сперва раздари себя самого, о Заратустра! — Я — твоя истина…Комментарии
Ядро этого произведения содержится в письме Ницше Фердинанду Авенариусу от 10 декабря 1888 г. Здесь он указывает на те места в его произведениях, которые могут свидетельствовать о давней истории его противоречий с Вагнером:
Противоположность между декадентом и творящей из преизбытка сил, то есть дионисийской натурой … это противоположность, которая выражена в моих книгах, должно быть, раз пятьдесят, например, в «Весёлой науке», с. 312 сл. <т. е. «Весёлая наука» 370> … Вот с ходу несколько мест: «Человеч. слишком человек.» (написано более 10 лет назад) 2, 62 — декаданс и бернинизм в стиле Вагнера <«Смешанные мнения и изречения» 144>; 2, 51 — его нервозная чувственность <«Смешанные мнения и изречения» 116>; 2, 60 — одичание в том, что касается ритма <«Смешанные мнения и изречения» 134>; 2, 76 — католицизм чувства, его «герои» просто невозможны физиологически <«Смешанные мнения и изречения» 171>. «Странник и его тень», 93 — против espressivo[11] любой ценой <«Странник и его тень» 165>; «Утренняя заря», 225 — искусство Вагнера обольщать профанов в музыке; «Весёлая наука», 309 — Вагнер насквозь актёр, в том числе и как музыкант <«Весёлая наука» 368> — и 110: восхитителен в утончённости чувственной боли <«Весёлая наука» 87>. «По ту сторону добра и зла», 221 — принадлежность Вагнера к больному Парижу, по сути как у французских поздних романтиков, как у Делакруа, у Берлиоза — все с неким fond[12] неисцелимости в глубине и, следовательно, фанатики выразительных средств.
Таким образом, здесь названы прототипы уже 7 будущих главок «Ницше contra Вагнер».
На следующий день, 11 декабря, Ницше написал письмо Карлу Шпиттелеру, в котором предлагал к изданию «произведение такое же по оформлению и объёму, как “Случай «Вагнер”» … заключающее в себе 8 избранных отрывков из моих произведений, под заголовком: Ницше contra Вагнер / Досье / из произведений Ницше». Однако уже 12 декабря Ницше решил сам издать это произведение и набросал следующий его план (в тетради W II 10):
Ницше contra Вагнер / Из досье / психолога
в. H 1. Звёздная дружба <«Весёлая наука» 279>
в. H 2. В чём я восхищаюсь
в. H 3. В чём я возражаю
Ч 4. Вагнер как опасность
для ритмики, 59
при исполнении С. 93
Ч 5. Музыка без будущего
в. H 6. Почему Вагнер говорил о себе глупости <«Весёлая наука» 99>
в. Н. 7. Два антипода
П. 8. Почему Вагнер — французское явление <по-видимому, «По ту сторону добра и зла» 254, 256>
Ч. 9. Как я освободился от Вагнера
в H. 10. Почему мой вкус изменился <по-видимому, будущий «Эпилог», т. е. исходно параграфы 3 и 4 из Предисловия к «Весёлой науке»>.
Как видим, в дальнейшем Ницше удалил только два отобранных фрагмента — «Звёздную дружбу» и «Почему Вагнер говорил о себе глупости», — добавил ещё две главки и заключительное стихотворение.
В процессе переписывания фрагментов для Dm Hицше менял некоторые предложения в своих афоризмах, вставлял новые фразы, делал отдельные сокращения. 15 декабря подготовленную таким образом рукопись он отослал в типографию Науманну. Спустя два дня он добавил к рукописи «Интермеццо», т. е. в точности воспроизведённый 7-й параграф главы «Почему я так умён» из «Ecce homo». Однако уже 22 декабря Ницше пишет Кезелицу: «Произведение “Ницше contra Вагнер” печатать не будем. В “Ecce” содержится всё основное и по этому поводу». Науманну было отправлено распоряжение остановить печать «Ницше contra Вагнер». Тем временем в Турин из Лейпцига уже пришли гранки для корректуры. В связи с этим обстоятельством Ницше снова изменил решение и 27 декабря отправил обратно просмотренные им гранки с пометкой «в печать». В сопроводительном письме он, в частности, пишет: «В 1889 году надо издать “Сумерки идолов” и “Ницше contra Вагнер” — сперва, наверное, последнее, поскольку мне со всех сторон пишут, что по сути именно мой “Случай «Вагнер” привлёк ко мне настоящее внимание общественности. “Ecce homo”, который, когда он будет готов, надо передать переводчику, никак не раньше 1890 года окажется в такой готовности, чтобы выйти сразу на трёх языках».
Однако непосредственно перед помрачением Ницше его планы приняли новый оборот. 2 января 1889 г. он пишет Науманну: «События успели далеко обогнать маленький текст “Ницше contra В.”: вышлите мне стихотворение, которое стоит в конце, а также последнее присланное Вам стихотворение “Слава и вечность”. Вперёд с “Ecce”!» (Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007, с. 361). Это последняя дошедшая до нас авторская воля Ницше, и согласно ей печать «Ницше contra Вагнер» либо должна была быть приостановлена, либо отменялась вовсе. (В связи с этим КиМ поместили это произведение в самом конце VI тома, после «Дионисовых дифирамбов»). В 1889 году оно вышло в нескольких экземплярах — в том виде (вместе с «Интермеццо» и заключительным стихотворением), в каком и публикуется в нашем издании.
{1}
Ницше почти в точности воспроизводит афоризм 87 «О тщеславии художников» из «Весёлой науки». Добавлено несколько образов в предложении «Он знает, как устало влачится душа», а также два последних предложения.
(обратно){2}
Ницше воспроизводит с многочисленными изменениями и уточнениями афоризм 368 «Циник говорит» из «Весёлой науки».
(обратно){3}
Это не означает … о Вагнере — в «Весёлой науке» отсутствует.
(обратно){4}
Эстетика… vrai» — в «Весёлой науке»: «мой “факт”».
(обратно){5}
Чтобы слушать … Gérandel — в «Весёлой науке» отсутствует.
(обратно){6}
… а кто не «народ» — изменения по сравнению с исходным вариантом этого места в «Весёлой науке» производят впечатление полемики Ницше с самим собой: снимая кавычки с «народа», которые были в «Весёлой науке», он спрашивает (себя?): «а кто не “народ”?».
(обратно){7}
См. раздел 7 главы «Почему я так умён» в «Ecce homo».
(обратно){8}
Первая часть этой главы представляет собой существенно переработанную версию афоризма 134 «Как должна двигаться душа сообразно новейшей музыке» из «Смешанных мнений и изречений», вторая — афоризма 165 «О принципах исполнения музыки» из «Странника и его тени».
(обратно){9}
Глава, название которой обыгрывает применявшееся к музыке Вагнера понятие Zukunftsmusik, представляет собой значительно сокращённый и одновременно дополненный множеством характеристик и положений (в частности, добавлена последняя, пророческая, фраза) афоризм 171 «Музыка как позднее дитя всякой культуры» из «Смешанных мнений и изречений».
(обратно){10}
Эта глава представляет собой существенно отредактированную и дополненную новой концовкой (со слов «В Гёте…») первую половину афоризма 370 «Что такое романтизм» из «Весёлой науки».
(обратно){11}
Здесь Ницше планировал сделать вставку, от которой, однако, отказался. Она сохранилась в папке Mp XVI 5, с указанием для наборщика: «вставить в главу Два антипода, после слов: самим собой». Здесь Ницше, в частности, пишет:
Мои произведения богаты такими подарками; следует быть начеку, когда я называю имена. Все самые важные вещи о себе я всегда высказывал таким образом, что кто-нибудь другой бывал каждый раз несказанно тронут и чуть ли не захлёбывался от восторга. Третье «Несвоевременное», к примеру, называется «Шопенгауэр как воспитатель»: из благодарности за это почитатели Шопенгауэра мне чуть ли не в ноги кланялись. Следует же читать: Ницше как воспитатель и, возможно, как нечто большее… Эта книга завершается такой мыслью: когда в мире появляется великий мыслитель, то всё оказывается под угрозой. Это как если бы в большом городе случился сильный пожар — такой, когда никто уже не знает, где искать убежища и что сможет устоять. Любовь к истине есть нечто страшное и насильственное, она как пожар.
(обратно){12}
Ср. черновик письма Ф. Овербеку от 20 июля 1888: «Этому же служат и мои последние книги: в них больше страсти, чем во всём, что я вообще до сих пор написал. Страсть оглушает. Она идёт мне на пользу, она позволяет немного забыться» (Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007, с. 322).
(обратно){13}
Флобер заставлял привязывать себя к стулу во время работы.
(обратно){14}
Первая половина главы представляет собой существенно изменённое и дополненное начало афоризма 254 из «По ту сторону добра и зла». Вторая половина — столь же сильно видоизменённую середину афоризма 256 из «По ту сторону добра и зла».
(обратно){15}
Ницше имеет в виду комедию «Капитуляция», которую Вагнер сочинил после падения Парижа.
(обратно){16}
Здесь воспроизводится стихотворение, завершавшее афоризм 256 из «По ту сторону добра и зла».
(обратно){17}
Отредактированная вторая половина 2-й главы Третьего рассмотрения из «Гениалогии морали».
(обратно){18}
За исключением последних трёх предложений — отредактированная 3-я глава Третьего рассмотрения из «Гениалогии морали».
(обратно){19}
Ср. Тезис четвёртый «Закона против христианства» и предпоследнее предложение 5-го параграфа главы «Почему я пишу такие хорошие книги» в «Ecce homo».
(обратно){20}
Слегка отредактированный вариант 3-го параграфа предисловия к «Смешанным мнениям и изречениям».
(обратно){21}
Речь идёт о вагнеровском фестивале в Байройте.
(обратно){22}
… антисемитизму — в «Смешанных мнениях и изречениях» отсутствовало.
(обратно){23}
… приговорён к немцам — ср. начало 6-го параграфа главы «Почему я так умён» «Ecce homo».
(обратно){24}
Практически дословно воспроизведённый параграф 4 предисловия к «Смешанным мнениям и изречениям».
(обратно){25}
Здесь с некоторыми сокращениями и незначительными изменениями воспроизводится первая половина афоризма 269 из «По ту сторону добра и зла».
(обратно){26}
Слегка сокращённое и дополненное некоторыми вставками продолжение афоризма 269 из «По ту сторону добра и зла».
(обратно){27}
С незначительными изменениями афоризм 270 из «По ту сторону добра и зла».
(обратно){28}
Слегка отредактированный параграф 3 предисловия к «Весёлой науке», к которому Ницше добавил первые шесть предложений.
(обратно){29}
Воспроизведённый с незначительными изменениями параграф 4 предисловия к «Весёлой науке». Добавлены первое и два последних предложения первого абзаца.
(обратно){30}
Этими словами заканчивалась рукопись, которую Ницше отослал 15 декабря издателю. Однако вслед за тем Ницше добавил дальнейший текст из предисловия «Весёлой науки» и отправил издателю с указанием: «В конце книги, перед стихотворением, продолжение текста».
(обратно){31}
В «Весёлой науке» этой фразы нет.
(обратно) (обратно)Примечания
[1]
Тройственный союз (фр.).
(обратно)[2]
mesalliance - мезальянс, неравный брак (фр.).
(обратно)[3]
чистой воды (фр.).
(обратно)[4]
В оригинале игра слов — Wesen und Unwesen («сущности и чуду-юду»). — Прим. пер.
(обратно)[5]
«Флобер всегда мерзок, человек — ничто, произведение — всё» (фр.).
(обратно)[6]
восхитительный, очаровательный, прелестный (фр.).
(обратно)[7]
тонкостях (фр.).
(обратно)[8]
современной души (фр.).
(обратно)[9]
маленькое животное (фр.).
(обратно)[10]
Всё понять значит всё презирать (фр.).
(обратно)[11]
выразительного (фр.).
(обратно)[12]
основа, дно (фр.).
(обратно) (обратно)

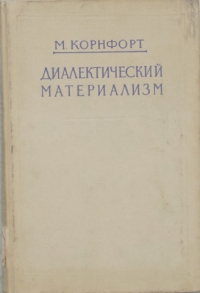
Комментарии к книге «Ницше contra Вагнер», Фридрих Ницше
Всего 0 комментариев