Конфликт интерпретаций Очерки о герменевтике
От переводчика
Поль Рикёр — один из самых значительных философов XX века; наряду с М. Хайдеггером, Э. Гуссерлем, Г. — Г. Га-дамером, Л. Витгенштейном, он принадлежит к числу классиков современной философии.
Поль Рикёр родился 27 февраля 1913 г. в Рене; его мать умерла вскоре после родов, отец погиб в начале Первой мировой войны (1915); Рикёра и его старшую сестру воспитывали родители отца, как сирота он находился на государственном обеспечении. Лицей (где уроки философии вел профессор Виктор Дальбьез, оказавший большое влияние на Рикёра), университет в Рене, степень лиценциата (1933), степень магистра философии (1934) — таковы начальные ступени образования будущего философа-классика. В годы учения в университете Рикёра особенно интересовал вопрос о взаимоотношении («междоусобной борьбе», как позже скажет сам мыслитель) разума и веры, что найдет отражение в его работе на степень магистра «Проблема Бога у Лашелье и Ланьо». Оба мыслителя питали глубокое уважение к духу рациональности, и их заботила автономия философского мышления, в котором вместе с тем идея Бога занимала бы подобающее ей место. Благодаря этим философам Рикёр одновременно приобщается к традиции французского рефлексивного мышления, ведшей, с одной стороны, к Эмилю Бутру, Феликсу Равесону и, далее, к Мэн де Бирану, с другой — к Жану Наберу, влияние которого на Рикёра станет особенно заметным в 50-е годы.
В 1934–1935 гг. Поль Рикёр продолжает учение в Париже, в Сорбонне, что, по его признанию, стало для него, провинциала, решающим во многих отношениях. Здесь
его наставниками были именитые профессора: эллинист Леон Робэн, историк философии Анри Брейе, философ Леон Брюнсвик. Эти годы отмечены также двумя определяющими встречами: товарищ по агрегации Максим Шас-тен ввел его в среду мыслителей, объединившихся вокруг Габриэля Марселя; Рикёр стал участником знаменитых марселевских «пятниц», память о которых оставит в нем неизгладимое впечатление: «каждый из нас лично приобщался к сократовскому методу, применение которого мы видели в уже опубликованных трудах Г. Марселя, в частности в его работе «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему» (1933). И это — специально отметим — до издания Сартром «Бытия и ничто». Ярлык экзистенциализма еще не был навешен на метафизические размышления о вовлечении, обращении, абсурде, надежде…»[1]. По словам Бердяева, также участника марсе-левских «пятниц», «это было, вероятно, единственное место во Франции, где обсуждались проблемы феноменологии и экзистенциальной философии. Постоянно произносились имена Гуссерля, Шелера, Хайдеггера, Ясперса…»[2]. Благодаря Г. Марселю и его «пятницам» Рикёр познакомился с основными положениями философии К. Ясперса, а от Максима Шастена заполучил английский перевод гус-серлевских «Идей». В 1998 г. Рикёр скажет, что именно знакомство с двумя философскими направлениями: христианским (по определению философа, «духовным») экзистенциализмом Марселя и Ясперса и феноменологией Гуссерля, — оказалось решающим для формирования его мировоззрения[3]. «У Габриэля Марселя, — отмечает мыслитель, — я заимствую подход к философским проблемам, исходящий из живых индивидов»[4]. Вслед за ним предметом философского анализа Рикёр считает человека, укорененного (по Марселю — «воплощенного») в жизненном мире, его индивидуальный, эмоционально-рефлексивный опыт. Вместе с тем Рикёр подчеркивает и такую существенную черту марселевского субъекта, как умение «держать дистанцию» по отношению к собственным бессознательным влечениям и потребностям, то есть быть хозяином самого себя.
К. Ясперс, как отмечает Рикёр, является его постоянным «молчаливым собеседником», с которым он нередко вступает в полемику: так, мысли немецкого экзистенциалиста о трагическом характере истории, трагической мудрости и трагическом уделе человека французский философ дополняет идеями А. Камю и М. Мерло-Понти, которые, по его мнению, учат мужеству перед лицом неуловимого смысла истории.
Мышление Гуссерля, как считает Рикёр, развивается в русле рефлексивной философии, берущей начало в картезианском Cogito и продолженной Кантом и посткантианцами. В центре внимания рефлексивной философии — вопрос о самопонимании субъекта, обладающего волей и способностью к познанию. Рефлексия, по Рикёру, — это акт самовозвращения субъекта, которого Cogito сопровождает на всем жизненном пути. Вместе с тем благодаря методу редукции, «вынесению за скобки», «выключению из обращения» естественной установки Гуссерль сумел представить сознание как феномен, вносящий в мир значения и смыслы.
В 30-е годы Рикёр испытывает влияние «борющегося мышления» Э. Мунье (позже, в книге «История и истина», он назовет Мунье своим наставником) и его журнала «Esprit»: «…у Мунье я учился связывать духовные устремления с принятием политической позиции»[5]; не менее значительным в этом плане было и воздействие Андре Филиппа, мыслителя левого толка, теолога-экономиста социалистической ориентации.
Лето 1935 г. — важная веха в жизни П. Рикёра: успешная сдача конкурсных экзаменов на ученое звание агре-же и начало преподавательской деятельности; женитьба на подруге детства Симоне Лежа. За четыре года до начала Второй мировой войны Рикёр начинает углубленное изучение немецкого языка и принимается за штудирование трудов Гуссерля и Хайдеггера. Война застает его в Мюнхене, где он совершенствовал свое знание немецкого языка. Офицером французской армии Рикёр попадает в плен; но даже в пленении философ не оставляет своих занятий, однако единственное, что он мог тогда делать, так это читать работы немецких мыслителей: «кого-то из них перечитывал, но многих и открывал для себя. Прежде всего Хайдеггера». Вместе с Микелем Дюфреном,[6] впоследствии известным философом и эстетиком феноменологической ориентации, Рикёр изучал труды К. Ясперса, в том числе его трехтомную «Философию» (результатом совместной работы явилась книга двух авторов «Карл Ясперс и философия существования»[7]). Начинает работу над книгой «Волевое и непроизвольное», ставшей его докторской диссертацией, и над переводом на французский язык первого тома «Идей» Гуссерля; дает уроки философии своим друзьям по заключению.
После войны Рикёр возобновляет преподавательскую деятельность: сначала — в коллеже Шамбон-сюр-Линьо-на, затем в Страсбурском университете и в Сорбонне, продолжает изучать Гуссерля, анализирует труды Гегеля. В это время он публикует работы: «Габриэль Марсель и Карл Ясперс. Философия таинства и философия парадокса» (1948), «Философия воли» (1950–1960), «История и истина» (1955), «Об интерпретации. Очерки о Фрейде» (1965), «Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике» (1969),
В 1966 году, озабоченный кризисом университетского образования во Франции, Рикёр уезжает в Нантер, где к нему присоединяются А. Дюмери и Э. Левинас. Философы намереваются создать «новый университет» и прежде всего наладить такие отношения между преподавателями и студентами, которые, как замечает Рикёр, не были бы отчужденными и руководствовались бы древней идеей сообщества, складывающегося между наставником и учеником. Однако в 1970 г. Рикёр, декан гуманитарного факультета, во время беспорядков в университете, явившихся отголоском майских событий 1968 г., подвергается физическому насилию со стороны студентов. Он покидает Францию и ведет преподавательскую деятельность в университетах Лувена, Монреаля, Чикаго. Во Францию Рикёр возвращается в 1990 г.
Годы вынужденного отсутствия были для Рикёра весьма плодотворными. Он продолжил изучение философии XX века. Теперь в центре его внимания, наряду с французской рефлексивной традицией, современная немецкая философия и прежде всего герменевтика Г.-Г. Гадамера, онтология М. Хайдеггера, теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, а также англосаксонская аналитическая философия. Он публикует труды: «Живая метафора» (1975), «Время и рассказ» (тт. 1–3, 1983–1985), «От текста к действию. Очерки по герменевтике-П» (1986), «В школе феноменологии» (1986), «Я — сам как другой» (1990). Вместе с тем Рикёр активно сотрудничает с Парижским центром по изучению гуссерлевской феноменологии, в 1974 г. становится во главе ведущего историко-философского журнала Франции «Revue de métaphysique et de Morale», публикует свои работы в «Esprit», в «Bulletin de la Société française de philosophie» и др.
В последнее десятилетие XX в. Рикёр пишет труды: «Книга для чтения-1: О политике» (1991), «Книга для чтения-2: Страна философов» (1992), «Книга для чтения-3: На гранях философии» (1994), «Критика и убежденность» (1995), «Интеллектуальная автобиография» (1995), «Память, история, забвение» (2000) и др. Сегодня Поль Рикёр, современный классик философии, является членом девяти иностранных академий и Почетным доктором тридцати одного университета мира.
Задачей своего творчества П. Рикёр считает разработку обобщающей концепции человека XX в. с учетом того вклада, который внесли в нее значительнейшие учения современности — философия жизни, феноменология, экзистенциализм, персонализм, психоанализ, герменевтика, структурализм, аналитическая философия, моральная философия, философия религии, философия политики и др., имеющие глубинные истоки, заложенные еще в античноети, и опирающиеся на идеи своих непосредственных предшественников: Канта, Фихте, Гегеля. Рикёр стремится определить исследовательские возможности и меру компетентности каждого из этих учений и согласовать их в единой, многоплановой и многогранной, концепции — феноменологической герменевтике. Вместе с тем Рикёр предлагает вести постоянный диалог с иными областями знаний, не принадлежащими сфере философии, и прежде всего с науками, особенно — с науками о человеке, которые, по его убеждению, способны придать философии новые импульсы в ее движении вперед. И хотя сам философ не пользуется понятием «гуманизм», он является реальным философом-гуманистом, стремящимся понять человека во всех его проявлениях и наметить пути его дальнейшего развития.
Собственно, герменевтика, в понимании Рикёра, и есть истолкование того или иного явления, опирающееся на разнообразные дискурсы и типы знания, субъектом которого является отдельная личность. В случае с философом такими дискурсами выступают иные философские точки зрения, отличные от его собственной, и самые различные типы знания — главным образом наука. Как пишет Оливье Мон-жен, Рикёр «мыслит совместно с другими, рядом с другими, возводя некую сцену, на которой актеров — а их немало — можно видеть лицом к лицу и вести с ними дебаты»[8]. В ходе такого общения философ начинает лучше понимать себя и его «я» становится ареной, на которой разыгрываются конфликты; в результате его книги превращаются в объяснение с самим собой, со своим «я», «захваченным и оккупированным другими».
В отличие от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, разрабатывавших герменевтику как философскую дисциплину и трактовавших ее в духе психологизма, смыкая ее тем самым с традиционной эпистемологией, Рикёр переносит вопрос в онтологическую плоскость: герменевтика, полагает он, не только метод познания, но прежде всего способ бытия. Вместе с тем герменевтике как философии жизни, считает он, необходимо воспользоваться всеми ресурсами философии духа, то есть перенести в жизнь логику имманентного развития, названную Гегелем Понятием. С точки зрения методологической это означает привить проблему герменевтики к феноменологическому методу[9]. Таким путем философ намеревается преодолеть крайности объективизма и субъективизма, натурализма и антропологизма, сциентизма и антисциентизма, противоречия между которыми привели современную философию к глубокому кризису.
Одна из задач первой самостоятельной работы Рикёра — доклада на тему «Феноменологическое исследование внимания и его философские связки» (1939) — заключалась в сопоставлении феноменологически трактуемого внимания с проблемами истины и свободы. Феноменология здесь представлена Гуссерлем, истина и свобода берутся в их экзистенциалистской трактовке, принадлежащей Марселю. Так Рикёр начинает «соединение» феноменологии и экзистенциализма, заимствуя у первой метод анализа, у второго — смысл «воплощенного существования». В итоге Рикёр обнаруживает изначальную двойственность человеческого опыта: как восприятия, в силу своей связи с объектом, но одновременно и как активности, свойственной свободно ориентирующемуся вниманию. Мысль о сложности человеческого опыта станет руководящей нитью исследований философа и поможет ему устоять перед соблазном объявить ту или иную способность человека основополагающей, господствующей над всеми другими и подавляющей их. Оборотной стороной этой идеи является признание «непрозрачности» человеческого опыта и, стало быть, невозможности знать о человеке «все».
В 50-е годы Рикёр тщательно анализирует позицию позднего Гуссерля, сформулированную им, в частности, в «Кризисе европейских наук»; особое внимание его привлекает трактовка немецким философом жизненного мира как пласта опыта, предшествующего субъект-объектным отношениям. Эта идея, как известно, послужила отправным пунктом экзистенциалистского философствования, трансформировавшего классическое понимание человеческого феномена, превратившего его из сознания в существование. Соглашаясь в целом с экзистенциалистской трактовкой человека, Рикёр вместе с тем критикует ее за монизм, допускающий только одно толкование существования — исходя из воображения, эмоции, переживания и т. п. Он считает нужным проанализировать не только то, что следует за экзистенциальной изначальностыо, но и саму экзистенциальную ситуацию, способ существования, в котором укоренен субъект. В результате этой операции Рикёр обнаруживает область бессознательного (непроизвольного), то, что принимается субъектом как необходимость и преобразуется им в практическую категорию.
Хотя Рикёр в своем учении широко опирается на идеи Фрейда, его трактовка бессознательного ближе к позиции Гуссерля или Хайдеггера, нежели основоположника психоанализа. В соответствии с феноменологическим методом Рикёр не считает бессознательное чем-то принципиально недоступным сознанию. Оно — скорее «нетематическое» Гуссерля, переведенное на язык «волюнтативной» теории (Шелер, Дильтей, Хайдеггер), согласно которой реальность открывается субъекту не в созерцании и мышлении, а в акте воли. Понимая интенциональность как изначальную открытость субъекта миру, Рикёр, вслед за Хайдеггером, дополняет ее практическим намерением и волевым действием, стремясь превратить из формального момента субъективности в момент активный, действенный, созидающий.
Понятие воли (способности к деятельности) является одним из центральных в концепции Рикёра. В 1950 г. он издает первый том («Волевое и непроизвольное») задуманной им многотомной «Философии воли», и в одной из книг, озаглавленной «Конечное и виновность», формулирует основные идеи своей герменевтики. Первоначально герменевтика понималась им как расшифровка символов, имеющих двойной смысл: буквальный и символический. Своей трактовкой символа Рикёр, по его утверждению, более всего обязан Мирче Элиаде — его феноменологии религии, представленной в работе «Сравнительная история религий», где проводится мысль о символизме как фундаментальном, отличительном признаке религиозного языка.
Конституирующая воля отождествляется Рикёром с понятием человеческого опыта; она — основополагающий акт сознания и человека вообще. Принятая в качестве «предельной изначальности» субъекта, воля является для Ри-кёра как бы точкой отсчета, от которой можно идти в двух противоположных направлениях: либо, исследуя движение сознания, открывать будущее (трансцендирование), либо — обращаться к археологии субъекта, к его изначальным влечениям, далее уже не редуцируемым и обнаруживаемым только в сопоставлении с небытием. Так феноме-нолого-дескриптивный анализ с его принципом редукции дает Рикёру возможность открыть область не-волевого, которое, как он считает, не принималось в расчет классической психологией и философией. Согласно Рикёру, потребности, желания, привычки человека обретают подлинный смысл только в соотнесении с волей, которую они мотивируют; воля же завершает их смысл, детерминируя своим выбором. «Не существует собственно интеллигибель-ности не-волевого как бессознательного; интеллигибельно только живое отношение волевого и не-волевого»[10]. Понимание диалектического единства волевого и не-волевого позволяет Рикёру представить волевое (собственно человеческое) как «придающее смысл».
Очевидно, что здесь Рикёр, вслед за Хайдеггером, пытается подвести под свою теорию онтологический фундамент. Так, область не-волевого (бессознательного), взятая в качестве одной из сторон диалектического единства волевого и не-волевого, отождествляется им с понятием «жизненный мир», «бытие», включение которых в анализ, по его мнению, ставит феноменологию «на порог онтологии» и тем самым превращает ее в онтологическую феноменологию.
При разработке феноменологической онтологии Рикёр опирается также и на психоаналитический метод истолкования, выделяя в нем следующие основные моменты. Во-первых, психоанализ идет к онтологии путем критики сознания. На этом основании Рикёр включает Фрейда в число «философов подозрения», к которым относит также
Фейербаха, Маркса и Ницше: интерпретации сновидений, фантазий, мифов, символов, какие предлагает психоанализ, суть своего рода оспаривание претензий сознания быть источником смысла; психоанализ говорит об «утраченных объектах, которые обретаются вновь лишь символически», что, по мысли Рикёра, является условием для создания герменевтики, освобожденной от предрассудков Ego, где проблематика рефлексии преодолевается в проблематике существования. И, во-вторых, только в интерпретации и с ее помощью возможно движение к онтологии. Расшифровывая тайны желания быть, пишет он, мы раскрываем само желание, лежащее в основании смысла и рефлексии; Cogito путем интерпретации открывает за самим собой то, что называют археологией субъекта; в этой археологии можно различить существование, но оно остается включенным в деятельность расшифровки. Однако «археология субъекта» будет абстрактной, если не рассматривать ее в диалектическом единстве с телеологией.
При анализе движения сознания вперед («профетия сознания»), когда каждый образ находит свой смысл не в том, что ему предшествует, а в том, что последует за ним, Рикёр использует «прогрессивный» метод. Благодаря этому методу сознание извлекается из самого себя и устремляется вперед, к смыслу, источник которого находится впереди субъекта. Известно, что такой способ интерпретации сознания был разработан Гегелем, и на первый взгляд он прямо противоположен фрейдовскому методу: в гегелевской феноменологии истина каждого образа проясняется в образах, следующих за ним. Однако для Рикёра здесь важно не их различие, а возможность их синтеза. И Гегель, и Фрейд в равной мере говорят о неправомочности «философии сознания». Фрейдовское описание бессознательного есть «онтогенез» сознания; гегелевский же анализ сознания приводит к понятию эпигенеза: он имеет иную направленность — за пределы сознания, в область духа. Только в единстве этих двух герменевтик — гегелевской и фрейдовской — Рикёр видит залог подлинной интерпретации того или иного явления. В интерпретации, считает французский философ, всегда присутствуют две герменевтики, воспроизводящие дуализм символов, которые имеют два разнонаправленных вектора: один — в сторону архаических образов, другой — к будущему, возможному. Arche с необходимостью сопряжена с telos, поскольку присвоение смысла, конституированного до «Я», предполагает движение субъекта вперед, за пределы самого себя.
Эти разнонаправленные интерпретации человеческого сознания объединяются Рикёром через эсхатологию. На место гегелевского абсолютного знания, выступающего как цель перед развертывающим себя сознанием, он ставит Священное, являющееся, по его словам, абсолютом и для сознания, и для существования и имеющее эсхатологическое значение.
Осмысливая психоанализ Фрейда, Рикёр перетолковывает основные понятия фрейдизма, и прежде всего такие, как «желание», «сублимация», «идентификация». Вопреки широко распространенной точке зрения, Рикёр признает предметом постижения Фрейда не желание, то есть не либидо, не влечение, не Эрос. Эти понятия производны и имеют строго контекстуальный смысл. Фрейд исследует желание в его более или менее конфликтном отношении с миром культуры — отцом, матерью, властью, императивами, запретами, социальными целями и идеалами; его теория и практика находятся в точке соединения желания и культуры, где желание — это, скорее, сама идея предшествования, «антериорности» во всех отношениях: филогенетическом, онтогенетическом, историческом, символическом. Данную позицию Фрейда Рикёр соотносит с позициями Спинозы, Лейбница, Ницше. Фрейд и все отмеченные философы, пишет Рикёр, принимают важное решение, касающееся судьбы человеческого представления: оно не есть более первичный факт, изначальная функция, наиболее доступная психологическому сознанию или философской рефлексии; оно становится функцией вторичной — функцией усилия или желания.
Что касается «сублимации» и «идентификации», то в рамках психоанализа, считает Рикёр, эти понятия остаются в подвешенном состоянии: они требуют расширения его пределов, располагаясь на границе психоанализа с другой философской концепцией, которой надлежит включить в себя предварительно переработанный фрейдизм в качестве своего составного элемента. Задачей сублимации является замена либидинозной цели целью идеальной, что и создает культурное пространство. Осознание этого факта возможно только в «тотальной» философии человека и культуры, разрабатываемой в качестве религиозной герменевтики. Психоанализ, пользующийся исключительно регрессивным методом исследования, не предлагает никакого синтеза, а следовательно, и телеологии. Фрейд, отмечает Рикёр, дает убедительную картину того, каким образом человек выходит из своего детства, но как он становится взрослым, то есть способным на созидание значений в культуре, — этого психоанализ объяснить не в состоянии. Для решения данной проблемы, полагает Рикёр, необходимо обратиться к Гегелю, к его феноменологии духа, где значения черпают свой смысл в движении тотализации, заставляющем их преодолевать себя через то, что находится впереди них.
Очевидно, что Рикёр намеревается перевести фрейдизм, трактующий явления культуры, с редукционистского уровня на более высокий уровень, соответствующий культурологической задаче. Главное, подчеркивает французский философ, не в том, чтобы обнаружить вытесненное, а в том, чтобы увидеть, что следует за сублимацией, переводящей фантазмы в мир культуры. Истинный смысл сублимации Рикёр усматривает в том, чтобы путем мобилизации энергии, сосредоточенной в архаических образах, вызывать к жизни новые значения.
П. Рикёр отдает себе отчет в том, что выделенные им методологии: археологическая, телеологическая, эсхатологическая — и соответствующие им дисциплины: психоанализ, феноменология духа и феноменология религии, — представляют собой различные, если не противоположные, способы интерпретации. Например, при объяснении символов феноменология религии исходит из проблематики священного, в то время как психоанализ признает лишь одну трактовку символа — как результата того, что возникает в ходе подавления влечения; психоаналитическая герменевтика нацелена на исследование предшеству-
ющих образов, феноменология духа — на раскрытие образов будущего и т. д. И тем не менее эти три методологии, разрабатываемые в психоанализе, феноменологии духа и феноменологии религии, по убеждению Рикёра, вполне совместимы, так как все они, каждая на свой манер, движутся к онтологическим корням понимания и выражают собственную зависимость от существования: психоанализ показывает эту зависимость в археологии субъекта, феноменология духа — в телеологии образов сознания, феноменология религии — в знаках священного. Более того, каждая из них имеет право на существование, только дополняя друг друга и взаимодействуя друг с другом. Философии как герменевтике надлежит соединить эти, по словам Рикёра, расходящиеся в разные стороны интерпретации и стать экзегезой всех значений, существующих в мире культуры.
Способность к символизации, выделенная Рикёром в качестве одной из основополагающих характеристик человека, ведет к перетолкованию гуссерлевской редукции, цель которого, по мнению французского философа, заключается в том, чтобы как можно теснее связать ее с теорией значений, называемой им «осевой позицией современной феноменологии» [11]. Рикёр предлагает видеть в редукции условие возможности отношения означивания, символической функции как таковой. В этом случае, считает он, редукция перестает быть некой фантастической операцией и становится «трансцендентальным» языка, возможностью человека отличать себя от природного существа, соотноситься с реальностью при помощи знаков. Именно здесь Рикёр видит поворот философии к субъекту, понимаемому как начало «означивающей жизни», и зарождение бытия, говорящего о мире и общающегося с другими субъектами.
Для Рикёра очевидно, что слово, дискурс в целом обладают символической функцией, при этом он четко отличает философию языка от науки о языке. Основу этого отличия он видит в том, что науку о языке интересует замкнутая система знаков, философия же языка «прорывает» эту замкнутость в направлении бытия и исследует феномен языка как элемент обмена между структурой и событием; ведущая роль в этом обмене принадлежит живому слову. В этой связи Рикёр вступает в спор со структурализмом и особенно с его «лингвистическим ответвлением», берущем начало в учении Фердинанда де Соссюра. Семиология Ро-лана Барта, семиотика А. Греймаса, литературная критика Ж. Женета — все они «занимаются исключительно структурами текстов, не принимая во внимание намерения их авторов» [12]; в них язык имманентен себе и не имеет никакого выхода вовне.
Впервые, считает Рикёр, философская проблема языка была поставлена Гуссерлем, который видел в нем некое парадоксальное явление: язык есть вторичное выражение понимания реальности, но только в языке его зависимость от того, что ему предшествует, может быть выговорена. Особую заслугу Гуссерля Рикёр видит в том, что он попытался обосновать символическую функцию языка, предъявив ему двойное требование: требования логичности, идущее от telos, и требование допредикативного обоснования, идущего от arche. Это «предшествующее» обоснование Гуссерль связывает с Lebenswelt, который в свою очередь обнаруживается в операции, осуществляемой в языке и по отношению к языку; такая операция есть «движение вспять», «возвратное вопрошание», посредством которого язык видит собственное основание в том, что не является языком; он сам обозначает свою зависимость от того, что делает его возможным со стороны мира. Так, язык указывает на возможность символической функции и определяет логику герменевтики как логику двойного смысла.
Предлагая герменевтику в качестве метода истолкования, а стало быть, и метода исторических наук, Рикёр уделяет большое внимание проблеме времени и его роли в интерпретации. Интерпретация — это место сцепления двух времен — прошлого и настоящего. С одной стороны, интерпретация включает в себя традицию: мы интерпретируем не вообще, а делаем это для того, чтобы прояснить,
продолжить и таким образом жизненно утвердить традицию, какой мы принадлежим. С другой стороны, интерпретация сама совершается во времени, в настоящем, отличном от времени традиции; и то, и другое время принадлежат друг другу, они взаимосвязаны. Чтобы понять эту диалектику времен, необходимо, по Рикёру, обратиться к третьему, глубинному, времени, обеспечивающему богатство смысла и делающему возможным взаимное обогащение двух других времен; для Рикёра — это время самого смысла, имеющее отношение к семантической конструкции символа.
Особенность символа, в рикёровском его понимании, состоит в том, что он обладает двойным смыслом: семантическая структура символа образована так, что он полагает смысл при помощи другого смысла, изначальный, буквальный смысл в нем отсылает к смыслу иносказательному, экзистенциальному, духовному. Таким образом, символ зовет к интерпретации и говорению. Между этой способностью символа и временной нагрузкой наличествует сущностное отношение, делающее возможной коммуникацию.
При объяснении историчности, свойственной символу, П. Рикёр опирается на структуралистские анализы К. Ле-ви-Строса, в частности на его понимание синхронии и диахронии, а также на лингвистическое учение Ф. де Соссю-ра, его различение языка (langage) и слова (parole). Используя идеи структурализма, Рикёр, однако, не признает его философской дисциплиной; для него структурализм — наука, в то время как герменевтика — дисциплина философская; первый в своем анализе стремится абстрагироваться от личностного момента (структурализм «не нуждается в субъекте, когда речь заходит о придании смысла чему бы то ни было» [13], вторая вторгается в герменевтический круг понимания, что определяет ее как «понимающее мышление». Рикёр разделяет здесь позицию Р. Якобсона, выраженную следующим образом: кто-то говорит что-то кому-то о чем-то, опираясь на определенные правила — фонетические, лексические, синтаксические, стилистические.
В 70-е годы Рикёр пытается переосмыслить проблематику символа, применяя к ней, как он сам пишет, «более подходящий инструментарий»; таким инструментарием философ считает метафору [14]. Метафора, перемещающая анализ из сферы слова в сферу фразы, вплотную подводит Рикёра к проблеме инновации и позволяет ему более плодотворно использовать прогрессивный аспект своей методологии. Значение метафоры не заключено ни в одном из отдельно взятых слов, оно рождается в конфликте, в той напряженности, которая возникает в результате соединения слов во фразе. Метафора наглядно демонстрирует символическую функцию языка: буквальный смысл отступает перед метафорическим смыслом, соотнесенность слова с реальностью и эвристическая деятельность субъекта усиливаются. В метафорическом выражении, нарушающем семантическую правильность фразы и несовместимом с ее буквальным прочтением, Рикёр обнаруживает осуществление человеческой способности к творчеству. Поэзия с помощью метафоры «переописывает мир».
Начатое Рикёром в 80-е годы осмысление повествовательной функции культуры и предпринимаемые в этой связи попытки соединить феноменологию с лингвистическим анализом, герменевтику — с аналитической философией открыли перед мыслителем более широкие исследовательские перспективы. Он переходит от анализа фрагментов культуры, запечатленных в отдельном слове или фразе, к анализу текстов культуры, в конечном итоге — к иытию культуры как исторической целостности. Одной из главных проблем феноменологической герменевтики становится вопрос о человеке как субъекте интерпретации и об истолковании как включении индивида в целостный контекст культуры, как основе его деятельности в культуре.
В свете отмеченных задач Рикёр преобразует регрессивно-прогрессивный метод в метод исторической эпистемологии, основанный на диалектическом понимании времени. Герменевтическую философию Рикёра пронизывает теперь принцип деятельностного подхода, в центре ее — человек как субъект культурно-исторического творчества
(реализующий себя l'homme capable, то есть человек, обладающий способностями), в котором и благодаря которому осуществляется связь времен.
Именно этой проблеме посвящено трехтомное произведение философа «Время и рассказ [15], а также работа с весьма показательным для данного периода творчества Рикё-ра названием «От текста к действию. Очерки по герменевтике [16].
Историко-философский экскурс, предпринятый Рикё-ром в I томе «Времени и рассказа» с целью отыскания истоков родственного его собственному пониманию герменевтики, приводит его к двум значительным фигурам — Августину и Аристотелю. У первого французского философа привлекает мысль о времени как состоянии души («…тебе (душе человеческой — И. В.) дано видеть сроки (moras) и измерять их)» [17] и об активности духа, устремленного в трех различных направлениях: к памяти (прошлое), ожиданию (будущее) и вниманию (настоящее). Активность духа зафиксирована Августином в понятии distentio (растяжение), указывающем на одновременность этих трех модальностей времени. Идею «троичности» настоящего, развиваемую Августином в «Исповеди», Рикёр считает гениальным открытием, в русле которого и родилась феноменология Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти.
В концепции Августина отрицаются представления о времени, сложившиеся в античности и выраженные, в частности, в «Физике» Аристотеля, согласно которой ьремя существует объективно, человеческая душа неспособна порождать время, само же время есть мера движения и, следовательно, зависит от того, что движется, то есть от природы, от материи. Рикёра интересует не аристотелевская «физика» и суждения о времени, а его «Поэтика», а в ней — два важных момента: учение о построении интриги (фабулы) и мысль о миметической сущности искусства.
Анализируя «Поэтику» Аристотеля, Рикёр не просто углубляется в особенности древнегреческого искусства, но пытается обнаружить в нем основу развития всей по-
следующей гуманитарной культуры и выявить, чем объясняется умопостигаемость любого повествовательного произведения. Поэтому Рикёр расширительно трактует закономерности построения интриги, выделенные Аристотелем, стремясь, как он сам пишет, извлечь из «Поэтики» такую модель построения интриги, которую можно было бы распространить на всякое произведение, называемое повествовательным. В результате он приходит к выводу, что такой моделью может стать интрига, понимаемая как «несогласное согласие», то есть некоторое единство, объемлющее многочисленные факты реальной жизнедеятельности людей и изложенное в виде связной умопостигаемой истории со своей внутренней логикой. Таким образом, то, что в жизни выступает как набор невычлененных и неорганизованных фактов, в повествовании превращается в осмысленную историю и именно в таком виде передается из поколения в поколение, обеспечивая преемственность культуры. При этом хронологическая последовательность должна дополняться причинно-следственной зависимостью — только в этом случае исторический сюжет окажется правдоподобным.
Понятие «несогласного согласия» Рикёр соотносит с понятием distentio animi Августина, подчеркивая, что и то, и другое подразумевают единство в многообразии, заключенное либо в единстве человеческой души, либо в единстве текста. Однако «несогласное согласие» Аристотеля относится к фактам, безразличным ко времени, тогда как distentio animi Августина соединяет в себе три модуса времени. Интрига в тексте выполняет интегративную и в этом смысле посредническую функцию; здесь Рикёр усматривает основание того, что и в более широком контексте — между порядком действия и его временными характеристиками — интрига тоже играет эту посредническую роль. Акт построения интриги, как и акт distentio animi, извлекает конфигурацию из последовательности и в этом смысле отражает ав-густиновский парадокс времени. Опосредуя два полюса — событие и повествование о нем, — интрига способствует разрешению парадокса, но не спекулятивным, а поэтическим путем.
Итак, Августин исследует природу субъективного времени, не задаваясь вопросом о повествовательной струк-
туре духовной автобиографии, в то время как Аристотель создает теорию интриги, не касаясь проблемы времени. Рикёр ставит целью объединить позиции Августина и Аристотеля и в этом видит путь к решению поставленной им герменевтической задачи.
В центре внимания Рикёра повествовательный характер явлений культуры, и в первую очередь литературы и исторических произведений.
В жизни художественного произведения Рикёр выделяет три этапа, каждый из которых он обозначает словом «мимесис»: «мимесис-I», «мимесис-П»,» мимесис-Ш». Понятие мимесиса французский философ заимствует у Аристотеля, который в своей концепции искусства на первый план ставит его деятельностную природу. При этом Рикёра интересует вопрос не только о специфике искусства как деятельности, но и об искусстве как способе воспроизведения и передачи традиций человеческой деятельности в культуре. Задача герменевтического анализа литературного произведения, по Рикёру, состоит в том, чтобы «реконструировать целостность операций, с помощью которых произведение берет начало в смутных глубинах жизни, действиях и страданиях людей и автор которого имеет своей целью передать произведение читателю, воспринимающему его и благодаря этому меняющему свою деятельность» [18].
Соответственно понятиям «мимесис-I», «мимесис-П» и «мимесис-Ш» Рикёр пользуется понятиями префигура-ции (предвосхищения), конфигурации (формообразования) и рефигурации (преобразования).
Мимесис-I и префигурация отсылают к понятиям жизненного мира и пред понимания, хорошо известным в герменевтике. Зарождение фабулы повествования обусловлено первоначальными, словесно и структурно не оформленными жизненными ситуациями, где действуют различные агенты, и их действия на первый взгляд не связаны причинно-следственными отношениями. Автору будущего произведения необходимо обладать практическим пониманием жизненного материала (компетентностью), чтобы за кажущейся разрозненностью и внешней беспричинностью увидеть некую целостность явлений, связанных друг с другом не авторским замыслом, не той или иной концепцией, а самой жизнью. Кроме того, мимесис-I выступает в роли посредника между стадией практического опыта и произведением, и какой бы новаторской ни была поэтическая композиция, она укоренена в предпонимании мира действия. Вместе с тем «проговаривание», словесное выражение жизненных ситуаций представляет собой непременное условие человеческого опыта.
Мимесис-И у Рикёра — это собственно художественное произведение, мир поэтической композиции. Целью данной стадии мимесиса является конкретный процесс, в котором текстовая конфигурация становится посредницей между префигурацией (простой последовательностью событий) практического поля и его рефигурацией (трансформацией) в восприятии произведения.
Наконец, мимесис-Ш — это акт восприятия художественного произведения и акт межличностной коммуникации, осуществляемой с помощью произведения искусства; одновременно — это актуализация творческого замысла художника, выявление духовных ценностей и идеалов, заключенных в тексте, и введение их — через последующую деятельность индивидов — в контекст общественного бытия. Первые проявления мимесиса-Ш Рикёр — в согласии с Аристотелем — находит в катарсисе, испытываемом читателем, который вместе с тем «встроен» в произведение: страдание и боль, изображенные в трагедии, преобразуются в зрительские эмоции. Полный объем мимесис-Ш обретает тогда, когда произведение разворачивает перед читателем целый мир, который он делает своим.
В мимесисе-Ш мир текста и мир читателя, мир, конфигурированный поэзией, и мир, в котором осуществляется деятельность человека, пересекаются. Под миром здесь понимается то, что феноменология (Гуссерль) и герменевтика (Гадамер) обозначают как горизонт ожидания. Мир текста — это мир, проецируемый автором за пределы текста, мир, складывающийся из взаимодействия внутренней динамики повествования и его проективных («призывных») интенций. Онтологический статус текста пребывает в «подвешенном состоянии»: текст избыточен по отношению к
своей структуре и ждет своего прочтения. Одновременно мир текста избыточен и по отношению к миру повседневности, миру обыденной практики, практики существования. Это, утверждает Рикёр, фундаментальная черта горизонта ожидания, где формируется новое восприятие, новый опыт, противостоящие наличной культуре, где высвечивается несовпадение между миром воображаемым и привычной реальностью.
Мир читателя — это мир его надежд, чаяний, устремлений. В акте чтения ожидания автора и надежды читателя пересекаются: осуществляется акт интерсубъективного общения, где «ни субъективность автора, ни субъективность читателя не являются первичными». [19] Более того, интенция автора не дана непосредственно, как это бывает, например, в прямой речи, обращенной к собеседнику. Она, как и все значения текста, должна быть реконструирована: «интенция текста не лежит на поверхности, она сама становится герменевтической задачей» [20]. Понимание текста — непростая задача, требующая духовных усилий читателя, соединенных с «даром» текста и стимулированных им. В сознании читателя осуществляется работа со смыслом и временем, то, о чем говорил Августин: текст погружается в память читателя и зовет к продуктивному воображению.
В итоге целью интерпретации текста является создание «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои самые сокровенные возможности» [21]. Рефигурация есть деятельность человека в мире. Завершение художественного произведения приводит к созданию новой жизненной позиции, к новому самопониманию читателя, к последующей деятельности, в которой, в конечном счете, и реализуется произведение, — оно возвращается в жизнь, вписывает поэтическую деятельность в мир повседневного опыта. Но возвращается произведение не в ту точку, где оно началось, а в другую, смещенную по отношению к исходной благодаря вновь приобретенному читателем опыту и приведения его в действие.
С точки зрения повествовательности Рикёр осмысливает и философское понимание субъекта. Целостность, автономность, творческая сущность человека рассматриваются им как «повествовательная идентичность», без которой, по мнению французского философа, проблема личной идентичности не может быть решена: либо мы полагаем, что субъект всегда идентичен самому себе, либо считаем самоидентичность субъекта субстанциалистской иллюзией. Человеческая «самость» может избежать этой дилеммы, если ее идентичность будет основана на временной структуре, соответствующей модели динамической идентичности, которую содержит в себе поэтика повествовательного текста. Рикёровское повествование, справедливо отмечает О. Монжен, выступает как то, что «связывает индивида с самим собой, вписывает его в память и проецирует вперед».[22]
Вместе с тем, как считает Рикёр, субъект, предстоящий перед историей, памятью, должен составить повествова-ние-для-другого, что говорит об общественном характере отдельного человека. В этой связи французский философ заявляет о своем несогласии с хайдеггеровским анализом времени и историчности. У Хайдеггера, считает он, время есть черта человеческой конечности, направленности человеческого бытия к смерти, а потому его характеризует внутренняя закрытость и монологичность. Хотя описание «горизонта ожидания» в феноменологической герменевтике и бытия-впереди-себя Хайдеггера почти дословно совпадают, горизонт ожидания является характерной чертой деятельности, открытой будущему и включенной в историческую практику всего человеческого сообщества.
Итак, под воздействием художественного произведения человек-субъект не только воображает возможный мир и изменяет самого себя, но и действует, стремясь реализовать этот воображаемый мир. Вслед за выходом трехтомного исследования «Время и рассказ» Рикёр публикует работу под названием «От текста к действию», где продолжает изучение субъекта, обращаясь к марселевской теме воплощения и к учению Ясперса о пограничных ситуациях. Теперь он занят тем, что «включает теорию текста в теорию действия» [23]
Полемизируя с лингвистами-структуралистами, Рикёр замечает, что, конечно, же, текст может порвать свои связи с внешним миром, однако не стоит забывать того, что составной частью этого внешнего мира являются люди — действующие и испытывающие воздействие; более того, сами тексты есть не что иное, как результат деятельности людей. Вот почему миметическая связь между актом говорения и активной деятельностью никогда не будет ликвидирована: она только усложняется, становится все более опосредованной.
В учении о деятельности Рикёр возвращается к изначальной теме своих философских размышлений — воле; теперь он тематически расширяет проблематику воли, включая в нее вопрос о нацеленности (интенции) воли и участии в ходе вещей, о самопроявлении человека в обществе. Французский философ считает человеческое действие ядром того, что в хайдеггеровской и постхайдеггеровской онтологии обозначено терминами «бытие-в-мире», «обитание-в-мире».
Подводя итог своим антропологическим исканиям, Рикёр выделяет четыре существенные черты, определяющие человека как такового. Первая — это способность говорить, вступать в общение с другими посредством языка: «я могу говорить». Вторая черта — способность участвовать в ходе событий посредством деистъий, усилий (conatus Спинозы), прокладывая свой путь в окружающем мире. Третья специфическая способность человека — это умение повествовать о своей жизни и тем самым формировать собственную идентичность, основанную на воспоминаниях: «я могу рассказать о себе». И, наконец, способность быть субъектом собственных действий, считать себя автором своих поступков: человек осознает, что является субъектом деятельности, за которую несет ответственность.
Создавая свою феноменологическую герменевтику, Рикёр считает настоятельно необходимым сохранять плодотворный диалог между философским и научным подходами в объяснении человека и мира культуры. Он полагает, что философия прекратила бы свое существование, если бы порвала многовековую связь с науками — идет ли речь о физико-математических науках, науках о природе или науках о человеке, и превратилась бы в «музей понятий». Так, сравнивая повествовательное понимание, свойственное художнику, и объяснение, характерное для ученого, он утверждает, что понимание без объяснения слепо, а объяснение без понимания пусто, Рикёр говорит о диалектическом взаимодействии между пониманием и объяснением, имея в виду, что объяснение и понимание являются не исключающими друг друга полюсами, а «моментами сложного процесса, который собственно и носит название интерпретации».[24] Если брать познавательный процесс в целом, здесь не существует двух методов — объясняющего и понимающего. «…Методично только объяснение, понимание же — неметодический аспект познания, соединяющийся с методическим объяснением; понимание предшествует объяснению, сопровождает его вплоть до его завершения и, таким образом, обволакивает его; объяснение в свою очередь аналитически развивает понимание». При этом понимание свидетельствует о нашей принадлежности бытию — оно предшествует субъект-объектному отношению; именно понимание стимулирует дальнейшее развитие объяснения, коль скоро не останавливается на достигнутом научном знании, вторгаясь в сферы еще не познанного. Эта диалектическая связь между объяснением и пониманием имеет своим следствием весьма сложное и даже парадоксальное отношение между науками о человеке и науками о природе. Здесь нет ни дуализма, ни монизма». В 1995 г. П. Рикёр выступил в России с циклом лекций,[25] которые дают наглядное представление о том, какие проблемы волнуют мыслителя на исходе XX в.: прежде всего — это целостность человеческой личности, целостность культуры. Акцент в своих последних работах Рикёр делает на проблеме взаимодействия и взаимопонимания людей — их общении, совместном бытии. В центре внимания мыслителя также вопросы этики и политики, и особенно — проблема ответственности в политике. Политика должна научиться говорить на языке морали, — в противном случае, считает Рикёр, нам грозит политический цинизм, смертельно опасный для человечества. «Обращение к этике настоятельно необходимо потому, что в деятельности человека появились новые аспекты. Перед нами встал вопрос об ответственности там, где ранее мы всё отдавали на откуп случаю, и это прежде всего касается сохранения природы — как внешней среды обитания человека, так и его собственной биологической природы, особенно в связи с возросшими возможностями влияния на генетический код, — а также равномерности экономического развития во всемирном масштабе»[26].
В 2000 г. Рикёр публикует объемное произведение «Память, история, забвение», посвящая его памяти только что скончавшейся жены; в качестве эпиграфа к нему он берет высказывание В. Янкелевича: «Тот, кто был, теперь уже не может не быть: отныне это таинственное и непостижимое «был» является причащением перед лицом вечности». Книга написана в том же ключе, что и другие работы философа: в ней исследуются темы, логически вытекающие из предыдущих работ, но не получившие в них должного развития. Так, в книгах «Время и рассказ» и «Я — сам как другой» (1990), где изучаются проблемы повествователь-ности и времени, оказались, как отмечает Рикёр, упущенными вопросы памяти и забвения. Именно эти вопросы освещались им в его недавних статьях, выступлениях на семинарах, коллоквиумах, конференциях. Книга «Память, история, забвение» состоит из трех частей: первая посвящена мнемоническим явлениям, которые исследуются с позиции гуссерлевской феноменологии; во второй, посвященной истории, обсуждаются эпистемологические вопросы исторических наук; третья, где речь идет о забвении, имеет прямое отношение к герменевтике исторической участи людей.
Здесь Рикёр впервые обстоятельно анализирует вопрос о прощении, которое, как он считает, является «эсхатологическим горизонтом всей проблематики памяти, истории и забвения» [27]. При этом прощение не является гарантом счастливой развязки человеческой эпопеи — речь идет о «трудном прощении». Прощение непременно соотносится с виновностью и наказанием: нельзя простить чудовищных преступлений, совершенных в XX в. Однако на смену оскорбленной памяти должна прийти работа духа: надо суметь выйти за рамки оскорбленной памяти и сделать прощение, отбрасывающее прежние заслоны и создающее новую ситуацию, основной и основополагающей политической категорией.
Говоря о сегодняшнем значении философии, изучение и развитие которой стало делом жизни французского мыслителя, он утверждает, что не стоит ждать от философии непосредственных практических результатов. Здесь следует руководствоваться кантовским вопросом: «Что мы должны делать?» В наши дни, считает Рикёр, перед философией стоят следующие важнейшие задачи. Во-первых, философия должна содействовать повышению уровня общественных дискуссий; во-вторых, неся ответственность за качество аргументации и точность политического языка, философия должна учить участников дискуссий правильно употреблять слова и прежде всего такие фундаментальные понятия, как «свобода», «равенство», «справедливость», «демократия»; и, наконец, сама философия должна быть примером толерантности, свободы слова, плюрализма мнений.
Конфликт интерпретаций
Существование и герменевтика
ОЧЕРКИ О ГЕРМЕНЕВТИКЕ
Энрико Кастелли посвящаетсяЦелью данного анализа является изучение путей, открывшихся перед современной философией в результате того, что можно было бы назвать прививкой герменевтической проблематики к феноменологическому методу. Прежде чем предпринять такое исследование, я позволю себе сделать краткий исторический экскурс, в ходе которого (во всяком случае, на завершающем его этапе) должен проясниться смысл понятия существования, — тот его смысл, в котором и найдет свое отражение обновление феноменологии с помощью герменевтики.
1. Истоки герменевтики
Герменевтическая проблематика сложилась задолго до феноменологии Гуссерля; поэтому я и говорю о прививке, которую к тому же следовало бы назвать запоздалой.
Было бы небесполезно напомнить, что герменевтическая проблематика возникла сначала в рамках экзегетики, то есть дисциплины, цель которой состоит в том, чтобы понять текст, — понять, исходя из его интенции, понять на основании того, что он хочет сказать. Если экзегеза и породила герменевтическую проблематику, иными словами, поставила вопрос об интерпретации, то потому, что всякое чтение текста, к тому же связаное с quid[35], с вопросом о том, «с какой целью» он был написан, всегда осуществляется внутри того или иного сообщества, той или иной традиции, того или иного течения живой мысли, которые имеют свои предпосылки и выдвигают собственные требования: так, прочтение греческих мифов стоической школой[36] на основе натурфилософии и этики содержит в
себе герменевтику, значительно отличающуюся от равви-нической интерпретации Торы в Галахе и Аггаде[37]; в свою очередь, апостольское истолкование Ветхого Завета в свете пришествия Христа дает совсем другое, чем у раввинов, прочтение событий, предписаний, персонажей Библии.
Какое отношение эти экзегетические рассуждения имеют к философии? Дело в том, что экзегеза включает в себя теорию знака и значения, как это видно, например, у св. Августина в его сочинении «О христианском учении» («De doct-rina Christiana»). Это означает, что если текст может иметь несколько смыслов, например исторический и духовный, то надо обратиться к гораздо более сложному понятию значения, чем понятие о так называемых однозначных (uni-voques) знаках, которых требует логика доказательства. Наконец, сама работа интерпретации обнаруживает глубокий замысел — преодолеть культурную дистанцию, расстояние, отделяющее читателя от чуждого ему текста, и таким образом включить смысл этого текста в нынешнее понимание, каким обладает читатель.
Начиная с этого момента герменевтика уже не могла оставаться сугубо технической специальностью, Té^vri ерцг-veimxTb которой владели толкователи чудес и пророчеств; она привела к рождению общей проблематики понимания. К тому же никакая более или менее выдающаяся интерпретация не могла сформироваться без заимствований из уже имеющихся в распоряжении данной эпохи способов понимания: мифа, аллегории, метафоры, аналогии и т. п. Об этой связи интерпретации, взятой в строгом смысле как толкование текста, с пониманием, трактуемым в широком смысле как постижение знаков, свидетельствует одно из традиционных значений самого слова «герменевтика», которое восходит еще к Аристотелю, к его труду «Об истолковании» («Пер! Epjirjveiaç»). В самом деле, знаменательно, что у Аристотеля hermenéia не ограничивается одной лишь аллегорией, а относится ко всему означивающему дискурсу; более того, как раз сам означивающий дискурс и есть hermenéia, именно он «интерпретирует» реальность даже тогда, когда в нем сообщается «что-то о чем-то»; hermenéia существует постольку, поскольку высказывание есть овладение реальностью с помощью означивающих выражений, а не сущностью так называемых впечатлений, исходящих из самих вещей.
Таково первейшее, самое что ни на есть изначальное отношение между понятиями интерпретации и понимания; оно устанавливает связь между техническими проблемами истолкования текста и более общими проблемами значения и языка.
Но экзегеза могла привести к появлению общей герменевтики только в конце XVIII — начале XIX века благодаря развитию классической филологии и исторических наук. Философской же проблемой герменевтика становится благодаря Шлейермахеру и Дильтею. Подзаголовок настоящего раздела: «Возникновение герменевтики» — недвусмысленно намекает на известную работу Дильтея 1900 года[38]; задачей Дильтея было придать наукам о духе (Geisteswissenschaften) значение, сопоставимое со значением наук о природе в эпоху господства позитивистской философии. Поставленная таким образом, эта проблема приобретала эпистемологический характер: речь шла о разработке критики исторического познания — столь же основательной, как и кантовская критика познания природы, и о распространении этой критики на разнообразные подходы классической герменевтики, такие, как закон внутренней связности текста, закон контекста, законы географического, этнического и социального окружения и т. п. Но решение этой проблемы превышало возможности обычной эпистемологии: интерпретация, которую Дильтей связывал с письменно фиксированными свидетельствами, является всего лишь одной из областей значительно более широкой сферы понимания, идущего от одной психической жизни к другой. Герменевтическая проблематика, таким образом, выводится из психологии: для человека, существа конечного, понимать означает переноситься в другую жизнь; в таком случае историческое понимание сохраняет все парадоксы историчности: как историческое существо может понимать историю исторически? Эти парадоксы, в свою очередь, отсылают нас к еще более фундаментальным вопросам: каким образом жизнь, выражая себя, может объективироваться? Каким образом, объективиру-ясь, она выявляет значения, поддающиеся обнаружению и пониманию другим историческим существом, преодолевающим свою собственную историческую ситуацию? Центральная проблема, здесь возникающая, к которой мы придем в конце нашего исследования, — проблема отношения между силой и смыслом, между жизнью — носительницей значения, и духом, способным связать их воедино. Если жизнь изначально не является означивающей, то понимание вообще невозможно; но чтобы понимание могло состояться, не следует ли перенести в саму жизнь ту логику имманентного развития, которую Гегель назвал Понятием? Не стоит ли, создавая философию жизни, идти окольным путем, тайно пользуясь всеми ресурсами философии духа? Вот главное затруднение, способное объяснить то, что именно в феноменологии мы ищем подходящую структуру, или, если обратиться к нашему исходному образу, молодое растение, к которому можно было бы привить герменевтический черенок.
2. Прививка герменевтики к феноменологии
В феноменологии существует два способа обоснования герменевтики.
Есть короткий путь, с которого я начну, и путь длинный, который я попытаюсь пройти до конца. Короткий путь — это путь онтологии понимания, аналогичный пути, избранному Хайдеггеиом. Такую онтологию понимания я называю «коротким путем» потому, что она, отказываясь от рассуждений о методе, сразу переносит себя в план онтологии конечного сущего, чтобы обнаружить здесь понимание уже не как способ познания, а как способ бытия. В эту онтологию понимания не погружаются постепенно, шаг за шагом углубляя методологические возможности истолкования, истории или психоанализа, — туда переносятся внезапно, резко меняя проблематику. Вопрос: при каком условии познающий субъект может понять тот или иной текст или историю? — заменяется вопросом: что это за существо, бытие которого заключается в понимании? Таким образом, герменевтическая проблематика становится областью Аналитики того бытия, Dasein^, которое существует, понимая.
Прежде всего я хочу воздать должное этой онтологии понимания, а уже потом объяснить, почему я предлагаю следовать окольным и более трудным путем, намеченным лингвистическим и семантическим анализом. Я начинаю свое исследование, воздавая должное философии Хайдег-гера, потому что не считаю ее противоречащей моей позиции; иными словами, его Аналитика Dasein не является альтернативной, вынуждающей нас выбирать между онтологией понимания и эпистемологией интерпретации. Предложенный мною длинный путь также ставит своей задачей вывести рефлексию на уровень онтологии, но решаться она будет постепенно, с последовательным учетом требований семантики (§ 3), а потом и рефлексии (§ 4). Сомнение, выраженное мной в конце этого параграфа, относится только к возможности создать непосредственную онтологию, свободную от любого методологического требования, а следовательно, и от проблем интерпретации, теорию которой она сама же и создает. Но именно стремление к такой онтологии руководит предпринятым здесь исследованием и не дает ему увязнуть ни в лингвистической философии типа витгенштейновской, ни в рефлексивной философии неокантианского толка. Мой вопрос определенно звучит так: что происходит с эпистемологией интерпретации, вытекающей из рефлексии об истолковании, историческом методе, психоанализе, феноменологии религии и т. д., когда она соприкасается с онтологией понимания и, если так можно сказать, одушевляется и воодушевляется ею?
Обратимся непосредственно к требованиям этой онтологии понимания.
Чтобы лучше понять смысл предлагаемой ею революции в мышлении, надо разом перенестись в конечный пункт движения, идущего от «Логических исследований» Гуссерля к труду Хайдеггера «Бытие и время», и только потом рискнуть задаться вопросом о том, что же в феноменологии Гуссерля оказало решающее влияние на эту революцию. При этом радикальнейшим образом надо рассмотреть переворачивание самого вопроса, когда на место эпистемологии интерпретации ставится онтология понимания.
Речь идет о том, чтобы вообще отказаться от того способа, каким ставит вопросы теория познания (erkenntnistheoretisch), а следовательно, отказаться и от мысли, будто герменевтика является методом, способным бороться на равных с методом наук о природе. Разрабатывать метод понимания значит все еще оставаться в рамках предположений об объективном познании и разделять предрассудки кантианской теории познания. Надо решительно выйти из заколдованного круга субъект-объектной проблематики и задаться вопросом о бытии. Но чтобы задаться вопросом о бытии вообще, надо сначала поставить вопрос о «здесь-бы-тии» всякого сущего, о Dasein, то есть о том сущем, которое существует, понимая бытие. В таком случае понимание является уже не способом познания, но способом бытия, бытия такого сущего, которое существует, понимая.
Я абсолютно согласен с таким полным переворачиванием отношений между пониманием и бытием; к тому же это переворачивание реализует самое сокровенное желание Дильтея, поскольку жизнь была для него главным понятием; в самих его трудах историческое понимание не совпадало с изучением природы; отношение между жизнью и ее выражениями было, скорее, общим корнем двойственного отношения человека к природе и к истории. Если следовать этой мысли, то задача заключается не в том, чтобы укрепить историческое познание перед лицом познания природы, а в том, чтобы, углубляясь в анализ научного познания, взятого в самом общем виде, дойти до связи исторического бытия с совокупным бытием, связи, которая была бы более изначальной, чем субъект-объектное отношение, лежащее в основании теории познания
Какую помощь может оказать феноменология Гуссерля, если герменевтическую проблематику сформулировать в этих онтологических терминах? Вопрос побуждает нас от Хайдеггера снова вернуться к Гуссерлю и переинтерпретировать последнего в хайдеггеровских понятиях. Очевидно, что, возвращаясь назад, мы прежде всего встретимся с поздним Гуссерлем, Гуссерлем эпохи «Кризиса»[40]; именно у позднего Гуссерля следует прежде всего искать феноменологическое обоснование этой онтологии. Вклад Гуссерля в герменевтику двойствен: с одной стороны, именно в последней фазе феноменологии критика «объективизма» доведена до логического конца; эта критика объективизма касается герменевтической проблематики не только опосредованно, коль скоро она оспаривает претензию эпистемологии естественных наук дать гуманитарным наукам единственную методологически пригодную модель, но также и непосредственно, поскольку она ставит под вопрос дильтеевский замысел дать наукам о духе (Geisteswissenschaften) метод столь же объективный, как и метод наук о природе. С другой стороны, поздняя феноменология Гуссерля соединяет критику объективизма с позитивными разработками, пролагающими путь онтологии понимания: эта новая проблематика имеет темой Lebenswelt, «жизненный мир», то есть пласт опыта, предшествующий субъект-объектному отношению, который дал всем разновидностям неокантианства их направляющую тему.
Итак, поздний Гуссерль вовлечен в это разрушительное предприятие, нацеленное на замену онтологии понимания эпистемологией интерпретации; что касается деятельности раннего Гуссерля — от «Логических исследований» до «Картезианских размышлений», то она весьма сомнительна. Конечно, именно он проложил путь, обозначая субъект как интенциональный полюс, как носитель намерения и давая в качестве коррелята этому субъекту не природу, а область значений. Если рассматривать раннюю феноменологию ретроспективно, исходя из позднего Гуссерля и особенно из Хайдеггера, то первым бросается в глаза опровержение объективизма, поскольку то, что она называет феноменами, является как раз коррелятами ин-тенциональной жизни, единицами значения, вытекающими из этой интенциональной жизни. Как бы то ни было, ранний Гуссерль только реконструировал новый идеализм, близкий к неокантианству, с которым сам же боролся: редукция тезиса о мире на деле является сведением вопроса о бытии к вопросу о смысле бытия; смысл бытия, в свою очередь, сведен к простому корреляту субъективных способов видения.
В конечном счете, теория понимания создается именно вопреки раннему Гуссерлю, она поочередно направлена против тенденций платонизма и идеализма в его теории значения и интенциональности. И если поздний Гуссерль обращается к этой онтологии, то только в той мере, в какой его замысел редукции бытия потерпел неудачу, соответственно, в той мере, в какой конечный результат феноменологии отклонился от ее первоначального проекта; именно вопреки самой себе феноменология ставит на место идеалистического субъекта, замкнутого в собственной системе значений, живое существо, имеющее извечным горизонтом всех своих намерений мир, этот мир.
Так оказывается расчищенным поле значений, предшествующих конституированию образа математизированной природы, какой мы ее себе представляем со времен Галилея, — поле значений, предшествующее, если иметь в виду познающего субъекта, объектности (l'objectivité). До объектности существует горизонт мира; до субъекта теории познания существует действительная жизнь, которую Гуссерль иногда называет анонимной — не потому, что тем самым он возвращается к кантовскому безличному субъекту, а потому, что субъект, располагающий объектами, сам является производным от действительной жизни.
Мы видим, насколько радикально здесь стоят проблемы понимания и истины. Вопрос об историчности не является более вопросом об историческом познании, понятом как метод; речь идет о способе, каким существующий «существует вместе с» существующими: понимание в науках о духе не является более копией естественнонаучного объяснения, оно имеет отношение к способу бытия вблизи бытия, предшествующего встрече с отдельными сущими. Таким образом, способность жизни свободно отдаляться от самой себя, трансцендировать саму себя, становится структурой человека как существа конечного. Если историк может соизмерять себя с объектом, уравнивать себя с познанным, то это потому, что он и его объект оба являются историческими. Уяснение этой историчности предшествует всякой методологии. То, что как предел стояло перед наукой: признание историчности бытия, — превращается в конституирование бытия; то, что было парадоксом: принадлежность интерпретатора своему объекту, — становится онтологической чертой.
Такова революция, приведшая к онтологии понимания; понимание становится аспектом «проекта» Dasein и его «открытости бытию». Вопрос об истине не является более вопросом о методе, это — вопрос о явлености бытия для сущего, чье существование заключается в понимании бытия.
Как бы ни была привлекательна эта фундаментальная онтология, я, однако, предлагаю исследовать другой путь, иным образом сочленить герменевтическую проблематику с феноменологией. Чем вызвано это отступление от Аналитики Dasein? Здесь имеются две причины: несмотря на всю радикальность постановки проблем Хайдеггером, вопросы, которые явились поводом для нашего исследования, не только остались неразрешенными, но и были потеряны из виду. Каким инструментом воспользоваться, спрашиваем мы, для осуществления экзегезы, то есть для понимания текстов? Как обосновать исторические науки перед лицом наук о природе? Как уладить спор между соперничающими друг с другом интерпретациями? Эти проблемы, собственно, не рассматриваются в фундаментальной герменевтике, и делается это намеренно: герменевтика эта имеет целью не их разрешение, а их устранение; к тому же Хайдеггер не хотел анализировать никакую отдельную проблему, касающуюся понимания того или иного сущего, — он хотел перевоспитать наш глаз и переориентировать наш взгляд; он хотел, чтобы мы подчинили историческое познание онтологическому пониманию как некую вторичную форму, производную от формы первичной. Но он не дал нам никакого средства для того, чтобы выявить, в каком смысле собственно историческое понимание является производным от этого первичного понимания. Не лучше ли будет, если отныне мы начнем исходить из производных форм понимания и в них самих отыскивать признаки того, что говорит об их производности? Это означает, что точка отсчета находится там, где осуществляется понимание, то есть в плоскости языка.
Это первое замечание влечет за собой и второе: чтобы поворот от эпистемологического понимания к понимающему сущему стал возможен, надо сначала непосредственно, без предварительной эпистемологической проработки, описать специфическое бытие Dasein, каким оно конституировано в себе самом, и потом вновь найти понимание как один из способов бытия. Трудность перехода от понимания как способа познания к пониманию как способу бытия заключается в следующем: понимание, которое есть результат Аналитики Dasein, является пониманием, через которое и в котором это бытие понимает себя как бытие. Не в самом ли языке опять надо искать указания на то, что понимание является способом бытия?
Эти два возражения содержат в себе вместе с тем и позитивное предложение — заменить короткий путь Аналитики Dasein на длинный путь, начатый анализом языка; идя таким путем, мы будем постоянно сохранять контакт с дисциплинами, которые пытаются методически осуществлять интерпретацию, и будем сопротивляться попытке отделить истину, свойственную пониманию, от метода, используемого дисциплинами, исходящими из истолкования. Итак, если новая проблематика существования и может быть выработана, то начинать надо с семантического выяснения понятия интерпретации, общего для всех герменевтических дисциплин, на его основе. Эта семантика будет концентрироваться вокруг центральной темы — темы значений с множественным, многозначным, или, скажем, символическим смыслом (эквивалентность данных определений будет показана в дальнейшем).
Сразу же поясню свой подход к вопросу о существовании через эту семантику: просто семантическое выяснение остается «повисшим в воздухе» до тех пор, пока не будет показано, что понимание многозначных, или символических, выражений является моментом самопонимания человека; семантический подход будет, таким образом, связан с рефлексивным. Но субъект, который, интерпретируя знаки, интерпретирует себя, больше не является Cogi-to[1]: это — существующий, который через истолкование своей жизни открывает, что он находится в бытии до того, как полагает себя и располагает собой. Так герменевтика открывает способ существования, который от начала и до конца остается интерпретированным бытием. Одна только рефлексия, отменяя себя как рефлексию, может привести к онтологическим корням понимания. Но как раз это и происходит в языке и в движении рефлексии. Таков тяжкий путь, какой нам предстоит пройти.
3. Семантический план
Итак, в языке и только в языке выражается всякое понимание — оптическое или онтологическое. Поэтому не будет напрасным искать именно в семантике ось соотнесения для всей совокупности герменевтического поля. Экзегеза
уже приучила нас к мысли о том, что один и тот же текст имеет несколько смыслов, что смыслы эти наслаиваются друг на друга, что духовный смысл может быть «передан» (translata signa y св. Августина) историческим или буквальным смыслом путем их приращения; Шлейермахер и Диль-тей в равной мере научили нас рассматривать литературные тексты, документальные свидетельства и памятники как письменно зафиксированные выражения жизни; истолкование проделывает путь, обратный этой объективации жизненных сил в психических, а затем и в исторических связях; эта объективация и эта фиксация образуют другую форму передачи смысла. Ницше, со своей стороны, трактует ценности как выражения силы или слабости воли к власти, которые подлежат интерпретации; более того, у него как раз сама жизнь и является интерпретацией; таким образом, философия становится интерпретацией интерпретаций. Наконец, Фрейд рассмотрел под видом «работы сновидения» цепь поступков, которые знаменательны тем, что «транспонируют» (Entstellung) скрытый смысл, подвергают его искажению, которое одновременно и выявляет и прячет скрытый смысл в смысле явном; он проследил разнообразные проявления этого искажения в культуре, искусстве, морали, религии и тем самым предложил истолкование культуры, весьма сходное с ницшеанским. Не лишено смысла, если мы попытаемся очертить то, что можно было бы назвать семантическим ядром всякой герменевтики, будь она общей или частной, фундаментальной или специальной. Представляется, что общий элемент, присутствующий всюду — от экзегезы до психоанализа, — это определенная конструкция смысла, которую можно было бы назвать двузначной или многозначной; ее роль всякий раз (хотя и несходным образом) состоит в том, чтобы показывать, скрывая. И я полагаю, что этот анализ языка сосредоточивается на семантике показанного-скрытого, на семантике многозначных выражений.
Исследовав ранее вполне определенный сектор этой семантики, а именно язык признания, который конституирует символику зла[8], я предлагаю эти многозначные выражения называть символизмом. Тем самым я придаю слову «символ» более узкий смысл, чем те авторы, которые, как Кассирер, называют символическим всякое постижение реальности с помощью знаков — от восприятия, мифа, искусства до науки, но вместе с тем и смысл более широкий, чем те, которые, исходя из латинской риторики или неоплатонической традиции, сводят символ к аналогии. Я называю символом всякую структуру значения, где один смысл — прямой, первичный, буквальный — означает одновременно и другой смысл — косвенный, вторичный, иносказательный, — который может быть понят лишь через первый. Этот круг выражений с двойным смыслом и образует собственно герменевтическое поле.
В связи с этим понятие интерпретации получает вполне определенное значение; я предлагаю придать ему такое же широкое толкование, что и символу; интерпретация, скажем мы, это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом, в выявлении уровней значения, заключенных в буквальном значении; я сохраняю, таким образом, начальную ссылку на экзегезу, то есть на интерпретацию скрытых смыслов. Так символ и интерпретация становятся соотносительными понятиями: интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов.
Это двойное ограничение семантического поля — со стороны символа и со стороны интерпретации — порождает несколько задач, кратким описанием которых я и ограничусь.
Что касается символических выражений, задача лингвистического анализа кажется мне здесь двойственной: с одной стороны, речь идет о том, чтобы приступить к возможно более пространному и полному перечислению символических форм. Этот индуктивный путь является единственно уместным в начале исследования, потому что вопрос состоит именно в том, чтобы определить структуру, общую для этих различных модальностей символического выражения. Не пытаясь поспешно свести все к единству, здесь следовало бы показать и космические символы, обнаруживаемые феноменологией религии (Ван дер Леув, Морис Леенхардт, Мирче Элиаде[43]), и символы сновидений, истолкованные психоанализом со всеми их эквивалентами в фольклоре, легендах, поговорках, мифах, и поэтиче-
ские образы, опирающиеся на ощущения, зрение, слух и т. д. или использующие символику пространства и времени. Несмотря на их различную укорененность — в олицетворенных ценностях космоса, в сексуальной символике, в чувственной образности, — все эти символы приходят вместе с языком. Нет символики до говорящего человека, хотя сам символ имеет еще более глубокие корни; именно в языке космос, желание, воображение получают возможность быть выраженными; непременно нужно слово, чтобы воспроизвести мир и сделать его священным. Так же и сновидение остается недоступным для всех, пока оно не переведено в план языка, пока не рассказано.
Перечисление модальностей символического выражения требует еще сверх того и критериологии, которая имела бы задачей фиксацию семантической структуры родственных форм, таких, как метафора, аллегория, подобие. Какова функция аналогии в «передаче смысла»? Имеются ли иные, кроме аналогии, способы связать один смысл с другим? Как ввести в эту структуру символического смысла открытые Фрейдом механизмы сна? Можно ли совместить их с уже известными риторическими формами, такими, как метафора и метонимия? Принадлежат ли механизмы деформации, открытые Фрейдом и названные им «работой сновидения», тому же семантическому полю, что и символические процедуры, засвидетельствованные феноменологией религии? Таковы вопросы, касающиеся структуры, которые должна была бы решить критериоло-гия.
Подобная критериология, в свою очередь, неотделима от изучения способов интерпретации. В самом деле, мы определили одно через другое — поле символических выражений и поле способов интерпретации. Проблемы, поставленные символизмом, отражаются, следовательно, в методологии интерпретации. Весьма примечательно, что интерпретация дает место довольно различным, порой прямо противоположным методам. Я коснулся феноменологии религии и психоанализа. Они противостоят друг другу так радикально, как это только возможно. И здесь нет ничего удивительного: интерпретация исходит из многосложного определения символов — из их сверхопределения, как говорит психоанализ; но всякая интерпретация, по определению, обедняет это богатство, эту многозначность и «переводит» символ в соответствии с сеткой прочтения, которая ей свойственна. Задача критериологии как раз и состоит в том, чтобы показать, что форма интерпретации соотносится с теоретической структурой той или иной герменевтической системы. Так, феноменология религии исходит из дешифровки религиозного объекта в ритуале, мифе, веровании; но она делает это, опираясь на проблематику священного, которая определяет ее теоретическую структуру. Психоанализ, напротив, знает только символическое измерение, он занят изучением следов вытесненных желаний; соответственно, в нем принимается во внимание лишь сетка значений, сложившаяся в бессознательном исходя из первичного вытеснения и согласно последующим вкладам вторичного вытеснения. Нельзя упрекать психоанализ за такое сужение: в этом основа его существования. Психоаналитическая теория, названная Фрейдом метапсихо-логией, ограничивает правила дешифровки тем, что можно было бы назвать семантикой желания; психоанализ может найти только то, что ищет, а ищет он «экономическое» значение представлений и аффектов, приведенных в действие во сне, неврозе, искусстве, морали, религии, и он не может найти ничего, кроме замаскированных выражений этих же представлений и аффектов, родственных наиболее архаичным желаниям человека; данный пример на простом семантическом уровне убедительно показывает масштабы философской герменевтики. Она начинается экстенсивным исследованием символических форм и анализом понимания символических структур; продолжается сопоставлением герменевтических стилей и критикой систем интерпретации, соотнося разнообразие герменевтических методов со структурой соответствующих теорий. Этим она готовится исполнить свое предназначение — стать подлинным арбитром в споре интерпретаций, каждая из которых претендует на исчерпывающий характер своих выводов. Показывая, каким образом тот или ной метод выражает собственную теорию, она узаконивает каждый из них в границах именно этой теории. Такова критическая функция данной герменевтики, если рассматривать ее на простом семантическом уровне.
Здесь налицо множество преимуществ. Прежде всего, семантический подход способствует контакту герменевтики с различными широко применяемыми методологиями, без риска отделить ее собственное понятие об истине от понятия о методе. Более того, он обеспечивает внедрение герменевтики в феноменологию на том уровне, где феноменология наиболее уверена в себе, то есть на уровне теории значения, выработанной в «Логических исследованиях». Разумеется, Гуссерль не принял бы идею о неустранимо неоднозначном значении; он недвусмысленно исключает даже саму такую возможность в первом «Логическом исследовании»; поэтому феноменология «Логических исследований» не может быть герменевтической. Но если мы расходимся с Гуссерлем, то только лишь в рамках его теории означивающих выражений; именно здесь существует расхождение, а не на довольно неопределенном уровне феноменологии Lebenswelt. Наконец, перенося дебаты в план языка, я предчувствую, что здесь, на этой общей территории, встречусь с другими современными философскими концепциями; конечно, семантика многозначных выражений противоречит теориям метаязыка, которые хотели бы преобразовать существующие языки в соответствии с идеальными моделями; это столь же реальное противоречие, если иметь в виду гуссерлевский идеал однозначности; напротив, семантика многозначных выражений вступает в плодотворный диалог с учениями, исходящими из «Философских исследований» Витгенштейна и анализа обыденного языка, предпринятого в англосаксонских странах; именно здесь такого рода общая герменевтика пересекается с интересами современной библейской экзегезы, идущей от Бультмана[44] и его школы. Я рассматриваю эту общую герменевтику как вклад в создание масштабной философии языка, отсутствие которой мы сегодня ощущаем. Сегодня мы, люди, располагаем символической логикой, экзегетической наукой, антропологией и психоанализом, которые, быть может, впервые способны охватить вопрос о целостном воссоздании человеческого дискурса. Развитие этих не совпадающих друг с другом дисциплин мгновенно высветило угрожающую дробность этого дискурса. Единство человеческой речи является сегодня проблемой.
4. Рефлексивный план
Предшествующий анализ, посвященный семантической структуре выражений с двойным или множественным смыслом, открывает лишь узкую щель, через которую должна проникнуть философская герменевтика, если она не хочет быть отгороженной от дисциплин, оказывающих методическое содействие интерпретации: экзегетики, истории, психоанализа. Но одного лишь семантического анализа выражений с множественным смыслом недостаточно, чтобы считать герменевтику философской дисциплиной. Лингвистический же анализ, трактующий значения как замкнутое в себе целое, неизбежно возводит язык в абсолют. Такое ги-постазирование языка отрицает фундаментальную интенцию знака — быть пригодным для… то есть, растворяясь в том, что он имеет в виду, выходить за свои пределы. Сам язык как означивающая среда требует соотнесения с существованием.
Признавая это, мы вновь возвращаемся к Хайдеггеру: именно стремление к онтологии ведет к преодолению лингвистического плана; с этим требованием онтология и обращает нас к анализу, которому предстоит оставаться в плену у языка.
Но как реинтегрировать семантику в онтологию и одновременно устоять перед напором возражений, которые мы недавно выдвигали, противопоставляя Аналитике Dasein! Промежуточный этап в движении по направлению к существованию — это рефлексия, то есть связь между пониманием знаков и самопониманием человека. Именно через самопонимание мы имеем шанс познать сущее.
Предлагая связывать символический язык с самопониманием, я надеюсь удовлетворить глубинное требование герменевтики. Всякая интерпретация имеет целью преодолеть расстояние, дистанцию между минувшей культурной эпохой, которой принадлежит текст, и самим интерпретатором. Преодолевая это расстояние, становясь современником текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого он хочет сделать его своим, собственным; следовательно, расширения самопонимания он намеревается достичь через понимание другого. Таким образом, явно или
неявно, всякая герменевтика — это понимание самого себя через понимание другого.
Без колебаний можно сказать, что герменевтика должна быть привита к феноменологии, взятой не только на уровне теории значения, разработанной в «Логических исследованиях», но и на уровне проблематики Cogito, какой она предстает, если идти от «Идей-I»[45] к «Картезианским размышлениям». Но с еще большей уверенностью можно сказать, что привой коренным образом изменяет подвой! Мы уже видели, как внедрение значений с двойственным смыслом в семантическую область вынудило отказаться от идеала однозначности, превознесенного «Логическими исследованиями». Теперь предстоит понять, что, сопрягая многозначные значения с самопознанием, мы глубинным образом трансформируем проблематику Cogito. Отметим сразу же, что именно эта внутренняя перестройка рефлексивной философии подтвердит в дальнейшем то, что благодаря ей мы открываем новое измерение существования. Но прежде чем показать, каким образом Cogito распадается, проследим, как, благодаря герменевтическому методу, оно углубляется и обогащается.
Действительно, задумаемся над тем, что означает «я» самопонимания, когда мы усваиваем смысл психоаналитической интерпретации или смысл истолкованного текста. По правде говоря, смысл этот мы обретаем не до, а после отмеченных операций, хотя, собственно говоря, одно только желание понимать самих себя и направляло изначально это усвоение. Почему так происходит? Почему «я», направляющее интерпретацию, может вернуться к нам лишь как ее результат?
Это происходит по двум причинам: сначала надо отметить, что знаменитое картезианское Cogito, непосредственно схватывающее себя в опыте сомнения, является истиной столь же бесполезной, сколь и неопровержимой; я вовсе не отрицаю, что это — истина; это — истина, сама себя полагающая, и на этом основании она не может быть ни верифицирована, ни дедуцирована; но одновременно она — полагание сущего и деятельности, существования и мыслительной операции; я есть, я мыслю; существовать для меня значит мыслить; я существую, поскольку я мыслю. Но истина эта — бесполезна, она как шаг, за которым не
последует никакого другого, поскольку ego ego Cogito не схвачено самим собой сквозь призму своих объектов, своих произведений… и, в конце концов, своих действий. Рефлексия — это слепая интуиция, если она не опосредована тем, что Дильтей называл объективирующими жизнь выражениями. Обращаясь к другому языку — языку На-бера[46] — можно сказать, что рефлексия есть лишь присвоение нашего акта существования посредством критики, направленной на произведения или акты, являющиеся знаками этого акта существования. Таким образом, рефлексия есть критика, но не в кантовском смысле обоснования знания и долженствования, а в том смысле, что Cogito может быть схвачено только окольным путем — путем расшифровки свидетельств собственной жизни. Рефлексия — это присвоение нашего усилия существовать и нашего желания быть через произведения, обнаруживающие это усилие и это желание.
Но Cogito — не только бесполезная, но в равной мере и неопровержимая истина; добавим еще, что оно — как бы пустое место, извечно заполняемое ложным Cogito; действительно, мы уже уяснили с помощью всех экзегетических дисциплин, и в частности психоанализа, что так называемое непосредственное сознание является прежде всего «ложным сознанием»; Маркс, Ницше и Фрейд научили нас обнаруживать его уловки. Теперь предстоит соединить критику ложного сознания с любым обнаружением субъекта Cogito в документальных свидетельствах vero жизни; философия рефлексии должна быть полностью противопоставлена философии сознания.
Этот второй мотив присоединяется к предшествующему: дело не только в том, что «я» может схватить себя лишь в объективирующих его выражениях жизни, но и в том, что истолкование текста сознания наталкивается на изначально «ложные интерпретации» ложного сознания. А герменевтика появляется там, где — мы это знаем со времен Шлейермахера — прежде имела место ложная интерпретация.
Таким образом, герменевтика должна быть вдвойне косвенной: во-первых, потому, что существование подтверждается лишь документальными свидетельствами жизни,
и, во-вторых, потому, что сознание изначально является ложным сознанием, и через корректирующую его критику необходимо восходить от непонимания к пониманию.
В конце этого второго этапа, названного нами рефлексивным, я хотел бы показать, каким образом его выводы укрепляют результаты первого этапа, который мы назвали семантическим.
На первом этапе мы признали факт существования языка, несводимого к однозначным значениям. Так, действительно, признание виновной совести выражается в символике запятнанности, греха, culpa[13]; действительно, вытесненное желание выражает себя в символике, которая подтверждает свою устойчивость в снах, поговорках, легендах, мифах; действительно, священное выражается в символике космических элементов — неба, земли, воды, огня. Но философское употребление этого двойственного языка вызывает возражение со стороны логика, согласно которому двойственный язык может опираться лишь на ложные аргументы. Обоснование герменевтики может быть радикальным лишь в том случае, если искать в самой природе рефлексивного мышления принцип логики двойного смысла. Однако тогда логика эта является уже не формальной, а трансцендентальной; она вырабатывается на уровне возможного: речь идет не об условиях объективности природы, а об условиях присвоения нашего желания быть; именно в этом смысле свойственная герменевтике логика двойного смысла может быть названа трансцендентальной. Если же указанные дебаты не будут перенесены на этот уровень, то вскоре возникнет безвыходная ситуация: напрасно будем мы пытаться удерживать спор на чисто семантическом уровне и наряду с однозначными значениями признавать и значения двойственные; различение двойственности двух родов — двойственности, возникающей от возрастания смысла, с которой имеют дело экзегетические науки, и двойственности, связанной с неясностью смысла, которой занимается логика, — не может быть обосновано в одной семантической плоскости. Не может существовать двух логик на одном и том же уровне. Лишь проблематика рефлексии узаконивает семантику двойственного смысла.
5. Экзистенциальный план
В конце пути, приведшего нас от проблематики языка к проблематике рефлексии, я хотел бы показать, как можно, идя в обратном направлении, вернуться к проблематике существования. Онтология понимания, непосредственно вырабатываемая Хайдеггером, совершающим внезапный, резкий поворот, когда на место изучения способа познания ставится изучение способа существования, могла бы быть для нас, действующих в обход и постепенно, лишь горизонтом, то есть скорее целью, чем фактом. Обособленная онтология — вне нашей досягаемости: мы выделяем интерпретированное бытие только в движении интерпретации. Согласно неизбежному «герменевтическому кругу»[48], который нас научил очерчивать сам Хайдеггер, онтология понимания остается включенной в методологию интерпретации. Более того, только в конфликте соперничающих друг с другом герменевтик мы оказываемся способными выявлять те или иные грани интерпретированного бытия: унифицированная онтология так же недоступна нашему методу, как и онтология обособленная; любая герменевтика всякий раз открывает определенный аспект существования, что и обосновывает ее как метод.
Это двойное предупреждение не должно, однако, отвлекать нас от предпринятого выявления онтологических оснований семантического и рефлексивного анализа. Более того; отмеченная и раскритикованная нами онтология — это тоже в своем роде онтология.
Мы будем идти по первому пути, предложенному нам философской рефлексией о психоанализе. Поступая так, можем ли мы чего-либо достичь, если иметь в виду фундаментальную онтологию? Да, двух вещей: сначала подлинного устранения классической проблематики субъекта как сознания, потом восстановления проблематики существования как желания.
Действительно, именно через критику сознания психоанализ идет к онтологии. Интерпретация сновидений, фантазий, мифов, символов, которую он нам предлагает, всегда в той или иной мере является оспариванием претензии сознания быть источником смысла. Борьба против нарциссизма — фрейдовского эквивалента ложного Cogito —
ведет к открытию того, что язык укоренен в желании, в жизненных импульсах. Философ, посвятивший себя этому трудному делу, находит подлинный путь к субъективности, не признавая ее, однако, источником смысла; отказ этот, конечно же, является еще одной перипетией рефлексии, но он необходим, чтобы привести к реальной утрате наиболее архаичного объекта — «я». Тогда надо сказать о субъекте рефлексии то, что Евангелие говорит о душе: чтобы спасти душу, ее надо утратить. Психоанализ, как таковой, говорит об утраченных объектах, которые обретаются вновь лишь символически; рефлексивная философия должна использовать это открытие в своих собственных целях: надо утратить Я, чтобы обрести «я». Вот почему психоанализ если и не является философской дисциплиной, то по крайней мере дисциплинирует философа; бессознательное принуждает философа трактовать обретенные значения в плане, смещенном по отношению к непосредственному субъекту; именно этому учит фрейдовская топология: наиболее архаичные значения образуются в «месте» смысла, но это не то место, где существует непосредственное сознание. Реализм бессознательного, топографическая и экономическая трактовка представлений, фантазий, симптомов и символов оказываются, в конце концов, условием герменевтики, освобожденной от предрассудков egolb.
Таким образом, Фрейд призывает нас по-новому поставить вопрос об отношении между значением и желанием, между смыслом и энергией, то есть, в конечном счете, между языком и жизнью. Эта проблема уже была сформулирована в «Монадологии» Лейбница: каким образом представление сопрягается с желанием? Это было также и проблемой третьей книги «Этики» Спинозы: каким образом адекватные идеи выражают conatus^, активное усилие, которое нас конституирует? Психоанализ по-своему подводит нас к этому вопросу: каким образом порядок значений включается в порядок жизни? Это обратное движение — от смысла к желанию — свидетельствует о возможности восхождения от рефлексии к существованию. Теперь подтверждается справедливость использованного нами выше выражения, которое когда-то являлось предвосхищением: через понимание самих себя, сказали мы, мы присваиваем себе смысл нашего желания быть или нашего усилия суще-
ствовать. Теперь мы можем сказать, что существование есть желание и усилие. Мы называем его усилием, чтобы подчеркнуть в нем позитивную энергию и динамизм; мы называем его желанием, чтобы указать на нехватку и потребность: Эрос — сын Пороса и Пении[17]. Таким образом, Cogito не является больше тем претенциозным актом, которым оно было вначале — я имею в виду его претензию полагать самого себя: оно и без того уже помещено в бытие.
Но если проблематика рефлексии может и должна преодолеть себя в проблематике существования, как показывает философское размышление о психоанализе, то осуществляется это всегда внутри интерпретации и посредством интерпретации: желание как основа смысла и рефлексии раскрывается в расшифровке уловок желания; я не могу говорить о самостоятельном существовании желания вне процесса интерпретации; оно всегда является интерпретированным; я его разгадываю в загадках сознания, но я не могу схватить его как таковое, потому что существует угроза породить мифологию влечений, как это иногда случается в примитивных представлениях о психоанализе. Именно благодаря интерпретации Cogito открывает за собою нечто такое, что является археологией субъекта. Существование просвечивает в этой археологии, однако оно остается включенным в движение расшифровки, которое само же себя и порождает.
Другие герменевтические методы вынуждают нас, правда иным способом, осуществлять те же операции, что и понятый в качестве герменевтики психоанализ. Открытое психоанализом существование является существованием желания — это существование в качестве желания и обнаруживается главным образом в археологии субъекта. Другая герменевтика, например феноменология духа, говорит о другом местоположении источника смысла — не за субъектом, а перед ним. Я с готовностью говорю о том, что есть герменевтика Бога, который приидет, герменевтика Царствия, которое грядет; это — герменевтика профетии сознания. Именно она, в конечном счете, лежит в основании «Феноменологии духа» Гегеля. Я ссылаюсь на нее здесь потому, что ее способ интерпретации диаметрально противоположен фрейдовскому. Психоанализ предложил нам регрессивное движение к архаике, феноменология же духа
предлагает нам движение, согласно которому каждый образ находит свой смысл не в том, что ему предшествует, а в том, что следует за ним; таким образом, сознание извлекается из самого себя и направляется вперед, к грядущему смыслу, каждый этап движения к которому одновременно устраняется и сохраняется в последующем этапе. Таким образом, телеология субъекта противопоставляется археологии субъекта. Однако для нас важно то, что телеология эта, по той же причине, что и фрейдовская археология, конституируется лишь в движении интерпретации, где один образ понимается через другой; дух реализует себя лишь в этом переходе от одного образа к другому: он есть сама диалектика образов, вырывающая субъект из его детства, из его археологии. Вот почему философия остается герменевтикой, то есть прочтением смысла, скрытого в тексте за явным смыслом. Задача герменевтики — показать, что существование достигает слова, смысла, рефлексии лишь путем непрерывной интерпретации всех значений, рождающихся в мире культуры} существование становится самим собой — человечески зрелым существованием, — лишь присваивая себе тот смысл, который пребывает сначала «вовне», в произведениях, институтах, памятниках культуры, где объективируется жизнь духа.
В том же онтологическом горизонте следует изучать феноменологию религии Ван дер Леува и Мирче Элиаде. Как феноменология она есть всего лишь описание ритуала, мифа, верования, то есть форм поведения, языка и чувствования, с помощью которых человек устремляется к «священному». Но если феноменология может оставаться на этом описательном уровне, то включение в работу интерпретации рефлексии ведет дальше: понимая себя в знаках священного и посредством их, человек радикальнейшим образом, насколько это возможно, отказывается от самого себя; эта утрата себя значительнее той, к которой ведут психоанализ и гегелевская феноменология, берем ли мы их по отдельности или в совместимом усилии; археология и телеология обнаруживают arche и telos[18], которыми субъект может овладеть, понимая их; но этого не происходит со священным, которое заявляет о себе в феноменологии религии; на уровне символа священное — это альфа всякой археологии и омега всякой телеологии; этими альфой
и омегой субъект не владеет; священное взывает к человеку, и в этом воззвании заявляет о себе как то, что распоряжается его существованием, поскольку полагает его абсолютно — и как усилие, и как желание быть.
Так радикально противоположные герменевтики, каждая по-своему, продвигаются в направлении онтологических корней понимания. Каждая по-своему говорит о зависимости «я» от существования. Психоанализ демонстрирует эту зависимость в археологии субъекта, феноменология духа — в телеологии образов, феноменология религии — в знаках священного.
Таковы онтологические следствия интерпретации.
Предложенная здесь онтология неотделима от интерпретации; она остается в круге, образованном совместной работой интерпретации и интерпретированным бытием; однако онтология все-таки не одерживает окончательной победы; онтология даже не наука, поскольку не избегает риска интерпретации, как не избежала она вовлеченности в ту междоусобную борьбу, которую ведут друг с другом различные герменевтики.
Тем не менее, вопреки своей непрочности эта одновременно воинственная и поверженная онтология правомочна утверждать, что соперничающие друг с другом герменевтики — не просто «языковые игры», как если бы их тоталитарные притязания противостояли одно другому лишь в плане языка. Для лингвистической философии все интерпретации одинаково законны в границах теории, которая обосновывает правила чтения; эти одинаково законные интерпретации остаются «языковыми играми», правила которых можно менять произвольно, пока не станет ясно, что каждая из них обоснована той или иной экзистенциальной функцией; так, например, психоанализ имеет свое основание в археологии субъекта, феноменология духа — в телеологии, феноменология религии — в эсхатологии.
Можно ли идти дальше? Можно ли соединить эти разные экзистенциальные функции в едином образе, как это пытался сделать Хайдеггер во второй части «Бытия и времени»? Этот вопрос настоящее исследование оставляет нерешенным, но, несмотря на это, он не является безнадежно не разрешимым. В диалектике археологии, телеологии
и эсхатологии онтологическая структура заявляет о своей способности соединять не согласующиеся в лингвистическом плане интерпретации. Но такой связный образ бытия, каким мы являемся и в каком были бы укоренены соперничающие друг с другом интерпретации, дан только в этой диалектике интерпретаций. В этом отношении герменевтика является непреодолимой. Лишь герменевтика, имеющая дело с символическими образами, может показать, что эти различные модальности существования принадлежат одной и той же проблематике, потому что в конечном счете именно наиболее богатые символы обеспечивают единство этих многочисленных интерпретаций; они одни несут в себе все векторы — регрессивные и прогрессивные, разъединяемые различными герменевтиками. Истинные символы являются главной частью всех герменев-тик, тех, что нацелены на возникновение новых значений, и тех, что заняты возрождением архаических фантазмов. Именно в этом смысле мы уже во введении утверждали, что существование, о котором может говорить герменевтическая философия, всегда остается интерпретированным существованием; что только в работе интерпретации оно открывает многочисленные формы зависимости «я» — от желания, выявленного в археологии субъекта, от духа, выявленного в его телеологии, от священного, выявленного в его эсхатологии. Развивая археологию, телеологию и эсхатологию, рефлексия уничтожает себя как таковую.
Таким образом, онтология является землей обетованной для философии, которая начинает с языка и рефлексии; но, подобно Моисею, говорящий и рефлектирующий субъект может узреть ее только перед лицом смерти.
I Герменевтика и структурализм
Структура и герменевтика
Тема настоящего коллоквиума — герменевтика и традиция; примечательно, что обе они ставят вопрос об определенном способе жизни, оперировании временем: временем трансмиссии, временем интерпретации.
Итак, у нас есть ощущение — и оно останется таковым, пока не будет вполне обосновано, — что два этих времени опираются одно на другое, взаимно принадлежа друг другу. Мы понимаем, что интерпретация имеет свою историю и что история эта является составной частью самой традиции; мы не интерпретируем неизвестно где; мы интерпретируем, чтобы высветить, продлить и тем самым поддержать жизнь традиции, в которой сами пребываем. Это означает, что время интерпретации некоторым образом принадлежит времени традиции. И, напротив, традиция, понятая даже как перемещение депозитного вклада, остается мертвой традицией, если не является непрерывной интерпретацией этого вклада: «наследие» есть не запечатанный пакет, который, не вскрывая, передают из рук в руки, но сокровищница, из которой можно черпать пригоршнями и которая лишь пополняется в процессе этого исчерпания. Всякая традиция живет благодаря интерпретации — такой ценой она продлевается, то есть остается живой традицией.
Но взаимная принадлежность этих двух времен друг другу не очевидна: каким образом интерпретация вписывается во время традиции? Почему традиция живет лишь посредством и внутри времени интерпретации?
Я ищу третье, глубинное, время, которое было бы вписано в богатство смысла и сделало бы возможным взаимное пересечение этих двух временностей. Это будет временем самого смысла. Это будет как бы груз времени, пер-
воначально привнесенный рождением смысла. А отяго-щенность временем делает возможным выпадение смысла в осадок и — одновременно — его прояснение в ходе интерпретации; короче говоря, она делает возможной борьбу этих двух временностей: той, которая что-то передает, — и другой, с которой что-то начинается.
Но где же искать это время смысла? И особенно — как его достичь?
В своей рабочей гипотезе я исхожу из того, что эта отя-гощенность временем имеет нечто общее с семантическим конституированием того, что в двух других докладах на этом же коллоквиуме [53] я назвал символом и определил через способность обретения двойного смысла: символ, говорил я, с семантической точки зрения устроен так, что он сообщает смысл посредством смысла: первичный, буквальный, земной, зачастую физический смысл в нем отсылает к фигуральному, духовному, зачастую экзистенциальному, онтологическому смыслу, который никак не может быть дан вне этого косвенного обозначения. Символ заставляет задуматься, он зовет к интерпретации именно потому, что больше говорит, чем не говорит, и никогда не перестает побуждать к говорению. Сегодня моя задача — выявить временной предел этого семантического анализа. Между приращением смысла и отягощенностью временем должна иметься сущностная связь: именно эту сущностную связь я и хочу обсудить в настоящем докладе.
Еще одно уточнение: я говорю о времени символов, а не о времени мифов. Как я уже отмечал в одной из работ[54], миф вовсе не исчерпывает семантическую структуру символа. К тому же я хочу здесь напомнить об основных причинах, в силу которых миф должен быть подчинен символу. Прежде всего, миф — это повествовательная форма: он повествует о событиях начала и конца, принадлежащих фундаментальному — наличному (en ce temps-là) — времени; это время соотнесения придает дополнительное измерение историчности, которой нагружен символический смысл и которая должна быть рассмотрена в качестве отдельной проблемы. С другой стороны, связь мифа с риту-
алом и совокупностью установлений отдельного общества включает его в социальную ткань и до некоторой степени скрывает временной потенциал символов, которые он вводит в игру. Далее будет показана важность этого отличия; определенная социальная функция мифа, на мой взгляд, не исчерпывает богатства смысла в его символической углубленности, которым иное мифическое образование сможет вновь воспользоваться в другом социальном контексте. Наконец, литературная обработка мифа дает начало рационализации, ограничивающей возможности означивания символической глубинности мифа. Риторика и умозрение уже начинают делать непроницаемыми символические глубины, а ведь без мифологического начала нет и мифа. По всем этим причинам — превращение в повествовательную форму, соединение с ритуалом и с определенной социальной функцией, мифологическая рационализация — миф уже более не пребывает на символической глубине и не принадлежит тому скрытому времени, которое мы пытаемся обнаружить. Я это показал на примере символики зла; символы, присутствующие в исповедании в грехе, имеют, как мне представляется, три уровня значений: первичный символический уровень запятнанности, греха, cul-ра\ мифический уровень великих повествований о грехопадении и изгнании; уровень мифологических догматов gnose[55] и первородного греха. Опираясь на эту диалектику символа, правда, почерпнутую мной исключительно из анализа семитских и древнегреческих традиций, я пришел к выводу, что запас смысла первичных символов богаче, чем запас, который обеспечивают мифические символы и, тем более, символы, подвергшиеся рационализации со стороны мифологии. Движение от символа к мифу и мифологии — это переход от скрытого времени к времени, исчерпавшему себя. Тогда получается, что традиция, в той мере, в какой она сама движется в нисходящем направлении, — от символа к догматической методологии, находится на пути этого исчерпанного времени; по мере рационализации она начинает передаваться по наследству и подвергается седиментации. Этот процесс можно обнаружить, если сравнить с великими древнееврейскими символами греха фантастические построения гностиков[56], а также христианских антигностиков, касающиеся первородного греха,
которые создаются на том же семантическом уровне — как ответный удар гностической философии. Мифологизируя символ, традиция исчерпывает себя; возрождается же она благодаря интерпретации, которая вновь поднимается к истокам от времени исчерпанного ко времени скрытому, то есть в соотнесении мифологии с символом и его смысловыми резервами.
Но что сказать об этом времени, основополагающем по отношению к двойному времени традиции и интерпретации? И особенно — как его достичь?
В этом сообщении я хотел бы предложить опосредованный подход, обходной путь: я буду исходить из понятий синхронии и диахронии, разработанных в структуралистской школе, и прежде всего в «Структурной антропологии» Леви-Строса. Я вовсе не намерен противопоставлять герменевтику структурализму, сталкивать историчность герменевтики и диахроничность структурализма. Структурализм принадлежит науке, и, если речь идет о научном понимании, я не вижу в настоящее время более строгого и более плодотворного подхода, чем структурализм. Интерпретация символики заслуживает названия герменевтической лишь в той мере, в какой она является составной частью самопонимания и понимания бытия; вне этой работы по присвоению смысла она ничего не значит; в таком своем значении герменевтика является философской дисциплиной. В той мере, в какой структурализм ставит целью дистанцировать, объективировать, отделить от личности исследователя структуру института, мифа, ритуала, в той же мере герменевтическое мышление приближается к тому, что можно было бы назвать «герменевтическим кругом» понимания и веры, — и это препятствует его превращению в науку и определяет его как созерцающее мышление. Стало быть, нет надобности противопоставлять эти два способа понимания; вопрос, скорее, состоит в том, чтобы соединить их как объективное понимание и понимание экзистенциальное (или экзистентное[57]!). Если герменевтика — это этап в работе по присвоению смысла, этап между абстрактной и конкретной рефлексией, если герменевтика — это выявление с помощью мышления смысла, скрытого в символе, то она должна видеть в работе структурной антропологии исключительно под-
держку, а не помеху; присваивать можно лишь то, что прежде в целях изучения держалось на расстоянии. Именно такое объективное рассмотрение я и хочу осуществить с помощью понятий синхронии и диахронии, надеясь привести герменевтику от наивного созерцания к зрелому пониманию.
Мне кажется, было бы правильнее не исходить из «Первобытного мышления»[58], а прийти к нему; «Первобытное мышление» представляет собой конечный этап последовательного процесса обобщения; сначала структурализм не задавался целью полностью определить процесс складывания мышления, даже на его дикарском этапе; он хотел выделить вполне определенную группу проблем, которые, если так можно сказать, укладывались бы в структуралистскую трактовку. «Первобытное мышление» представляет собой некий крайний предел, переход к окончательной систематизации, которая довольно смело предлагает выдвинуть в качестве ложной альтернативы выбор между несколькими способами понимания, осмысления; я уже говорил о том, что это было бы в принципе абсурдным; чтобы, и в самом деле, не попасть в ловушку, необходимо трактовать структурализм как объяснение, поначалу ограниченное, а затем, постепенно, под воздействием самих проблем, расширяющее свои возможности; представление о ценности того или иного метода не может быть отделено от понимания его границ. Как раз для того, чтобы отдать должное этому методу и вместе с тем благодаря ему пополнить собственные знания, я проанализирую его в развитии, исходя из самого его существа, которое не вызывает никаких сомнений, а не основываясь на его конечной стадии, где он, может быть, утрачивает понимание собственных границ.
1. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Известно, что структурализм возникает благодаря применению к антропологии и вообще к наукам о человеке лингвистической модели. У истоков структурализма мы найдем прежде всего Фердинанда де Соссюра и его «Курс об-
щей лингвистики»[59] и, конечно же, собственно фонологическое направление в лингвистике[60] Трубецкого, Якобсона, Мартине[61]. Благодаря им мы становимся свидетелями переворота в отношениях между системой и историей. Согласно историцизму, понимать значит определять генезис, отыскивать предшествующую форму, истоки, смысл эволюции. Для структурализма понимать значит упорядочивать, обнаруживать в данном состоянии систематическую организованность, которая изначально интеллигибельна. Этот переворот начинается с Фердинанда де Соссюра, который в языке (le langage) различает речь (la langue) и слово (la parole). Если под речью понимается совокупность соглашений, принятых социальным целым, чтобы индивиды могли практиковать язык, то под словом — само говорение субъектов; это капитальное различие дает возможность сформулировать три правила, которым в дальнейшем мы будем следовать в их обобщенном виде, оставив в стороне начальную стадию лингвистики.
Прежде всего, о самой идее системы; речь, отделенная от говорящих субъектов, представляет собой систему знаков. Разумеется, Фердинанд де Соссюр не был фонологом; его концепция лингвистического знака как отношения звукового означающего к концептуальному означаемому в большей степени семантическая, нежели фонологическая. Тем не менее для него предметом лингвистической науки является система знаков — следствие взаимной обусловленности, существующей между звуковым рядом означающего и концептуальным рядом означаемого. В этой взаимообусловленности главными являются не термины, взятые каждый по отдельности, а разделяющие их промежутки; именно различия между звуком и смыслом и отношения между ними образуют систему знаков речи. В таком случае становится понятным, что каждый знак произволен как изолированное отношение смысла к звуку, но что все они как знаки одной и той же речи образуют систему: «в языке нет ничего, кроме различий» [62].
Эта ключевая идея главенствует во второй теме, непосредственно касающейся отношения между диахронией и синхронией. В самом деле, система различий возникает
только там, где имеет место сосуществование элементов, в корне отличное от их последовательной смены друг друга. Так рождается синхроническая лингвистика как наука о состояниях, взятых в их систематических проявлениях, отличная от лингвистики диахронической, или науки об эволюциях, происходящих в системе. Как видим, история вторична и выступает в качестве нарушающего фактора системы. Более того, в лингвистике эти нарушения менее интеллигибельны, чем состояния системы. «Никогда, — пишет Соссюр, — система не изменялась непосредственно; сама по себе она неподвижна; изменению подвергаются лишь некоторые ее элементы, несмотря на то, что они связаны в единое целое»[63]. История несет ответственность скорее за нарушение, чем за изменения, имеющие знаковый характер; Соссюр вполне определенно говорит на этот счет: «Факты синхронического плана суть отношения; факты диахронического плана суть события в системе». Отсюда следует, что лингвистика изначально синхронична, а диахрония сама по себе интеллигибельна только в качестве сравнения предшествующих и последующих состояний системы; диахрония — компаративна, и как таковая она зависит от синхронии. В конечном счете, события могут постигаться как свершившиеся в системе, то есть как обретшие в ней регулярный характер; диахронический факт — это инновация, вытекающая из слова (одного или нескольких) и «становящаяся фактом языка»[64].
Центральной проблемой нашего анализа будет вопрос о том, в какой мере лингвистическая модель отношений между синхронией и диахронией применима для постижения историчности, свойственной символам. Отметим сразу же: мы подойдем к критической отметке, когда непосредственно столкнемся с подлинной традицией, то есть с серией повторяющихся интерпретаций, которые не могут уже более рассматриваться как вторжение беспорядка в устойчивую систему.
Обратите внимание: я не предписываю структурализму, как это делают некоторые его критики, простого противопоставления диахронии и синхронии. В этом отноше-
нии Леви-Строс прав, когда в пику своим хулителям[65] ссылается на объемную статью Якобсона «Принципы исторической фонологии», где автор разводит в разные стороны синхронию и статику[66]. Здесь важно не противостояние диахронии и синхронии, а подчиненность диахронии синхронии; эта подчиненность и станет проблемой в герменевтическом постижении; диахрония обладает означивающей способностью лишь в отношении к синхронии, но никак не наоборот.
Вот, наконец, и третий принцип, который в не меньшей степени относится к нашей проблеме интерпретации и времени интерпретации. Он, по существу, был выведен фонологами, но его присутствие уже ощущается в рамках сос-сюровского противопоставления языка и слова: лингвистические законы имеют отношение к бессознательному уровню, а значит к нерефлексивному, неисторическому слою духа; однако это не фрейдовское бессознательное влечения, желания, обладающих способностью к символизации; это скорее кантовское категориальное, комбинаторное бессознательное; это конечный порядок — или конечность порядка, который сам этого не осознает. Я говорю о кантовском бессознательном, имея в виду исключительно его организацию, поскольку речь здесь идет скорее о категориальной системе безотносительно к мыслящему субъекту; вот почему структурализм как философская концепция будет, по существу, развивать своего рода анти-реф-лексивный, анти-идеалистический и анти-феноменологический интеллектуализм; этот бессознательный дух, может быть, подобен самой природе; может быть, он и есть сама природа. С этим мы столкнемся в «Первобытном мышлении»; но уже в 1956 году, ссылаясь на правило экономии в толковании Якобсона, Леви-Строс писал: «Утверждение о том, что наиболее экономным является то объяснение, которое во всех своих аспектах ближе к истине, в конечном счете, основано на постулируемой идентичности законов мира и законов мышления»[67].
Этот третий принцип нас интересует в не меньшей степени, чем второй, поскольку он устанавливает между на-
блюдателем и системой отношение, которое само по себе не является историческим. Понимать не значит овладевать смыслом. В противоположность тому, что говорят Шлейер-махер в «Герменевтике и критике» (1828), Дильтей в своей объемной статье «Возникновение герменевтики» (1900) и Бультман в «Проблемах герменевтики» (1950), «герменевтического круга» не существует; отношение понимания не имеет исторического характера. Отношение объективно, оно не зависит от наблюдателя; именно поэтому структурная антропология — наука, а не философия.
2. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СТРУКТУРНУЮ АНТРОПОЛОГИЮ
Это перенесение можно проследить в трудах Леви-Строса, опираясь на его статьи методологического характера, опубликованные в «Структурной антропологии». Уже Мосс[68] отметил: «Социология, разумеется, преуспела бы гораздо больше, следуя во всем примеру лингвистов»[69]. Однако Леви-Строс признает подлинной точкой отсчета свершившуюся в лингвистике фонологическую революцию: «Она не только обновила перспективы лингвистики: столь глубокое преобразование не могло ограничиться одной отдельной дисциплиной. Если говорить о социальных науках, фонология не мсжет не играть по отношению к ним той же обновляющей роли, какую сыграла, например, ядерная физика по отношению ко всем точным наукам. В чем заключается эта революция, если попытаться проанализировать ее в наиболее общих следствиях? Об этом говорит один из крупнейших представителей фонологии — Н. Трубецкой, к которому мы обратимся в поисках ответа на данный вопрос. В программной статье («Phonologie actuelle». In: «Psychologie du langage») он, в конечном счете, сводит фонологический метод к четырем фундаментальным положениям: прежде всего, фонология переходит от изучения осознанных лингвистических явлений к исследованию их неосознаваемой инфраструктуры; она отказывается трактовать члены отно-
шения как независимые сущности и, напротив, принимает в качестве основы своего анализа отношения между ними; она вводит понятие системы: «современная фонология не ограничивается провозглашением того, что фонемы всегда являются членами системы; она обнаруживает конкретные фонологические системы и выявляет их структуры»; наконец, она стремится к открытию общих законов, либо найденных индуктивным путем, — либо «выведенных логически, что придает им абсолютный характер». Таким образом, социальной науке впервые удается выявить необходимые отношения. Таков смысл этой последней фразы Трубецкого, в то время как остальные показывают, каким образом должна пониматься лингвистика, чтобы она смогла прийти к такому же результату»[70].
Системы родства позволили Леви-Строссу выявить первую неукоснительную аналогию с фонологическими системами. Эти системы, по существу, сложились на бессознательном уровне; более того, именно в этих системах одни только парные оппозиции и, в общем-то, дифференцированные элементы носят означивающий характер (отец — сын, дядя по матери и сын сестры, муж — жена, брат — сестра): следовательно, система существует не на уровне отдельных членов, а на уровне парных отношений (на память приходит тонкий анализ проблемы брата матери и следующие из него убедительные выводы[71]. Это, наконец, системы, где центр интеллигибельности принадлежит синхронии: они построены безотносительно к истории, хотя и включают в себя диахронический срез, поскольку структуры родства связаны с продолжением поколений[72].
Что следует из этого первого перенесения лингвистической модели? Главным образом то, что родство само по се-
бе является системой общения и именно в этом своем качестве может быть сравнимо с языком. «Система родства является языком, но это не универсальный язык, и ему можно предпочесть другие средства выражения и действия. С точки зрения социологии, это равносильно утверждению о том, что по отношению к каждой определенной культуре всегда возникает предварительный вопрос: является ли данная система систематичной? Этот на первый взгляд абсурдный вопрос может быть таковым только применительно к языку, так как язык является, по существу, системой значений; он не может не означивать, и все его существование заключается в означивании. Но этот вопрос должен изучаться тем строже, чем дальше мы удаляемся от языка, чтобы рассмотреть другие системы, которые также претендуют на означивание, но в которых ценность означивания остается частичной, фрагментарной или субъективной, такие системы, как социальная организация, искусство и т. п.»[73]
Этот текст «со всей строгостью» предписывает нам располагать социальные системы по нисходящей линии, если сравнивать их с языком, этой, по существу своему, системой значений. Если родство является здесь самой близкой аналогией, то потому, что оно, как и язык, является «произвольной системой представлений, а не спонтанным развитием фактического положения дел»[74]; но аналогия эта возникает, если только мы ее выстраиваем в соответствии с характеристиками, которые делают родство союзом, а не биологической моделью: правила брака «представляют собой способ обеспечения обмена женщинами внутри социальной группы, то есть замены системы кровного родства биологического происхождения социальной системой отношений»[75]. Рассмотренные в таком ключе, эти правила превращают родство в «некий язык, то есть в совокупность операций, предназначенных обеспечивать определенный тип общения между индивидами и группами индивидов. То обстоятельство, что «послание» в данном случае состоит из женщин группы, которые циркулируют между кланами, потомствами или семьями (тогда
как в языке между индивидами циркулируют слова группы), нисколько не препятствует тождеству рассматриваемого явления в обоих случаях»[76].
Здесь изложена вся программа «Первобытного мышления» и определен сам принцип обобщения; я ограничусь цитированием текста 1945 года: «Мы действительно вынуждены задать себе вопрос: не представляют ли собой различные стороны социальной жизни (включая искусство и религию), при изучении которых, как нам уже известно, можно пользоваться методами и понятиями, заимствованными у лингвистики, явления, чья природа аналогична природе языка? Каким образом можно было бы проверить эту гипотезу? Ограничим ли мы наше исследование изучением только одного общества, или же оно будет охватывать несколько обществ, все равно придется углубляться в анализ различных сторон социальной жизни, чтобы достичь уровня, на котором окажется возможным переход от одного круга явлений к другому; это значит, что надо разработать некий всеобщий код, способный выразить общие свойства, присущие каждой из специфических структур, соответствующих отдельным областям. Применение этого кода может стать правомерным как для каждой отдельной системы, так и для всех систем при их сравнении. Таким образом, мы окажемся в состоянии выяснить, удалось ли нам постичь их глубинную природу, а также определить, действительно ли они являются однотипными»[77].
Сущность такого рода постижения структур состоит в идее кода, понимаемого в смысле формального соответствия, существующего между специфическими структурами, то есть в смысле структурной гомологии. Только подобное понимание символической функции может быть определено как строго независимое от наблюдателя: «Язык, следовательно, это социальное явление, не зависящее от наблюдателя и обладающее длинными статистическими рядами»[78]. Наша проблема будет заключаться в том, чтобы узнать, каким образом объективное постижение, занимающееся декодированием, может заменить герменевтическое постижение, которое расшифровывает, то есть присваива-
ет себе, смысл и одновременно расширяется за счет смысла, который расшифровывает. Одно замечание Леви-Строса поставит нас, быть может, на правильный путь: автор говорит о том, что «первоначальный импульс»[79], побуждающий к обмену женщинами, обнаруживает, вероятно, если вернуться к вопросу о лингвистической модели, нечто такое, что стоит у истоков любого языка: «Как и в случае с женщинами, не следует ли искать первоначальный импульс, побудивший людей «обмениваться» словами, в раздвоении представления, возникшего, в свою очередь, вследствие выполнения им символической функции? Как только факт звучания начинает восприниматься в качестве немедленно предлагаемой ценности и для говорящего и для слушающего, он приобретает противоречивый характер, нейтрализация которого возможна только путем обмена взаимодополнительными ценностями, к чему сводится вся социальная жизнь»[80]. Не означает ли это, что структурализм вступает в игру только на фоне уже сложившегося «раздвоенного представления, возникшего вследствие выполнения им символической функции»? Не идет ли здесь речь о другого рода постижении, представляющем само раздвоение, в ходе которого и возникает обмен? Не будет ли в таком случае объективная наука об обмене некой абстрактной сферой в целостном понимании символической функции, которое, в сущности, является семантическим? Тогда назначение структурализма философ будет видеть в том, чтобы восстановить это целостное понимание, но сначала его надо будет сместить, объективировать, ретранслировать с помощью структуралистского истолкования; таким образом, опосредованная структурной формой семантическая основа станет доступной более косвенному, но вместе с тем и более надежному пониманию.
Оставим этот вопрос без ответа до конца настоящего анализа и займемся изучением аналогий и обобщений.
Сначала Леви-Строс делает обобщения весьма осмотрительно и осторожно. Структурная аналогия, существующая между языком, взятым в его фонологической струк-
туре, и другими социальными явлениями, на деле достаточно сложна. В каком смысле можно сказать, что «природа ее схожа с природой языка?»[81]. Вряд ли стоит опасаться двусмысленности, когда знаки обмена не являются сами по себе элементами дискурса: здесь можно сказать, что мужчины обмениваются женщинами так же, как они обмениваются словами; формализация, высвечивающая гомологию структуры, не только правомерна, но и весьма показательна. С появлением искусства и религии все усложняется; теперь мы уже имеем не только «нечто вроде языка», как в случае с правилами брака и системами родства, но и означивающий дискурс, созданный на основе языка, рассматриваемого в качестве инструмента общения; аналогия перемещается внутрь самого языка и налагает на структуру тот или иной частный дискурс, сравнимый с общей структурой языка. Не существует какого-либо apri-0/7, которому отношение между диахронией и синхронией, свойственное общей лингвистике, неукоснительно подчиняло бы структуру частных дискурсов. Изреченные вещи не обладают неизбежно строением, сходным со строением языка как универсальным инструментом говорения. Все, что мы можем сказать на этот счет, так это что лингвистическая модель направляет исследование на артикуляции, сходные с ее собственными, то есть на логику оппозиций и корреляций, в конечном итоге — на систему различий: «G более обоснованной теоретической точки зрения (Леви-Строс только что говорил о языке как диахроническом условии культуры, как о средстве воспитания и образования) язык представляет собой также условие культуры в той мере, в какой последняя обладает строением, подобным строению языка. И то и другое означивает с помощью оппозиций и корреляций, другими словами, логических операций. Таким образом, язык можно рассматривать как основу, предназначенную для возведения на ней структур порой более сложных, чем он сам, но аналогичных ему, структур, соответствующих культуре, взятой в различных ее аспектах»**. Но Леви-Строс должен согласиться с тем, что корреляция между культурой и языком
недостаточно обосновывается универсальной ролью языка в культуре. Чтобы обосновать параллелизм между структурными модальностями языка и культуры, он обращается к третьему понятию: «Мы еще недостаточно отдаем себе отчет в том, что язык и культура являются двумя параллельными разновидностями более фундаментальной деятельности. Я имею в виду гостя, который присутствует здесь, с нами, хотя никто не подумал пригласить его на наши дебаты: это — человеческий дух»*. Этот третий, дух, на который ссылается автор, несет в себе важнейшие проблемы; ведь дух понимает дух не только благодаря схожести структуры, но и благодаря возобновлению и безостановочному движению частных дискурсов. Конечно, ничто не гарантирует, что такое понимание выявит те же принципы, что и принципы фонологии. Структуралистский подход представляется мне полностью оправданным и находящимся вне всякой критики до тех пор, пока он помнит об условиях своей применимости и, стало быть, о своих пределах. В любой гипотезе одно остается безусловным: корреляцию следует искать не «между языком и установками, а между однородными, уже формализованными обозначениями лингвистической и социальной структур»**. При этом, и только при этом, условии «открывается путь для антропологии, понимаемой как общая теория отношений, и для анализа обществ в зависимости от различных признаков, присущих системам отношений, которые их определяют»***.
Итак, моя проблема наконец уточнилась: какое место в общей теории смысла занимает «общая теория отношений»?[82] Что имеется в виду, когда говорят о структуре
Отвечая Одрикуру и Гранэ[83], Леви-Строс, как представляется, признает, что у общей теории коммуникации существует своя оптимальная зона: «В настоящее время попытка возможна на трех уровнях, поскольку правила брака
применительно к искусству и религии? И каким образом постижение структуры ведет к постижению герменевтики, направленной на овладение означивающими интенциями?
Именно здесь может быть великолепно апробировано наше понимание времени. Мы проследим, как складывается отношение между диахронией и синхронией в этом перенесении лингвистической модели, и сопоставим это с тем, что мы ранее смогли узнать относительно историчности смысла, когда речь шла о символах значительных временных периодов.
3. ПЕРВОБЫТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
В «Первобытном мышлении» Леви-Строс приступает к смелому обобщению идей структурализма. Разумеется, ничто не дает нам оснований утверждать, будто автор отказывается от сотрудничества с другими способами понимания; тем более нет оснований говорить, что структурализм не признает никаких ограничений; он распространяет свой анализ не на все мышление, а лишь на его определенную стадию, и стадия эта — первобытное мышление. Тем не менее читатель, переходя от «Структурной антропологии» к «Первобытному мышлению», поражается изменению объекта исследования и его тональности: мы уже не продвигаемся шаг за шагом по пути от родства к искусству и религии; предметом изучения становится мышление, взятое глобально; этот уровень мышления принимается за единственно возможную, еще не освоенную форму мышления; здесь нет противопоставления дикарей цивилизованным людям, нет первобытного менталитета, как нет и мышления дикарей; нет более экзотики как таковой; по ту сторону «тотемической иллюзии» существует только дикарское мышление, и оно не предшествует логике; оно не до-логично, оно подобно логическому мышлению; подобие
и родства служат обеспечению обмена женщинами между группами, так же как экономические правила служат для обеспечения обмена имуществом и услугами, а лингвистические правила — для передачи сообщений» (р. 95) Мы найдем также предостережения автора против крайних суждений американской металингвистики(р. 83–84, 97).
здесь выражено вполне определенно: его разветвленная классификация, его утонченные наименования суть само классифицирующее мышление, однако действующее, как говорит Леви-Строс, на другом стратегическом уровне — чувственном. Дикарское мышление — это упорядоченное мышление, но оно не мыслит о самом себе. В этом отношении оно соответствует требованиям структурализма, о которых говорилось выше: бессознательный план, то есть план, понимаемый как система различий, можно трактовать объективно, «независимо от наблюдателя». Интеллигибельны, следовательно, одни только упорядочивания, совершающиеся на бессознательном уровне; понимание состоит не в том, чтобы подхватывать интенции смысла и давать им новую жизнь в историческом акте интерпретации, который сам вписывался бы в традицию; интеллигибельность связывается с кодом изменения, который обеспечивает соответствия и подобия между упорядочиваниями, совершающимися на различных уровнях социальной реальности (организация на уровне клана, виды и классификация животных и растений, мифов, произведений искусства и т. п.). Я так бы охарактеризовал этот метод: выбор синтаксиса в противовес семантике. Подобный выбор вполне оправдан в той мере, в какой он является своего рода сделкой, заключенной по поводу связности событий. К сожалению, здесь мало думают об условиях этой сделки, о цене, которую придется платить за такой тип понимания, короче говоря — мало рефлексии о границах, о которых, однако, в предшествующих трудах нет-нет да и заходила речь.
Я, со своей стороны, был поражен тем обстоятельством, что все примеры брались исключительно под географическим углом зрения — из области так называемого тотемизма, и никогда — из области семитского, до-греческого или индоевропейского мышления; и я задавался вопросом, что означает подобное изначальное ограничение этнографического и собственно человеческого материала. Не предпочел ли автор выигрышный для себя путь, связывая судьбу дикарского мышления с культурной аурой, то есть, строго говоря, с «тотемической иллюзией», где упорядочивания значат больше, чем содержания, где мышление по существу своему случайно, пользуется разнородным материалом, строительным мусором? К тому же ни разу в
этой книге не ставится вопрос о единстве мифологического мышления. Для любого дикарского мышления единство было тем, что надо было еще обретать. Я также спрашивал себя, поддавались ли с такой же легкостью подобным операциям мифологические основы, из которых все мы исходим: семитские (египетские, вавилонские, арамейские, древнееврейские), протогреческие, индоевропейские, и если (на чем я особенно настаивал) поддавались, то все ли без исключения? В примерах, приводимых в «Первобытном мышлении», незначительность содержаний и большое число разного рода упорядочиваний мне представлялись скорее исключениями, чем канонической нормой. Случается, что одна часть цивилизации, та, которой не принадлежит наша культура, более, чем какая-либо другая, поддается анализу с точки зрения структурного метода, заимствованного у лингвистики. Но это не доказывает того, что постижение структур в другом месте было бы столь же блистательным и, что важно, обходилось бы собственными средствами. Выше я уже говорил о цене, какую необходимо было платить: цена эта — незначительность содержаний, и она не была завышена сторонниками тотемизма, поскольку слишком велика была противоположная цена, то есть большое значение упорядочения; мышление тоте-мистов, как мне представляется, имеет много общего со структурализмом. Я задаюсь вопросом, является ли его пример… единичным, если не исключительным?*
* Мы найдем несколько намеков на этот счет в «Первобытном мышлении»: «Кажется, что лишь немногие цивилизации, в частности австралийская, имели вкус к познанию и умозрению, к тому, что представляется иногда интеллектуальным щегольством, и это выражение тем более странно, что применяется оно к людям, находящимся на рудиментарном уровне материальной жизни… Если веками и даже тысячелетиями Австралия жила замкнуто и если в этом замкнутом мире господствовала страсть к умозрению и дискуссиям, если, наконец, в ней зачастую все определялось влиянием известного образа действий, мы можем понять, почему здесь сложилось нечто вроде общего социологического и философского стиля, не исключающего методического поиска вариаций, и почему не лучшим из них придавалось наибольшее значение и не самые значительные из них либо благосклонно принимались либо отвергались как несущие в себе опасность» (р. 118–119). И в конце книги мы читаем: «Существует нечто вроде врожденной антипатии между историей и системами классификации. Этим, может быть, объясняются попытки апеллировать к «тотемической пустоте», поскольку, даже когда речь шла о пережитках, все, что могло бы наме-
Вероятно, существует другой полюс мифологического мышления, где слабее синтаксическая организация, где связь с ритуалом менее заметна, где соединения с социальными классификациями менее обязательны и где, напротив, семантическое богатство позволяет рассматривать исторически неопределенные деяния в более изменчивых социальных контекстах. Для этого, другого, полюса мифологического мышления, несколько примеров которого из древнееврейского мира я сейчас приведу, структурное постижение, может быть, менее значимо, по крайней мере менее неприемлемо, и более очевидно требует соединения с герменевтическим постижением, применяемым для интерпретации самих содержаний, чтобы продлить им жизнь и плодотворно включить в философскую рефлексию.
Именно здесь я выдвинул бы в качестве основного вопрос о времени, который вызвал наше размышление: «Первобытное мышление» извлекает все свои следствия из лингвистических понятий синхронии и диахронии и из них же выводит совокупное представление об отношениях между структурой и событием. Вопрос состоит в том, чтобы понять, является ли это отношение идентичным на всех этапах мифического мышления.
Леви-Стросу нравится повторять слова Боаса[84]: «Можно сказать, что мифологические универсумы обречены распасться, едва образовавшись, чтобы из их обломков рождались новые универсумы»*. (Эти слова уже были использованы в качестве эпиграфа к одной из статей «Структурной антропологии»**.) Именно обратное соотношение между синхронической прочностью и диахронической хрупкостью, свойственное мифологическим универсумам, Леви-Строс высвечивает, проводя сравнение с бриколажем[85].
Бриколёр, в отличие от изобретателя, имеет дело с материалом, который он не производил специально для того
кать на тотемизм, казалось, поразительным образом отсутствовало в великих цивилизациях Европы и Азии. И не в том ли здесь причина, что последние объясняли самих себя, опираясь на историю, что никак не соответствовало объяснению, классифицирующему вещи и существа (природные и социальные) с помощью сложившихся групп?» (Р. 397–398). Lévi-Strauss С Pensée sauvage. P. 118–119,397—398.
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 31. ** Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. P. 227.
или иного случая; он пользуется ограниченным и причудливым материалом, который побуждает его работать, как говорится, с помощью подручных средств; материал представляет собой остатки прежних конструкций и руин; для данного момента он, с точки зрения инструментальной, является случайным; бриколёр имеет дело с уже использованными знаками, которые играют предваряющую роль по отношению к новым построениям. Как и бриколаж, миф «обращается к скоплению остатков человеческой деятельности, то есть к подосновам культуры»*. Если пользоваться понятиями «событие» и «структура», «диахрония» и «Синхрония», то можно сказать, что мифологическое мышление состоит из структуры в сочетании с остатками, или осколками, событий; создавая свои дворцы из строительного мусора предшествующего социального дискурса, оно предлагает модель прямо противоположную науке, которая придает своим структурам форму основного события: «Мифологическое мышление, этот бриколёр, создает структуры, упорядочивая события, или, точнее, обломки событий, в то время как наука «приходит в движение» уже потому, что она сама себя обосновывает, созидая в форме событий собственные средства и результаты и опираясь на структуры, которые фабрикует, не зная покоя, и которые являются ее собственными гипотезами и теориями»**.
Разумеется, Леви-Строс противопоставляет миф науке исключительно для того, чтобы сблизить их, поскольку, как он отмечает, «оба эти предприятия равнозначны»: «Мифологическое мышление не является всего лишь узником событий и опытов, которыми оно располагает и которые оно непрестанно перераспределяет, чтобы раскрыть их смысл; оно также обладает освободительной миссией, поскольку протестует против бессмыслицы, с которой наука на первых порах мирилась и шла на сделку»***. Но тем не менее смысл всегда на стороне того, что устраивается сейчас, то есть на стороне синхронии. Вот почему эти общества так неустойчивы перед лицом события; как и в лингвистике, событие играет здесь роль угрозы, во всяком случае, с ним связано какое-то беспокойство, оно выступа-
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 29. ** Ibid. P. 33. *** Ibid. P. 33.
ет просто как стечение обстоятельств (а также как демографические потрясения — войны, эпидемии — отрицательно сказывающиеся на существующем положении дел): «Синхронические структуры так называемых тотемиче-ских систем находятся под угрозой со стороны диахронических воздействий»*. Непрочность мифа, таким образом, свидетельствует о примате синхронии. Вот почему так называемый тотемизм является «грамматикой, обреченной на то, чтобы деградировать до уровня лексики»**;…«как дворец, смытый потоком, классификация стремится распасться, а ее составные части под воздействием проточных и стоячих вод, различных препятствий и проливов соединяются между собой совсем не так, как того хотел архитектор. Следовательно, в тотемизме функция неизбежно берет верх над структурой; перед теоретиками постоянно встает вопрос об отношении между структурой и событием. Великий урок тотемизма заключается в том, что форма структуры может и выжить, тогда как сама структура не выдерживает натиска события»***.
Мифологическая история сама находится на службе у этой структуры в ее борьбе против события и говорит об усилии обществ, направленном на отмену разрушительного действия исторических факторов; она являет тактику устранения исторического фактора и смягчения фактора событийного; таким образом, связывая друг с другом историю и ее вневременную модель так, что они становятся взаимным отражением друг друга, выводя предка за пределы истории и делая из истории копию предка, «диахрония, как бы усмиренная, сотрудничает с синхронией, не рискуя тем, что между ними могут возникнуть новые конфликты»****. Такова еще одна функция ритуала, заключающаяся в том, чтобы соединять существующее вне времени прошлое с ритмом жизни и времен года, а также со сменяющими друг друга поколениями. Ритуалы, «все еще выражающиеся в терминах синхронии, свидетельствуют о диахронии, поскольку их фактическое соблюдение равнозначно смене прошлого настоящим»*****.
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 90.
** Ibid. P. 307,
*** Ibid. P. 307.
****Ibid.P.313.
*****Ibid.P.315.
Именно в этом плане Леви-Строс интерпретирует «чу-ринга» — предметы из камня и дерева, или валуны, представляющие тело предка, — в качестве свидетельства «диахронического бытия диахронии внутри синхронии»*. Он находит в них тот же привкус историчности, что и наши архивы, — бытие, воплощенное в событийности, историю в чистом виде, оказавшуюся в самой сердцевине классифицирующего мышления. Таким образом, сама мифологическая историчность вовлекает себя в работу рациональности: «Так называемые первобытные люди смогли выработать разумные методы, позволяющие включать иррациональное, в котором перемешаны случайно складывающаяся логика и бьющие ключом эмоции, в рациональное. Классификационные системы, стало быть, позволяют интегрировать историю, особенно и главным образом ту, которая, как можно считать, сопротивляется системе»**.
4. ГРАНИЦЫ СТРУКТУРАЛИЗМА?
Я намеренно проследил во всей последовательности серию превращений лингвистической модели, как она описывается в работах Леви-Строса, получая свое обобщенное выражение в «Первобытном мышлении». Осознание значимости того или иного метода, говорил я вначале, неотделимо от осознания его границ. Границы, как мне представляется, могут быть двоякого рода: с одной стороны, я думаю, что обращение к определенному дикарскому мышлению совершается на одном весьма благоприятном примере, который, может быть, является исключительным. С другой стороны, переход от структурализма как науки к структуралистской философии мне видится малообоснованным и даже непоследовательным. В итоге эти два обстоятельства, если иметь в виду их последствия, обрекают книгу на то, что выводы ее носят частный характер, и это делает работу одновременно и привлекательной, и спорной, отличая ее от предшествующих трудов Леви-Строса. Является ли конкретный пример во всех отношениях показательным? — спрашивал я выше. Одновременно с
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 315. ** Ibid. P. 323.
«Первобытным мышлением» Леви-Строса я читал превосходную книгу Герхарда фон Рада[86], посвященную теологии исторических традиций Израиля, — первый том «Теологии Ветхого Завета» (Munich, 1957). В ней мы находим теологическую концепцию, прямо противоположную концепции тотемизма, которая, в силу этого обстоятельства, трактует противоположным образом отношение между диахронией и синхронией и более настоятельно ставит вопрос об отношении между структуралистским и герменевтическим мышлением.
Что является решающим для понимания смыслового центра Ветхого Завета? Не перечни и классификации, а основополагающие события. Если мы ограничимся теологией Шестикнижия, то означивающим содержанием будет керигма, весть о деянии Яхве, продиктованном сплетением событий. Это Heilgeschichte, Священная история; первичный же эпизод будет дан потом: исход из Египта, переход через Чермное море, открытие Синая, странствование в пустыне, исполнение слова о земле обетованной и т. п. Второй организующий очаг смысла возникает вокруг темы Помазанника на царство Израилево и миссии Давида; наконец, третий очаг смысла рождается после катастрофы: крах (крушение) предстает там фундаментальным событием, несущим с собой неразрешимую альтернативу между надеждой и грозным предзнаменованием. Метод понимания, соответствующий сетке событийности, состоит в том, чтобы продолжить вновь интеллектуальную работу, побуждаемую этой исторической верой и разворачивающуюся в конфессиональных рамках, зачастую облаченную в форму гимна и непременно носящую культовый характер. Герхард фон Рад удачно выражает эту мысль: «В то время как критическая история стремится к минимально верифицируемому», «керигматическая живопись стремится к максимальной теологичности». Итак, именно интеллектуальная работа руководила оформлением традиций и привела к тому, что мы сегодня называем Писанием. Герхард фон Рад показывает, каким образом минимальные вероисповедные принципы формируют гравитационное поле, вовлекающее в себя разнообразные традиции, принадлежащие к различным источникам, переданные различными группами людей, племенами или кланами. Таким
образом, сказания об Аврааме, Иакове и Иосифе, принадлежащие изначально различным циклам, были в некотором роде вдохновлены изначальным ядром древнего вероисповедания, прославляющего историческую деятельность Яхве, и включены в него. Очевидно, что мы можем говорить здесь о примате истории в многоплановом ее понимании: в первом и основополагающем смысле, поскольку все отношения Яхве к Израилю получают значение благодаря событиям и в событиях, не имеющих ни малейшего следа спекулятивной теологии, — но и в двух других смыслах, о которых мы говорили в начале исследования. Результат теологической обработки этих событий на деле сам является упорядоченной историей, интерпретирующей традицией. Перетолкование каждым поколением основ традиции сообщает этому пониманию истории исторический характер и вовлекает его в движение, обладающее таким означивающим единством, которое не может быть уложено в ту или иную систему. Мы имеем дело с исторической интерпретацией исторического; тот факт, что источники здесь противостоят друг другу, что сохраняется их двойственность, что противоречия не сглаживаются, приобретает глубинное значение: традиция, прирастая, сама себя корригирует, и сами эти приращения образуют теологическую диалектику.
Знаменательно, что благодаря этой работе по перетолкованию собственных традиций Израиль обрел идентичность, которая сама является исторической: критические исследования показывают, что до перегруппировки кланов в своего рода амфиктионию[87], следующую за их образованием, единства Израиля, вероятнее всего, не существовало. Только истолковывая собственную историю исторически, разрабатывая ее как живую традицию, Израиль смог спроецировать себя в прошлое как единый народ, которому, как целостной тотальности, выпало на долю освобождаться из египетского плена, открывать Синай, подвергаться испытанию в пустыне и пожинать плоды земли обетованной. Единственным теологическим принципом, к которому в то время тяготело мышление Израиля, было следующее: когда-то существовал Израиль, богоизбранный народ, который всегда осуществлял себя как единое целое и которого Бог воспринимал таковым; но подобная
идентичность неотделима от бесконечных поисков смысла истории и смысла в истории: «Именно Израиль, о котором так много говорится в Ветхом Завете, является объектом веры и объектом истории, основанной на вере»*.
Так выстраивается цепочка, состоящая из трех типов историчности: за историчностью основополагающих событий, или скрытым временем, и за историчностью интерпретации, существующей благодаря священным писателям и составляющей традицию, следует историчность понимания, историчность герменевтики. Герхард фон Рад употребляет слово Entfaltung, «раскрытие», чтобы обозначить задачу теологии Ветхого Завета, которая поддерживает тройственность исторического характера, состоящую из heilige Geschichte (уровень основополагающих событий), U eberlieferungen (уровень конституирующих традиций) и, наконец, идентичность Израиля (уровень конституированной традиции). Эта теология должна признавать первичность события по отношению к системе: «Древнееврейское мышление осуществляется в исторических традициях; главный его успех заключается в том, что оно достигло соответствующего сочетания традиций с их теологической интерпретацией; в этом процессе историческая перегруппировка всегда опережает перегруппировку интеллектуальную и теологическую перегруппировку»**. Герхард фон Рад заключает свою методологическую главу следующими словами: «Для нашего понимания свидетельство об Израиле было бы фатальным, если бы мы с самого начала формировали его на основе теологических категорий, которые хотя и являются общепринятыми, но не имеют ничего общего с теми из них, на основе которых Израиль позволил себе упорядочить собственное теологическое мышление». Отныне «пере-рассказать» — wiedererzählen — остается самой правомерной формой суждений о Ветхом Завете. Entfaltung герменевтики — это повторение того Entfaltung, которое руководит образованием традиций, имеющих библейскую основу.
Как все это сказывается на отношениях между диахронией и синхронией? В ходе изучения великих символов древ-
* Rad G. Théologie des Traditions historiques d'Israël. T. I: Théologie de l'Ancien Testament. Munich, 1957. P. 118. ** ibid. P. 116.
нееврейской веры, которым я занимался в «Символике зла», и таких мифов, как миф о творении и грехопадении, возведенных на основе первичного символического слоя, меня поразила одна вещь: эти символы и эти мифы не черпают свои смыслы из гомологически упорядоченного социального устройства; я не говорю о том, что они не соответствуют структурному методу; как раз я убежден в обратном; я утверждаю, что структурный метод не исчерпывает их смысла, так как последний есть резерв смысла, готовый к употреблению в других структурах. Мне могут возразить: именно это новое употребление и составляет бриколаж. Нет, совсем нет: бриколаж имеет дело с обломками; в бри-колаже структура сохраняет событие; обломки играют роль предварительного материала, еще не переданного послания; они обладают инерцией того, что предшествует означиванию: употребление библейских символов в нашей культурной ауре, напротив, основывается на семантическом богатстве, на избыточности означаемого, дающей начало новым интерпретациям. Если мы рассмотрим с этой точки зрения последовательность, образованную вавилонскими сказаниями о потопе, библейским толкованием потопа и цепью его раввинских и христологических перетолкований, тотчас же обнаружится, что повторения эти прямо противоположны тому, что мы имеем в случае с бриколажем; мы не можем уже говорить об использовании обломков в структурах, синтаксис которых имеет большее значение, чем семантика; мы будем говорить об использовании излишков, которые сами, как первичные поставщики смысла, диктуют исправления собственно теологического и философского характера, надстраивающиеся над этой символической основой. В этих цепочках, образованных в соответствии с сетью означивающих событий, именно начальный излишек смысла мотивирует традицию и интерпретацию. Вот почему в этом случае надо говорить о семантическом урегулировании, следующем содержанию, а не только о его структурном упорядочении, как это имеет место в тотемизме. В синхронии победу празднует структуралистское объяснение («система дана в синхронии…»*). Поэтому-то оно чувствует себя уверенно в тех обществах, где силь-
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 89.
на синхрония, а диахрония нарушена, как это имеет место в лингвистике.
Я твердо знаю, что структурализм не отступает перед этой проблемой и признает, что «если структуральная ориентация не пребывает в кризисном состоянии, то она может ответить на каждое потрясение, имея в своем распоряжении множество средств для восстановления системы, если не идентичной предшествующей, то по меньшей мере формально того же типа». В «Первобытном мышлении» мы находим примеры такого рода ответа, то есть упорного восстановления системы: «Предположение о каком-то начальном моменте (в сугубо теоретическом плане), где совокупность систем была бы полностью отрегулирована, означало бы, что эта совокупность будет реагировать на любое касающееся ее изменение вначале одной из своих частей, как это происходит с машиной feed-back[16]: порабощенная (в двух смыслах этого слова) своей предшествующей слаженностью, она направит свою пришедшую в расстройство часть к равновесию, которое будет по меньшей мере компромиссом между прежним состоянием и беспорядком, привнесенным извне»*. Таким образом, структурное регулирование скорее напоминает явление инерции, чем живое перетолкование, которое, как нам представляется, характерно для подлинной традиции. Именно потому, что семантическая регуляция проистекает из возможного избытка смысла, распространяемого на его использование и функционирование внутри данной системы с ее синхронией, скрытое время символов может нести в себе двойную историчность — историчность традиции, которая передает интерпретацию и заставляет ее выпадать в осадок, и историчность интерпретации, которая поддерживает и обновляет традицию.
Если наша гипотеза верна, то инерционность структур и сверхдетерминированность содержаний станут двумя отличными друг от друга условиями диахронии. В таком случае можно задаться вопросом: не сочетание ли этих двух общих условий, осуществляемое на разных уровнях и, может быть, в обратной пропорциональной зависимости, позволяет отдельным обществам, согласно замечанию само-
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 92.
го Леви-Строса, «выработать единую схему, дающую возможность интегрировать две точки зрения: точку зрения структуры и точку зрения события»*. Но эта интеграция, как только она осуществляется, о чем говорилось выше, когда речь шла о модели feed-back, является всего лишь «компромиссом между прежним состоянием и беспорядком, привнесенным извне»**. Традиция, обреченная на продолжение и способная вновь воплощаться в различных структурах, обнаруживает, как мне кажется, скорее сверхдетерминированность содержаний, чем инерционность структур.
Эта дискуссия ведет нас к тому, что мы начинаем сомневаться в достаточности лингвистической модели и в значении этнологической под-модели, заимствованной у системы наименований и классификаций, имеющей общее название тотемизма. Этнологическая под-модель имеет с предшествующей ей моделью особое сходство: их пронизывает одно и то же требование дифференциального разрыва. И в той и в другой модели структурализм выделяет «коды, пригодные для того, чтобы передавать послания, которые могут быть переданы и в терминах других кодов, и выражать с помощью своей системы послания, полученные по каналам других кодов»***. Но если верно, как порой считает автор, что «то, что могло бы напоминать о тотемизме даже в качестве пережитка, отсутствует в ауре великих цивилизаций Европы и Азии»****, имеем ли мы основания, если не хотим внести в «тотемическую иллюзию» новые черты, отождествлять с определенного рода дикарским мышлением такой тип мышления, который может быть единичным только потому, что занимает исключительное место в цепи мифических типов, которые также надо было бы изучать исходя из этой исключительности? Я охотно признал бы, что в истории человечества необыкновенная живучесть иудейской керигмы в постоянно обновляющихся социокультурных контекстах представляет собой другой полюс, также единичный, поскольку он исключительный — полюс мифологического мышления.
* Lévi-Strauss С Pensée sauvage. P. 95. ** Ibid. P. 92. ***Ibid.P. 101. ****Ibid.P.308.
В этой цепи типов, также определенных двумя своими полюсами, временность — временность традиции и временность интерпретации — имеет свой отличительный признак, в зависимости от чего синхрония берет верх над диахронией, или наоборот; в одном крайнем случае, в случае тотемического типа, мы имеем расколотую временность, что прекрасно подтверждает формулировку Боаса: «Можно сказать, что мифологические универсумы обречены распасться, едва образовавшись, чтобы из их обломков рождались новые универсумы»*. В другом крайнем случае — в случае керигматического типа — мы имеем временность, упорядоченную постоянными заимствованиями смысла из традиции интерпретации.
Если это действительно так, то можно ли продолжать говорить о мифе, не рискуя впасть в противоречие? Можно согласиться с тем, что в тотемической модели, в которую структуры вносят нечто большее, чем содержания, миф стремится идентифицироваться с «оператором», с «кодом», управляющим системой изменения; Леви-Строс так говорит об этом: «Мифологическая система и вызываемые ею представления служат для установления отношений гомологии между природными и социальными условиями, или, точнее, для определения закона эквивалентности между значимыми контрастами, которые принадлежат нескольким планам: географическому, метеорологическому, зоологическому, ботаническому, техническому, экономическому, социальному, ритуальному, религиозному, философскому»**. Функция мифа, выраженная в понятиях структуры, возникает в синхронии; ее синхроническая прочность противоположна диахронической хрупкости, о чем напоминает формулировка Боаса.
В керигматической модели структурное объяснение, несомненно, проливает свет на многое из того, что я попытаюсь показать в конце моего исследования; но оно представляет экспрессивный слой второго уровня, к тому же подчиненный смыслу, принадлежащему символической основе: так, миф об Адаме является вторичным по отношению к символическим выражениям чистого и нечистого, из-
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 31. ** Ibid. P. 123.
гнанничества и странствования, сложившимся на уровне культового опыта и опыта исповедания: богатство этой символической основы обнаруживается только в диахронии; синхроническое истолкование касается лишь актуальной социальной функции мифа, более или менее сравнимой с тотемическим оператором, мгновенно обеспечивающим обратимость посланий, принадлежащих различным уровням культурной жизни, и взаимодействие между природой и культурой. Несомненно, структурализм не теряет своего значения (и нужно сделать все возможное, чтобы доказать его плодотворность в нашем культурном окружении; пример мифа об Эдипе, проанализированного в «Структурной антропологии»*, является многообещающим); но несмотря на то, что структурное объяснение кажется единственно правильным, когда синхрония берет верх над диахронией, оно выявляет что-то вроде арматуры, абстрактный характер которой вполне очевиден, когда речь идет о сверх-детерминированном содержании, требующем постоянного осмысления и проясняющемуся только в цепи последовательных преобразований, которые сообщают ему интерпретация и инновация.
Теперь я хотел бы сказать несколько слов о другом пределе, о котором я упоминал выше, говоря о переходе от структурализма как научной дисциплины к структуралистской философии. В той мере, в какой структурная антропология казалась мне убедительной, когда она осмысливала себя в качестве последовательно расширяющегося объяснения, которое первоначально было с успехом применено в лингвистике, затем при изучении систем родства, и, наконец, все чаще и чаще стало использоваться при исследовании различных форм социальной жизни, где обнаруживались сходства с лингвистической моделью, — в той же мере она казалась мне подозрительной, когда стала выступать в качестве философии; то, что полагается как бессознательное, по-моему, может быть только этапом, абстрактно отделенным от самопонимания; порядок, существующий сам по себе, — это мышление внешнее по отношению к самому себе. Разумеется, «не возбраняется мечтать, будто в один прекрасный день мы сможем перенести
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 235–243.
на перфокарты всю информацию, касающуюся австралийских обществ, и с помощью вычислительной машины доказать, что совокупность их этно-экономических, социальных и религиозных структур походит на обширную группу преобразований»*. Нет, такую мечту «нельзя запретить», но при условии, что мышление не погубит себя, замкнувшись в объективности этих кодов. Если декодирование не является объективным этапом дешифровки, а последняя — экзистенциальным (или экзистентным!) этапом самопонимания и понимания бытия, структуралистское мышление остается не осознающим себя мышлением. Напротив, именно от рефлексивной философии зависит, осознает ли оно себя в качестве герменевтики, способной создать структуру, соответствующую структурной антропологии; с этой точки зрения функция герменевтики заключается именно в том, чтобы сделать возможным совпадение понимания другого — а также и знаков, принадлежащих различным культурам, — с самопониманием и пониманием бытия. Структурная объективность может предстать тогда в качестве абстрактного — действительно абстрактного — момента признания и присвоения, с помощью которых абстрактная рефлексия превращается в рефлексию конкретную. В пределе это признание и присвоение будут состоять в обобщении всех означивающих содержаний, принадлежащих самопознанию и познанию бытия, которое Гегель попытался осуществить с помощью логики — логики содержаний, а не логики синтаксисов. Само собой разумеется, что мы в состоянии представлть лишь частичные фрагменты этого самоистолкования и истолкования бытия. Но структурное постижение, каким мы его знаем сегодня, имеет не менее частичный характер; более того, оно абстрактно в том смысле, что не вытекает из обобщения означаемого, а достигает своего «логического уровня» лишь ценой «семантического истощения»**.
Лишенная этой согласительной структуры, которую я понимаю как взаимодействие между рефлексией и герменевтикой, структуралистская философия, я думаю, обречена балансировать между несколькими едва наметивши-
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 117. ** Ibid. P. 140.
мися тенденциями в философии. Здесь можно сослаться, и неоднократно, на кантовскую философию без трансцендентального субъекта, то есть на абсолютный формализм, который взял бы на себя задачу соотнесения между собой природы и культуры. Эта философия мотивирована признанием дуализма «истинных моделей конкретного разнообразия: одна из них относится к природе и касается разнообразия видов, другая — к культуре и представлена разнообразием функций»*. Принцип преобразований в таком случае следует искать в комбинаторике, в конечном порядке, или в конечности порядка, который более фундаментален, чем каждая из отмеченных моделей. Все, что было сказано о «бессознательной телеологии, которая, хотя и является историчной, полностью ускользает от человеческой истории»**, имеет тот же смысл; эта философия была бы абсолютизацией лингвистической модели, следующей шаг за шагом за своими обобщениями. «Язык, — провозглашает автор, — не коренится ни в аналитическом разуме древних грамматиков, ни в конституированной диалектике структурной лингвистики, ни в конституирующей диалектике индивидуального праксиса[17], противостоящего практико-инертному, поскольку все они уже предполагают его существование. Лингвистика ставит нас перед лицом диалектического и тотализующего бытия, которое, однако, находится вне (или до) сознания и воли. Являясь нерефлексивной тотализацией, язык выступает основанием человека, имеющим собственные основания, которых человек не знает»***. Но что же такое язык, если не абстракция говорящего существа? На это можно возразить, что «его речевая практика никогда не проистекала и никогда не будет проистекать из сознательной тотализации лингвистических законов»****. Мы же так ответим на этот вопрос: для того чтобы нам понять самих себя, мы стремимся тотализовать не лингвистические законы, а смысл слов, по отношению к которому лингвистические законы являются всегда бессознательным посредническим инструментом. Я стремлюсь познать самого себя, овладевая смыслом
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 164. ** Ibid. P. 333. *** Ibid. P. 334. **** Ibid. P. 334.
слов всех людей; именно в этом плане скрытое время становится историчностью традиции и интерпретации.
Вместе с тем, автор предлагает «признать в системе природных видов и в системе искусственно созданных объектов две посредничающие совокупности, которые использует человек, чтобы преодолеть противоречие между природой и культурой, чтобы мыслить их как целое»*. Он считает, что структуры предшествуют конкретным практикам, но признает также, что праксис предшествует структурам. Отсюда следует, что структуры должны стать надстройками праксиса, который, согласно Леви-Стросу и Сартру, «для наук о человеке является фундаментальной целостностью»**. В «Первобытном мышлении» имеется и другой набросок трансцендентализма без субъекта, то есть такой философии, где структура играет роль посредника, вклинивающегося «между праксисом и отдельными практиками»***. Но автор не может останавливаться на этом, опасаясь того, как бы не пойти на уступки Сартру, которого он упрекал в социологизировании Cogito****. Последовательность: праксис — структура — отдельные практики позволяет по меньшей мере оставаться структуралистом в этнологии и марксистом в философии. Но о каком марксизме идет речь?
На деле в «Первобытном мышлении» существует набросок совсем иной философии, где порядок — это порядок вещей и сама вещь; размышление над понятием «вид» входит в него естественным образом: обладает ли вид, относящийся к классификации растений и животных, «наслед-
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 169.
** Ibid. P. 173–174. «Марксизм, если не сам Маркс, зачастую вел свои рассуждения так, словно отдельные практики непосредственно вытекали из праксиса. Не ставя под сомнение бесспорный примат базисов, мы считаем, что между праксисом и отдельными практиками всегда существует посредник, являющийся концептуальной схемой, при содействии которой лишенные самостоятельного существования материя и форма реализуются в качестве структур, то есть в качестве бытия одновременно эмпирического и интеллигибельного. Именно эту теорию о надстройках, набросок которой был дан Марксом, мы хотели бы поддержать, оставляя истории, при поддержке демографии, технологии, исторической географии и этнографии, заботу о развитии исследований базисов; мы не можем брать на себя эту заботу, поскольку этнография — это прежде всего психология».
*** Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 173. **** Ibid. P. 330.
ственной объективностью»? «Разнообразие видов дает человеку самый что ни на есть интуитивный образ, каким он только может обладать, и конституирует самое непосредственное проявление конечной прерывности реальности, которую он в состоянии воспринять: чувственное выражение объективного кодирования»*. Действительно, привилегией понятия «вид» является то, что оно «обеспечивает чувственное восприятие объективной комбинаторики, данной в природе, и активность разума, и сама социальная жизнь лишь заимствуют его для создания новых таксономии»**.
Может быть, то, что мы рассматриваем одно только понятие структуры, мешает нам пойти дальше «взаимности перспектив, где человек и мир зеркально отражаются друг в друге»***. Именно тогда, вероятно, когда, качнув чашу весов в сторону примата праксиса над структурными опо-средованиями, мы с излишней силой остановили ее на другом полюсе и заявили, что «конечной целью наук о человеке является не созидание человека, а его разложение… растворение культуры в природе и, в конечном итоге, жизни — в совокупности ее физико-химических элементов»****. «Поскольку разум есть также вещь, функционирование этой вещи дает нам сведения о природе вещей: даже в чистом виде рефлексия выступает как интериоризация космоса»*****. Последние страницы книги дают основание считать, что «именно в мире информации, где вновь царят законы дикарского мышления******* и следовало бы искать принцип функционирования разума как вещи.
Таковы опыты философствования в духе структурализма, и структурная наука не позволяет делать выбор между ними. Однако не переоценивается ли значение лингвистического образования, если язык и все посреднические дисциплины, которым он служит моделью, принимаются за бессознательный инструментарий, с помощью которого говорящий субъект берется понять бытие, существующих людей и самого себя?
* Lévi-Strauss С. Pensée sauvage. P. 181. ** Ibid. P. 181. *** Ibid. P. 294. ****Ibid.P326—327. ***** Ibid. P. 328, примечание. ****** Ibid. P. 354.
5. ГЕРМЕНЕВТИКА И СТРУКТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
В заключение я хочу вернуться к первоначально поставленному вопросу: в каком плане структурное объяснение является сегодня необходимым этапом герменевтического понимания? Или, говоря более обобщенно, каким образом соединяются герменевтика и структурализм?
1. Прежде всего я хотел бы рассеять одно недоразумение, к которому могла привести предшествующая дискуссия. Считая, что мифические типы образуют цепочку, для которой одним пределом может выступать «тотемический тип», а другим — «керигматический тип», я будто бы возвращаюсь к начальной позиции, согласно которой структурная антропология является дисциплиной научной, а герменевтика — дисциплиной философской. Ничего подобного. Различие двух под-моделей не означает, будто одну из них поддерживает исключительно структурализм, а другая получает свое обоснование в неструктурной герменевтике; это означает только, что тотемическая под-модель более поддается структурному объяснению, которое, как представляется, в данном случае действует безотказно, поскольку она среди всех мифических типов более всего согласуется с изначальной лингвистической моделью, тогда как в случае с керигматическим типом структурное объяснение, которое в других ситуациях подходит для большинства случаев, вполне очевидно отсылает к иному пониманию смысла. Но эти два способа понимания не противоречат друг другу, если рассматривать их на одном уровне, внутри общего вида понимания; вот почему они ни в коей мере не ведут к методологической эклектике. Итак, прежде чем высказать некоторые замечания исследовательского характера, касающиеся их взаимодействия, я хочу еще раз подчеркнуть их различие. Структурное объяснение нацелено [28] на бессознательную систему, [29] которая образована различиями и оппозициями (благодаря означивающим разрывам), [30] существующими независимо от наблюдателя. Интерпретация передаваемого смысла состоит в [31] осознании [32] символической основы, определяемой [33] истолкователем, находящимся в том же семантическом поле,
что и то, что он понимает, и, следовательно, входящим в «герменевтический круг».
Вот почему два способа явления времени принадлежат не одному и тому же уровню: только предварительно, в дидактических целях мы говорили о приоритете диахронии над синхронией; на самом же деле понятия «диахрония» и «синхрония» следует включить в объяснительную схему, в которой синхрония образует систему, а диахрония предстает в качестве проблемы. Я отнес бы слова: «историчность» — «историчность традиции» и «историчность интерпретации» — к любому пониманию, которое — открыто или скрытно — осознает себя в качестве философского самопонимания «я» и понимания бытия. Миф об Эдипе предстает в таком случае герменевтическим пониманием, когда он, уже благодаря Софоклу[90], понимается и воспроизводится в качестве первого востребования смысла, в качестве размышления о признании «я», о борьбе за истину и о «трагическом познании».
2. Соединение этих двух типов понимания ставит значительно больше проблем, чем их разделение. Вопрос этот слишком нов, чтобы мы могли идти дальше предварительных выводов. Прежде всего спросим себя: можно ли отделить структурное объяснение от какого бы то ни было герменевтического понимания? Разумеется, можно, тем более что функция мифа исчерпывается, как только устанавливаются отношения гомологии между означиващими противоположностями, принадлежащими нескольким планам — природным и культурным. Но в таком случае не будет ли герменевтическое понимание участвовать в создании того же семантического поля, где осуществляются отношения гомологии? На память приходит важное замечание Леви-Строса, которое касается «раздвоенного представления, возникающего из символической функции, делающей возможным его появление». «Противоречивая природа» этого знака может быть нейтрализована, говорил он, «только путем обмена взаимодополнительными ценностями, к чему и сводится вся социальная жизнь»*. В этом замечании я вижу указание на путь, которым надо следо-
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 71.
вать, если мы стремимся к соединению герменевтики и структурализма, а оно ни в коем случае не должно быть эклектикой. Я отлично понимаю, что именно раздвоение, о котором здесь идет речь, порождает функцию знака вообще, а не постигаемый нами двойственный смысл символа. Но то, что истинно относительно знака в его первичном смысле, не менее истинно и по отношению к двойному смыслу символа. Постижение этого двойного смысла, которое по существу своему является герменевтическим, всегда предваряется постижением «обмена взаимодополнительными ценностями», о котором говорит структурализм. Тщательный анализ «Первобытного мышления» подтверждает, что мы, опираясь на гомологию структуры, всегда можем искать семантические аналогии, которые делают сравнимыми различные уровни реальности, чей «код» обеспечивает их взаимную обратимость. «Код» предполагает соответствие, родство содержаний, то есть известный шифр*. Таким образом, в интерпретации ритуала охоты на орлов у представителей племени хидатса** образование пар по принципу «верх — низ», исходя из которого сформированы все разрывы и максимально возможный разрыв между охотником и дичью, образует мифологическую типологию только при условии имплицитного постижения переизбытка смысла позиций «вверху» и «внизу». Я согласен с тем, что в изучаемых здесь системах это свойство содержаний является в некотором роде остаточным.
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale: Это значение шифра сначала постигается чувственно: рассуждая о свойствах конкретной Логики, Леви-Строс показывает, что они «выявляются в ходе этнологического наблюдения в двух своих аспектах — чувственном и рациональном» (р. 50). Таксономия распространяет свою логику на основу чувства родства между людьми и другими существами: «Это чуткое и бескорыстное, сердечное и нежное знание, достигаемое и передаваемое в атмосфере супружества и воспитания потомства» (р. 52), автор обнаруживает у людей, работающих в цирке, и у служащих зоологических парков (ibid). Если «таксономия и нежная дружба» (р. 53) являются общим девизом так называемых примитивистов и зоологов, не следует ли специально выделить такое понимание чувства? Ведь сближения, соответствия, объединения, сопоставления, символизация, о которых речь идет на последующих страницах (р. 53–59) и которые автор без колебания соотносит с герметизмом и эмблематикой, выделяют соответствия — шифр — в качестве причины сходства между дифференциальными промежутками, принадлежащими различным уровням, стало быть — в качестве причины кода. ** Ibid. Р. 66–72.
Вот почему структурное постижение никогда не осуществляется без участия герменевтического постижения, даже если последнее еще не подверглось тематизации. Прекрасным примером для дискуссии здесь служит вопрос о гомологии между правилами брака и запретами, касающимися употребления той или иной пищи*; аналогия между браком и питанием, между воздержанием от пищи и целомудрием образует метафорическое отношение, предшествующее операции по преобразованию. Правда, здесь структуралист еще не ограничен в своих притязаниях; к тому же именно он говорит о метафоре**, но делает это с целью ее формализации и руководствуясь идеей о взаимодополнительности. Но как бы то ни было, в данном случае постижение сходства предшествует формализации и обосновывает ее; именно поэтому необходимо уменьшить значение сходства, чтобы могла возникнуть гомология структуры: «Связь между этими двумя явлениями не причинная, а метафорическая. Сексуальное отношение и отношение, связанное с питанием, мыслятся непосредственно сходными даже еще и сегодня… Но какова действительная причина этого факта и того, что он имеет универсальный характер? Здесь логического уровня все еще достигают ценой семантических потерь: самым незначительным общим знаменателем объединения полов и объединения едока с пищей является то, что как одно, так и другое образуют связь через взаимодополнителъ-ностъ****. Только такой ценой — ценой семантических потерь — достигается «логическое подчинение подобия контрастности»****. Психоанализ, касаясь той же проблемы, будет, напротив, руководствоваться аналогичными инвестициями и встанет на сторону семантики содержаний, а не синтаксиса и размещений*****.
* Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 129–143. ** Ibid. P. 140. *** Ibid. P. 140. ****Ibid.P. 141.
***** Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale: Примечательное следствие нетерпимости логики контрастов с точки зрения подобия: тотемизм — хотя его и именуют «так называемый тотемизм» — решительно предпочтительнее логики жертвоприношения (р. 295–302), «основополагающим принципом которой является принцип замещения» (р. 296), то есть нечто чуждое логике тотемизма, которая «состоит из цепи дифференциальных промежутков между терминами, представленными прерывно». Жертвоприношение
3. Теперь соединение интерпретации, имеющей философское содержание, со структурным объяснением должно пониматься в ином смысле; в начале исследования я заявил, что последнее было сегодня необходимым поворотом, этапом научного объективизма в ходе осознания смысла. Одновременно с этим я утверждал и обратное: не может быть осознания смысла без хотя бы минимального понимания структур. Почему? Мы снова приведем пример с иудео-христианским символизмом, но на этот раз будем говорить не о его истоке, а о его наивысшей точке развития, то есть о той точке, где он одновременно обнаруживает и свое самое большое богатство, иными словами, свою самую большую несдержанность, и самую высокую организованность — о XII веке, столь щедром на самые разнообразные исследования, общую картину которых дал о. Ше-ню[91] в своей «Теологии ХП века»*. Этот символизм выражается одновременно в поиске Грааля, в надписях, высеченных на камнях, и в изображениях животных на папертях и капителях храмов, в аллегорическом толковании Писания, в ритуалах и спекуляциях по поводу литургии и таинства, в размышлениях над signum[20] Августина и symbolon21 Дионисия[94] и вытекающих из них analogia и anagoge[2]*. Между каменной скульптурой и всей литературой Allegoriae и Distinctiones[24] (архитектурные справочники, соотнесенные со словами и выражениями Писания) существует предумышленное единство, образующее то, что сам автор называет «символическим менталитетом»**, имеющим своим ис-
предстает тогда в качестве «абсолютного, или чрезвычайного, действия, направленного на опосредующий объект» (р. 298), на жертву. Почему чрезвычайного? Потому что жертвоприношение путем разрушения разрывает отношение между человеком и божеством, чтобы совершить акт благодеяния, которое заполнит пустоту. Здесь этнолог уже не описывает, а выносит суждение: «Система жертвоприношения вводит несуществующий термин, каким является божество, и она принимает объективно ложную концепцию природного ряда, поскольку мы видели, что система представляет ее непрерывной». Касаясь тотемизма и жертвоприношения, следует говорить: «Одно истинно, а другое ложно. Точнее, системы классификаций располагаются на уровне языка: они — коды, и какими бы они ни были, цель их заключается в выражении смысла, в то время как система жертвоприношения представляет собой частный дискурс, лишенный здравого смысла, как бы часто он ни выявлял себя» (р. 302).
* Chenu. Théologie au XII siècle. P. 159–210. ** Ibid. Ch. VII.
током «символическую теологию»*. Итак, что же заставляет множество разнообразных аспектов этой ментально-сти образовывать совокупность! Людей ХП века, говорит автор, «не объединяли ни планы, ни объекты, однако они, в этих различных планах, использовали общий знаменатель, следуя в утонченной игре аналогий таинственной связи, существующей между миром физическим и миром сакральным»**. Проблема «общего знаменателя» неизбежна, если полагать, что взятый отдельно символ не имеет смысла, или, точнее, он имеет слишком широкий смысл и его закон — полисемия: «Огонь разгорается, освещает, очищает, обжигает, обновляет, истребляет; вместе с тем он означает и вожделение, и Святой Дух»***. Именно в совокупной «экономии» выделяются отдельные ценности и полисемия сокращается. Как раз исследованию «мистической экономической связи»**** посвящали себя средневековые символисты. Разумеется, в природе все — символ, но средневековому человеку природа являла себя благодаря исторической типологии, основанной на противостоянии двух Заветов. «Отображение» (speculum) природы становится «книгой» только при условии его контакта с Книгой, то есть с ее толкованием, принятым в упорядоченном сообществе. Стало быть, символ символизирует только при условии «экономии», dispensatio (разделения), ordo (распределения). Именно поэтому Гуго Сент-Викторский[97] мог определить его следующим образом: «Symbolum est collaîio, id est coaptatio, visibilium formarum ad demonstrationem rei invisibilis propositarum »*****. To, что это «доказательство» несовместимо с логикой пропозиций, предполагающей определенные понятия (очерченные однозначным познавательным контуром), то есть понятия, которые могут что-то обозначать только потому, что они обозначают какую-то одну вещь, для нас в данном случае не является проблемой. Проблема здесь состоит в том, что только в совокупной экономии collatio et coaptatio могут пониматься как отношение и пре-
* Chenu. Théologie au XII siècle. Ch. VIII. **Ibid.P. 160. ***Ibid.R 184. ****Ibid.P. 184.
***** «Символ есть сопоставление и согласование зримых образов, предпринимаемые с целью доказательства наличия вещей незримых» (лат.).
тендовать на роль demonstratio. Я присовокуплю к этому тезис Эдмона Ортига[98], приведенный им в «Дискурсе и символе» («Discours et Symbole»): «Один и тот же термин может быть воображаемым, если его рассматривать как абсолютный, и символическим, если его считать обособленной ценностью, коррелятивной с другими терминами, которые его взаимно ограничивают». «Когда мы сосредоточиваем внимание на материальном воображаемом, дифференциальная функция уменьшает свою действенность, — мы устремляемся к равнозначным явлениям; когда мы сосредоточиваемся на элементах, образующих общность, дифференциальная функция возрастает, — мы устремляемся к отличным друг от друга явлениям»*. С этой точки зрения, надписи, высеченные в камне или средневековые бестиарии весьма близки к образу; вот почему они, являясь центром притяжения для воображения, составляют целостную основу графических изображений как на острове Крит, так и в Ассирии, которые поочередно в изобилии возникали в различных вариациях, но оставались стереотипными по своему замыслу. Но если эти надписи и изображения принадлежат к той же структуре, что и аллегорическое толкование и умозрительные построения по поводу знаков и символов, то только потому, что потенциальная неограниченность означивания с помощью образов дифференцирована в языковом употреблении, что как раз и ведет к толкованию; тогда типология истории, осуществляемой в рамках церковного сообщества, вместе с культом, ритуалом и т. п., сменяет полиморфную природную символику и встает препятствием на пути ее безудержного распространения. Именно интерпретируя предания, расшифровывая Heilgeschichte, толкователь предоставляет художнику с его богатым воображением принцип выбора. В таком случае следует сказать, что символизм не заключен в том или ином символе и еще менее — в его абстрактном описании; такое описание всегда будет весьма скудным, поскольку ему соответствовали бы одни и те же образы; но и чрезвычайно богатым, поскольку каждый образ потенциально может обозначать все другие; символическое скорее находится между символами как их отношение и структу-
* Ortigues E. Discours et Symbole. P. 197.
ра этого отношения. Такой характер символического нигде не выражен столь очевидно, как в христианстве, где природный символизм одновременно проявляется и упорядочивается только в свете Слова, в том, что может быть рассказано. Никакого природного символизма, никакого абстрактного или морализирующего аллегоризма (последний непременно следует за первым не только в качестве победителя, но в качестве плода его — до такой степени символ поглощает свою физическую, чувственно осязаемую основу) не существует без исторической типологии. Символическое в таком случае коренится в игре, управляемой природным символизмом, абстрактным аллегоризмом и исторической типологией: знаки природы, примеры добродетели, деяния Христа интепретируются здесь одни через другие, и диалектика эта свойственна любому творению, любому отражению, любому прочтению.
Настоящие рассуждения полностью соответствуют предшествующим замечаниям: не может быть структурного анализа, говорили мы, без герменевтического понимания смыслового переноса (без «метафоры», без translatio[21]), без косвенного обретения смысла, образующего семантическое поле, исходя из которого и могут быть установлены структурные гомологии. В языке наших средневековых символистов, берущем начало от Августина и Дионисия и соответствующем требованиям трансцендентного объекта, на первом месте стоит перенесение, перевод видимого в невидимое при посредничестве образа, почерпнутого в чувственно воспринимаемой реальности; приоритет принадлежит семантическому образованию в форме «схожее — несхожее» и на основе символов или образов. Если говорить абстрактно, то исходя из этого может быть разработан синтаксис, упорядочивающий знаки на различных уровнях.
Однако в равной мере не существует герменевтического понимания без смены структуры, порядка, в которых символика совершает означивание. Символам, как таковым, угрожает либо слияние с воображаемым, либо превращение в аллегоризм; их богатство, их избыточность, их полисемия обрекают наивных символистов на крайности и самолюбование. То, что уже Св. Августин в «Христианском
учении» называл verbor um translator um ambiguitates*, и то, что мы просто-напросто называем двойственностью с точки зрения требований однозначности логического мышления, означает следующее: символы осуществляют свою символизирующую функцию только в совокупности, ограничивающей и связывающей между собой их значения.
Отсюда следует, что понимание структур не является внешним по отношению к пониманию, имеющему целью мыслить, беря за исходную точку символ; сегодня понимание структур является необходимым посредником между наивным символизмом и герменевтическим пониманием.
Этими рассуждениями, в которых за структуралистом остается последнее слово, я и хотел бы завершить мой анализ, чтобы наши интересы и ожидания не потеряли своей остроты.
Двойной смысл как герменевтическая и семантическая проблема
Мое сообщение преднамеренно носит междисциплинарный характер: я предлагаю рассмотреть некоторые трактовки проблемы символизма и поразмышлять над тем, что означает многочисленность таких трактовок. Я охотно признаю за философией роль арбитра, и в одной из предшествующих работ** я попытался взять на себя такую роль, чтобы вынести свое суждение о конфликте, который возник между несколькими герменевтиками, существующими в современной культуре, в частности между герменевтикой, направленной на демистификацию смыслов, и гременевти-кой, говорящей о взаимосвязанности смыслов. Но сейчас я хотел бы обратиться к другой проблеме, порожденной иного рода расхождением; предложенные мной способы трактовки символизма, которые я намереваюсь противопоставить друг другу, представляют собой различные стратегические уровни. Я рассмотрю два, даже три стратегических
* Chenu. Théologie au XII siècle. Ch. VIII. P. 171. ** La Symbolique du mal.
уровня: я возьму герменевтику в качестве герменевтики текстов. Далее, я противопоставлю ее лингвистической семантике; однако лингвистическая семантика сама образует два различных стратегических уровня: уровень лексической семантики, которую часто называют просто семантикой (например, Стивен Ульман или П. Гиро[100]): она существует на уровне слов, или, точнее, как говорит Ульман, на уровне имени, на уровне наименования, или называния; но, с нашей точки зрения, этот уровень образует структурную семантику, характеризуемую, кроме всего прочего, изменением плана и изменением единиц, переходом от молярных единиц коммуникации, в качестве которых еще выступают слова, a a fortiori[29] тексты, к молекулярным единицам, которые являются, как мы это сейчас увидим, элементарными структурами значения.
Я предполагаю рассмотреть то, как видоизменяется наша проблема символизма, когда ее переводят с одного уровня изучения на другой. Я вновь обращусь к некоторым проблемам, проанализированным мною в разделе «Структура и герменевтика», но, как представляется, в более благоприятных условиях: ведь риска противостояния между философией интерпретации и структуралистской наукой на одном и том же уровне можно избежать, если мы обратимся к методу, который одновременно работает на двух различных уровнях реализации, «действий» рассматриваемых смыслов.
В целом я хотел бы показать следующее: изменение масштаба проблемы ведет к появлению едва ощутимого образования, которое одно только делает возможной научную трактовку проблемы: путь анализа, путь разложения на более мелкие единицы — это путь науки, и мы видим, как он находит свое применение в машинном переводе. Но я хотел бы, напротив, показать, что редукция к простому способствует устранению фундаментальной функции симво-' лизма, которая может возникнуть только на высшем уровне проявления и которая связывает символизм с реальностью, опытом, миром, существованием (я специально предоставляю право выбора между этими терминами). Короче говоря, я хотел бы показать, что путь анализа и путь синтеза не совпадают друг с другом, что они не равнозначны: на пути анализа обнаруживаются элементы значе-
ния, не имеющие никакого отношения к так называемым вещам; на пути синтеза выявляется функция означивания, то, что есть «говорение» и, в конечном итоге, «показывание».
1. Герменевтический уровень
Чтобы с успехом вести наше расследование, необходимо иметь в виду, что речь идет об одной и той же проблеме, которую мы трактуем в трех различных планах. Это проблема, которую я назвал проблемой множественности смысла (le sens multiple). Таким образом я описываю определенное действие смысла, в соответствии с которым какое-либо выражение, обладающее меняющимся значением, обозначая одну вещь, в то же время обозначает и другую вещь, не переставая при этом обозначать первую. В собственном смысле слова, это — аллегорическая функция языка (аллегория, собственно, и означает: говоря одно, говорить и другое).
Герменевтика как раз и определяет, по меньшей мере по отношению к другим стратегическим уровням, какие мы сейчас будем рассматривать, величину последовательных отрезков, которыми она оперирует и которые я называю текстами. Идея герменевтики, понятой как наука о правилах толкования, родилась прежде всего в ходе экзегезы библейских текстов, а затем и текстов светских; здесь понятие текста имеет строго ограниченный смысл; Диль-тей в своей объемной статье «Возникновение герменевтики» («Die Entstehung der Hermeneutik») писал: «Мы называем экзегезой, или толкованием, искусство понимания четко фиксированных жизненных проявлений», или еще: «Искусство понимания вращается вокруг толкования человеческих свидетельств, сохраненных с помощью письма», и еще: «Мы называем экзегезой, или истолкованием, искусство понимания фиксированных в слове проявлений жизни». Итак, текст — это не только определенный минимальный размер того, с чем предпочитает работать лингвист, но и внутренняя организация произведения, Zusammenhang, внутренняя связность; первым достижением современной герменевтики было принятие в качестве правила движе-
ние от целого к части и деталям (например, трактовка библейской коллизии как связности, или, говоря словами Шлейермахера, как отношения между внутренней и внешней формой).
Для толкователя именно текст обладает множественным смыслом; проблема множественного смысла существует для него только при условии, если мы принимаем во внимание такую совокупность, в которой соединены между собой события, персонажи, институты, природные или исторические реалии; это целое «хозяйство» — означивающая совокупность — готово к переносу исторического смысла в духовную сферу. В средневековой традиции с ее многочисленными трактовками Писания складывается — благодаря внушительным совокупностям — его четырехсо-ставный смысл.
Однако проблема множественного смысла сегодня не является проблемой одной экзегетики, берем ли мы это слово в библейском или в светском его понимании; это — проблема междисциплинарная, которую я хотел бы сначала рассмотреть единственно на стратегическом уровне, в однородном плане — в плане текста. Феноменология религии (которую разрабатывает Ван дер Леув и, в определенной мере, Элиаде), фрейдовский или юнговский психоанализ (я не провожу в данном случае различия между ними), литературная критика (новая или традиционная) позволяют нам обобщить понятие текста, сводя его к означивающим совокупностям, обладающим иной, чем фраза, степенью сложности. Я рассмотрел бы здесь только один пример, довольно далекий от библейской экзегезы, чтобы подчеркнуть мысль об обширности герменевтического поля: сновидение трактуется Фрейдом как рассказ, который может быть весьма кратким, но всегда отличается внутренним многообразием; именно этот рассказ, не поддающийся интеллигибельному восприятию при первой его передаче, надлежит, говоря словами Фрейда, заменить (substituer) на более вразумительный текст, который стал бы главным, как это происходит, когда скрытое становится явным. Таким образом, мы имеем обширную область двойного смысла, внутренние артикуляции которого говорят о разнообразии перменевтик.
Итак, что же лежит в основе разнообразия этих герме-невтик? С одной стороны, герменевтики говорят о различиях в технике: психологическая расшифровка — это одно; библейское толкование того же — другое; различие касается здесь внутренних правил интерпретации; это — эпистемологическое различие. Но, в свою очередь, эти различия в технике отсылают к различиям замысла, имеющего отношение к функции интерпретации: одно дело использовать герменевтику как орудие предположения относительно «мистификаций» ложного сознания; другое — использовать ее как подготовительное действие для лучшего понимания того, что однажды уже обрело смысл, того, что однажды уже было выговорено.
Стало быть, сами возможности герменевтик, расходящихся в разных направлениях и соперничающих друг с другом, — если иметь в виду их технику и замысел, — призваны содействовать реализации одного фундаментального условия, которое, как я считаю, характеризует в целом стратегический уровень разнообразных герменевтик; именно на этом фундаментальном обстоятельстве мы здесь и остановимся; суть его заключается в том, что символическое есть сфера выражения нелингвистической реальности. Это и является главной причиной непримиримого противостояния; забегая вперед, можно сказать: в герменевтике универсум знаков не закрыт (это высказывание обретет свой точный смысл только на другом стратегическом уровне). В то время как лингвистика движется в замкнутом и самодостаточном универсуме и имеет дело только с соотносящимися друг с другом значениями, с отношениями знаков, которые истолковываются один через другой, герменевтика, говоря словами Чарлза Сандерса Пирса[102], работает в режиме раскрытия универсума знаков.
Цель настоящего сообщения заключается в том, чтобы показать, что этот режим раскрытия связан со шкалой, где действует интерпретация, понимаемая в качестве экзегезы, в качестве толкования текстов, и что закрытость лингвистического универсума полностью обнаружится лишь при изменении этой шкалы и рассмотрении небольших означивающих единиц.
Что подразумеваем мы здесь под раскрытием? Оно означает, что в каждой герменевтической дисциплине интер-
претация находится на стыке лингвистического и нелингвистического, языка и жизненного опыта (каким бы он ни был); специфика герменевтик как раз и состоит в том, что это воздействие языка на бытие и бытия на язык достигается различными способами: так, символика сновидения не может быть лишь чистой игрой означаемых явлений, отсылающих друг к другу; она явлЛется сферой выражения, где выговаривается желание; я предлагаю свою трактовку семантического понятия желания, чтобы обозначить переплетение двух видов отношений: отношений силы, проявляющих себя в энергетике, и отношений смысла, обнаруживаемых при толковании смысла. Символизм существует потому, что то, что поддается символизации, первоначально существует в нелингвистической реальности, которую Фрейд упорно называет влечениями, взятыми в их репрезентативных и аффективных проявлениях; именно эти проявления и их отголоски то обнаруживают себя, то исчезают в действиях смысла, которые носят название симптомов, сновидений, мифов, идеалов, иллюзий. Мы далеки от того, чтобы двигаться внутри замкнутой в себе лингвистической науки; мы постоянно находимся на грани между эротикой и семантикой; возможности символа здесь таковы, что двойной смысл представляет собой способ, благодаря которому желание обретает возможность заявить о себе.
То же самое мы имеем и на противоположной стороне герменевтического веера: если так или иначе можно говорить о герменевтике священного, то только в той мере, в какой двойной смысл текста, повествующий, например, об Исходе, опирается на определенную идею странствования, экзистенциально пережитую как путь из плена к освобождению; апеллируя к речи, которая одновременно с повествованием несет в себе и предписание, двойной смысл нацелен здесь на расшифровку экзистенциального движения, некоего онтологического удела человека, посредством расширения смысла, связанного с конкретным событием, которое, если говорить буквально, находится в исторически обозреваемом мире; двойной смысл является здесь определителем позиции в бытии.
Таким образом, символизм, взятый на уровне его проявления в текстах, свидетельствует о том, что язык взры-
вается, устремляясь навстречу к иному, чем он сам: именно это я и называю раскрытием; этот взрыв есть говорение; говорить же значит показывать; причиной того, что соперничающие друг с другом герменевтики расходятся, является не структура двойного смысла, а способ его раскрытия, цель его обнаружения. В этом и сила, и слабость герменевтики: слабость, поскольку, обращаясь к языку в тот момент, когда он ускользает от самого себя, герменевтика обращается к нему также и в тот момент, когда он ускользает от научной трактовки, которая рождается только вместе с постулатом о замкнутости универсума означения; все другие ее слабости вытекают из этого, и прежде всего та, что является из ряда вон выходящей, — превращение герменевтики в арену борьбы атакующих друг друга философских проектов. Но эта слабость является и ее силой, поскольку место, в котором язык ускользает от самого себя и от нас, есть в то же время место, где он возвращается к себе, где он является говорением; я понимаю отношение «показывать — прятать» так, как его понимает психоаналитик или феноменолог религии (и я думаю, что сегодня необходимо объединить эти два проекта), — как способность, которая открывает, выявляет, выносит на свет, и этой способностью обладает становящийся самим собой язык; в таком случае он умолкает перед тем, о чем говорит.
Позволю себе сделать краткий вывод: символизм интересен для философии исключительно тем, что он, благодаря своей структуре двойного смысла, обнаруживает неоднозначность бытия: «Бытие говорит о себе различными способами». В этом смысл символизма — основываясь на неоднозначности бытия, раскрывать множественность смысла.
Продолжение данного анализа имеет целью показать, почему такое понимание бытия связано со шкалой дискурса, который мы назвали текстом и который реализуется то как сновидение, то как гимн. Мы не знаем этого и поймем это со всей определенностью, если сопоставим этот подход к проблеме двойного смысла с другими подходами, в результате чего изменение шкалы пойдет по пути прогресса, к научной строгости, и — одновременно — по пути постепенного ослабления онтологической функции языка, которую мы только что обозначили как говорение.
2. Лексическая семантика
Первое изменение шкалы заставляет нас обратиться к рассмотрению лексических единиц. Сюда входит одна — и только одна — часть соссюровского наследия; сейчас мы рассмотрим работы, которые исходят из применения фонологического анализа к семантике и с этой целью требуют гораздо более радикального изменения шкалы, поскольку лексемы, как считается, находятся на уровне проявления дискурса, как это было в случае с большими единицами, которые мы только что проанализировали; тем не менее уже на этом уровне можно осуществить некоторое описание и даже объяснение символизма.
Прежде всего некоторые описания.
Проблема множественного смысла на деле может быть очерчена в лексической семантике как проблема полисемии, то есть как возможность одного имени (я использую здесь терминологию С. Ульмана*) иметь более чем один смысл; это действие смысла можно описать с помощью сос-сюровских терминов означающего и означаемого (Ульман переписал это по-своему: имя и смысл); здесь уже исключается отношение к вещи, хотя Ульман не сделал окончательного выбора между транскрипцией Огдена — Ричард-са[103], выполненной в духе элементарного треугольника: символ — референт — отсылка, и соссюровским анализом, ведущимся на двух уровнях (мы сразу же увидим почему: замкнутость лингвистического универсума на этом уровне еще не абсолютна).
Мы продолжаем описание, пользуясь соссюровской терминологией и различая синхроническое и диахроническое определения двойного смысла; синхроническое определение: в конкретном употреблении языка одно и то же слово имеет несколько смыслов; строго говоря, полисемия является синхроническим понятием; в диахронии множественность смысла вызывается изменением смысла, переносом смысла. Несомненно, чтобы не упускать из виду совокупность проблем полисемии на лексическом уровне, надо комбинировать эти два подхода, поскольку именно изменения смысла синхронно проецируются на явление полисемии;
* Ullmann S. Principles of Semantics.
это значит, что старое и новое становятся современниками в одной и той же системе; более того, именно изменения смысла должны быть приняты в качестве руководящей идеи, если мы хотим распутать клубок синхронии; в противовес этому семантическое изменение всегда возникает как искажение, произведенное в предшествующей системе; если мы не знаем, какое место занимает тот или иной смысл в системе, то у нас не может возникнуть никакой идеи относительно природы изменения, которое сказывается на значении этого смысла.
Наконец, мы можем дальше продвинуть описание полисемии по пути, предложенному Соссюром, рассматривая знак не как внутреннее отношение означаемого и означающего, имени и смысла (это было необходимо для формального определения полисемии), а в его отношении к другим знакам; здесь на память приходит руководящая идея «Курса общей лингвистики» — трактовать знаки как различия в системе. Что станется с полисемией, если поместить ее в эту перспективу, которая свойственна структурной лингвистике? Это будет самым первым подходом к тому, что можно было бы назвать функциональной характеристикой полисемии; речь идет исключительно о первом подходе, поскольку мы остаемся в плане языка, и символ здесь функционирует как речь, то есть выражение в дискурсе. Но, как показал Год ель[104] в работе «Курс общей лингвистики. Рукописные источники» («Sources manuscrites du Cours de linguistique générale»), приступая к рассмотрению «механизма речи», мы тотчас оказываемся в режиме посредничества между механизмом системы и механизмом исполнения; именно на уровне механизма речи режим упорядоченной полисемии, являющийся режимом обыденного языка, и раскрывает себя; этот феномен упорядоченной, или ограниченной, полисемии, находится в точке пересечения двух процессов: первый имеет своим истоком знак как «кумулятивную интенцию»; он связан только со знаком и является экспансионистским процессом, ведущим к перегрузке (overload) смыслом, как это можно видеть на примере некоторых слов, тех, что, означая слишком многое, вместе с тем не означают ничего, — или некоторых традиционных символов, которые настолько перегружены противоречащими друг другу значениями, что последние стре-
мятся уравновесить себя (огонь, который обжигает и согревает; вода, которая утоляет жажду и в которой можно утонуть); с другой стороны, перед нами процесс ограничения, осуществляемый по следам в семантической сфере, прежде всего путем структурирования некоторых упорядоченных областей, наподобие тех, которые были изучены Йостом Триром[105], автором «теории семантических полей»; но мы все еще находимся на соссюровской почве, поскольку знак не является фиксированным значением (или иначе: не имеет фиксированного значения), а обладает ценностью, противостоящей другим ценностям. Знак — результат отношения идентичности и различия; такое упорядочение — следствие конфликта между семантической экспансией знаков и ограничивающей деятельностью семантического поля, по своим последствиям схожей с организацией фонологической системы, хотя и существенно отличающейся от нее своим механизмом; действительно, различие между организацией семантического поля и организацией фонологической системы остается существенным; значение этих организаций не ограничивается одной лишь дифференцирующей функцией, то есть функцией противопоставления; они имеют также и кумулятивную ценность; это делает полисемию одной из ключевых проблем семантики, можно даже сказать — ее главнейшей проблемой. Здесь мы подходим к вопросу о том, что же является специфическим отличием в семантическом плане, обусловливающим возможность явления двойного смысла, Урбан отмечал уже: язык делает инструментом познания то, что знак может означать одну вещь, не переставая в то же время означать и другую; следовательно, чтобы обладать экспрессивным значением по отношению к другой вещи, он должен быть конституирован как знак первой вещи; и добавлял к этому: данная «кумулятивная интенция слов является плодотворным источником многозначности, но она же является и источником аналогической предикации, благодаря чему приводится в действие символическая способность языка»*.
Это прозорливое замечание Урбана позволяет увидеть то, что можно было бы назвать функциональностью поли-
* Цит. по Ullmann S. Principles of Semantics. P. 117.
семии; то, что представало перед нами в плане текстов как особый сектор дискурса, сектор смысловой множественности, теперь предстает укорененным в общей сфере лексических единиц, то есть функционирующим как накопитель смысла, как обменный пункт между старым и новым; таким образом, двойной смысл приобретает характер экспрессивной функции по отношению к означиваемой реальности, выполняя опосредующую роль. Как это происходит?
Здесь мы все еще можем идти вслед за Соссюром, проводящим различие между двумя способами функционирования речи (на самом деле он говорит здесь не о языке как системе знаков, существующей в данный момент, а о механизме речи, то есть о дискурсе, который включен в язык). В цепи говорения, отмечал он, между знаками существует двойное отношение: синтагматическое, связывающее противоположные знаки в отношение in praesentia[34], и ассоциативное, сближающее схожие друг с другом знаки, которые можно менять местами, но устанавливающее между ними отношение in absentia*[5]. Как известно, это различение было воспроизведено Романом Якобсоном*, сформулировавшим его в схожих терминах: отношение логической связи (конкатенация) и отношение отбора (селекция). Это различение имеет существенное значение для понимания проблемы семантики вообще и символизма в частности. На деле как раз в игре, где комбинируются эти два явления: логическая связь и отбор, — и складывается отношение между синтаксисом и семантикой.
Следуя Якобсону, мы, однако, не стали бы приписывать лингвистический статус не только семантике, но и символизму; линия замещения, в действительности, — это линия подобий, в то время как линия логической связи — это линия смежностей; существует, стало быть, возможность привести в соответствие с соссюровским различением то, которое ранее относили к риторике, — различение между метафорой и метонимией; или, точнее, существует возможность придать полярному отношению между метафорой и метонимией более общий функциональный смысл, свидетельствующий о полярности этих двух процессов, и говорить о процессе метафорическом и процессе метонимическом.
* Jakobson R. Essais de linguistique générale.
И здесь мы снова касаемся вопроса об истоке процесса символизации, который ранее мы трактовали как результат прямого действия текста. Его механизм теперь мы находим в том, что можно было бы назвать действием контекста. Вернемся, однако, к функционированию упорядоченной полисемии, которое мы вместе с «теорией полей» рассмотрели в плане языка; тогда речь шла скорее об ограниченной полисемии; упорядоченная полисемия есть, собственно говоря, результат действия смысла, порожденного в дискурсе. Когда я говорю, я реализую только одну часть потенциально означаемого; все остальное пребывает в тени целостного значения фразы, которая действует как единица речи. Но оставшиеся семантические виртуальности не уничтожаются, они витают вокруг слов как не полностью уничтоженная возможность; следовательно, контекст играет роль фильтра; когда одно измерение смысла — благодаря игре сходств и подкреплений — проходит между всеми аналогичными измерениями других лексических терминов, — тогда, значит, действие смысла состоялось и он может достичь абсолютной однозначности, как это имеет место в технических языках; таким образом, благодаря выборочному, или просеивающему, действию контекста мы из многозначных слов составляем однозначные фразы; но случается, что именно так составленной фразе не удается свести к однозначному употреблению потенциальные возможности смысла, и она сохраняет или даже сама создает конкуренцию между несколькими местами обитания значения; с помощью различных процедур дискурс может реализовать двойственность, которая в таком случае возникает как комбинация, состоящая из одного лексического факта — полисемии, и одного факта контекста: за несколькими различными и даже противоположными значениями одного и того же имени сохраняется возможность реализовать себя в пределах одного и того же отрезка.
Итак, подведем итоги этой второй части.
Чего мы достигли, перенеся в лексический план проблемы, с которыми мы столкнулись в плане герменевтическом? Что приобрели и что потеряли?
Мы, безусловно, достигли более правильного понимания символизма: символизм предстает теперь как действие
смысла, наблюдаемого в плане дискурса, но построенного на основе более простого функционирования знаков; это функционирование можно перенести и на другую ось языка, отличную от той, на которой представлены только последовательные и соприкасающиеся друг с другом цепочки, определяющие синтаксис; семантика и особенно проблема полисемии и метафоры в лингвистике обретают, таким образом, право на существование. Принимая определенный лингвистический статус, рассматриваемый процесс получает функциональное значение; в итоге полисемия не является более отклоняющимся от нормы явлением, а символизм не выступает в качестве украшения языка; полисемия и символизм принадлежат сфере, где образуется и функционирует любой язык.
Таковы приобретения, полученные нами в плане описания и функционирования. Но перенесение нашей проблемы в область лингвистики имеет и обратную сторону: семантика оказалась включенной в лингвистику. Но какой ценой? Ценой того, что анализ был помещен в замкнутом лингвистическом универсуме. Но мы этого и не скрывали. Однако если вернуться к определенным аспектам анализа, проведенного Якобсоном, станет очевидным то, что мы опустили в предыдущем описании. Чтобы подчеркнуть собственно лингвистический характер семантики, Якобсон сближает точку зрения Соссюра на ассоциативные отношения (или, если воспользоваться его словами, на ось замещения) с точкой зрения Чарлза Сандерса Пирса на удивительное свойство знаков взаимно интерпретировать друг друга. Именно здесь понятие интерпретации не имеет никакого отношения к экзегезе: любой знак, согласно Пирсу, требует, кроме двух протагонистов, еще и интерпретатора; функцию интерпретатора может брать на себя другой знак (или совокупность знаков), раскрывая значение первого и сохраняя за собой возможность заменить его. Это понятие интерпретатора, как его определяет Пирс, весьма напоминает понятие о группе замещения в соссюровской трактовке; однако вместе с тем это понятие находит ему место внутри игры собственно лингвистических отношений. Любой знак, говорим мы, может быть выражен с помощью другого знака, внутри которого он раскрывается с
большей полнотой; это касается определений, уравнительных предикаций, описательных выражений, предикативных отношений и символов. Но чего мы достигли, идя таким путем? Мы разрешили проблему семантики с помощью ресурсов металингвистической функции, то есть, если иметь в виду другое исследование Якобсона, нацеленное на изучение множественных функций, используемых в коммуникации, тех ресурсов функции, которая связывает отрезок дискурса с кодом, а не с отсылкой. Это настолько справедливо, что, когда Якобсон опирается на структурный анализ для изучения метафорического процесса (приравненного, как мы помним, к группе операций, включающих в игру сходство на оси замещений), он развивает его в понятиях металингвистического действия: только потому, что знаки взаимно обозначивают друг друга, они вступают в отношения замещения и становится возможным сам метафорический процесс. Таким образом, семантика со свойственной ей проблемой множественного смысла пребывает в закрытом языковом пространстве, так что не случайно лингвист ссылается здесь на логика: «Символическая логика, — отмечает Якобсон, — не перестает напоминать нам о том, что лингвистические значения, образованные системой аналитических отношений одного выражения к другим, не предполагают присутствия вещей»*. Не лучше ли просто сказать, что более строгая трактовка проблемы двойного смысла была оплачена отсутствием устремленности к вещи. В конце первой части мы утверждали: философское значение символизма заключается в том, что в нем неоднозначность бытия заявляет о себе благодаря множественности наших знаков. Теперь мы знаем, что наука, изучающая эту смысловую множественность, то есть лингвистическая наука, требует от нас, чтобы мы находились в замкнутом универсуме знаков. Не содержится ли здесь указание на вполне определенное отношение между философией языка и наукой о языке, между герменевтикой как философией и семантикой как наукой?
Именно это отношение мы будем уточнять, еще раз меняя масштабы с помощью структурной семантики, как это
* Jakobson R. Essais de linguistique générale. P. 42.
практикуется не только в прикладной лингвистике, например при машинном переводе, но и в теоретической лингвистике, опираясь на все то, что носит сегодня название структурной семантики.
3. Структурная семантика
Согласно г-ну Греймасу*[108], структурная семантика руководствуется тремя методологическими принципами.
Данная дисциплина с самого начала принимает тезис о закрытости лингвистического универсума; опираясь на этот тезис, семантика, с помощью металингвистических операций, берет на себя работу по переводу знаков с одного уровня на другой. Но если у Якобсона мы не видим, каким образом располагаются одни структуры языкового объекта по отношению к другим, а именно созданным метаязыком, то последовательность иерархических уровней языка представлена здесь вполне отчетливо; сначала мы имеем языковой объект, затем — язык, с помощью которого описываются элементарные структуры языкового объекта, затем — язык, с помощью которого вырабатываются операциональные понятия этого описания, наконец — язык, с помощью которого укореняются и определяются операциональные понятия. Благодаря этому проясненному видению иерархических уровней языка внутри закрытого лингвистического пространства лучше высвечиваются постулаты этой науки, а именно то, что структуры, созданные на металингвистическом уровне, являются теми же самыми, что и имманентные структуры языка. Второй постулат, или методологический подход, имеет отношение к изменению стратегического уровня анализа: в качестве отсылки будут браться не слова (лексемы), а нижележащие структуры, созданные специально в целях анализа.
Я могу здесь только наметить в общих чертах идею предпринятого анализа; речь идет о работе с новой единицей, с семой, которая всегда берется в отношении бинарной оппозиции типа длинный — короткий, широкий — узкий и т. п., но на более низком уровне, чем лексика. Никакая се-
r Greimas. Sémantique structurale.
ма, или семическая категория, даже если ее наименование почерпнуто из обыденного языка, не идентична лексеме, проявляющейся в речи; в таком случае мы имеем не термины-объекты, а отношения конъюнкции и дизъюнкции: разъединение на две семы (например, мужское — женское), соединение на основе единственной черты (например, род). Семический анализ заключается в установлении для группы лексем принципа иерархического соподчинения конъюнкций и дизъюнкций, которым исчерпывается их образование. Преимущества прикладной лингвистики здесь очевидны: бинарные отношения подлежат исчислению в системе, в основе которой лежит единица (О, 1), а конъюнкции и дизъюнкции — освоению с помощью кибернетических машин.
Это преимущество имеет не меньшее значение и для теории, поскольку семы представляют собой единицы, образованные исключительно в соответствии с их реляционными структурами. Было бы идеально, если бы нам удалось реконструировать целостную лексику с наименьшим числом этих элементарных структур значения; если бы мы преуспели в этом деле — что вовсе не является предприятием, неподвластным человеку, — то термины-объекты полностью определились бы для исчерпывающего анализа как набор сем, содержащих в себе только конъюнкции — дизъюнкции и иерархии отношений, короче говоря, как семи-ческие системы.
Третий постулат заключается в том, что единицы, которые мы в дескриптивной лингвистике называем лексемами и используем в качестве слов в языковой практике, принадлежат области проявления дискурса, но не области имманентного. Слова — если пользоваться обыденным языком — обладают собственным способом присутствия, отличным от способа существования этих структур. Этот момент чрезвычайно важен для нашего исследования, поскольку то, что мы рассмотрели в качестве множественного смысла и символического функционирования, есть * действие смысла», проявляющееся в дискурсе, однако его основание находится в другой области.
Все силы структурной семантики будут направлены на то, чтобы шаг за шагом реконструировать отношения, которые позволят выявить эти действия смысла в их всевоз-
растающей сложности. Я коснусь здесь только двух моментов этой реконструкции: прежде всего, мы сможем с необычайной точностью и строгостью подойти к проблеме множественного смысла, взятого в качестве лексического свойства, и к символическому функционированию в высших единицах слова, то есть в фразе. Структурная семантика стремится выявить семантическое богатство слов с помощью весьма оригинального метода, заключающегося в приведении в соответствие определенных вариантов смысла с классами контекстов; в таком случае варианты смысла могут быть проанализированы во вполне определенной перспективе, в той, которая является общей для всех контекстов, и в контекстуальной изменчивости; если поместить этот анализ в рамки действующего языка, полученные в результате сведения лексем к некоему комплексу сем, то можно определить изменчивые действия смысла слова как производные от сем — или семем, как то, что вытекает из соединения одного семического узла и одной или нескольких контекстуальных сем, которые сами являются семическими классами, соответствующими классам контекстуальным.
То, что мы были вынуждены оставить неясным в предшествующем анализе, а именно понятие семантической потенциальности, приобретает здесь аналитически точный характер; можно представить в виде формул, являющих собой лишь конъюнкции, дизъюнкции и иерархические отношения, каждое из этих действий смысла и таким образом строго локализовать контекстуальную изменчивость, которая приводит к действию смысла. Тем самым можно выявить — с необычайной точностью и строгостью — роль контекста, которую мы прежде описывали в еще довольно смутных терминах как деятельность по отсеиванию или как игру аналогий между определенными измерениями смысла различных слов во фразе. Теперь мы можем говорить о подборке (le tri) контекстуальных переменных величин: возьмем в качестве примера (пример этот приводит М. Греймас) фразу: «собака лает», где контекстуальная переменная «животное», общая и «собаке», и «лает», позволяет исключить те смыслы слова «собака», которые отсылали бы не к животному, а к вещи (ружейный курок, со-
бачка), так же как и те смыслы слова «лает», которые относились бы, скажем, к человеку. Действие подборки контекста состоит в усилении сем на основе повторения.
Как следует из данного анализа контекстуального функционирования, мы сталкиваемся здесь с теми же проблемами, какие обсуждали во второй части нашего исследования; но все эти проблемы требуют точности, которую в состоянии обеспечить только использование аналитического инструментария. С этой точки зрения, теория контекста поразительна; распространяя на повторения одних и тех же сем принцип стабилизации смысла во фразе, мы в состоянии с точностью определить то, что можно было бы назвать изотопией дискурса, то есть его распределение на однородном уровне смысла; отметим, что в примере: «собака лает» — речь идет об истории животного.
Как раз исходя из понятия изотопии дискурса проблема символизма может быть исследована теми же аналитическими средствами. Что происходит в случае с двусмысленным или многосмысленным дискурсом? То, что изотопия дискурса не обеспечивается контекстом; последний, вместо того чтобы отфильтровать серию изотопных семем, позволяет разворачиваться нескольким семантическим сериям, принадлежащим не соответствующим друг другу изотопиям.
Мне представляется, что достижение этого в высшей степени радикального аналитического уровня позволит нам лучше понять отношение между тремя стратегическими уровнями, с которыми мы последовательно имели дело. Сначала мы вместе с экзегетами оперировали большими единицами дискурса, то есть текстами; затем — вместе с семантиками-лексикологами — смыслами слов, то есть с именами; наконец, вместе с семантиками-структуралиста-ми — семическими образованиями. Такое изменение планов не было напрасным; оно свидетельствовало об увеличении строгости и, я бы сказал, научности в нашем анализе. Мы последовательно приближались к лейбницевско-му идеалу универсальной характеристики. Было бы ошибочным утверждать, что мы упразднили символизм; скорее, он перестал быть загадкой, колдовской и мистифицирующей реальностью, поскольку требует двойного объяс-
нения: прежде всего он соотносится со сферой множественного смысла, где речь идет о лексемах, то есть о языке; с этой точки зрения в символизме как таковом нет ничего примечательного; все слова обыденного языка имеют более чем одно значение; огонь у Башляра[109] в этом отношении не обладает ничем из ряда вон выходящим по сравнению с любым словом из нашего лексикона; таким образом, рассеивается иллюзия, будто символ, взятый как слово, является загадкой; возможность символизации укоренена в функции, общей всем словам, в универсальной функции языка, то есть в способности лексем развивать контекстуальные вариации. Но символизм дважды соотносится с дискурсом: только в дискурсе имеет место двойственность, и нигде более; в таком случае один лишь дискурс составляет действие частного смысла: обдуманная двойственность есть действие определенных контекстов и — теперь мы можем это утверждать — текстов, которые устанавливают одну изотопию, чтобы поддержать другую. Метафора как перенесение смысла (в этимологическом смысле слова) предстает тогда как изменение изотопии, как игра многочисленных изотопии — наслоенных одна на другую и соперничающих друг с другом. Понятие изотопии, стало быть, позволяет нам обозначить место метафоры в языке с большей точностью, чем понятие оси замещений, заимствованное Якобсоном у Соссюра.
Но в таком случае, спрошу я вас, не вступает ли философ в дело в конце пути? Имеет ли он основания задаваться вопросом, почему в некоторых случаях дискурс культивирует дух двусмысленности? Философ может уточнить свой вопрос: для чего существует двусмысленность? Или, скорее: что хочет сказать двусмысленность! Здесь мы подошли к самому главному — к вопросу о замкнутости лингвистического универсума. В той мере, в какой мы вторгаемся в гущу языкового мира, удаляемся от сферы его проявления и продвигаемся в направлении к единицам долек-сического значения, в той же мере мы содействуем реализации этого замкнутого мира; единицы значений, выявленные структурным анализом, не означивают ничего; они — всего лишь возможность комбинаторики; они ни о чем не говорят — они соединяются и разъединяются.
Отсюда следуют два способа понимания символизма: исходя из того, что его образует, и исходя из того, что он намеревается сказать. То, что его образует, соответствует структурному анализу; последний дробит символизм на «таинственные явления»; в этом и состоит его функция и, осмелюсь сказать, назначение; символизм имеет дело со всеми языковыми ресурсами, в которых нет ни грана таинственности.
Если подходить к символизму с точки зрения того, что он намеревается сказать, то здесь необходим иной подход, отличный от подхода структурной лингвистики; когда, говоря об анализе и синтезе, мы употребляем слова «идти вперед» и «возвращаться», надо иметь в виду, что эти слова не являются эквивалентными. В попятном движении возникает такая проблематика, которую анализ последовательно упраздняет. Г-н Рюйе[38] называл это экспрессивностью не в смысле выражения эмоций, то есть не в том смысле, что говорящий выражает себя, а в том смысле, что язык выражает что-то, говорит о чем-то. Экспрессивность выражается с помощью разнородности, существующей между планом дискурса, или планом проявления, и планом языка, или планом имманентности, который только и поддается анализу; лексемы служат не только анализу семических образований, но и синтезу единиц непосредственно воспринятого смысла.
Быть может, как раз возникновение экспрессивности и является самым удивительным свойством языка. Г-н Грей-мас очень хорошо сказал: «Вероятно, и существует тайна языка вообще, но этим должна заниматься философия; в языке как таковом нет никакой тайны». Я полагаю, мы можем также сказать: в конкретном языке нет тайны; самый поэтический, самый «священный» символизм имеет дело с теми же самыми семическими изменениями, что и самое банальное слово из нашего лексикона. Но существует тайна языка вообще, содержащаяся в том, что язык говорит, что-то говорит, что-то говорит о бытии. Если существует загадка символизма, она полностью принадлежит сфере проявления, где многозначность языка заявляет о себе в многозначности дискурса.
Не заключается ли теперь задача философии в том, чтобы неустанно открывать дискурс навстречу говоряще-
му сущему, тот дискурс, который лингвистика, в силу собственной методологии, все время закрывает, превращая в замкнутый универсум знаков, в сугубо внутреннюю игру их взаимных отношений?
Структура, слово, событие
Цель настоящего сообщения заключается в том, чтобы обратить дискуссию о структурализме к его истоку — к науке о языке, к лингвистике. Только действуя таким образом, мы будем иметь шанс одновременно выявить смысл спора и приглушить его остроту; только идя по этому пути, мы сможем определить значение структурного анализа и его границы.
1. Я хотел бы показать, что тип интеллигибельности, выраженный в структурализме, одерживает победу во всех случаях, где имеется возможность:
а) работать с уже образованной, застывшей, замкнутой в себе, и в этом смысле мертвой, совокупностью (corpus);
б) составить перечень элементов и единиц;
в) привести эти элементы и единицы в отношение оппозиции, преимущественно бинарной;
г) установить структуру и комбинаторику этих элементов и оппозиционных пар.
Я назвал бы языком тот аспект языкового мира, который поддается следующего рода систематизадиям: таксономии, то есть классификации и систематизации, вызванным к жизни самим языком, и семиологической модели, управляющей его изучением.
2. Затем я хотел бы показать, что успешный ход моего предприятия, напротив, предполагает выведение за пределы структурного понимания изучение конститутивных для дискурса актов, операций и процессов. Структурализм требует антиномичной трактовки отношения языка к дискурсу. Я возьму фразу, или высказывание, в качестве основы теперешнего своего рассмотрения. Я назову семантической модель, на которую опирается понимание в этой области.
3. Наконец, я хотел бы сделать краткий обзор исследований, которые с сегодняшней точки зрения не соответствуют структуралистской модели — по меньшей мере тому, как мы определили ее в первой части, — и свидетельствуют о новом понимании операций и процессов; это новое понимание займет место по ту сторону антиномии структуры и события, системы и деятельности, к чему приведет нас анализ структурализма.
В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о лингвистике Хомского[110], известной под названием «порождающая грамматика», которая поет отходную по структурализму, понимаемому как наука о таксономии, о закрытых схемах и уже осуществленной систематизации.
Но особенно я хотел бы наметить пути изучения слова в качестве места обитания языка, где постоянно совершается обмен между структурой и событием. Отсюда и вытекает название моего сообщения, где слову отводится место между структурой и событием.
Подобного рода исследование предполагает обращение к истинно фундаментальному пониманию языка как некоему образованию с определенной иерархией уровней. Все лингвисты говорят об этом, но значительно смягчают данное утверждение, исследуя все уровни языка под углом зрения одного и того же метода, например того, что успешно применяется на уровне фонологии, где продуктивно исследуются ограниченные и замкнутые в себе классификации, сущности, определенные исключительно с коммутативной позиции, отношения бинарной оппозиции, наконец, строго определенные сочетания дискретных единиц. Вопрос состоит в том, все ли уровни подобны друг другу. Мое исследование в целом будет основываться на идее, согласно которой переход к новой единице дискурса, образованной фразой или высказыванием, представляет собой сдвиг, разрыв, мутацию в иерархии уровней. Однако я не ограничу свой анализ вопросом об уровнях и в конце его выскажу предположение о том, что возможны и другие стратегические уровни, такие, как текст, внутренняя связность которого требует иного типа интеллигибельности, нежели фраза или местоположение слова во фразе. Вместе с этими обширными единицами, принадлежащими тексту, появляется возможность для онтологии логоса, или гово-
рения; если языковой мир оказывает определенное влияние на бытие, то происходит это на уровне проявления, или продуктивности, законы которой обладают собственной спецификой, если сравнивать их с законами предшествующих уровней.
Короче говоря, соединение методов, точек зрения, моделей является следствием иерархии уровней, существующей в употреблении языка.
1. Предпосылки структурного анализа
Меня будут более интересовать предпосылки лингвистической теории (слово «теория» берется здесь в строго эпистемологическом смысле), нежели ее результаты. Основоположник современной лингвистики Соссюр обратил внимание на эти предпосылки, но говорил о них на языке, зачастую отстающем от новой концептуализации, которую сам же и ввел; не кто иной, как Луи Ельмслев[40] теоретически осмыслил эти предпосылки. В работе 1934 года «Пролегомены к теории языка» («Prolegomena to a theory of Language») он первым выразил это в словах, полностью соответствующих своему предмету. Перечислим эти предпосылки:
1. Язык является объектом эмпирической науки; слово «эмпирический» берется здесь в современном звучании; оно означает не только приоритет наблюдения и его роль, но и подчинение индуктивных операций дедукции и исчислению.
Эта возможность представить языковой мир в качестве специфического объекта науки была реализована самим Соссюром с помощью известного разграничения языка и речи. Он отрицает за речью ее психофизиологическое претворение, индивидуальную принадлежность и свободное включение в дискурс и уготовляет для языка конститутивные нормы, такие, как код, имеющие значение для лингвистического сообщества, совокупность сущностей, между которыми осуществляется выбор в ходе свободных комбинаций дискурса. Таким образом выделяется однородный объект: все, что касается языка, попадает на деле в одну
и ту же область, в то время как слово разносится по регистрам — психофизиологическому, психологическому, социологическому, и, как представляется, оно не в состоянии образовать объект, принадлежащий какой-то одной специальной дисциплине.
2. В самой науке о языке следует также различать науку о состояниях системы, или синхроническую лингвистику, и науку об изменениях, или диахроническую лингвистику. Соссюр открыл здесь еще один путь, настаивая на том, что эти два подхода не могут осуществляться одновременно и, более того, необходимо второй подход подчинить первому. Радикализуя данный тезис Соссюра, Ельм-слев скажет: «За каждым процессом нужно уметь видеть систему»; благодаря этой второй предпосылке открывается новое поле для интеллигибельности: изменение, как таковое, интеллигибельно, оно понимается исключительно как переход от одного состояния системы к другому; именно это и означает слово «диахрония»; нас же прежде всего интересует система, то есть упорядоченность элементов в синхронной совокупности.
3. В составе системы нет абсолютных терминов, в ней существуют отношения взаимозависимости; Соссюр говорил: «Язык — это не субстанция, а форма»; если же интеллигибельной формой по существу является оппозиция, то мы, вслед за Соссюром, скажем также: «В языке нет ничего, кроме различий»; это означает, что значения, принадлежащие изолированным знакам, необходимо рассматривать не как этикетки в причудливом перечислении, а как относительные, негативные ценности, противопоставляющие одни знаки другим.
4. Совокупность знаков, чтобы ее можно было подвергнуть анализу, должна пониматься как замкнутая система; это очевидно на уровне фонологии, устанавливающей окончательный состав фонем данного языка; но это истинно и на уровне лексики, которая, как показывает словарь какого-либо языка, обширна, но не бесконечна. Это можно лучше понять, если удастся заменить данный практически необозримый перечень конечной классификацией нижележащих знаков, которые скрепляют нашу лексику и исходя из которых можно реконструировать огромное богатство реальных лексик. Наконец, небесполезно было бы на-
помнить, что синтаксис образован конечной системой форм и правил. Если к этому добавить, что на более высоком уровне лингвист всегда имеет дело с конечной совокупностью (corpus) текстов, то можно будет сформулировать в самом общем виде аксиому закрытости, которая руководит работой анализа. Оперируя, таким образом, внутри закрытой системы знаков, лингвист может видеть, что анализируемая им система не имеет внешней стороны, ей свойственны только внутренние отношения. Именно так Ельм-слев и определял структуру: автономная сущность внутренних зависимостей.
5. Определение знака, удовлетворяющее этим четырем предпосылкам, полностью отвергает наивную мысль о том, будто знак существует для вещи; и если мы корректно отделили язык от слова, систему от истории изменений, форму от субстанции и закрытую систему знаков от какой бы то ни было соотнесенности с миром, то надо будет и знак определить не только через его противостояние всем другим знакам того же уровня, но и через его чисто внутреннее, сугубо имманентное различие. Именно в этом смысле Соссюр различает означающее и означаемое, а Ельмслев — выражение и содержание. Эти предпосылки можно поместить во главу исследования, как это делает Соссюр в своем «Курсе»; но если следовать логике предпосылок, можно сказать, что данное определение знака только подтверждает совокупность предшествующих аксиом. В условиях закрытости универсума знаков тот или иной знак является либо различием между знаками, либо внутренним различием между выражением и содержанием, свойственным каждому знаку; эта двуликая реальность находится полностью внутри замкнутого лингвистического пространства.
Таким образом, можно сказать, что структурализм — это результат целостного осознания требований, вытекающих из данного положения предпосылок. Конечно, Соссюр пользуется не словом «структура», а словом «система»; слово «структура» появилось лишь в 1928 году на Первом международном конгрессе лингвистов в Гааге в сочетании: «структура системы». Слово «структура» возникло, таким образом, как результат спецификации системы и обозначало ограничительные сочетания, выделенные из числа возможностей соединения и сочетания, кото-
рые создают индивидуальную конфигурацию языка. В качестве прилагательного слово «структурный» стало синонимом системы. Структурная точка зрения тем самым во всех отношениях была противопоставлена генетической точке зрения. Она сочетала в себе одновременно идею синхронии (приоритет состояния языка над историей), идею организма (язык как единица всеобщностей, включающих в себя части), наконец, идею сочетания, или комбинаторики (язык как конечный порядок дискретных единиц). Таким образом был совершен переход от выражения «структура системы» к прилагательному «структурный», чтобы определить точку зрения, которая содержит в себе различные идеи, и, наконец, к «структурализму», чтобы обозначить конкретные исследования, принявшие структуралистскую позицию в качестве рабочей гипотезы, то есть в качестве идеологии и наступательного оружия.
2. Речь как дискурс
Обретение структурного подхода, несомненно, было победой научности. Создавая лингвистический объект как автономный, лингвистика сама становится наукой. Но какой ценой? Каждое из перечисленных нами положений несет в себе одновременно и победу и поражение.
Акт изречения исключается здесь не только как внешнее свершение, как индивидуальное исполнение, но и как свободное комбинирование, как осуществление еще не выговоренных формулировок. А ведь в этом, собственно говоря, и состоит сущность языка, его предназначение.
Одновременно исключается история — не только как процесс перехода из одного состояния в другое, но и как производство культуры и человека, осуществляемое в процессе производства языка. То, что Гумбольдт[111] назвал процессом деятельности и противопоставил его продукту деятельности, это не только диахрония, то есть изменение и переход от одного состояния системы к другому, но и генерирование — если иметь в виду ее глубинный динамизм — речевой деятельности в каждом из нас и во всех вместе.
Одновременно со свободной комбинаторикой и генерированием исключается и первичная интенция языка, ко-
торая состоит в том, чтобы говорить что-то о чем-то; эту интенцию и говорящий, и слушающий понимают непосредственным образом. Для них язык всегда нацелен на что-то, или, точнее, у него двойная нацеленность: идеальное видение (сказать что-то) и реальная отсылка (сказать о чем-то). В этом своем движении язык преодолевает сразу два порога: порог идеальности смысла и — по ту сторону этого смысла — порог соотнесенности. Благодаря этим двум порогам и движению трансценденции язык имеет намерение говорить', он оказывает влияние на реальность и свидетельствует о воздействии реальности на мышление. Мейе[112] уже отмечал: в языке следует выделять две вещи: его имманентность и его трансцендентность; сегодня мы скажем то же другими словами: имманентную структуру и сферу проявления, где деятельность смысла принимает на себя удары реальности. Однако необходимо уравновесить положение о закрытости универсума знаков, обратившись к первичной функции языка, то есть к речению. В противоположность закрытости универсума знаков эта функция делает его открытым, доступным.
Эти еще весьма громоздкие и не всегда ясные рассуждения направлены на то, чтобы поставить под вопрос первейшее утверждение науки о языке, а именно то, что язык является объектом эмпирической науки. То, что язык — объект, это само собой разумеется в той мере, в какой мы следуем критическому сознанию, согласно которому данный объект полностью определяется процедурами, методами, предпосылками и, в конечном итоге, структурой теории, руководящей его образованием. Но если отвлечься от подчиненности объекта методу и теории, то придется принять за абсолют то, что на деле есть всего лишь явление. К тому же языковый опыт говорящего и слушающего стремится ограничить претензию данного объекта на абсолютность. Наш языковый опыт открывает в его способе существования нечто такое, что препятствует подобной редукции. Для нас, говорящих, язык является не объектом, а посредником; язык — это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя и вещи. С помощью акта говорения, имеющего целью сообщить что-то о чем-то кому-то, говорящий преодолевает замкнутость универсума знаков; говорение — это акт, благодаря которому язык преодолевает
себя как знак, устремляясь к тому, с чем он соотносится и чему противостоит. Язык хотел бы исчезнуть; он хотел бы умереть как объект.
Итак, вырисовывается следующая антиномия: с одной стороны, структурная лингвистика берет начало в решимости, имеющей эпистемологический характер, — держаться внутри закрытого универсума знаков; в соответствии с этим намерением система не имеет своей наружной стороны; она представляет собой автономную сущность, состоящую из внутренних зависимостей. Но методологическая решимость совершает акт насилия по отношению к лингвистическому опыту. Задача в таком случае состоит в том, чтобы, с другой стороны, открыть перед пониманием языка то, что исключает структурная модель и что, быть может, и есть сам язык как акт изречения, как говорение. Здесь необходимо воспрепятствовать запугиванию, настоящему терроризму, к какому прибегают не-лингвисты, использующие в качестве основы одну модель и наивно обобщающие условия ее функционирования. Появление «литературы», которая тематизирует свои собственные операции, ведет к иллюзии, будто структурная модель исчерпывает собой понимание языка. Но трактуемая подобным образом «литература» сама являет собой исключение в сфере языка; она не заменяет собой ни науку, ни поэзию, которые, каждая по-своему, берут на себя деятельность говорения, это подлинное призвание языка. Соединение структурной лингвистики и этой «литературы», носящей то же название, должно само рассматриваться как весьма случайное событие, имеющее довольно ограниченное значение. Саму претензию на демистификацию слова и речи следует подвергнуть демистификации как некритическую и наивную.
Наша задача, как я думаю, скорее заключается в том, чтобы довести эту антиномию до предела, ясному осознанию которой как раз и способствует структурное понимание. Формулирование этой антиномии является сегодня условием интегрального понимания языка; размышлять о языке значит размышлять о единстве того, что Соссюр разъединил, — о единстве языка и слова.
Но как достичь этого? Здесь существует опасность искажения феноменологии речи под воздействием науки о языке, увязания в психологизме и спекуляции, о чем нас предупреждает структурная лингвистика. Чтобы действительно мыслить об антиномичности языка и слова, следовало бы уметь производить речевой акт в среде самого языка так, как производится смысл, то есть диалектически, что заставляло бы систему осуществлять себя как акт, а струк-ТУРУ — как событие.
Отлично! Это производство, распространение, движение вперед можно осмыслить, если мы точно определим иерархические уровни языка.
Еще ничего не сказано об этой иерархии, кроме того, что ею отмечены оба плана артикуляции — фонологический и лексический (даже три плана, если сюда прибавить синтаксическую артикуляцию). Еще не преодолена точка зрения, согласно которой язык является таксономией, совокупностью уже находящихся в обращении текстов, сводом знаков, описью единиц, комбинаций элементов. Иерархия языковых уровней представляет собой еще и нечто иное, нежели ряд артикулированных систем — фонологической, лексической, синтаксической. Действительно, меняется уровень, когда переходят от языковых единиц к новой единице, представляющей собой фразу или высказывание. Эта единица принадлежит не области языка, а области речи, или дискурса. Меняя единицу, меняют и функцию, или, скорее, переходят от структуры к функции. И только при этом условии появляется шанс понять язык как речь.
Новая единица, которую мы теперь будем рассматривать, ни в коей мере не является семиологической, если под этим подразумевать все то, что касается отношений внутренней зависимости между знаками или между тем, что составляет знаки. Эта крупная единица является собственно семантической, если данное слово брать в его наиболее важном смысле — в смысле обладания не только функцией означивания вообще, но и функцией изречения о чем-то, функцией соотнесения знака с вещью.
Изречение, или фраза, несет в себе все черты, которые выступают основой антиномии «структура — событие»; благодаря этим своим характеристикам фраза свидетельствует о том, что данная антиномия не противопоставляет язык чему-то, отличному от него самого, но касается его сути, того, как он осуществляется.
1. Для дискурса способом присутствия является акт, инстанция (Бенвенист[113]), которая, как таковая, имеет природу события. Изречение есть актуальное событие, акт перехода, акт исчезновения; система, напротив, существует вне времени (a-temporel), поскольку она — просто виртуальна.
2. Дискурс представляет собой последовательность выбора, посредством которого выделяются одни значения и отвергаются другие; этот выбор является противоположностью одного из свойств системы — ее принудительного характера.
3. Этот выбор производит новые комбинации: высказывание еще не высказанных фраз, понимание таких фраз; в этом состоит существо акта изречения и понимания речи. Такое производство еще не высказанных фраз, в количественном отношении, как представляется, не имеющее предела, являет собой противоположность конечной и закрытой описи знаков.
4. Только в инстанции дискурса язык обладает референцией. Говорить значит говорить что-то о чем-то. На этом пути мы встречаем Фреге[44] и Гуссерля. Фреге в своей известной статье «Ueber Sinn und Bedeutung» (это выражение Питер Гич и Макс Блэк[45] переводят как «Смысл и соотнесенность») превосходно показал, что язык имеет двойственную нацеленность — на идеальный смысл (не принадлежащий физическому или психическому миру) и на соотнесенность: если о смысле можно говорить, что он как чистый объект мышления не существует, то именно соотнесенность — Bedeutung — укореняет наши слова и наши фразы в реальности. «Мы рассчитываем на то, что каждое предложение обладает соотнесенностью: именно требование истины (das Streben nach Wahrheit) заставляет (treibt) нас идти вперед (vordringen) к соотнесенности». Это движение смысла (идеального) к соотнесенности (реальной) является сутью самого языка. Гуссерль говорит то же самое в «Логических исследованиях»: идеальный смысл — это пустота, отсутствие, которые требуют, чтобы их заполнили. Заполняясь, язык возвращается к себе, то есть в себе он умирает. То, что мы разделяем вслед за Фреге Sinn и Bedeutung, а вслед за Гуссерлем — Bedeutung и Erfällung[46] и то, что мы в то же время связываем, так это стремление к означиванию, разрывающему замкнутость знака и открывающему один знак навстречу другому, короче, создающему я!ык как говорение, сообщающее что-то о чем-то. Момент, когда происходит поворот от идеальности смысла к реальности вещи, — это момент трансцендирования знака. Этот момент и есть момент фразы. Только на уровне фразы язык что-то говорит; вне фразы он не говорит ни о чем. Действительно, двойственная артикуляция, о какой пишет Фреге, является средством предикации, если только «говорить что-нибудь» обозначает идеальность смысла, а «говорить о чем-нибудь» — движение смысла к отсылке.
Однако нельзя противопоставлять друг другу два определения знака — одно как внутреннее различие означающего и означаемого, другое — как внешнюю соотнесенность знака и вещи. Равно как нельзя и выбирать какое-нибудь одно из этих определений. Одно соотносится со структурой знака в системе, другое — с его функцией во фразе.
5. Последняя характерная черта инстанции дискурса: событие, выбор, новизна, соотнесенность включают в себя способ обозначения субъекта дискурса. Кто-то с кем-то говорит — в этом и заключается суть акта коммуникации. Данным своим свойством акт говорения противостоит анонимности системы; слово имеет место там, где субъект может в акте дискурса, в своеобразной инстанции овладеть системой знаков, которые язык имеет в своем распоряжении; эта система остается потенциальной, поскольку не завершена, не реализована, не используется кем-то, кто в то же время обращается к кому-то другому. Субъективность акта говорения является вместе с тем интерсубъективностью общения.
Таким образом, на одном и том же уровне и в одной и той же инстанции дискурса язык имеет соотнесенных с ним объект и субъект*, мир и слушателя. Неудивительно, что соотнесенность с миром и соотнесенность субъекта с самим собой исключаются структурной лингвистикой как несовместимые с системой как таковой. Эта несовместимость является всего лишь предварительным условием, которое необходимо для создания науки об артикуляциях;
* Проблема субъективной стороны дискурса обсуждается далее, разд. III. Герменевтика и феноменология, гл. «Вопрос о субъекте: вызов семи-
но она больше не нужна там, где речь идет об уровне осуществления, на котором говорящий реализует свою способность к означиванию, направленную на ту или иную ситуацию и адресованную слушателю. Обращение и соотнесение неразрывно связаны с актом, событием, выбором, новизной.
3. Структура и событие
Подойдя к данному пункту, мы можем оказаться в плену антиномии. Несомненно, структурализм ведет именно к этому. Но обращение к антиномии в данном случае не является напрасным: оно станет первым — собственно диалектическим — уровнем конституирующего мышления. Вот почему поначалу не остается ничего иного, как усилить эту антиномию систематичности и историчности и противопоставить событийность потенциальности, выбор — принуждению, инновацию — институциальности, соотнесенность — замкнутости, обращенность — анонимичности.
Но в следующий момент необходимо будет освоить новые пути, испытать новые модели интеллигибельности, где синтез двух точек зрения осмысливался бы по-новому. Речь тогда пойдет об отыскании инструментов мышления, способных овладеть феноменом языка, который не является ни структурой, ни событием, а есть бесконечное обращение одного в другое средствами дискурса.
Эта проблема касается языка и как синтаксиса, и как семантики. Я лишь слегка коснусь первого аспекта, с тем чтобы вернуться к нему в дальнейшем, и остановлюсь преимущественно на втором аспекте, поскольку именно здесь я и подхожу, наконец, к проблеме, вынесенной в заглавие настоящего исследования: структура, слово, событие.
I. В настоящее время именно в области синтаксиса постструктуралистская лингвистика достигла заметных результатов. Школа Хомского в США работает над понятием «порождающая грамматика»; оставляя в стороне таксономии первых структуралистов, эта новая лингвистика исходит одновременно из фразы и из вопросов, связанных с построением новых фраз. Хомский писал в начале своего труда «Современные проблемы лингвистической теории» («Current Issues in Linguistic Theory». Mouton, 1964): «Основной факт, на котором должна основываться любая означивающая лингвистика, состоит в следующем: говорящий может в своей речи построить новую, уместную в данный момент, фразу, а другие (слушатели) могут ее непосредственно понять, хотя для них она в равной мере является новой. Значительная часть нашего лингвистического опыта, выступаем ли мы в качестве говорящих или в качестве слушающих субъектов, содержит в себе новые фразы; после того как мы овладели языком, количество фраз, которые мы можем, не задумываясь, употреблять свободно и непринужденно, столь велико, что мы могли бы считать его бесконечным во всех отношениях — как в практическом, так, очевидно, и в теоретическом. Нормальное овладение языком означает не только способность непосредственно понимать бесконечное число абсолютно новых фраз, но и способность опознавать неправильно построенные фразы и в случае необходимости давать им истолкование… Очевидно, что теория языка, отрицающая этот «творческий» аспект, имеет лишь ограниченный характер»*.
Таким образом, необходимо новое понимание структуры, учитывающее то, что Хомский называет грамматикой языка. Последнюю он определяет с помощью таких терминов: «Грамматика — это подход, устанавливающий бесконечную серию вполне оформленных фраз и дающий каждой из них одно или несколько структурных описаний»**. Так что прежнее структурное описание, нацеленное на завершенный перечень, путем добавления к нему реализует благодаря означиванию динамическое правило порождения, предполагающее компетентного читателя, Хомский не перестает противопоставлять порождающую грамматику описи элементов, характерной для столь дорогой структуралистам таксономии. Тем самым мы возвращаемся к картезианцам (последняя книга Хомского так и называется «Картезианская лингвистика» — «Cartesian Linguistics») и к Гумбольдту, согласно которым язык является не продуктом, а производством, порождением.
* Chomsky. Current Issues in Linguistic Theory. Mouton, 1964. P. 7–8. ** Ibid. P. 9.
По-моему, именно этой новой концепции структуры как упорядоченного динамизма предстоит одержать верх над первым структурализмом; она победит, интегрировав его, то есть подтянув на собственный уровень. Как раз к этой проблеме я намереваюсь вернуться в дальнейшем анализе.
Теперь же я хотел бы сказать, что мы не должны ощущать себя безоружными перед лицом этого нового поворота лингвистики. Мы имеем, если так можно выразиться, согласительную доктрину, разработанную в трудах малоизвестного, но крупного французского лингвиста Гюста-ва Гийома[115]. Его теория морфологических систем, то есть форм дискурса, является видом порождающей грамматики. Его исследования, посвященные употреблению артикля и глагольного времени, показывают, каким образом в деятельности дискурса слова составляют фразу. То, что называют формой дискурса, то есть категории имени существительного, глагола и т. п., имеет своей функцией завершить, закончить, закрыть слово, поместив его во фразу, в дискурс. Включая слово во фразу, система форм позволяет нашим словам и нашим дискурсам соотноситься с реальностью. В частности, имя существительное и глагол являются категориями дискурса, благодаря которым наши знаки в некотором роде «поворачиваются к универсуму», к пространству и времени. Преобразуя слово в имя существительное и глагол, эти категории делают наши знаки способными овладевать реальностью и сохраняют за ними возможность образовывать конечную, замкнутую сферу, подотчетную семиологии.
Но морфология выполняет эту функцию, только если наука о дискурсе и системах, таких, как система артикля, глагола и т. п., является наукой об операциях, а не наукой об элементах. И пусть здесь не говорят об умствовании! Подобное обвинение, способное обескуражить исследователей, имеет значение, если направлено против психологизма образа и понятия, то есть против учения о психологических содержаниях, доступных одной только интроспекции. Оно не имеет смысла, если направлено против операций. Здесь также нужно уметь избавляться от более или менее терроризирующих запретов.
Обращение в данном пункте нашего исследования к Гюс-таву Гийому как нельзя лучше помогает нам освободиться от одного предрассудка и заполнить один пробел. Предрассудок в данном случае таков: мы охотно принимаем синтаксис в качестве самой заповедной формы языка, в качестве завершенности языка, его самодостаточности. Нет ничего более ошибочного! Синтаксис не ограждает от раскола языка, того, в результате чего уже совершено образование знака в закрытой, таксономической системе. Синтаксис, поскольку он имеет отношение к дискурсу, а не к слову, находится на траектории, по которой знак возвращается к реальности. Вот почему формы дискурса, такие, как имя существительное и глагол, говорят о работе языка по пониманию реальности в ее пространственно-временном аспекте: именно это Гюстав Гийом называет «поворотом знака к универсуму». Это доказывает, что философия языка говорит не только об удаленности знака от реальности и о его отсутствии в реальности (случай пустоты у Леви-Строса); такой точки зрения можно придерживаться до тех пор, пока мы имеем дело с закрытой системой дискретных единиц, составляющих язык; но она становится недостаточной, если мы обращаемся к дискурсу как акту. Тогда становится ясно, что знак — это не только то, чего недостает вещам, что отсутствует в вещах и во всем том, что им подобно; знак — это то, что жаждет применения, чтобы выражать, постигать, понимать и, в конечном счете, обнаруживать, делать очевидным.
Вот почему философия языка не должна ограничивать себя тем, что свойственно семиологии и ее возможностям; чтобы говорить об отсутствии знака в вещах, достаточно редукции природных отношений и их превращения в отношения означивания. Кроме того, необходимо учитывать требования дискурса в той мере, в какой он является постоянно возобновляющейся попыткой выразить целостным образом то, что доступно нашему опыту мышления и раздвоения. Одной редукции или какого-либо другого приема, обладающего такой же отрицающей силой, здесь недостаточно. Редукция — это всего лишь изнанка, оборотная сторона намерения сказать, ведущего к осуществлению намерения показать.
Как бы ни сложилась судьба работ Хомского, и независимо от того, как повлияют труды Гюстава Гийома на их укоренение во Франции, философский интерес к этой но-
вой фазе в развитии лингвистической теории очевиден: между структурой и событием, между регламентированием и изобретательностью, между принуждением и выбором может сложиться новый, не антиномический тип отношений благодаря динамическим понятиям, таким, как структурирующая деятельность (в противоположность структурированной инвентаризации).
Я надеюсь, что антропология и другие науки о человеке смогут извлечь из этого обстоятельства выводы, как это удалось им сделать по отношению к прежнему структурализму сегодня, в то время, когда в лингвистике наметился его спад.
II. Параллельно я хотел бы коснуться вопроса о преодолении антиномии между структурой и событием в семантическом плане. Именно это, как я считаю, возвращает нас к проблеме слова.
Слово — значительно больше и одновременно значительно меньше фразы.
Значительно меньше, поскольку слово до фразы не существует. Что же существует до фразы? Знаки, то есть дифференцирующие элементы системы, лексические единицы. Но еще отсутствует значение, семантическая сущность. Знак, как различие в системе, ни о чем не говорит. Вот почему следует сказать, что в семиологии нет слова, там имеются относительные, дифференцированные, противостоящие друг другу величины. В этом отношении прав Ельм-слев: если удалить из семиологии субстанцию звуков и субстанцию значений, то есть то, благодаря чему они могут быть восприняты слушателем, его чувствами, то можно будет сказать, что фонетика и семантика не принадлежат семиологии. И та и другая говорят об употреблении, или использовании, но не о схеме. Схема свойственна исключительно языку. Употребление, или использование, находится на пересечении языка и речи. Стало быть, нужно сделать вывод о том, что слово это — называние, в то время как фраза — говорение. Слово называет, позиционируя себя во фразе. В словаре мы имеем бесконечный хоровод терминов, которые, в своем круговом движении, сами себя определяют в замкнутом пространстве лексики. Но
вот кто-то говорит, кто-то что-то говорит; слово покидает словарный состав: оно становится самим собой в тот момент, когда человек становится речью, когда речь становится дискурсом, а дискурс — фразой. Не случайно в немецком языке Warf — «слово» — есть одновременно — «речь», даже если у них разные формы множественного числа. Слова — это знаки в речи. Слова — это точки артикуляции семиологии и семантики в каждом отдельном речевом событии.
Итак, слово является как бы пунктом обмена между системой и актом, между структурой и событием: с одной стороны, оно говорит о структуре как о дифференцируемой величине, но в таком случае слово — всего лишь семантическая потенциальность; с другой стороны, оно свидетельствует об акте и о событии, так что его семантическая актуальность существует одновременно с убывающей актуальностью высказывания.
Но как раз здесь-то ситуация в корне меняется. Слово, сказал я, меньше фразы, поскольку его актуальность означивания зависит от актуальности фразы; но в другом отношении слово больше фразы. Фраза, как мы уже видели, — это событие: в этом отношении ее актуальность преходящая, мимолетная, исчезающая. Но слово живет дольше фразы. Будучи способной к перемещению сущностью, оно живет дольше, чем преходящая инстанция дискурса, и сохраняет готовность к новым употреблениям. Таким образом, обретая новое употребление — как бы незначительно оно ни было, — слово возвращается в систему. Возвращаясь в систему, оно сообщает ей историчность.
Чтобы пояснить этот процесс, я продолжу анализ проблемы полисемии, которую я прежде* пытался понимать непосредственно, не опираясь еще на выявленное только теперь различие между семиологией, или наукой о знаках в системе, и семантикой, или наукой об употреблении, использовании знаков во фразе. Явление полисемии не дается пониманию, если не опираться на диалектическое отношение, существующее между знаком и его употреблением, между структурой и событием. Если говорить в терми-
* См. выше, в гл. «Двойственный смысл как герменевтическая и семантическая проблема».
нах синхронии, полисемия означает, что слово в один и тот же момент имеет больше чем одно значение, что его многочисленные значения принадлежат одному и тому же состоянию системы. Но в этом определении недостает самого главного — того, что касается не структуры, а процесса. Существует процесс номинации, история использования, которая в форме полисемии проецируется на синхронию. К тому же этот процесс переноса смысла — процесс метафоры — предполагает, что слово является кумулятивной сущностью, способной приобретать новые смысловые измерения, не теряя при этом прежних. Этот кумулятивный, метафорический процесс как раз и проецируется на систему в качестве полисемии.
То, что я называю здесь проекцией, — это всего лишь один случай возвращения от события к системе. Но это наиболее интересный случай и, может быть, фундаментальный, если истинно то, что, как уже отмечалось, говорят о полисемии как основе семантики. Этот случай наиболее интересен еще и потому, что он дает повод удивиться тому чудесному явлению, которое я назвал обменом между структурой и событием; этот процесс предстает как соперничество двух различных факторов — экспансионистского фактора и фактора перегрузки; действительно, слово, подчиняясь кумулятивному процессу, о котором я говорил, стремится обрести новые значения употребления; но проецирование этого кумулятивного процесса на систему знаков сопровождается тем, что новое значение находит себе место внутри системы; экспансия и, соответственно, перегрузка прерываются взаимным ограничением знаков внутри системы. В этом смысле можно говорить об ограничивающей деятельности, противостоящей тенденции к экспансии, которая выражает кумулятивный процесс движения слова. Так объясняется то, что можно было бы назвать упорядоченной полисемией, являющейся законом нашего языка. Слова имеют больше чем один смысл, а не один не имеющий предела смысл.
Этот пример показывает, насколько семантические системы отличаются от систем семиологических: последние можно изучать, не соотнося их так или иначе с историей; они — вневременные системы, поскольку потенциальны; наилучшим образом это иллюстрирует фонология; между
отдельными единицами существуют только бинарные оппозиции. В семантике, напротив, дифференциация значений выражает равновесие между двумя процессами — экспансионистским и ограничительным, заставляющими слова выбирать себе одно место из множества других, иерархи-зировать способы своего употребления. Этот процесс дифференциации нельзя сводить к обычной таксономии. Упорядоченная полисемия принадлежит панхроническому порядку, то есть одновременно и синхроническому, и диахроническому, — в той мере, в какой история проецируется на состояния систем, которые отныне представляют собой всего лишь мгновения в процессе смыслополагания, в процессе наименования.
Теперь понятно, что происходит, когда слово со всем своим семантическим богатством включается в дискурс. Поскольку все наши слова в той или иной степени полисе-мичны, однозначность или многозначность нашего дискурса зависит не от слов, а от контекста. В случае с однозначным дискурсом, то есть с дискурсом, допускающим только одно значение, задача контекста заключается в сокрытии семантического богатства слов, в установлении того, что Греймас называет изотопией плана соотнесенности, тематичности, идентичной топики для всех слов фразы (например, если я разрабатываю геометрическую «тему», слово volume (том, объем, вместимость) будет толковаться как тело в пространстве; если «тема» связана с книжным делом, слово volume будет толковаться как обозначение книги). Если же контекст допускает или предусматривает одновременно несколько изотопии, то мы имеем дело с глубоко символическим языком, который, говоря об одной вещи, говорит и о другой. Вместо того чтобы поддерживать одно измерение смысла, контекст делает возможным (и даже обеспечивает) одновременное существование нескольких измерений, на манер того, как разные тексты наслаиваются друг на друга на палимпсесте. В таком случае полисемия наших слов обретает свободу. Так, поэма предоставляет возможность для взаимного усиления всех семантических единиц; неоднозначное толкование тогда оправдывается структурой дискурса, который допускает одновременное существование нескольких измерений смысла. Короче говоря, язык празднует победу. Это
изобилие утверждается и процветает в одной и той же структуре; сама структура фразы абсолютно ничего не создает; она берет в помощники полисемию наших слов, чтобы привести смысл к такому действию, которое мы называем символическим дискурсом, и полисемия наших слов сама выражает соперничество метафорического процесса с ограничительной деятельностью семантического поля.
Таким образом, обмен между структурой и событием, между системой и актом постоянно возобновляется и усложняется. Очевидно, что установление одной или нескольких изотопии вызывается действием более протяженных отрезков, нежели фраза, и для успешного анализа здесь необходимо изменить уровень соотношения, рассмотреть внутреннюю связь текста в сновидении, поэме или мифе. Именно на этом уровне возникает проблема герменевтики в моем ее понимании. Как представляется, все происходит на уровне сложной единицы, каковой является слово. Как раз здесь явно проступает обмен между процессом зарождения и структурой. Но чтобы корректно истолковать данную деятельность языка, необходимо мыслить, как это делал Гумбольдт, в понятиях процесса, а не системы, в понятиях структурирования, а не структуры.
Слово, я считаю, должно выступать точкой кристаллизации, узлом всех обменов между структурой и функцией. Если это влечет за собой создание новых моделей интелли-гибельности, то потому, что само слово находится на пересечении языка и речи, синхронии и диахронии, системы и процесса. Поднимаясь в инстанции дискурса от системы к событию, слово обращает структуру к акту говорения. Возвращаясь от события к системе, слово сообщает последней случайный характер и лишает ее сбалансированности, без чего система не сможет ни меняться, ни продолжать свое существование; короче говоря, слово привносит в структуру «традицию», которая будет пребывать внутри нее вне времени.
На этом я и остановлюсь. Но я не хочу, чтобы создалось представление, будто феномен языка получил теперь исчерпывающее объяснение; здесь не исключены и другие подходы. Я лишь кратко обозначил проблему текста и стра-
тегии истолкования, соответствующей данному типу организации. Идя дальше в этом направлении, мы столкнемся с поставленными Хайдеггером проблемами онтологии языка. Но проблемы эти потребуют не только изменения уровня рассмотрения, но и самого рассмотрения. Хайдеггер идет не путем восхождения, как это делаем мы, последовательно переходя от элементов к структурам, затем от структур — к процессам. Он идет обратным — для него вполне законным — путем, исходя из говорящего сущего, из онтологической нагруженное™ сложившегося языка, каковым является язык мыслителя, поэта или проповедника. Опираясь таким образом на язык, который мыслит, он устремляется по дороге, ведущей к говорению: Unterwegs zur Sprache[116]. Может быть, и мы идем к языку, однако язык — это тоже дорога. Я не пойду к языку путем Хайдеггера; но позвольте мне в заключение сказать, что, хотя я и не считаю этот путь очевидно открытым, не я его закрывал. Я не закрывал его — ведь наша собственная дорога ведет нас от замкнутого универсума знаков к открытости дискурса. В таком случае перед размышлением о «слове» встает новая задача. Ведь существуют значительные, могущественые слова — об этом превосходно говорит Микель Дюфрен[117] в своей «Поэтике» («Le Poétique»): в процессе наименования, благодаря некоему так называемому насилию, разграничению того, что то или иное слово раскрывает и что скрывает, этим словам удается уловить определенный аспект бытия. Таковы великие слова поэта и мыслителя: они выявляют, сообщают бытие тому, что собой огораживают. Но если подобная онтология языка не может стать темой нашего анализа хотя бы в силу его особого характера, она, по меньшей мере, способна выступить в качестве горизонта такого анализа. Если иметь в виду этот горизонт, наше исследование может показаться непоследовательным, руководствующимся убеждением, что сущность языка лежит по ту сторону замкнутых в себе знаков. Мы находимся внутри этой замкнутости, когда идем вниз, к элементам, к описи, перечню и добираемся до лежащих ниже них комбинаций. Действительно, чем больше мы удаляемся от плана проявления, пробиваясь в глубь языка, к долексическим единицам, тем больше мы поддерживаем закрытость языка; единицы, которые мы обнаруживаем
здесь с помощью нашего анализа, ничего не означают: они всего лишь потенциальные комбинации, они ни о чем не говорят; они ограничиваются тем, что соединяют и разъединяют. Но если двигаться от анализа к синтезу и обратно, то обратный путь будет иметь специфическое отличие; на обратном пути, поднимаясь от элементов к тексту, скажем, к поэме в целом, обращаясь к фразе и слову, мы сталкиваемся с новой проблематикой, которую структурный анализ стремится устранить; эта проблематика свойственна дискурсу, это — проблематика говорения. Возникновение говорения и есть таинство языка; говорение, как я утверждаю, и есть раскрытие языка, или, лучше, его обнаружение.
Вы уже поняли, что предельная открытость языка обусловливает его торжество.
II Герменевтика и психоанализ
Сознательное и бессознательное
Для того, кто воспитан на феноменологии, экзистенциальной философии, неогегельянстве, а также кто занят изучением лингвистической тенденции в философии, встреча с психоанализом может стать сильным потрясением. В нем не просто затрагивается или, напротив, подробно обсуждается та или иная философская тема — речь идет о философском проекте в целом. Современному философу Фрейд представляется такой же величиной, что Ницше или Маркс; все трое взяли на себя роль философов подозрения, мыслителей, срывающих маски. Таким образом, родилась новая проблема — проблема ложного сознания, сознания как лжи: это не частная проблема; здесь радикальнейшим образом ставится под вопрос то, что для нас, ревностных феноменологов, является привычной областью исследования, фундаментом, более того, источником любого значения: я имею в виду сознание. Следовательно, то, что в одном отношении является для нас обоснованием, в другом — должно стать предрассудком, предрассудком сознания. Эта ситуация похожа на ту, в какой оказался Платон в «Софисте»: сторонник Парменида, верящий в неизменность бытия, задавшись вопросом о тайне заблуждения, о ложном мнении, был вынужден признать не только то, что небытие, как и другие «наивеличайшие роды», имеет право на существование, но и то, что вопрос о бытии столь же темен, как и вопрос о небытии[118]. Нечто подобное придется сказать и нам: вопрос о сознании столь же темен, как и вопрос о бессознательном.
В этом смысле и можно говорить о философах, на равных правах вращающихся в кругу психиатров и психоаналитиков; они способны на это, однако при одном условии: если с самого начала подвергают сомнению претензию сознания познать самое себя. Но чтобы прийти в итоге к выводу о соотнесенности сознания и бессознательного, необходимо прежде пересечь эту бесплодную зону, где окопались утверждения: «Я отказываюсь понимать, что такое бессознательное, коль скоро я знаю нечто о сознании, а также о том, что предшествует сознанию», и — парное к нему: «Я вообще больше не знаю, что такое сознание».
Таков главный вывод, следующий из самой что ни на есть антифилософской и антифеноменологической позиции Фрейда: я имею в виду топико-экономическую точку зрения на совокупность психического, которая характерна для известной его метапсихологической статьи, посвященной бессознательному[119]. И как бы при этом ни ущемлялась феноменология, вопросы, которые здесь вновь возникают, являются сугубо феноменологическими: каким образом я должен переосмыслить и переобосновать понятие сознания, чтобы бессознательное могло стать его другим, чтобы сознание оказалось способным на это «другое», называемое нами бессознательным?
Второй вопрос заключается вот в чем: как, с другой стороны, вести критику — критику в кантовском смысле, то есть как осуществлять рефлексию относительно применимости, в том числе относительно границ применимости тех «моделей», которые по необходимости должен выстраивать психоаналитик, если он намеревается принимать во внимание бессознательное? Создание эпистемологии бессознательного является неотложной задачей: мы не можем более удовлетворяться тем различением метода и доктрины, каким пользовались в течение последних двадцати лет; теперь мы знаем, что в науках о человеке «теория» не есть случайный привесок: она участвует в конституирова-нии объекта, она «конститутивна»; бессознательное как реальность неотделимо от моделей — топической, энергетической, экономической, которыми руководствуется теория. «Метапсихология», говоря словами самого Фрейда, — это, если хотите, доктрина, но доктрина постольку, поскольку делает возможным конституирование самого объекта; в таком случае доктрина становится методом.
Третий вопрос: в результате пересмотра понятия сознания, вызванного наукой о бессознательном — если отвлечь-
ся от критики «моделей» бессознательного, — возникает проблема философской антропологии, способной постичь диалектику сознательного и бессознательного. При каком видении мира и человека это возможно? Каким должен быть человек, чтобы быть одновременно и ответственным за здравое мышление, и способным на безрассудство, человек, призванный человеческой природой к самому что ни на есть трезвому мышлению и способный обнаружить топику и экономику, поскольку «в нем говорит «Оно»? Какой новой точки зрения на несостоятельность человека, а также на парадоксальное отношение, существующее между ответственностью и несостоятельностью, требует мышление, которое под воздействием рефлексии о бессознательном отказалось от роли центра сознания?
1. Кризис понятия сознания
Содержание первого вопроса можно свести к двум тезисам: 1. Существует уверенность относительно непосредственности сознания, но эта уверенность не есть истинное знание «Я» о самом себе. 2. Любая рефлексия как отказ от собственного «Я» отсылает к иррефлексивному, но и это иррефлексивное также не является истинным знанием о бессознательном.
В этих двух тезисах заключена суть того, что я выше назвал ущемлением феноменологии, когда речь шла о проблемах, поставленных в связи с бессознательным. В итоге это ущемление ведет нас к другой крайности — к рефлексивному не-пониманию бессознательного.
1. Существует непосредственная уверенность в сознании, и она неодолима: именно это утверждает Декарт в «Первоначалах философии». «Под словом «мышление» я понимаю все то, что совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что мыслить»*.
Но если эта уверенность неодолима как уверенность, то как истина она сомнительна. Мы знаем теперь, что ин-тенциональная жизнь, взятая во всем ее объеме, может
* Descartes. Principes, 1er partie, art. 9.
иметь иные смыслы, отличные от смысла непосредственного. Наиболее отдаленная, наиболее общая и, надо признать, наиболее абстрактная возможность бессознательного коренится в этом изначальном несовпадении между уверенностью относительно сознания и истинным знанием о сознании; это знание не дано заранее, его необходимо искать и находить; адекватность «Я» самому себе, которую можно было бы назвать собственно самосознанием, не дана изначально, к ней необходимо прийти. Это — идея-предел; именно данную идею-предел Гегель и называл абсолютным знанием; во всяком случае, независимо от того, считаем ли мы или не считаем возможным говорить об абсолютном знании, мы все-таки должны согласиться с утверждением, что знание стремится к конечному результату, что оно не является исходной точкой сознания; более того, абсолютное знание есть понятие философии духа, а не философии сознания; что бы мы ни думали о гегельянстве и о его возможностях, из этого же гегельянства нам известно по крайней мере, что единичное сознание не может быть равным собственному содержанию; идеализм индивидуального сознания невозможен; в этом смысле критика, какой Гегель подверг индивидуальное сознание и его претензию на совпадение с собственным содержанием, подобна фрейдовской критике сознания, опирающейся на аналитический опыт. Несмотря на то, что Гегель и Фрейд идут в прямо противоположных направлениях, они говорят об одном и том же: сознание — это то, что не может стать целостным, и поэтому философия сознания невозможна.
2. Из этого первого, негативного тезиса следует второй. Гуссерлевская феноменология начала с критики рефлексивного сознания и ввела в обиход ныне хорошо известную тему дорефлексивного и иррефлексивного. Главный вывод всей гуссерлевской феноменологии, какие бы негативные последствия она в себе ни таила, заключается в признании того, что исследование «конституирования» отсылает к пред-данному и пред-конституированному. Но гуссерлевская феноменология не способна дойти до конца в развенчании сознания; она остается в круге, очерченном отношениями между «ноэсисом» и «ноэмой»[120], и отводит понятию бессознательного лишь место второстепенной темы — «пассивного залога».
Следует довести до конца развенчание рефлексивного подхода к сознанию: бессознательное, к которому отсылает иррефлексивное, выявленное с помощью феноменологического метода, еще «способно стать сознательным»; оно неотделимо от сознания, оно — то, что находится вне нашего внимания, оно — как бы неактуальное сознание, если сопоставлять его с сознанием актуальным. Такова теорема, выводимая в «Идеях-I»: сущность сознания заключается в том, что оно не может быть полностью актуальным; сознание — это отношение к неактуальному. Но совокупность фактов, необходимых для выработки понятия бессознательного, не входит в эту теорему, что говорит о ее ограниченности. Здесь возникает необходимость использовать «модели», которые для феноменолога должны с неизбежностью выступать как модели «натуралистические». Именно фрейдовский реализм является необходимым этапом в усвоении того, что рефлексивное сознание терпит поражение. Но, как станет ясно в конце нашего исследования, это поражение не напрасно, оно не является полностью негативным; помимо того что оно несет в себе воспитательное и дидактическое значение и подготавливает нас к восприятию уроков фрейдизма, с этого поражения начинается преобразование сознания: сознание начинает понимать, что оно должно со всей строгостью переосмыслить себя и свои необоснованные претензии, которые являются следствием нарциссического отношения непосредственного сознания к жизни. В результате своего поражения сознание обнаруживает, что его безоговорочная уверенность в себе есть не что иное, как самомнение; может ли оно в таком случае найти доступ к мышлению, которое не есть более обращение сознания к сознанию, а представляет собой нацеленность к говорению, к тому, что говорится в говорении?
2. Критика фрейдовских понятий
Начиная с этого момента, критика реалистических понятий фрейдовской метапсихологии должна быть полностью не-феноменологической. Никакая феноменология созна-
ния не может управлять этой критикой под страхом возврата назад. «Топика» известной статьи «Бессознательное» знаменательна в данном случае тем, что она с самого начала отказывается от любой феноменологической отсылки; именно благодаря этому она является необходимым коррегирующим этапом в жизни мышления, решившего отказаться от собственной самоуверенности. Недостаток критики Политцера[121] заключался в том, что она так и не вышла за рамки идеалистического понимания смысла. Критика фрейдовского реализма может быть только эпистемологической — в кантовском понимании, то есть «трансцендентальной дедукцией», нацеленной на то, чтобы обосновывать употребление того или иного понятия, опираясь на его способность говорить о новой сфере объективности и интеллигибельности. Мне кажется, что если бы с самого начала было проявлено внимание к этому неустранимому различию между эпистемологической критикой и непосредственной феноменологией сознания, то удалось бы избежать схоластических дискуссий о природе бессознательного. Кант на примере физических понятий научил нас соединять эмпирический реализм с трансцендентальным идеализмом (именно трансцендентальным, а не субъективным или психологическим).
С одной стороны, эмпирический реализм — это значит, что метапсихология не есть конструкция вспомогательная, необязательная, что она принадлежит к числу тех явлений, которые Кант назвал бы суждениями, определяющими опыт. Это значит, что здесь нельзя различать метод и доктрину. Сама топика имеет значение открытия: она есть условие возможности действительной расшифровки, достигающей реальности на том же основании, что стратиграфия и археология, как об этом напомнил Клод Леви-Строс в начале «Структурной антропологии». Именно в этом смысле я понимаю утверждение Лапланша; как бы сомнительны ни были его основания, его смысл в том, что бессознательное конечно, что в зависимости от намерения мы настойчиво используем одни означающие, а не другие; таково условие «имеющего завершение анализа». В этом смысле реализм бессознательного является коррелятом имеющего завершение анализа. В анализе сновидения, на-
пример, некоего Филиппа, конец означает фактичность именно этой лингвистической цепочки, и никакой другой. Уточним, однако, что в данном случае такой реализм является реализмом познаваемой реальности, а вовсе не непознаваемой. Фрейд здесь предельно ясен: для него то, что познается, является не влечением в своем бытии влечения, а представлением, которое его представляет: «Влечение не может быть… представлено в бессознательном иначе, чем с помощью представления. Если бы влечение не было связано с представлением, если бы оно не выражалось с помощью эмоций, оно оставалось бы для нас полностью непознаваемым. Однако, говоря о бессознательном импульсивном волнении, мы всего лишь, как всегда, свободно пользуемся языком. В действительности мы только тогда и узнаем об импульсивном волнении, репрезентативная идея которого бессознательна»*. Психоанализ занят исключительно тем, что превращает бессознательное в непознаваемое, однако его эмпирический реализм как раз свидетельствует о том, что бессознательное познаваемо, и познаваемо в своих «репрезентативных репрезентациях». В этом смысле следовало бы сказать, что эмпирический реализм Фрейда есть реализм бессознательного представления, по отношению к которому влечение как таковое остается неким непознаваемым X.
Последующий переход в статье от «топической» точки зрения к «экономической»** ничего радикально не меняет: вся теория инвестирования, отмены инвестирования и контринвестирования, «благодаря которым, — говорит Фрейд, — «система PCS защищает себя от давления бессознательного»***, находится в плане этого реализма представления: «Вытеснение есть итог целого процесса, протекающего в рамках систем les и PCS (Cs)»****[122].
Именно потому, что оно стремится не касаться вопроса о бытии влечений и остается в рамках осознанных и неосознанных представлений о влечении, фрейдовское понимание не ограничивается реализмом непознаваемого; бессознательное, по Фрейду, в отличие от бессознательно-
* Freud. Métapsychologie. P. 112. ** Ibid. P. 118 et s. ***Ibid.P. 120. ****Ibid.P. 118.
го романтиков, по существу своему познаваемо, поскольку «репрезентативные репрезентации» влечения все еще принадлежат области означаемого и обладают такою же системой, что и речь; вот почему Фрейд смог написать следующие удивительные слова: «Психическое, как и физическое, не нуждается в том, чтобы быть в действительности таким, каким мы его воспринимаем. Во всяком случае, нам доставило бы удовольствие, если бы мы пришли к выводу, что ему сподручнее влиять на внутреннее восприятие, чем на внешнее, что внутренний объект в не меньшей степени доступен, чем внешний мир»*. Таков эмпирический реализм Фрейда: он, по сути дела, обладает той же самой природой, что и эмпирический реализм физики: он говорит о познаваемости «внутреннего объекта».
Вместе с тем мы понимаем, что этот эмпирический реализм должен строго соотноситься с трансцендентальным идеализмом, и при этом отнюдь не в его субъективном истолковании, а в истолковании сугубо эпистемологическом. Этот трансцендентальный идеализм указывает на то, что «реальность» бессознательного существует только как реальность, подвергшаяся диагностике; на деле бессознательное не может быть определено иначе, как исходя из его отношений с системой Cs — PCS**. «les как жизненное, способное развиваться, вступает в отношения с PCS и даже сотрудничает с ним. Короче говоря, оно дает основания утверждать, что les имеет продолжение в том, что называется побегами, что события жизни воздействуют на него и что, не переставая влиять на PCS, оно в свою очередь само испытывает на себе его влияние»***. Можно сказать, что психоанализ является «изучением побегов les»****. Фрейд так говорит об этих «побегах»: «С точки зрения качества они принадлежат системе PCS, в действительности же — системе les. Именно происхождение и решает их судьбу»*****. Но одновременно с этим следует сказать, что бессознательное существует столь же реально, как и физический объект, и что оно существует лишь соотносительно
* Freud. Métapsychologie. P. 112. **Ibid.P. 135 et s. ***Ibid.P. 136. ****Ibid.P. 136. *****Ibid.P137.
со своими «побегами», в которых оно продолжается и которые заставляют его проявлять себя в сфере сознания.
Что в таком случае означает эта соотнесенность, позволяющая нам говорить о трансцендентальном идеализме и одновременно об эмпирическом реализме? Во-первых, можно сказать, что бессознательное соотносится с системой расшифровки, или декодирования, однако попытаемся лучше понять эту соотнесенность: она вовсе не означает, что бессознательное есть проекция толкователя, в вульгарном смысле — психологиста; было бы правильнее сказать, что реальность бессознательного конституирована в герменевтике и посредством герменевтики, если понимать последнюю в эпистемологическом и трансцендентальном смысле. В своей эмпирической реальности понятие les образуется благодаря движению от «побега» к своему бессознательному «основанию». Здесь речь идет не о соотнесенности с сознанием, а о сугубо эпистемологической соотнесенности психического объекта, открытого многочисленным герменевтическим прочтениям, которые становятся возможными благодаря соединению симптома, аналитического метода и модели интерпретации. Можно определить и вторую соотнесенность, производную от первой, которую мы назвали бы объективной, то есть соответствующей самим правилам анализа, а не личности аналитика; второй тип соотнесенности может быть назван интерсубъективной соотнесенностью. Решающим моментом здесь является то, что факты, относимые к бессознательному, имеют значение для другого. В данном случае недостаточно подчеркивается роль сознания как свидетеля, то есть роль сознания аналитика в конституировании бессознательного как реальности. Обычно ограничиваются тем, что определяют бессознательное по отношению к сознанию, которое его в себе «содержит». Роль иного сознания не рассматривается во всей его существенности, а считается случайной, терапевтической. Однако бессознательное как объект герменевтики по существу своему выбрано «другим», чего одиночное сознание сделать не в состоянии. Иными словами, сознание как свидетель бессознательного относится к бессознательному не только терапевтически, но и диагностически. Именно в этом смысле я говорил вы-
ше, что бессознательное есть реальность, выявленная диагностически. Это замечание существенно для определения объективного носителя утверждений относительно бессознательного. Прежде всего я обладаю бессознательным с точки зрения «другого»; разумеется, в конечном счете это имеет смысл, только если я в состоянии присвоить себе те значения, которые некто другой выработал относительно меня и для меня; но в исследовании смысла уступка моего сознания другому сознанию существенно важна для образования той психической сферы, которую мы называем бессознательным; соотнося — существенным образом, а отнюдь не случайно — бессознательное сначала с герменевтическим методом, а затем с другим герменевтическим сознанием, мы одновременно определяем значение и границы любого утверждения о реальности бессознательного. Короче говоря, мы предпринимаем критику понятия бессознательного, беря слово «критика» в его основополагающем смысле, что доказывает существование владельца смысла и в то же время отвергает какие бы то ни было претензии на расширение этого понятия за его пределы. Таким образом, мы скажем, что бессознательное есть объект в том смысле, что оно «конституировано» совокупностью герменевтических приемов, которые его расшифровывают; оно не абсолютно, оно существует благодаря герменевтике как методу и как диалогу. Вот почему в бессознательном нельзя видеть некую фантастическую реальность, которая обладала бы чрезвычайной способностью мыслить вместо меня. Необходимо понять соотнесенность бессознательного, которая ничем не отличается от соотнесенности физического объекта, чья реальность соотносится с совокупностью конституирующих его научных процедур. Психоанализ обнаруживает тот же «приблизительный рационализм», что и науки о природе. Только имея в виду эти два смысла понятия соотнесенности, мы можем говорить о третьем его смысле, связанном с личностью аналитика. Однако тем самым мы определяем отнюдь не эпистемологическое конституирование понятия бессознательного, а только особые обстоятельства каждой отдельной дешифровки и неизбежные заимствования из языка, используемые в каждом отдельном случае; вместе
с тем мы выявляем скорее ненадежность анализа, можно даже сказать — его полную несостоятельность, нежели его истинное намерение и подлинный смысл. Для критиков психоанализа существует только одна эта соотнесенность: согласно им, бессознательное является всего лишь проекцией аналитика, возникающей в ходе его работы с пациентом. Только одни терапевтические успехи могут убедить нас в том, что реальность бессознательного не является чисто субъективной выдумкой психоанализа.
Эти рассуждения о соотнесенности понятия бессознательного мне кажутся необходимыми, чтобы устранить из фрейдовского реализма то, что уже не является эмпирическим реализмом в том смысле, в каком мы об этом говорили, то есть утверждением о реальности влечений, познаваемых с помощью репрезентативных представлений, а есть наивный реализм, который ретроспективно проецирует в бессознательное выработанный смысл, конечный смысл, как он последовательно конституируется в процессе герменевтического отношения. Вопреки этому наивному реализму следует постоянно повторять: бессознательное не мыслит. В этом отношении фрейдовское Es, Id (указательное местоимение Ça[123] очень плохо передает смысл данного понятия) есть не что иное, как находка гения. les есть Ça и только Ça. Фрейдовский реализм есть реализм Ça в его репрезентативных репрезентациях, а не наивный реализм в смысле бессознательного; благодаря неожиданному преобразованию этот наивный реализм достигает того, что делает бессознательное сознательным и приводит к чудовищному явлению — идеализму бессознательного сознания; этот фантастический идеализм всегда будет только идеализмом смысла, спроецированного в нечто, обладающее мышлением.
Вряд ли стоит прерывать то челночное движение, которое совершается между эмпирическим реализмом и трансцендентальным идеализмом; первый необходимо противопоставить всем претензиям непосредственного сознания познать самое себя в истине; но также и второй следует противопоставить любой фантастической метафизике, которая снабжала бы бессознательное самосознанием; бессознательное «конституировано» совокупностью расшифровывающих его герменевтических процедур.
3. Сознание как задача
В начале данного очерка я говорил об ущемленности феноменологии перед лицом бессознательного. Сознание, утверждал я, столь же темно, что и бессознательное. Следует ли из этого заключать, что теперь мы уже ничего не можем знать о сознании? Вовсе нет. Все, что после Фрейда мы можем говорить о сознании, содержится, как я думаю, в следующей формулировке: сознание является не источником, а задачей. Располагая всеми доступными нам сегодня знаниями о бессознательном, как мы можем определить смысл этой задачи? Ставя вопрос таким образом, мы говорим не о реалистическом, а о диалектическом познании бессознательного. Первое находится в компетенции психоанализа, второе — в компетенции обычного человека и философа; вопрос стоит так: что означает бессознательное для существа, задача которого заключается в том, чтобы стать сознанием? Этот вопрос соотносится с другим вопросом: что такое сознание для существа, которое в определенном смысле накрепко связано с фактором повторения, регрессии, представляющих значительную часть бессознательного?
Именно к такому диалектическому постижению я и намерен теперь перейти, не пытаясь ослаблять напряженность движения по пути «туда и обратно», которое мне представляется неизбежным и даже необходимым; в предшествующих исследованиях мы смогли избежать движения от сознания к бессознательному и обратно: открытие ир-рефлексивного в рефлексии привело нас на порог бессознательного; но именно реализм бессознательного освободил нас от предрассудка сознания, и мы смогли представить сознание не в качестве истока, а в качестве предела.
Теперь я снова вернусь к вопросу о полюсе сознания. Говоря о сознании после Фрейда, нам необходимо пользоваться понятием эпигенеза; этим я хочу сказать, что вопрос о сознании, мне думается, связан со следующим вопросом: каким образом человек выходит из своего детства, как он становится взрослым? Этот вопрос соответствует вопросу аналитика и вместе с тем противоречит ему. Для аналитика человек является жертвой детства. Ущербное видение сознания, приносимого в жертву трем властелинам — «Оно», «Сверх-Я», «Реальность», — свидетельствует о том, что задача сознания еще не решена и что эпигенетический путь здесь не подходит.
Но стоит нам произнести эти слова: «сознание как эпигенез», — как тут же мы рискуем подпасть под влияние интроспективной психологии[124]. Я полагаю, что здесь вообще необходимо полностью отказаться от любой психологии сознания, включая и ту, которая, как я считаю, является результатом робких попыток выработать понятие сознания, исходя из «свободной сферы конфликтов», как это мы наблюдаем в школе Г. Гартмана[125]. Я полагаю также, что в данном случае надо решительнейшим образом сопоставить фрейдовский психоанализ с методом «Феноменологии духа» Гегеля. Гегель развивает свои «образы» отнюдь не как продолжение непосредственного сознания. Генезис, о котором здесь идет речь, не есть генезис сознания или генезис в сознании; это — генезис духа в дискурсе. Ключевые образы «Феноменологии духа», внешне напоминающие образы Отца, Фаллоса, Смерти, Матери, не соответствуют ключевым означающим, лежащим в основании психоанализа. Этим я хочу сказать, что человек становится взрослым, только обретая способность к созданию новых ключевых означающих, близких ступеням духа гегелевской феноменологии и управляющих сферами мысли, ни в коей мере не сводимыми к фрейдовской герменевтике.
Возьмем всем известный, достаточно избитый пример господина и раба у Гегеля[126]. Данная диалектика не есть диалектика сознания. Ставка в ней сделана на рождение «Я». Гегель, правда, говорит здесь о переходе от желания как желания «другого» к Anerkennung, к признанию. Что это значит? Если быть точным, то речь идет о порождении «Я» в условиях раздвоения сознания. До этого «Я» не существовало и, как замечает Веланс[127], пока не существовало «Я», не существовало и смерти, если иметь в виду смерть человека.
Итак, ступени этого признания свидетельствуют о «сферах» человеческих значений, которые в своей сущности не являются сексуальными; я говорю: в своей сущности; я еще вернусь к бессознательному, как вернусь и к вопросу о вторичном либидинозном подкреплении этих межче-
ловеческих отношений; но в своем первичном, сущностном конституировании эти области смысла отнюдь не требуют либидинозного подкрепления. Я предлагаю различать три сферы смысла, которые для краткости изложения можно было бы обозначить тремя понятиями: «обладать», «мочь», «иметь значение».
Под отношениями обладания я понимаю отношения, связанные с присвоением и деятельностью в условиях «редкости»[128]. Других условий человеческого обладания мы пока не знаем. Благодаря этим отношениям мы видим, как рождаются новые человеческие чувства, которые не принадлежат области биологии; эти чувства не проистекают из жизни, они рождаются от рефлексии, от новых качеств объекта, с какими сталкивается человеческое чувство, от специфической объективности, являющейся объективностью «экономической». Человек предстает здесь бытием, способным к «экономике». Тем самым он оказывается способным на чувства, связанные с обладанием, и на новый вид отчуждения — не либидинозного по самой своей сути; именно об этом постоянно писал Маркс, начиная с ранних произведений, и именно это в «Капитале» нашло свое завершение в товарном фетишизме, в деньгах; это и есть экономическое отчуждение и, как показал Маркс, оно способно порождать «ложное сознание», «идеологическое мышление». Так человек становится взрослым, а тем самым, как взрослый, оказывается способным на зрелое отчуждение. Но самое главное заключается в том, что источником распространения этих чувств, этих страстей, этого отчуждения являются доселе неизвестные объекты — меновые стоимости, денежные знаки, структуры и институты. В таком случае мы можем утверждать, что человек начинает осознавать себя по мере того, как воспринимает эту экономическую объективность в качестве модальности своей субъективности и становится обладателем специфически человеческих «чувств» по отношению к наличным вещам, воспринимая их как вещи обработанные, освоенные и присвоенные, в то время как сам он становится экспроприированным обладателем; именно эта новая объективность и порождает влечения и представления, с одной стороны, и представления и чувства — с другой. Вот почему мы не можем сказать, что мать есть экономическая реальность, —
и не только потому, что она не является «лакомым кусочком», как об этом говорят, но и потому, что если бы она была им, то не внутри объективных экономических отношений, связанных с трудом, обменом и присвоением.
В том же ключе, с точки зрения объективности, следует рассматривать и чувства, а также явления отчуждения, которые эта объективность порождает, то есть проблему власти. Действительно, сфера власти конституируется в объективных структурах; именно поэтому Гегель говорил об объективном духе, имея в виду те структуры и общественные установления, в которые вписаны эти отношения господства — подчинения, свойственные политической власти, и которые их, в свою очередь, порождают. И если этой политической сфере соответствует некое специфическое «сознание», то только в той мере, в какой человек вступает в отношение господства — подчинения, производит себя как собственная духовная воля, о чем речь идет в начале «Философии права» Гегеля. Здесь также развитие сознания соответствует развитию «объективности». Вокруг объекта, каким является власть, концентрируются собственно человеческие «чувства»: злословие, амбиции, покорность, ответственность, а также и специфические виды отчуждения, описание которых уже началось в древности в образе «тирана». Платон прекрасно показал, каким образом болезни души, олицетворением которых является образ тирана, проистекают из источника, называемого им dynamis (сила), и, распространяясь далее, достигают сферы языка, где «тиран» именуется уже не столь грубо, — «софистом». Теперь мы можем сказать, что человек становится сознательным по мере того, как он оказывается способным постичь политический аспект власти, возбуждая в себе чувства, соответствующие феномену власти, и чиня зло, к которому она его толкает. Чувство вины созревает именно здесь: власть делает нас безумными, говорит вслед за Платоном Алэн[129]. На этом примере мы прекрасно видим, что психология сознания, если иметь в виду субъективную рефлексию, является всего лишь оборотной стороной образов, которые по мере своего развития сопровождают человека и порождают экономическую, а вслед за ней и политическую объективность.
То же можно сказать и о третьей сфере собственно человеческого смысла — сфере ценности. Ее можно представить следующим образом: конституирование «Я» не ограничивается сферой экономики и политики, но продолжается и в области культуры. Здесь также «психология» ухватывает только тень человека, его проект, выдавая его за целостного человека, за существо, достойное уважения и одобрения, признаваемое всеми как личность. Для меня самого мое собственное существование на деле зависит от этого конституирования моего «Я» во мнении «другого»; мое «Я», если так можно сказать, есть результат мнения «другого»; но такое конституирование субъектов, то есть конституирование друг друга как субъектов посредством мнения, руководствуется новыми образами, о которых в новом же смысле можно сказать, что они «объективны»: они нисколько не институированы, и тем не менее их надлежит искать в произведениях литературы и искусства. Именно в этой нового рода объективности ведутся поиски возможностей человека: даже когда Ван Гог рисует стул, он изображает человека: он проецирует на полотно образ человека, то есть того, кто этот мир представляет; памятники культуры сообщают «образам» человека плотность «вещи»: они заставляют эти «образы» жить среди людей, воплощая их в «произведениях». Благодаря произведениям искусства, благодаря посредничеству памятников культуры конституируется достоинство человека и его самоуважение. Однако и на этом уровне человек может окончательно деградировать, стать чуждым себе, превратиться в посмешище, в ничто.
Как мне представляется, именно такое толкование «сознания» можно дать, опираясь на метод, который не является более психологией сознания, а есть рефлексивный метод, берущий за отправную точку объективное движение человеческих образов; это объективное движение Гегель называет духом: как раз благодаря рефлексии в бытии может зародиться субъективность, которая конституируется одновременно с зарождением объективностти.
Очевидно, что этот косвенный, опосредованный подход к сознанию не имеет ничего общего с непосредственным присутствием в сознании, с непосредственной уверенностью сознания в себе самом.
Наконец-то можно четко сформулировать вопрос, который мы пытаемся решить в ходе нашего исследования: что происходит с фрейдовским бессознательным, когда его пытаются соотнести с чем-то иным, нежели ясное и уверенное в себе сознание? Что происходит с реализмом бессознательного, когда его диалектически связывают с опосредованным восприятием самосознания? Мне кажется, что диалектика эта может быть понята в двух смыслах. Во-первых, мы можем трактовать ее как отношение противостояния; мы можем противопоставить регрессивному движению фрейдовского анализа прогрессивное движение гегелевского синтеза. Но, как мы увидим дальше, эта точка зрения достаточно абстрактна и ее необходимо преодолеть. Однако, чтобы иметь право на ее преодоление, надо, чтобы ее разделяли по крайней мере в течение долгого времени. И если преодолевать ее, то в каком направлении? Об этом будет сказано ниже, хотя все это весьма проблематично, поскольку, сознаюсь, я смутно представляю себе вторую точку зрения, с которой эта диалектика выглядела бы достаточно конкретной.
Предварительно я противопоставил бы друг другу два движения: диалектическое, ведущее к бессознательному, и синтетическое, направленное к сознанию.
Я предлагаю исходить из следующей формулировки: сознание — это движение, которое постоянно отвергает собственную исходную точку и только в конце обретает веру в себя. Иными словами, сознание — это то, что получает свой смысл только в последующих образах, то есть это некий новый образ, который может обнаружить смысл предшествующих образов задним числом. Так, в «Феноменологии духа» значение стоицизма[130] как момента сознания обнаруживается только в скептицизме[131], поскольку он раскрывает абсолютно независимый характер взаимоотношений господина и раба применительно к мыслимой свободе[132]; так же обстоит дело и со всеми остальными образами; можно вообще считать, что интеллигибельность сознания имеет свой путь — от начала к концу. Не здесь ли лежит ключ к диалектике сознательного и бессознательного? В самом деле, бессознательное, по существу, означает, что интеллигибельность всегда вытекает из предшествующих образов, что мы понимаем это предшествова-
ние в смысле чисто временном и событийном, или символическом. Человек — единственное существо, являющееся жертвой своего детства: человек — это существо, которого детство постоянно тянет назад; бессознательное в таком случае выступает принципом всех движений назад и всех застойных явлений. Если предположить, что такая интерпретация с опорой на прошлое в состоянии смягчить его строго исторический характер, то мы еще раз окажемся перед лицом символического предшествования, интерпретируя бессознательное как некую упорядоченную совокупность ключевых означающих, которые всегда имеются в наличии. То, что первичное вытеснение предшествует вторичному, то есть что ключевые означающие предшествуют всем интерпретированным временным событиям, побуждает нас обратиться к символическому смыслу предшествования, который поддерживает обратный ход сознания, о котором мы говорим. Итак, мы можем сказать в самом общем плане: сознание стоит в конце пути, бессознательное — в его начале. Данная формулировка позволяет нам вернуться к вопросу, которого мы уже касались, но оставили открытым: о переплетении двух толкований в одном и том же опыте. Я уже говорил о возможности интерпретировать, например, политическое отношение как при помощи образов феноменологии духа, так и при помощи либидинозных моментов, о которых пишет Фрейд в работе «Анализ «Я» и коллективная психология». Эти два объяснения не только не исключают друг друга, но предполагают одно другое. Можно только повторить, что мы уже говорили: с одной стороны, политические отношения конституированы, исходя не из начальных импульсных представлений, но из объективности власти, а также из сопутствующих ей чувств и страстей. Но, с другой стороны, следует признать, что ни один из образов феноменологии духа не обходится без либидинозных оснований и, следовательно, не способен избежать регрессивного воздействия, оказываемого на них импульсной ситуацией. Таким образом, фрейдовская интерпретация харизматического лидера через гомосексуальные либидиноз-ные инвестиции, по существу, остается истинной; это не означает, однако, что политическое сексуально; это говорит только о том, что политическое не является исключительно политическим, поскольку переносит на политику межчеловеческие отношения, порожденные в либидиноз-ной сфере; в этом смысле аналитик всегда будет прав в своем подозрительном отношении к политической страсти, видя в ней уловку или притворство, но он никогда не преуспеет в анализе интегрального генезиса политического отношения, если будет исходить исключительно из сферы влечений. Единственное, что можно сказать, так это то, что психоанализ политической деятельности способен разрушить саму идею так называемого политического призвания, если оно понимается лишь как либидинозное построение образа лидера; тем не менее психоанализ способен говорить о собственно политическом призвании в той мере, в какой оно противостоит такому сведению и в какой реально порождено собственно политической проблематикой. Таков смысл утверждения Платона в «Государстве»: «Подлинное должностное лицо, то есть философ, правит беспристрастно». То же можно сказать и об отношении обладания: здесь возможны два прочтения: одно, исходящее из труда, другое — из отношения к собственному телу, анальной сфере и т. п. Генезис этих явлений осуществляется на разных уровнях: один является конституирующим, другой имеет дело лишь с масками и подтасовками, и в конечном итоге объяснению подвергается только «ложное» сознание. Я хотел бы остановиться на одном примере, взятом из области символов, созданных культурой, и попытаться на этом примере показать диалектическое противостояние двух истолкований символов: одного, направленного на раскрытие последующих образов (герменевтика сознания), другого — нацеленного на предшествующие образы (герменевтика бессознательного).
«Царь Эдип» Софокла позволяет нам понять, в чем выражаются эти две герменевтики. Что значит понять «Царя Эдипа»? Существует два способа интерпретации трагедии: один — путем обращения к изначальному комплексу, комплексу Эдипа, как это сделал Фрейд в «Толковании сновидений»; другой — путем прогрессивного синтеза проблематики, ничего общего с комплексом Эдипа не имеющей. Согласно Фрейду, в основе воздействия пьесы на зрителя лежит не конфликт судьбы и свободы, как утверждалось в классической эстетике, но сама природа той судь-
бы, которой мы подчиняемся, ничего не зная о ней. «Судьба его захватывает нас потому, — говорит Фрейд, — что она могла стать нашей судьбой, потому что оракул при нашем рождении наслал на нас то же самое проклятие»*. И далее: «Эдип… представляет собой лишь осуществление желания нашего детства»**. Наш страх, знаменитый трагический (ppßoc, выражает всего лишь силу вытесненного по отношению к проявлению наших собственных влечений. Такое прочтение, возможно, внесет определенную ясность, по крайней мере оно необходимо. Но есть и другое прочтение: оно касается не драмы инцеста и отцеубийства, которые имели место, а трагедии истины; речь идет об отношении Эдипа не к сфинксу, а к провидению. Мне могут возразить, что второе отношение как раз и является психоаналитическим. Разве сам Фрейд не утверждал, что «трагедия есть не что иное, как последовательное и продуманное разоблачение — ив этом она может быть сравнима с психоанализом — того факта, что Эдип является убийцей Лайя, но одновременно и сыном Иокасты»***. Но в этом случае надо сделать еще один шаг вперед: творчество Софокла не является механизмом возрождения Эдипова комплекса с помощью двойственного средства — фиктивного разрешения компромисса, которое удовлетворило бы «Оно», и назидательного наказания, которое удовлетворило бы «Сверх-Я». Посредством воспоминания и повторения того, что уже имело место, трагический поэт еще раз проблематизирует трагедию самосознания; драма, развертывающаяся в «Эдипе в Колоне», соединяется с драмой, имеющей место в «Царе Эдипе»; одновременно сам Эдип оказывается вторично виновным, но эта вина уже зрелого человека, поправшего справедливость; проклиная в начале трагедии незнакомца с запятнанной репутацией, являющегося причиной мора, он проклинает и себя, не понимая того, что сам мог бы быть этим человеком; последующее развитие событий приводит к краху это высокомерное самосознание, уверовавшее в свою невиновность. Таким образом, надменный Эдип должен быть обречен на страдание. В определенном смысле эта вторич-
* Freud. Interprétation des rêves. P. 239. ** Ibid. P. 239. ***Ibid.P.239.
нал драма принадлежит первичной трагедии, поскольку преступление завершается наказанием; но движение от преступления к наказанию раскрывает вторичную драму, которая и есть собственно трагедия. Жажда истины, толкающая на поиски виновного, — порочная жажда; это — самомнение царской власти, атрибут его царского величества, высокомерие человека, который верит в то, что к нему истина не имеет никакого отношения. Это высокомерие сродни высокомерию Прометея, одержимого жаждой не-знания. Один только Тиресий способен на истину. Эдип — всего еще только hybris™ истины, и именно от этого hybris он в конечном итоге и выносит свой приговор. Виновность этого hybris выражается в неумном гневе против Тиресия; это не сексуальная виновность, это — гнев не-знания. Виновность выражается в стремлении Эдипа оправдать себя за первое преступление, в котором он не видит своей вины; виновность эта весьма специфична, она живет внутри драмы истины и требует столь же специфического разоблачения; процесс разоблачения представлен образом «оракула»; стало быть, не Эдип является центром, в котором берет начало истина, а Тиресий; Эдип — всего только царь, поэтому-то трагедия есть трагедия Царя Эдипа, а не Эдипа — отцеубийцы, повинного в кровосмешении; в этом своем качестве Эдип свидетельствует в пользу человеческого величия; его тщеславие должно разоблачаться с помощью образа, который, так сказать, обладает целостным видением; этот образ родственен образу плута в трагедии елизаветинцев[134]; сам по себе он не трагичен, он, скорее, говорит о том, что в трагедию проникает комедия. Оракул назван самим Софоклом «властителем истины»; именно этой власти Эдип, страдая, будет подчиняться. Связь между гневом Эдипа и властью истины является подлинной основой трагедии. Основа эта связана не с сексуальными проблемами, а с проблемой света. Его символом является Аполлон[135]; может быть, мы даже могли бы сказать, что именно Аполлон призывает Эдипа к самопознанию, он же подстрекает Сократа изучать жизнь других людей и познавать самого себя, чтобы прийти к выводу, что жизнь, которая не будет изучена, не стоит того, чтобы ее прожить. Если дело обстоит таким образом, то самонаказание Эдипа совершается в двух переплетающихся друг с другом драмах. Эдип сам себя ослепляет — это очевидный пример самонаказания, жестокости по отношению к себе самому, вершина мазохизма; это — однозначная истина, и хор понимает это; позже старый Эдип раскается в новом насилии, признав его своей самой большой виной. Но даже если трагедия истины одновременно и включена в сексуальную трагедию, и находится вне ее, значение наказания все равно остается двойственным; оно в одно и то же время принадлежит и драме самопознания и черпает свое значение из отношения Эдипа к Тиресию; Тиресий является провидцем, но он — слепой провидец; Эдип зряч, но его разум слеп: теряя зрение, Эдип обретает способность видения; наказание как мазохистское действие приводит к помрачению смысла, разума и воли. Креонт говорит:
…зачем стремиться к власти,
с которой вечно связан страх, тому,
кто властвует и так, тревог не зная?[136]
Внешняя судьба превратилась во внутреннее предназначение. Проклятый человек, как это было с Тиресием, стал слепым провидцем. Преисподняя истины — это благословение видения. Такое наивысшее значение трагедии еще не раскрыто полностью в «Царе Эдипе»; оно будет в тени до тех пор, пока Эдип не осознает полностью не только значение своего появления на свет, но и значение своего гнева и своего самонаказания. С этого момента он будет бессмертен в том смысле, в каком смерть является проклятием жизни и крайней угрозой для не очистившего себя существования.
Есть, таким образом, две герменевтики: одна нацелена на возникновение новых символов, новых образов, вызванных к жизни, как это происходит в «Феноменологии духа», конечным образом, являющимся уже не образом, а знанием; другая имеет дело с перевоплощением архаических символов. Первая, как нам стало ясно, состоит в интерполяции текста, содержащего лакуны; вторая скорее заключается в формировании новых типов мышления, порожденных символом, нежели в восстановлении неполноценного текста. Дуализм герменевтик выявляет
дуализм самих символов; символы имеют как бы два вектора: с одной стороны, они повторяют наше детство со всеми его смыслами — временными и вневременными, с другой — они исследуют наше взрослое состояние. «О ту prophetic soull» — говорит Гамлет[137]. Во втором случае речь косвенным образом идет о наших самых кардинальных возможностях; по отношению к этим возможностям символ проспективен. Культура как раз и есть этот эпигенез, ортогенез «образов» человека-становящегося-взрослым. Создание «произведений», «монументов», «институтов» культуры не есть проекция способности символизации, выявленной регрессивным анализом, оно — возникновение Bildung. Я, если хотите, говорю об «образовательной», а не только о проективной функции, чтобы обозначить символические проявления, которые суть вехи на пути становления самосознания. Символы приводят в движение то, что они выражают. Именно в этом смысле они являются Образованием — naiöeia, Education, Eruditio, Bildung[138]. Они открывают то, что сами же скрывают. Именно в этом смысле культура — это Bildung, а не сновидение: сновидение маскирует, произведение культуры разоблачает, обнаруживает.
Каково обратное воздействие этой диалектики двух гер-меневтик и двух путей символизации на диалектику сознательного и бессознательного? С тех пор, как существует противоположность сознательного и бессознательного, существуют и две противостоящие друг другу интерпретации — прогрессивная и регрессивная; нам могут сказать, что сознание — это история, а бессознательное — судьба. Речь идет о судьбе, предшествовавшей детству, о судьбе повторения одних и тех же тем на различных витках спирали. Однако человек способен выйти из своего детства, прервать повторяемость и создать историю, поляризованную проспективными образами, то есть эсхатологией. Бессознательное — это источник, начало; сознание — завершение истории, апокалипсис. Но противоречие, о котором мы говорим, абстрактно. Необходимо еще понять, что система противонаправленных образов, образов, устремленных вперед, и образов, которые отсылают к тому, что подвергается символизации, к тому, что уже существует, это —
одна и та же система образов. Такое понять трудно, и я сам едва ли могу понять это. По крайней мере мы можем сказать следующее: имея в виду наши сегодняшние представления, было бы великим соблазном утверждать, что бессознательное объясняет в человеке его нижнюю часть, нижний, ночной уровень, что оно есть Страсть Ночи; сознание же выражает верхнюю часть, высшую, дневную; оно есть Закон Дня. В таком случае может возникнуть опасность легковесной эклектики, когда сознание и бессознательное признаются взаимодополнительными. Такого рода компромисс есть карикатура на диалектику. Но мы изгоним злых духов полностью, если поймем, что эти две герменевтики: герменевтика Дня и герменевтика Ночи — суть одно и то же. Нельзя соединить вместе Гегеля и Фрейда, а затем каждому из них отдать его половину человека. Так же, как можно сказать, что все в человеке психологично и в то же время все социологично, следует признать, что оба эти прочтения касаются одной и той же сферы. Для гегельянца все дело — в движении образов, включая и то, что Гегель называет дискурсом духа и чем каждый из нас обладает в качестве сознания. Я скажу также, что для фрейдиста все состоит в жесткой детерминации со стороны фундаментальных символов, включая диалектическое отношение между Рабом и Господином. Эта сверхдетерминация совершеннейшим образом реализуется в отношении психоаналитика к своему пациенту, так что курс лечения можно истолковать как борьбу за признание, ведущуюся в неравных, неодинаковых условиях. Идет ли здесь речь о бытии и обладании? Мы уже видели, что обладание фаллосом, как и необладание им, как и утрата его, то есть отказ от пользования им по существу, — в любом случае все это есть обладание и т. п. Вот почему необходимо, чтобы эти два подхода — гегелевский и фрейдовский — стали безоговорочно единым подходом. Лучшим доказательством тому служит следующее: то, что можно сказать о первом из них, можно сказать и о втором. Разве «Феноменология духа» не заканчивается обращением к непосредственно данному, как это характерно и для психоанализа, когда он трактует воспоминание? И наоборот, разве движение к архаике в психоанализе не вовлечено в движение к буду-
щему? Разве терапевтическая ситуация как таковая не есть предсказание свободы? Вот почему фрейдист всегда может говорить, что интерпретация Эдипа непсихоаналитическими средствами свидетельствует всего лишь о сопротивлении толкователя самому анализу.
Вот почему надо понимать целостно противостояние сознания как истории и бессознательного как судьбы, чтобы суметь преодолеть это противостояние и понять идентичность двух систематик — той, которая нацелена на синтез сознания, и той, которая предусматривает анализ бессознательного. Но ни противостояние, ни идентичность двух герменевтик не дают нам права на эклектику: три плошки бессознательного, две капли предсознательного и щепотка сознания — вот чего следует всякий раз опасаться. Эклектика — постоянный враг диалектики.
Подведем некоторые итоги. Мы освободились от заблуждения, свойственного феноменологии сознания: непосредственное сознание есть уверенность, но не истина, сказали мы; иррефлексивное, к которому отсылает рефлексия, не является бессознательным. Это заблуждение привело нас к рассмотрению реализма бессознательного. Он предстает как «хорошо обоснованный» реализм — коррелятивный трансцендентальному идеализму, запрещающему нам мыслить о бессознательном. Затем нам надо было преодолеть этот реализм бессознательного, согласно которому сознание есть лишь «место» в топике инстанций. Тогда мы попытались рассмотреть сознание и бессознательное — одно при помощи другого, одно противостоящее другому, что соответствует кантовскому противопоставлению негативных величин. На этой стадии мы оставались долго. Чтобы поддержать собственное начинание, мы полностью отказались от психологии сознания, которая могла бы увести нас и от Фрейда, и от Гуссерля: при этом мы руководствовались гегелевской феноменологией духа. «Сознание», чьим другим является бессознательное, не есть при-сутствие-в-себе, апперцепция содержания, а есть позиция, требующая следовать образам Духа. Герменевтика этих образов через символы, в которых она зародилась, нам представляется подлинной регрессивной герменевтикой; смысл последней обнаруживается, когда она находит свое
«другое» в прогрессивной герменевтике феноменолигии духа. Как «другое» своего «другого» бессознательное раскрывается теперь в качестве судьбы, противостоящей истории, последовательно идущей к будущей целостности духа. В конечном счете речь идет о безусловной идентичности этих двух герменевтик, позволяющей нам утверждать, *гго феноменология духа и археология бессознательного говорят не о двух половинках человека, а о том, что каждая из них свидетельствует в пользу целостного человека.
Если дело обстоит таким образом, то конечное сознание может быть не чем иным, как способом жить, каковым является ограниченная и смертная судьба, то есть оно идентично духу, взятому в его сущностных образах, и бессознательному, понятому с помощью его ключевых означающих. Если мы поймем эту идентичность между прогрессивным движением образов духа и регрессией, ведущей к ключевым означающим бессознательного, мы поймем тогда и слова Фрейда, так часто им повторяемые: «Wo es war, soll ich werden» («Где было «Оно», там должно стать «Я»).
Психоанализ и развитие современной культуры
Такой важный вопрос, как место психоанализа в современной культуре, требует подхода строго ограниченного, поскольку он не может не привести к дискуссиям и сомнениям, и вместе с тем подхода, относящегося строго к существу дела, поскольку он должен показать значение психоанализа как явления культуры. Новое прочтение работ Фрейда о культуре поможет нам найти такой подход: настоящие очерки свидетельствуют о том, что психоанализ трактует культуру не как вспомогательное или не имеющее прямого назначения образование; далекий от того, чтобы быть только объяснением недостатков человеческого существования, его «изнанки», психоанализ обнаруживает свое подлинное намерение, когда раздвигает рамки терапевтического отношения между аналитиком и
пациентом и выходит на уровень герменевтики культуры. В первой части нашего анализа главным является тезис, который мы попытаемся в дальнейшем обосновать, а именно что психоанализ вписывается в современную культуру в качестве ее герменевтики; иными словами, психоанализ сам есть момент развития культуры, поскольку интерпретация, которую он дает человеку, является непосредственным и весьма существенным вкладом в культуру как целое; благодаря психоанализу интерпретация становится моментом культуры; интерпретируя мир, психоанализ изменяет его.
Прежде всего важно показать, что психоанализ есть интерпретация культуры в ее совокупности; речь отнюдь не идет о том, что психоанализ является исчерпывающим объяснением культуры; как мы покажем в дальнейшем, его точка зрения ограничена и он еще не нашел своего места в целостной интерпретации культуры — это значит, что вопрос о значении психоанализа все еще остается в подвешенном состоянии; но эта интерпретация не ограничена с точки зрения ее объекта, то есть человека, которого она хочет постичь в его целостности; она ограничена только как таковая, сама по себе: необходимо понять собственно психоаналитический подход и отвести психоанализу подобающее ему место. Вспоминая Спинозу, говорящего о божественных атрибутах как о «своего рода бесконечностях»[139], я мог бы утверждать, что психоанализ является своего рода целостной интерпретацией; именно в этом смысле психоанализ и есть факт нашей культуры.
Однако тот, кто представляет себе психоанализ в качестве одной из областей психиатрии, которая постепенно переходила от изучения индивидуальной психологии к постижению социальной психологии, искусства, морали, религии, тот упускает из виду единство психоаналитической позиции. Главные работы Фрейда, посвященные проблемам культуры, появились лишь в последний период его жизни: «Будущее одной иллюзии» (1927); «Недовольство культурой» (1930); «Моисей и монотеистическая религия» (1937–1939). Однако это вовсе не свидетельствует о запоздалом движении Фрейда от психологии индивида к социологии культуры. Начиная с 1908 года он пишет такие работы, как «Безумие и сны в «Градиве» Йенсена» (1907); «Леонардо да Винчи. Воспоминание детства» (1910), «Тотем и табу» (1913); «Размышления о войне и смерти» (1915); «Тревожащая странность» (1919), ««Поэзия и правда» Гёте. Детское воспоминание» (1917); ««Моисей» Микеланд-жело» (1914) «Психология масс и анализ человеческого «Я» (1921); «Дьявольский невроз в XVII веке» (1923); «Достоевский и отцеубийство» (1928).
Значительные «вторжения» в область эстетики, социологии, этики, религии мы встречаем в таких актуальных сегодня текстах, как «По ту сторону принципа удовольствия», ««Я» и «Оно»» и — особенно — «Метапсихология». Психоанализ действительно расширил свои традиционно сложившиеся сферы влияния, показав вместе с тем, что в них могут действовать методологические принципы других, отличных от него дисциплин; к разнообразным областям он прилагает единую точку зрения своих «моделей» — топической, экономической, генетической («Бессознательное»); именно это единство и делает психоаналитическую интерпретацию глобальной и ограниченной одновременно: глобальной — потому что она в самом деле применима к любому человеческому явлению, ограниченной — поскольку не распространяется за пределы своих моделей.
С одной стороны, Фрейд всегда отрицал различие между психологической и социологической областями и постоянно подчеркивал, что существует глубинная схожесть между индивидом и группой, никогда не пытаясь доказывать это с помощью каких-либо спекуляций относительно «бытия» психики и «бытия» коллектива; он просто-напросто демонстрировал это, используя свои генетическую и то-щшо-экономическую модели; с другой стороны, Фрейд никогда не пытался обосновывать свои важнейшие выводы путем обращения к истокам и импульсной экономике: я не могу сразу говорить обо всем, повторял он, мои притязания скромны, ограниченны, частичны. Его сдержанность не является следствием ограниченности, а выражает убежденность исследователя, который знает, что его объяснение дает ему видение, очерченное собственной точкой зрения, хотя и нацелено оно на постижение целостности человеческого феномена.
1. ГЕРМЕНЕВТИКА КУЛЬТУРЫ
Сугубо исторический анализ, имеющий целью проследить эволюцию учения Фрейда о культуре, следовало бы начать с «Толкования сновидений»; именно здесь Фрейд, интерпретируя «Царя Эдипа» Софокла и «Гамлета» Шекспира, раз и навсегда доказал единство литературного творчества, мифа и сновидческого искажения. Все предыдущие идеи берут начало именно в этом его утверждении. В работе «Поэт и фантазирование» Фрейд ставит вопрос о том, что неощутимые переходы от ночного сновидения к игре, от игры к юмору, фантазии и грезам наяву, а от них к фольклору и легендам дают основание полагать, что способность к творчеству обнаруживает тот же динамизм, содержит в себе ту же экономическую структуру, что и феномены компромисса и замещенного удовлетворения, которые позволяет выявить интерпретация сновидений и теория невроза. Но чтобы идти дальше, здесь не хватает ясного видения топики, инстанций психического и экономики инвестирования, которые позволили бы переместить эстетическое наслаждение в совокупную динамику культуры; вот почему в рамках небольшой статьи мы предпочитаем скорее иметь дело с систематической, нежели с исторической интерпретацией и перейдем непосредственно к текстам, дающим синтетическое определение культуры. Исходя из этой центральной проблематики только и можно развить общую теорию «иллюзии» и определить место предшествующих эстетических работ, смысл которых остается в подвешенном состоянии, пока не найдена единственно возможная движущая сила культуры. И эстетическое «наслаждение», и религиозная «иллюзия» могут быть поняты как противоположные полюсы одного и того же стремления к компенсации, которая сама по себе является одной из задач культуры.
То же самое можно сказать и о более объемных работах, таких как «Тотем и табу», в которых Фрейд с помощью психоанализа интерпретирует результаты этнографических исследований начала века, касающихся тотемических истоков религии и этических императивов, лежащих в основе архаических табу. Эти генетические исследования могут быть рассмотрены в более широких рамках топико-
экономической интерпретации; в работах «Будущее одной иллюзии» и «Моисей и монотеистическая религия» Фрейд сам указывает на то место, которое занимает такое объяснение, касающееся, правда, только частного феномена, то есть архаической формы религии, а не религии как таковой; ключом к систематическому, а не только историческому прочтению произведений Фрейда является подчинение всех «генетических» и частных интерпретаций «то-пико-экономической» интерпретации, которая только и может обеспечить единство исследовательской перспективы. Это второе предварительное замечание присовокупляется к первому, подтверждая его: центральным моментом генетического объяснения в рамках топико-экономического объяснения являет теория иллюзии; именно здесь архаическое воспроизводится как «возвращение вытесненного». Если это так, что можно подтвердить только на практике, то систематический порядок побуждает к следующему: идти от целого к отдельным его частям, от центральной экономической функции культуры к частным функциям религиозной «иллюзии» и эстетического «наслаждения», от экономического объяснения к объяснению генетическому.
1. «Экономическая» модель феномена культуры
Что такое «культура» вообще? Обратимся сначала к негативному определению и скажем, что цивилизация и культура не противостоят друг другу; подобный отказ от ставшего почти классическим разделения сам по себе весьма симптоматичен; дело вовсе не обстоит так, будто, с одной стороны, мы имеем утилитарные деяния, нацеленные на овладение силами природы, что и является цивилизацией, а с другой стороны, нам предписана бескорыстная, идеалистическая деятельность по реализации ценностей, что я есть задача культуры; такое различение, которое может иметь смысл в иной, нежели психоаналитическая, позиции, сразу же исчезает, как только мы решаем подходить к культуре с точки зрения баланса либидинозных инвестиций и контринвестиций.
Именно такая — экономическая — интерпретация господствует во всех фрейдовских рассуждениях о культуре.
Первое явление, которое подлежит рассмотрению с данной точки зрения, это принудительное отречение от импульсивных желаний; именно с этого начинается «Будущее одной иллюзии»: культура, отмечает Фрейд, зародилась тогда, когда был наложен запрет на такие, идущие от древности желания, как инцест, каннибализм, жажда крови. Но в то же время принуждение не составляет всей культуры: в основании будущего, говорит Фрейд, лежит иллюзия, и перед ней стоит более широкая задача, а запрет является всего лишь одним, совсем не существенным ее моментом. Именно в этом корень проблемы. Фрейд очерчивает ее с помощью трех вопросов: до какого предела можно жертвовать импульсными влечениями человека, уменьшая их тяжесть? как можно примирить их с неизбежными жертвами? каким образов компенсировать индивидам эти жертвы? Может показаться, что данные вопросы задаются автором по отношению к культуре; однако это не так: они сами составляют проблематику культуры; в конфликте между запретом и влечением речь идет именно об этой тройственной проблематике: уменьшение импульсной нагрузки, признание этого сокращения неизбежным и компенсация за понесенные жертвы.
Но чем иным является подобное вопрошание, как не экономической интерпретацией? И здесь мы нащупываем тот узел проблем, в котором связываются воедино не только все работы Фрейда об искусстве, морали и религии, но и «индивидуальная психология» и «коллективная психология», и обе они укореняются в «метапсихологии».
Экономическая интерпретация культуры развертывается в двух временах: «Недовольство культурой» показывает, что эти временные моменты соединены друг с другом; сначала существует то, о чем можно говорить, не обращаясь к влечению к смерти; затем существует то, о чем нельзя говорить, не обращаясь к влечению к смерти; этот переломный момент открывает перед исследователем полную трагизма сферу культуры, но Фрейд предпочитает идти по пути заурядных подсчетов; экономика культуры, как представляется, совпадает с тем, что можно было бы назвать общей «эротикой»: цели, преследуемые индивидом, и цели, которые одухотворяют культуру, выступают как образы Эроса, то расходящиеся в разные стороны, то сходящие-ся друг с другом: «Развитие культуры представляет собой такую модификацию жизни, которая возникает под влиянием Эроса и по требованию Ананке[140], этой реальной нужды; оно есть процесс объединения изолированных человеческих существ в сообщество либидозно связанных друг с другом людей»*[141]. Все та же «эротика» определяет внутреннюю связь в группах и заставляет индивида искать удовольствий и избегать страданий, которые доставляет ему мир, его собственное тело и другие люди. Развитие культуры, как и становление индивида — от ребенка до зрелого мужа, — является плодом Эроса и Ананке, любви и труда; можно даже сказать: скорее любви, чем труда, поскольку необходимость объединяться в труде с целью эксплуатации природы считается пустяком по сравнению с либидинозной связью, которая сплачивает индивидов в единое социальное тело. Кажется даже, что все тот же Эрос провоцирует стремление индивида к счастью и пытается объединять людей во все более обширные группы. Но тут же мы сталкиваемся с парадоксом: культура как организованная борьба с природой наделяет человека могуществом, каким некогда были наделены боги; но бого-подобие делает человека неудовлетворенным в цивилизации… Почему? С точки зрения общей «эротики» можно лишь разглядеть некоторую напряженность в отношении между индивидом и обществом, но не увидеть более важного конфликта, лежащего в основе трагедии культуры; например, безапелляционно утверждают, что семейные связи сопротивляются перерастанию в более обширные связи — групповые; для каждого юноши переход из одной группы в другую с необходимостью означает разрыв самых древних и самых жестоких связей; понятно также, что в женской сексуальности есть нечто такое, что сопротивляется переносу сексуальных особенностей на либиди-нозные энергии социальной связи. Можно пойти еще дальше, углубляясь в конфликтные ситуации, но и здесь мы также не встретим сколько-нибудь радикальных противоречий: культура, как известно, в удовлетворении сексуальности требует определенных жертв: она накладывает запрет на инцест, контролирует детскую сексуальность, на-
*Freud. Malaise dans la civilisation. P. 73—14.
правляя ее в узаконенное русло, соответствующее требованиям моногамии, побуждает к продолжению рода т. п. Но как бы ни были тяжелы эти жертвы и неразрешимы конфликты, они еще не образуют настоящих антагонизмов. Более того, можно сказать, что, с одной стороны, либидо всеми силами собственной инерции сопротивляется выполнению той задачи, которую ставит перед ним культура, — покинуть прежние позиции; с другой стороны, либидинозная связь общества питается энергией, насильственно взимаемой с сексуальности вплоть до угрозы ее полной атрофии. Но все это не столь «трагично», так что мы может надеяться на какое-никакое примирение или соглашение между индивидуальным либидо и социальной связью.
И тем не менее тот же вопрос встает с новой остротой: почему человек в своем стремлении к счастью терпит неудачу? почему он неудовлетворен как культурное существо?
И здесь анализ меняет свое направление: теперь перед человеком ставится абсурдная задача: возлюбить ближнего своего как самого себя, выдвигается невыполнимое требование: любить врагов своих — предписание, таящее в себе опасность, напрасно расточающее любовь, отдающее предпочтение злым людям, побуждающее к потере целомудрия, к сохранению которого само же и призывает. Но истина, скрывающаяся за этим безрассудным императивом, есть истина самого безрассудного влечения, ускользающего от заурядной эротики. «За всем этим стоит действительность, которую так охотно оспаривают: человек отнюдь не является добродушным существом, чье сердце жаждет любви, о котором говорят, что оно лишь способно защищаться от нападений; напротив, человек — это существо, которое должно осознавать, что в его инстинктах содержится большая доля агрессивности… На деле человеком движет стремление удовлетворить свою потребность в агрессии; он нападает на своего ближнего, беспощадно эксплуатирует его способность к труду, использует его как сексуальный объект, не спрашивая согласия, лишает имущества, унижает, причиняет страдания, мучает и убивает. «Homo homini lupus…»*[142].
* Freud, Malaise dans la civilisation. P. 47.
Влечение, которое замутняет отношение человека к человеку и требует, чтобы общество в силу неумолимого чувства справедливости восставало против него, — это, как известно, влечение к смерти, изначальная враждебность человека человеку.
С признанием влечения к смерти вся экономика перестраивается. В то время как «социальная эротика» могла со всей строгостью выступать в качестве средства расширения сексуальной эротики, вытеснения объекта или сублимации цели, удвоение Эроса и смерти в плане культуры не может более трактоваться как расширение конфликта, который мы с большим успехом познаем, если речь идет об отдельном индивиде; напротив, трагизм культуры служит показателем того антагонизма, который, в случае конкретной жизни и индивидуальной психики, остается малозаметным и двусмысленным. Разумеется, Фрейд стал развивать свое учение о влечении к смерти начиная с 20-х годов («По ту сторону принципа удовольствия») в рамках биологии, не выделяя социального аспекта агрессивности. Но, несмотря на свою экспериментальную основу (невроз повторения, детская игривость, стремление вновь пережить тяжелые моменты), эта теория носила характер авантюры и спекуляции. В 1930 году Фрейд более отчетливо увидел, что влечение к смерти остается скрытым в живом человеке и что оно проявляется только в своем социальном выражении — как агрессивность и стремление к разрушению. Именно в этом смысле мы и говорили выше, что интерпретация культуры обнажает антагонизм влечений.
Итак, продолжать ли нам настаивать (во второй части настоящего очерка) на своего рода перетолковании теории влечений, исходя из того, как они проявляют себя в культуре? Мы стали лучше понимать, почему влечение к смерти в психологическом плане есть одновременно неотвратимое следствие и невыразимый опыт. Мы схватываем его не иначе как в тесном переплетении с Эросом: именно Эрос использует его, направляя на «другое», нежели живое существо; именно с Эросом смешивается он, принимая форму садизма; и, наконец, именно через мазохистское удовлетворение мы используем его против живого существа. Короче говоря, влечение к смерти отступает, либо смешиваясь с Эросом, либо удваивая объектное либидо, либо усиливая либидо нарциссическое. Оно проявляется и обнажается только как анти-кулыпура; таким образом, влечение к смерти последовательно обнаруживается на трех уровнях: биологическом, психологическом, культурном; его антагонизм становится все менее и менее скрытым по мере того, как Эрос усиливает свое воздействие, чтобы сначала объединить живое с самим собой, затем «Я» — со своим объектом и, наконец, индивидов в постоянно расширяющихся группах. Повторяясь на каждом уровне, борьба между Эросом и Смертью становится все более и более явной и достигает своего полного значения только на уровне культуры. «Агрессивное влечение — потомок и главный представитель инстинкта смерти, который мы нашли действующим наряду с Эросом и разделяющим с ним власть над миром. Теперь, как я думаю, проясняется значение эволюции культуры: она должна свидетельствовать о борьбе между Эросом и Смертью, между инстинктом жизни и инстинктом разрушения, как она проявляет себя в человеческом роде. Короче говоря, эта борьба составляет главное содержание жизни вообще. Вот почему данную эволюцию следовало бы кратко определить так: борьба рода человеческого за выживание. Именно эту исполинскую борьбу наши нянюшки хотели бы усмирить, взывая: Eiapopeia vom Himmell**[143]
Но это еще не все: в последних главах «Недовольства культурой» отношение между психологией и теорией культуры полностью переворачивается, В начале данного труда именно экономика либидо, заимствованная из метапси-хологии, служила руководством в исследовании феномена культуры; затем, с введением влечения к смерти, интерпретация культуры и диалектика влечений начинают отсылать одно к другому в круговом движении; с введением чувства виновности теория культуры возвратным движением отбрасывает психологию. Чувство виновности вводится на деле как «средство», которому подчиняется цивилизация, чтобы обуздать агрессивность. Интерпретация культуры распространяется так далеко, что Фрейд готов утверждать: задача его работы «состоит как раз в том, чтобы представить чувство виновности главной проблемой развития цивилизации» и, более того, показать, почему прогресс цивилизации должен для усиления этого чувства оплачиваться потерей искомого счастья: в подтверждение данной позиции он цитирует знаменитые слова Гамлета:
Thus conscience does make cowards of us all…[144]
Но если чувство виновности есть специфическое средство, которое используется цивилизацией, чтобы подавить агрессивность, то нет ничего странного в том, что «Недовольство культурой» содержит довольно развернутую интерпретацию этого чувства, сущность которого, однако, является сугубо психологической; но психология этого чувства возможна, только если она опирается на «экономическую» интерпретацию культуры. В самом деле, с точки зрения индивидуальной психологии чувство виновности представляется лишь следствием интериоризованной агрессивности, которое «Сверх-Я» берет на себя под видом морального сознания и направляет против «Я». Но его целостная «экономика» возникает только тогда, когда потребность карать перемещается в сферу культуры: «культура берет верх над опасным агрессивным пылом индивида, ослабляя, обезоруживая его и оставляя под присмотром внутренней инстанции, расположившейся в нем подобно гарнизону в побежденном городе»*.
Таким образом, экономическая и, если так можно сказать, структурная интерпретация виновности может быть построена исключительно в перспективе культуры; только в рамках структурной интерпретации могут обрести свое место и будут поняты частные генетические интерпретации, разработанные Фрейдом в различные периоды его творчества и касающиеся смерти первоотца и зарождения угрызений совести; взятое отдельно, это объяснение содержит в себе нечто проблематичное, поскольку вводит в историю чувств случайность, которая вместе с тем обладает и «фатальной неизбежностью»**. Случайный характер этого движения, каким его восстанавливает генетическое объяснение, отныне подчиняется структурно-экономическому: здесь «не имеет значения, произошло ли отцеубийство на самом деле или от него воздержались. Люди неизбежно
* Freud. Malaise dans la civilisation. P. 58–59. **Ibid P. 67.
должны были почувствовать себя виновными и в том и в другом случае, ибо такое чувство есть выражение двустороннего конфликта, вечной борьбы между Эросом и инстинктом разрушения, инстинктом смерти. Этот конфликт вспыхивает сразу же, как только перед людьми встает задача жить сообща. Пока человеческая общность знает одну только форму семьи, инстинкт разрушения с необходимостью заявляет о себе в Эдиповом комплексе, порождая чувство совести и виновности. Когда общность стремится расширить свои границы, тот же конфликт упорно продолжает существовать, обнаруживая свою зависимость от прошлого: он усиливается, укрепляя это первое чувство.
Поскольку культура подчиняется внутреннему эротическому влечению, нацеленному на объединение людей в массу, скрепленную жесткими связями, то она может достичь этого лишь с помощью одного средства — усиления чувства виновности. То, что начиналось с отца, находит свое завершение в массе. Если культура является неизбежным этапом в развитии от семьи к человечеству, то такое усиление чувства виновности оказывается неразрывно связанным с последствиями врожденного двустороннего конфликта, вместе с которым мы появляемся на свет, — конфликта между любовью и желанием смерти»*.
В результате предпринятых анализов становится ясно, что именно экономическая точка зрения обнаруживает смысл культуры; но, с другой стороны, следует сказать, что исключительное преобладание экономической точки зрения над всеми иными, включая и генетическую, завершается только тогда, когда психоанализ оказывается способным развивать свою концепцию влечений в обширных границах теории культуры.
2. Иллюзия и «генетическая» модель
Только внутри культурной сферы, определенной в соответствии с топико-экономической моделью, заимствованной из «метапсихологии», и можно рассматривать то, что мы называем искусством, моралью, религией. Однако Фрейд приступает к их изучению, исходя не из подлинно-
* Freud. Malaise dans la civilisation. P. 67–68.
го объекта, но из «экономической» функции. Такой ценой достигается им единство интерпретации.
Религия фигурирует в подобной экономике как «иллюзия». Это не вызывает возражений; но даже если рационалист Фрейд признает реальным только то, что доступно наблюдению и поддается верификации, то эта теория «иллюзии» имеет значение не как вариант «рационализма» и не как вариант «безверия»; еще Эпикур и Лукреций[145] говорили, что богов создал страх; теория Фрейда является новой, поскольку она — экономическая теория; вопрос, который он ставит, это не вопрос о Боге, а вопрос о боге людей и его экономической функции в балансе жертв влечений, в равновесии замещенных удовольствий и компенсаций, при помощи которых человек стремится поддерживать свою жизнь.
Ключ к пониманию иллюзии надо искать в жестокости жизни, которую человек, обладающий разумом и чувством ив силу врожденного нарциссизма требующий утешения, едва может вынести. В таком случае культура, как мы уже видели, служит задаче ограничения желаний человека и защиты его от подавляющего превосходства природы; иллюзия — это средство, которое использует культура, когда эффективная борьба против зла не началась, еще не получила успеха, когда она — на время или окончательно — была подавлена; тогда-то иллюзия и создает богов, чтобы унять страх, примирить с жестокостью судьбы и дать компенсацию за страдание.
Что нового привносит иллюзия в экономику влечений? Главным образом — идеационное, или репрезентативное, ядро, то есть богов, относительно которых она создает утверждения-догмы, иными словами, утверждения, претендующие на постижение реальности. Эта вера в реальность составляет специфику иллюзии в установлении равновесия между чувством тревоги и чувством удовлетворения; религия, которую создает человек, удовлетворяет его только потому, что ее утверждения не верифицируются с помощью понятий или разумного наблюдения. Тогда следует поставить такой вопрос: где берет начало этот репрезентативный источник иллюзии?
Именно здесь глобальная, подчиненная «экономической модели» интерпретация восполняет частные интерпретации, руководствующиеся * генетической» моделью. Связь, которая соединяет объяснение по истоку с объяснением по функции, — это иллюзия, или загадка, которую предлагает воспроизведение без объекта; чтобы придать этому смысл, Фрейд не видит иного выхода, как сослаться на зарождение безрассудства; но этот генезиз остается гомогенным экономическому объяснению; сущностная характеристика «иллюзии», повторяет он, проистекает из желаний человека; откуда доктрина, не имеющая своего объекта, черпает собственные силы, если не из самого желания, свойственного человечеству, из желания безопасности, которое, по существу, чуждо реальности?
«Тотем и табу» и «Моисей и монотеистическая религия» дают генетическую схему, необходимую экономическому объяснению; они воссоздают историческую память, которая образует не только истинное содержание, находящееся у истоков идеационного искажения, но, как мы увидим дальше, когда введем понятие о квазиневротическом аспекте религии, и «скрытое» содержание, дающее возможность для возвращения вытесненного.
Прежде всего разделим эти два аспекта: истинное содержание, скрытое в искажении, и вытесненное воспоминание, возвращающееся в современное религиозное сознание в искаженной форме.
Первый аспект заслуживает внимания прежде всего потому, что дает возможность выделить существенную черту фрейдизма: в отличие от разнообразных школ, занятых «демифологизацией», и вопреки мыслителям, трактующим религию как прекрасный «миф», Фрейд настаивает на существовании исторического ядра, которое образует филогенетический источник религии; и это неудивительно: у Фрейда генетическое объяснение нуждается в реальном источнике; отсюда исследовательская страсть и скрупулезность, с которыми Фрейд подходит к изучению как начал цивилизации, так и начал иудаистского монотеизма. Ему нужна вереница реальных отцов, реально казненных реальными сыновьями, чтобы поддержать идею о возвращении вытесненного:
«Я, не сомневаясь, утверждаю, что люди всегда знали, что когда-то они одолели праотца и казнили его»*.
[136] Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 154.
Четыре главы «Тотема и табу» являются в глазах самого автора «первой попыткой… применить к некоторым, еще не выясненным проблемам коллективной психологии точку зрения и результаты психоанализа»*. Фрейд явно переходит здесь от генетической точки зрения к экономической, которая в качестве модели еще не разработана им во всей определенности. Речь идет о том, чтобы рассматривать моральное противоречие, включая и категорический императив Канта**, как пережиток неких табу, тесно связанный с тотемизмом. Вслед за Дарвином Фрейд признает, что первоначально люди жили небольшими ордами, каждая из которых управлялась одним вожаком — крепким, сильным мужчиной, пользовавшимся безграничной властью и считавшим своими всех женщин, который оскоплял и уничтожал восстающих против него сыновей[146]. Согласно гипотезе Аткинсона, последние, объединившись, убили и съели его, чтобы не только отомстить за себя, но и идентифицировать себя с ним; наконец, разделяя теорию Робертсона Смита[147], Фрейд признает, что тотемический клан братьев унаследовал отцовскую орду и, чтобы не погубить себя в напрасной борьбе, братья вступили в своего рода общественный договор, учредив табу инцеста и правила экзогамии; в то же время, постоянно испытывая сыновние чувства, они создали замещающий образ отца в виде тотемического животного; убийство отца всякий раз торжественно воспроизводилось в тотемической трапезе. Так родилась религия, и образ отца, некогда преданного смерти, стал ее центром; именно эта фигура и перевоссоздается в образе богов, более того — в образе единственного всемогущего Бога вплоть до его возвращения, сопровождающегося смертью Христа и евхаристическим обрядом.
Именно в этом пункте «Моисей и монотеистическая религия» тесно примыкает к «Тотему и табу» как своим проектом, так и своим содержанием. «Речь идет о том, — пишет Фрейд в начале двух первых очерков, опубликованных в журнале «Имаго»***[148], — чтобы сложилось вполне обоснованное представление об истоках монотеистических религий вообще»****. Для этого необходимо воссоздать с
* Freud. Totem et Tabou, Préface. P. VII. ** Ibid. P. VIII. *** «Imago», vol. 23, № 1,3. **** Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 22.
той или иной степенью достоверности событие смерти отца, которое в монотеизме было бы тем же, чем была смерть первоотца в тотемизме. Отсюда вытекает попытка обоснования гипотезы о «Моисее-египтянине», приверженце культа Атона[149] — нравственного, универсального и веротерпимого бога, созданного по образу владыки-миролюбца, каким, скажем, мог быть фараон Эхнатон[150], которого Моисей приводил в пример еврейским племенам; это — герой, как его понимает Отто Ранк[151], влияние которого весьма значительно и который был убит своим народом. Затем культ бога Моисея трансформируется в культ Яхве — бога вулканов, в котором он признает свои истоки и с помощью которого намеревается предать забвению смерть героя. Как раз в это время пророки начали выступать за возвращение бога Моисея: одновременно с нравственным богом могло возродиться и само травмирующее событие; возвращение к богу Моисея могло бы одновременно стать и возвращением вытесненной травмы; таким образом мы подходим к объяснению этого внезапного возврата и в плане репрезентативном, и в плане эмоциональном — как возвращения вытесненного: если еврейский народ внес в западную культуру модель самообвинения, то случилось это потому, что понимание им виновности питалось воспоминанием об убийстве, о котором он вместе с тем хотел забыть. Фрейд нисколько не расположен умалять историческую реальность цепи травмирующих событий: «Массы, как и индивид, — признает он, — сохраняют в форме бессознательных следов памяти прошлые впечатления»*; универсальность символического языка** является для Фрейда более убедительным доказательством наличия следов памяти о важных травмирующих событиях, испытанных человечеством (согласно генетической модели), нежели ссылки на необходимость изучения других свойств языка, воображения, мифа. Искажение этого воспоминания — вот в чем заключается единственная функция воображения. Что касается самого наследования, несводимого к непосредственной коммуникации, то оно, несомненно, приводит Фрейда в замешательство; однако о нем нельзя забывать, если
* Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 44. **Ibid.P. 150–153.
мы хотим преодолеть «пропасть, отделяющую индивидуальную психологию от психологии коллективной» и «трактовать народы так же, как мы трактуем невротического индивида… Но если дело обстоит иначе, то нам придется отказаться от этого, и мы не сделаем ни шага вперед на том пути, по которому идем, касается ли это сферы психоанализа или сферы коллективной психологии. Здесь необходимо дерзновение»*. Мы не можем утверждать, что в данном случае речь идет о второстепенной гипотезе: Фрейд видит в этом одно из важнейших звеньев, обеспечивающих прочную связь системы в целом: «Традиция, основывающаяся лишь на словесной трансмиссии, не может допустить, чтобы религиозные феномены обладали навязчивым характером»**; возвращение вытесненного возможно исключительно при условии, что в прошлом имело место травмирующее событие.
Теперь, кажется, мы могли бы сказать, что гипотезы Фрейда, касающиеся истоков, являются вспомогательными интерпретациями, которые не входят в «экономическую» интерпретацию «иллюзии» — интерпретацию единственно фундаментальную. Однако все не так: в действительности именно генетическая интерпретация позволяет довести до завершения экономическую теорию «иллюзии»; экономическая теория включает в себя результаты изучения истоков; в свою очередь эти исследования позволяют выделить еще одну характерную особенность — речь идет о той роли, которую в генезисе иллюзии играет возвращение вытесненного; именно эта характерная особенность делает религию «универсальным навязчивым неврозом человечества». Эта характерная черта могла возникнуть лишь после того, как генетическое объяснение сумело поддер-йсать существование аналогии между религиозной проблематикой и инфантильной ситуацией. Ребенок, напоминает Фрейд, начинает взрослеть тогда, когда он так или иначе преодолевает фазу навязчивого невроза; чаще всего он изживает ее спонтанно, но иногда здесь требуется вмешательство аналитика. Точно так же и человечество в пору своего несовершеннолетия, из которого мы до сих пор не
* Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 153. ** Ibid. P. 155.
вышли, вынуждено испытывать воздействие импульса забвения, невроза, вытекающего из ситуации, подобной той, где действует влечение, связанное с образом отца. В большинстве текстов Фрейда и Теодора Райка[152] речь идет об аналогии, существующей между религией и навязчивым неврозом: в «Тотеме и табу» уже отмечался невротический характер табу; и в том, и в другом случае мы имеем дело с навязчивой идеей, аналогичной стремлению «прикоснуться», с тем же самым смешением желания и страха; обычаи, запреты и симптомы навязчивого невроза в общем характеризуются тем же отсутствием мотивации, теми же законами принуждения, смещения, тем же желанием, вытекающим из запретов*. И в том, и в другом случае забвение вытесненного сообщает запрету характер загадочности, не-понятости и порождает одно и то же желание — нарушить запрет, преступить его; оно вызывает то же символическое удовлетворение, те же явления замещения и компромиссов искупительного самоотречения, те же амбивалентные чувства**. В то время, когда Фрейд еще не выработал понятия «Сверх-Я» и особенно понятия инстинкта смерти, «моральное сознание» (которое он интерпретировал как внутреннюю реакцию на добровольный отказ от определенных желаний) трактовалось им как отголосок «угрызений совести», сопутствующих табу***: «Мы можем даже рискнуть на такое утверждение: если мы не сумеем отыскать источник морального сознания в навязчивом неврозе, мы должны будем отказаться от всякой надежды найти его»****; амбивалентность влечения и отвращения была тогда для Фрейда центром любого сравнения.
Разумеется, Фрейд сам с удивлением обнаруживал различие между табу и неврозом: «…табу, — отмечал он, — это не невроз, а социальное явление…»*****; но он стремился сократить разрыв между ними, объясняя социальный аспект табу системой наказаний, а последние — боязнью нарушить запрет******, и добавлял, что к социальным
* Freud. Totem et Tabou. P. 46. ** Ibid. P. 54. *** Ibid. P. 97—100. **** Ibid. P. 98. *****Ibid.P. 101. ****** Ibid. P. 102.
тенденциям примешиваются эгоистические и эротические устремления*. Именно эту тему он развивает в работе «Психология масс и анализ человеческого «Я»» (в частности, в гл. V: «Церковь и армия»); в этой работе, датированной 1921 годом, проводится от начала до конца либидинозная, или «эротическая», интерпретация привязанности к вождю, связи групп на авторитарной основе и их подчинения иерархической структуре.
Невротический характер религии в «Моисее и монотеистической религии» акцентируется с такой силой, с какой это вообще возможно; на Фрейда здесь оказал влияние главным образом «феномен латентности» в истории иудаизма, то есть момент запаздывания при возникновении религии Моисея, вытесненной в культ Яхве; удивление здесь вызывает то, что генетическая и экономическая модели пересекаются друг с другом. «Существует соответствие между проблемой травмирующего невроза и проблемой иуда-истского монотеизма. Аналогия заключается в том, что можно было бы назвать скрытой возможностью»**. «Данная аналогия настолько полная, что даже есть основание говорить об идентичности»***. Приняв эту схему эволюции невроза («ранний травматизм, защитная реакция, латентное состояние, вспышка невроза, частичное возвращение вытесненного»****), остается лишь сделать вывод о соответствии между историей рода человеческого и историей отдельного индивида. «Род человеческий также находится под воздействием агрессивно-сексуальных процессов, которые постоянно оставляют свои следы, хотя для большинства людей они принадлежат далекому прошлому и уже стерлись из памяти. Позже, пройдя латентный период, они активно заявляют о себе и порождают явления, по своей структуре и тенденциям схожие с невротическими симптомами»*****.
Иудейский монотеизм выступает, таким образом, как свидетельство тотемизма в истории возвращения вытесненного. Еврейский народ в личности Моисея, в этом зна-
* Freud. Totem et Tabou. P. 104. ** Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 105. ***Ibid. P. 111. ****Ibid.P. 123. ***** Ibid.
менитом заместителе отца, возродил древнее преступле- ние. Убийство Христа есть иная форма подкрепления вос-
поминания об истоках, в то время как Пасха воскрешает
Моисея. Наконец, религия св. Павла завершает возвращение вытесненного, отсылая к доисторическому истоку и давая ему название первородного греха: преступление совершено по отношению к Богу и только смерть может искупить его. Фрейд не задерживает своего внимания на «фантазме искупления», который находится в центре христианской керигмы*[36]. Он считает, что искупителем должен быть главный виновник, вождь братской орды, каким является и протестующий герой греческой трагедии**: «За ним угадывается исконный отец древней орды, правда, преображенный и в качестве сына занявший место своего отца»***.
Аналогия с травмирующим неврозом подтверждает нашу интерпретацию взаимодействия в работах Фрейда между этиологией неврозов и герменевтикой культуры. Религия дает возможность перетолкования невроза, а связанный с ним смысл виновности перемещается в диалектику влечений к жизни и смерти. «Топическая» модель (дифференциация инстанций «Оно» — «Я» — «Сверх-Я»), «генетическая» модель (роль детства и филогенеза), «экономическая» модель (инвестиция, контринвестиция) соединяются в интерпретации возвращения вытесненного, превосходящей каждую из них, взятую в отдельности****.
3. Религиозная «иллюзия» и эстетическое «наслаждение»
Экономическая интерпретация иллюзии позволяет, наконец, выявить отношение эстетического наслаждения и религиозной иллюзии. Жесткость Фрейда по отношению к религии, как известно, сглаживалась его симпатией к искусству. Такое различие не случайно; оно имеет основание в общей экономике феноменов культуры. Искусство для Фрейда есть форма ненавязчивого, неневротического заме-
* Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 132. **Ibid.P. 134–136. ***Ibid.P. 138. ****Ibid.P. 145.
щения, удовлетворения: наслаждение эстетическим творчеством не рождается из возвращения вытесненного.
В начале работы мы ссылались на статью «Поэт и фантазирование» («Имаго», 1908), которую Фрейд посвятил методу, аналогичному тому, каким он сам пользовался: общая теория фантазма уже вытекала из этого метода и прорыв намечался в том направлении, которое позднее должно было привести к теории культуры; Фрейд задается таким вопросом: если поэзия столь близка к грезам наяву, то не является ли это свидетельством того, что художественные приемы направлены на то, чтобы скрыть фан-тазм, а не рассказать о нем? И не имеют ли они своей целью преодоление отвращения, которое может быть следствием слишком яркого восстановления в памяти запрета, скрывающегося за чисто формальным удовлетворением? Вызванное таким образом к жизни ars poetica**[124] теперь представляет собой как бы другой полюс иллюзии: оно, пишет Фрейд, совращает нас «преимуществом эстетического наслаждения, которое доставляет нам, воспроизводя фантазмы». Вся интерпретация культуры в 1929–1939 годах полностью заключена in nuce[154] в следующих словах: «Мы называем первым совращением, предварительным удовольствием само право на удовольствие, которое предоставляется нам, чтобы мы могли освободиться от высшего наслаждения, вытекающего из гораздо более глубоких психических оснований. Я полагаю, что любое эстетическое удовольствие, вызванное творчеством, имеет характер предварительного удовольствия; подлинное же наслаждение художественным произведением проистекает из того, что благодаря ему наша душа освобождается от известной напряженности. Может быть, даже тот факт, что оно дает нам возможность наслаждаться нашими собственными фан-тазмами без стыда и стеснения, в значительной степени и ведет к такому результату»**.
Вероятно, как раз в ««Моисее» Микеланджело»[155] будущая связь между эстетикой и общей теорией культуры выступает наиболее очевидно; никакая другая работа не дает возможности лучше понять, какие на первый взгляд непре-
* Freud. Essai de psychanalyse appliquée. P. 81. ** Ibid.
одолимые трудности стоят перед этой весьма запутанной интерпретацией. В самом деле, в данной работе, являющейся плодом длительного изучения художественного шедевра и многочисленных графических эскизов к нему, с помощью которых Фрейд попытался воссоздать последовательные позы, воплотившиеся в жесте Моисея, интерпретация, как и в случае толкования сновидений, опирается на детали; этот собственно аналитический метод позволяет соединить друг с другом деятельность сновидения и деятельность творчества, интерпретацию сновидения и интерпретацию произведения искусства. Вместо того, чтобы в более широком, обобщающем плане искать природу удовлетворения, порожденного произведением искусства,'— задача, оказавшаяся не по плечу многим психоаналитикам, — Фрейд стремится разрешить главную проблему эстетики, опираясь на своеобразие произведения искусства и созданные этим произведением значения. Известна кропотливость и тщательность данной интерпретации: здесь, как и в анализе сновидений, в расчет, я думаю, принимается не общее впечатление, а вполне определенный факт, на первый взгляд второстепенный, — положение указательного пальца правой руки пророка, единственного пальца, касающегося ниспадающей потоком бороды, в то время как сама рука находится где-то сзади, — неустойчивое положение скрижалей, готовых рассыпаться под тяжестью давящей на них руки. Интерпретация воссоздает во всех перипетиях это мгновение, как бы застывшее в камне единство прямо противоположных движений, которые обрели в этом положении какое-то неустойчивое равновесие; Моисей в гневном порыве простирает руку к бороде, рискуя уронить скрижали, а взгляд его прикован к молящемуся народу; однако противоположное движение, отменяющее первое и вызванное живым осознанием своей религиозной миссии, отбрасывает руку назад; мы видим лишь след свершившегося движения, который Фрейд пытался восстановить тем же самым способом, каким он восстанавливает противоположные представления, ведущие к компромиссу между сновидением, неврозом, оговоркой, острым словом. Углубляясь в этот компромисс, Фрейд в толще очевидного смысла, за единичным его выражением, обнаруживает конфликт, преодоленный достойным стражем гробницы папы,
и прочитывает тайный упрек неистовству усопшего и предостережение самому себе.
Толкование * Моисея» Микеланджело не является каким-то побочным занятием; оно лежит в русле исследований, которые Фрейд ведет в работах «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Остроумие и его отношение к бессознательному».
Такое компрометирующее соседство позволяет задать следующий вопрос: имеем ли мы право одинаково трактовать произведение искусства, которое, так сказать, есть продукт длительного творческого усилия и память о прошедших днях, и сновидение, являющееся, как известно, мимолетным и бесплодным продуктом ночи? Если произведение искусства существует во времени, то не значит ли это, что оно всегда несет в себе значения, которые обогащают сокровищницу культурных ценностей? С этим нельзя не согласиться; данное возражение дает нам возможность понять важность того, что мы с риском для себя назвали герменевтикой культуры. Психоанализ культуры имеет значение не потому, что он игнорирует различие между онирическими явлениями и произведениями искусства, а потому, что, признавая это различие, пытается объяснить его с точки зрения экономической. Вся проблематика сублимации вытекает из решения толковать эти известные своей несовместимостью явления с одной точки зрения — генезиса и экономики либидо.
т Ценностная противоположность между «творческим» и «бесплодным» — противоположность, которую дескриптивная феноменология считает изначально данной, — является проблемой для «экономики». Эту противоположность нельзя игнорировать; именно она, если хотите, заставляет искать за ее пределами (с той ли, с другой стороны) динамику, обеспечивающую единство, и дает возможность понять, какое распределение инвестиций и контрин-вестициц способно привести к противоположным результатам, идет ли речь о симптоме, если подразумевается сно-видение и невроз, или о выражении, если иметь в виду искусство и культуру вообще. Вот почему необходимо, что-Сы аналитик рассмотрел все доводы, которые можно выдвинуть против наивного усвоения культурных феноменов выразительности и симптоматики, поспешно скопированного с теории сновидений и неврозов; ему надлежит учитывать все идеи, касающиеся противоположности между двумя способами производства, какие ему может дать эстетика Канта, Шеллинга, Гегеля, Алэна; только при этом условии его интерпретация не отбросит, а выявит и объяснит дуализм симптома и выразительности. Но и после такой частной интерпретации остается несомненным, что конкретное сновидение является выражением одного-един-ственного сновидения и ему порой недостает посредничества труда, воплощения смысла в осязаемом материале и сообщения этого смысла публике, короче говоря, способности заставить сознание идти вперед, к новому пониманию себя самого. Сила психоаналитического объяснения состоит в том, что оно соотносит друг с другом противоположные культурные ценности, свидетельствующие о способности к творчеству, и невроз, определяемый экономикой. Одновременно оно соединяет точку зрения Платона с его учением о единстве поэтики и эротики, Аристотеля — с его идеей катарсиса и Гёте — с его концепцией демонизма.
Может быть, стоит пойти еще дальше. Психоанализ претендует на то, чтобы преодолеть не только феноменологическую противоположность сновидения и культуры, но и внутреннюю противоречивость, свойственную экономике. Еще одно затруднение позволит нам сформулировать эту тему.
Изучая интерпретации «Моисея» Микеланджело, «Царя Эдипа» Софокла или «Гамлета» Шекспира, мы можем утверждать: если эти произведения принадлежат к числу творческих, то именно в той мере, в какой они являются не простыми проекциями конфликтов, пережитых их создателями, а проектами разрешений этих конфликтов; сновидение, скажем мы, ведет назад, в детство, в прошлое; произведение искусства идет вперед, обгоняя самого художника; оно — проспективный символ личностного единства конкретного человека, символ его будущего, а не просто регрессивный симптом неразрешенных конфликтов; поэтому понимание произведения искусства дилетантом является не просто переживанием им собственных конфликтов, ложным осуществлением желаний, вызванных в нем восприятием драмы, а есть участие в деятельности истины, которая рождается в душе трагического героя: таким образом, образ Эдипа, созданный Софоклом, является не просто воспроизведением инфантильной драмы человека по имени Эдип, а творением нового символа страдания, каким отмечено самосознание. Этот символ не повторяет наше детство, он взят из нашей взрослой жизни.
Данное наблюдение на первый взгляд противоречит некоторым декларациям Фрейда, например относительно * Эдипа» Софокла и «Гамлета» Шекспира в «Толковании сновидений».
Но, может быть, это наблюдение направлено против пока еще наивно сформулированной герменевтики, вытекающей из анализа, и следует из столь же наивной концепции творчества как созидания значений, предназначенных для предположительно чистого сознания? В таком случае это наблюдение, как и предшествующее, направлено не на то, чтобы отбросить, а на то, чтобы преодолеть тезис, которому оно противостоит, интегрируя его в более широкое и более проникновенное видение динамики, управляющей обоими процессами. «Регрессия» и «прогрессия» суть не столько два противоположно направленных движения, сколько два аспекта одного и того же процесса творчества. Крис, Лёвенштейн и Гартман[156] предложили глобальное и двуединое выражение: они говорят о «регрессивной прогрессии», чтобы обозначить сложный процесс, в ходе которого психика вырабатывает новые осознанные значения, давая новую жизнь преодоленным бессознательным явлениям. Регрессия и прогрессия менее всего обозначают два реально противостоящих друг другу процесса: они суть абстрактные понятия, выведенные из единого конкретного процесса и обозначающие два предела, одно — чистую регрессию, другое — чистую прогрессию. Разве на деле существуют сновидения, у которых не было бы исследо-в#тельской функции и которые не давали бы «профетиче-ского» выхода из конфликтов? И, наоборот, разве великие символы, созданные искусством и художественной литературой, не погружены в архаику конфликтов и драм индивидуального и коллективного детства? Не в том ли истинный смысл сублимации — вызывать к жизни новые значения, мобилизуя прошлые энергии, первоначально принадлежавшие архаическим образам? Разве самые что ни на есть новаторские формы, которые только могут создавать художники, писатели, мыслители, не обладают двойственной силой — скрывать и обнажать, маскировать прошлое, как это делают онейрические[157] и невротические симптомы, и выявлять в качестве символа будущего нечто возможное, еще не завершенное, не состоявшееся?
Только в этом направлении психоанализ и сможет реализовать свою задачу — соединиться с интегральной интерпретацией культуры. Для этого ему надлежит преодолеть необходимое, но абстрактное противопоставление одной интерпретации, которая есть всего лишь экстраполяция симптоматологии сновидения и невроза, другой интерпретации, претендующей отыскать в сознании пружину творчества. И еще ему необходимо достичь зрелости, чтобы понять суть этого противопоставления и постичь конкретную динамику, благодаря которой может быть преодолена временная и обманчивая противоположность регрессии и прогрессии.
4. Положение фрейдовской герменевтики
Итак, как мы отметили в начале нашего исследования, психоанализ вписывается в культуру только в качестве интерпретации. Каким образом наша культура приходит к самопознанию с помощью представлений, которыми снабжает ее психоанализ?
То, что эта интерпретация является частной или частичной, а поэтому и уязвимой, если сравнивать ее с другими подходами к явлениям культуры, об этом следует сказать с самого начала. Но главное заключается не в подобного рода критике, поскольку фрейдовская интерпретация, несмотря на свою ограниченность, затрагивает существо дела. Не стоит ли сначала обозначить границы этой герменевтики культуры, чтобы затем попытаться проникнуть в сердцевину ее проблематики, взяв на вооружение ее сильные стороны? Как бы ни была справедлива данная критика, она должна руководствоваться тем, что ей необходимо подвергнуть рассмотрению все способы разъяснений и доказательств, вытекающие из психоанализа. Вот почему, вопреки всему и вся, мы будем опираться на критику
(см. вторую часть данного исследования), чтобы с помощью свободной рефлексии (см. третью часть исследования) попытаться сохранить выводы строго дидактического характера, которым мы следовали до сих пор.
1. Границы фрейдовской интерпретации культуры
Всякое сопоставление фрейдизма с другими теориями культуры оказывается затруднительным по той причине, что его творец никогда не думал о границах своей интерпретации: он признавал, что существуют иные влечения, нежели те, какие он сам изучал, но никогда исчерпывающе не перечислял их; он говорил о труде, социальных связях, необходимости, реальности, но никогда не задумывался над тем, каким образом психоанализ может сотрудничать с науками или отличными от психоанализа интерпретациями. И это в самом деле так: всякого, кто с полным пониманием хотел бы освоить психоанализ с собственных позиций, крайняя предвзятость суждений его основателя ставит в затруднительное положение.
* Но с чего же следует начать? Одно из наших предварительных замечаний могло бы послужить здесь руководящей нитью. Фрейд, говорили мы, в целом понимает, что такое феномен культуры и человеческий фактор, но понимает их с определенной точки зрения. Он анализирует их, прилагая к ним «модели» — топико-экономическую и генетическую, а не исследуя содержание, подвергшееся интерпретации; именно исходя из этого и следует искать границы фрейдовской интерпретации культуры.
Чего же не позволяют понять эти модели?
Объяснение культуры через чувственные переживания удовольствия и страдания и исходя из филогенетических и онтогенетических истоков, разумеется, впечатляет: мы сразу же можем сказать, что данное намерение имеет несомненное значение и оно сродни деятельности Маркса и Ницше по разоблачению «ложного» сознания. Но от этого предприятия нельзя ожидать ничего, кроме критики того, что мы считаем достоверным; от него ни в коей мере нельзя требовать того, что можно было бы назвать критикой основ. Данная задача предполагает другой метод: не герменевтику психических выражений, таких как сновидения и произведения искусства, симптомы и религиозные догмы, а рефлексивный метод в его применении к человеческому действованию в его целостности, то есть к усилию существовать, к стремлению желать и быть, включая многочисленные опосредования, с помощью которых человек пытается претворить в жизнь свои самые сокровенные желания и намерения. Соединение одной и другой — рефлексивной философии и герменевтики смысла — является самой неотложной задачей современной философской антропологии. Однако «общую структуру», в которую можно было бы вписать фрейдовскую метапсихологию наряду с другими, чуждыми психоанализу, герменевтиками, нужно создавать почти заново. Здесь не место для такого рода попыток. Мы можем только выделить некоторые пограничные зоны внутри этого огромного поля, взяв за исходный момент теорию иллюзии, которая, несомненно, имела у Фрейда центральное значение.
Фрейдовская концепция иллюзии представляет интерес в том плане, что она показывает, каким образом возникают «умиротворяющие» представления, позволяющие выносить страдания, и возникают не только на основе отказа от влечений, но и исходя из этого отказа; такова природа желаний и их развитие, то есть инвестиций и контринвестиций, составляющих существо иллюзии. Именно в этом смысле мы можем сказать, что сама теория иллюзии является от начала до конца экономической. Но, признавая это, мы тем самым отказываемся искать в ней исчерпывающую интерпретацию феномена ценности, которая одна только в состоянии учитывать фундаментальную рефлексию о динамизме деятельности.
Так же, как нам не удалось разгадать тайну политической власти, когда мы утверждали, что связь с вождем приводит в действие все либидинозное инвестирование гомосексуального характера, нам не удалось разгадать и тайну «авторитета ценности», когда мы в переплетении морального и социального явлений разглядели образ отца и сделали вывод — насколько реальный, настолько же и фантастический — об идентификации с этим образом. Одно дело обоснование такого феномена, как власть или ценность,
и совсем другое — эмоциональное выражение того, что мы испытываем по их поводу, то есть равновесие человеческой жизни, протекающей в удовольствиях и страданиях.
Различие между проблемами обоснования и проблемами импульсной экономики является, конечно, принципиальным. По меньшей мере оно очерчивает границы интерпретации, руководствующейся экономической моделью. Можно сказать, что это различие весьма абстрактно и никак не затрагивает ни психоаналитическую концепцию, ни работу психоаналитика. Напротив, мне кажется, что граница эта четко прочерчивается, если обратиться к фрейдовскому понятию сублимация, которое на деле является понятием нечистым, с примесями и, не опираясь ни на какие принципы, соединяет экономическую точку зрения с аксиологической. При сублимации влечение работает на «высшем» уровне, так что можно сказать: энергия, направленная на новые объекты, это та же самая энергия, которая ранее была направлена на сексуальный объект. Экономическая точка зрения принимает в расчет только энергетическое происхождение ценности, а не ее новизну, порожденную этим отказом и этой фиксацией. Данную трудность пытаются стыдливо не замечать, говоря о социально приемлемых цели и объекте: социальная полезность есть фиговый листок, которым прикрывают незнание, когда речь заходит о вызванной сублимацией проблеме ценности.
Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу о религиозной «иллюзии». Мы уже отмечали: Фрейд ведет речь не о Боге, а о боге людей. Психоанализ не в состоянии радикальным образом разрешить проблему «радикального истока вещей» (Лейбниц), но он в силах разоблачить инфантильные и архаические представления, под воздействием которых мы живем; в этом не только принципиальное его отличие: оно касается также работы психоаналитика. Последний не является ни теологом, ни антитеологом. Как аналитик, он агностик, то есть некомпетентен. Как психоаналитик, он не может сказать, есть ли Бог только фантазм бога, однако он в состоянии помочь своему пациенту преодолеть инфантильные и невротические формы веры. Относительно веры он может решить — или признать, — что религия есть всего лишь инфантильная и невротическая вера, пружины которой раскрыл психоанализ; если эта вера не выдержит данного критического испытания, значит она недостойна продолжать свое существование; но в таком случае ничто не говорит ни в пользу веры в Бога, ни против нее. Я сказал бы то же самое другими словами: если вера должна быть чем-то отличным от религии, то для ее рождения необходимо, чтобы религия умерла.
То, что Фрейд отказывается от такого различения, несущественно. Он — Aufklärer*[119], человек XVIII века; его рационализм и его, как он сам говорит, неверие, есть не плод, а предпосылка интерпретации религиозной иллюзии, которую он считает исчерпывающей; несомненно, раскрытие религии как иллюзии существенным образом меняет условия всякого осознания, но психоанализ не касается проблемы истока, потому что его точка зрения в данном случае экономическая, и только экономическая.
Я еще немного остановлюсь на том, что, по моему убеждению, является ошибочным во фрейдовской интерпретации феномена культуры вообще и иллюзии в частности: иллюзия для Фрейда — это представление, которому не соответствует никакая реальность; его определение иллюзии — это определение позитивиста. Но разве функция воображения не ускользает при позитивистском противопоставлении реального иллюзорному? Одновременно с фрейдизмом и независимо от него мы поняли, что мифы и символы суть носители смысла, который избегает данной альтернативы. Иная герменевтика, отличная от психоанализа и более близкая феноменологии религии, показывает нам, что мифы суть не небылицы, то есть «ложные», «ирреальные» истории; вопреки всякому позитивизму эта герменевтика предполагает, что «истинное» и «реальное» не сводятся к тому, что может быть подтверждено экспериментально или с помощью математических доказательств; они касаются нашего отношения к миру, другим существам, бытию; именно это отношение и использует миф, опираясь на воображение. Данную функцию воображения, которую, каждый по-своему, признавали Спиноза, Гегель и Шеллинг, Фрейд одновременно и готов, и не готов признать; то, что его приближает к ней, это его практика
«интерпретации», а удаляет от нее «метапсихологическое» теоретизирование, то есть философия, построенная по принципу экономической модели. С одной стороны, Фрейд, начиная с «Толкования сновидений», создал свою теорию интерпретации в противовес физикализму и биологизму, господствовавшим в психологии. Интерпретировать — значит идти от явного смысла к смыслу скрытому. Интерпретация полностью принадлежит сфере смысла и содержит в себе отношения силы (вытеснение, возврат вытесненного) только как отношения смысла (цензура, маскировка, сгущение, перемещение); отныне ничто так не требуется от Фрейда, как преодолеть ослепленность фактом и признать универсум смысла. Но Фрейд продолжает трактовать все сделанные им открытия с позиций позитивизма, что сводит их на нет. С этой точки зрения «экономическая» модель играет весьма противоречивую роль: она эв-ристична, поскольку исследует глубины, которых в состоянии достичь, но вместе с тем она консервативна по самой своей задаче — выразить все смысловые отношения на языке ментальной гидравлики. Если иметь в виду первый аспект, свидетельствующий об открытии нового, то он раздвигает позитивистские рамки объяснения; что же касается второго аспекта, то есть фрейдовского теоретизирования, то он закрепляет эти рамки и своим авторитетом подтверждает тот наивный «ментальный энергетизм», которым зачастую злоупотребляют его последователи.
Задача философской антропологии как раз и будет состоять в том, чтобы покончить с противоречиями внутри фрейдовской метапсихологии и связать воедино различные стили, существующие в современной герменевтике, в частности, фрейдовскую герменевтику и феноменологию мифов и символов; однако философская антропология сможет соединить эти различные стили, лишь подчинив их той фундаментальной рефлексии, о которой мы говорили выше.
Принципиальная ограниченность «экономической» модели сказывается, в свою очередь, на модели «генетической». Как мы уже видели, Фрейд генетически объясняет то, что не имеет позитивной истины. У него «исторический» исток (в филогенетическом и онтогенетическом смысле) занимает место аксиологического, или радикального, истока. Я объясняю это слепотой Фрейда по отношению к совсем иной функции иллюзии, не искажающей позитивную реальность, отсутствием у него интереса ко всему тому, что не является простым повторением архаических или инфантильных форм, то есть простым «возвратом вытесненного». Особенно поразительно это в отношении к религии: все, что могло бы сопутствовать первичному утешению, идущему от богов, понятых по образу отца, не существенно. Но кто может утверждать, что смысл религии заключается скорее в возврате воспоминаний, связанных с умерщвлением отца ордой, чем в новациях* с помощью которых религия удаляется от своей первоначальной модели? В чем же смысл: в генезисе или в эпигенезе? В возвращении вытесненного или в обновлении старого*? И не генетическое объяснение может это разъяснить, а радикальная рефлексия, например, та, о которой говорит Гегель в «Лекциях по философии религии»; эта рефлексия опирается на развитие религиозного представления, а не на его повторение.
Сомнение относительно правомерности генетической модели тесно связано с вопросом о границах модели экономической: возможно, что мифопоэтическое воображение в своей функции онтологического исследования действительно является инструментом этой новаторской коррекции, идущей в обратном направлении по отношению к архаическо-
* Фрейд неоднократно наталкивался на границы собственной теории: в чем причина, задавался он вопросом в «Моисее и монотеистической религии», последующего прогресса в развитии идеи Бога, который начинается с откровенного богопочитания. Вера во всемогущество мышления (Freud. Moïse et le Monothéisme. P. 170), соединенного с суждением, которому человек вверяет развитие языка, как представляется, относится к другому регистру, не к тому, что управляет генетической и топико-экономической моделями; хорошо, что Фрейд не пошел дальше в этом направлении. Или еще: перемещение акцента с очевидного материнства на предположительное отцовство намекает на то, что об отце еще не все сказано, если иметь в виду амбивалентность любви и страха. А вот еще: разве счастье отречения объясняется исчерпывающим образом ссылкой, с одной стороны, на идею об усилении любви, которой «Сверх-Я» как наследник отца отвечает на отказ от импульсного удовлетворения, а с другой — на идею об усилении нарциссизма, который соединялся бы с осознанием поощрения действия? И почему смысл религии надо искать исключительно там, где имеет место «отказ от влечений»? (Ibid. Р. 174–178). Почему бы религии не покровительствовать заговору братьев и не требовать признания прав за всеми членами братской орды? Все это говорит не об увековечивании воли отца, не о возврате вытесненного, а о возникновении нового порядка.
му повторению. Существует поступательная история символической функции воображения, которая не совпадает с регрессивной историей иллюзии как простого «возврата вытесненного». Но в состоянии ли мы отличить одну историю от другой, движение вперед от движения назад, творчество от повторения?
Здесь-то как раз нам и не хватает уверенности. Мы прекрасно знаем, что определение границ, как бы правомочно и обоснованно оно ни было, ничем не отличается от доказательств и рационализации, какие обнаруживает психоанализ. Вот почему нам следует приостановить нашу критику и тщательно заняться вопросом о самопознании в психоанализе. Быть может, в конце этого предприятия мы обнаружим, что «место» психоанализа в современной культуре остается и должно оставаться неопределенным до тех пор, пока его указания не будут освоены вопреки (а может быть, и благодаря) его ограниченности. Сопоставление фрейдизма с другими интерпретациями культуры, не противоречащими ему, но конкурирующими с ним, поможет нам сделать еще один шаг вперед.
5. Маркс, Ницше, Фрейд
Несомненно, деятельность Фрейда по осознанию современного человека была столь же значительной, что и деятельность Маркса и Ницше; родство между этими тремя критиками «ложного» сознания поразительно; однако мы еще далеки от понимания того, как они трактовали очевидности самосознания, от усвоения этих трех учений о подозрении. Мы все еще придаем чрезмерное значение тем различиям, то есть ограничениям, которые наложили на данных мыслителей предрассудки эпохи, и прежде всего мы — жертвы той схоластики, которой наделяют их эпигоны: благодаря им Маркс отождествляется с марксистским экономизмом и с абсурдной теорией сознания как отражения; Ницше трактуется с точки зрения биологизма, если не апологии насилия; Фрейда ограничивают рамками психиатрии и обряжают в одежды заурядного пансек-суалиста.
Я полагаю, что значение для нашего времени этих трех истолкователей современного человека может быть уяснено, только если рассматривать их совместно.
Прежде всего они боролись против одной и той же авторитетнейшей иллюзии — иллюзии самосознания. Эта иллюзия была первым плодом победы, одержанной над предшествующей иллюзией — иллюзией вещи. Философ, воспитанный в школе Декарта, знал, что вещи вызывают сомнение, что они не такие, какими кажутся; но он не сомневался в том, что сознание таково, каким оно предстает перед самим собой: в нем смысл и осознание смысла совпадают. Благодаря Марксу, Ницше и Фрейду мы стали и в этом сомневаться. Вслед за сомнением относительно вещи мы подошли вплотную к сомнению и относительно сознания.
Но эти три властителя сомнения не были скептиками; они по-своему были великими «разрушителями»; однако это не должно вводить нас в заблуждение: разрушение, говорил Хайдеггер в «Бытии и времени», есть момент любого нового построения. «Разрушение» предрассудков, включая и разрушение религии — этого, как говорил Ницше, «платонизма для народа»[159], — является позитивной задачей. Как раз по ту сторону разрушения встает вопрос о познании того, что означает мышление, разум и даже вера.
Все трое открыли горизонт для более аутентичного слова, для нового закона истины, пользуясь при этом не только искусством «разрушительной» критики, но и искусством интерпретации. Декарт победил сомнение относительно вещи при помощи очевидности сознания; а эти трое победили сомнение относительно сознания путем истолкования смысла. Начиная с них, понимание становится герменевтикой; отныне искать смысл не значит разбирать по частям осознание смысла, а значит расшифровывать выражения смысла в сознании. Надо не противостоять им в их сомнении, а понять их прозорливость. Если сознание не таково, каким оно само себя представляет, то должно быть установлено новое отношение между явным и скрытым; это новое отношение должно соответствовать тому, что сознание создает между явлением вещи и ее реальностью. Фундаментальная категория сознания для всех троих — это отношение скрытое — явное, или, если хотите, ложное — очевидное. Пусть марксисты упорствуют в своей теории «отражения»; пусть Ницше сам себе противоречит, догматизируя «перспективизм» воли к власти; пусть Фрейд создает мифы, говоря о «цензуре», «привратнике», «маскараде». Главное не в этих нагромождениях и тупиковых позициях, а в том, что все трое, пользуясь одними и теми же средствами, то есть борясь с предрассудками своей эпохи и разделяя их одновременно, выработали знание о смысле, знание, не сводимое к непосредственному осознанию смысла. Все трое, идя различными путями, попытались привести в соответствие свои «сознательные» методы расшифровки с «бессознательной» работой шифровки, которую они приписывали воле к власти, социальному бытию, бессознательному психическому. Если говорить о Фрейде, надо иметь в виду его удивительное открытие, сделанное в «Толковании сновидений»: аналитик решительно намечает путь обратный тому, какой, сам того не желая, проделал спящий в «работе сновидения». Отныне Маркса, Фрейда и Ницше отличает лишь метод декодирования и одновременно представление о процессе кодирования, который все они признали бессознательным; иначе и не могло быть, поскольку такой метод и такое представление дополняют и подтверждают друг друга. Так, у Фрейда смысл сновидения, если говорить более обобщенно, — смысл симптомов и компромиссов, а еще более обобщенно — смысл психических выражений в их совокупности, — не отделим от «анализа» как тактики декодирования; и, не будучи скептиком, можно сказать, что этот смысл в процессе анализа осуществляется и стимулируется, что он имеет отношение к образующему его совокупному поведению; на этом можно настаивать при условии, что справедливо и обратное: данный метод подтверждается его связью с раскрытым смыслом; более того, данный метод подтверждает тот факт, что раскрытый смысл не только поддается пониманию благодаря собственной интеллигибельности, которая значительно превосходит кажущееся душевное смятение, но и освобождает грезящего или больного индивида, когда тот признает и присваивает его, короче говоря, когда носитель смысла сам сознательно становится этим смыслом, который до настоящего момента существовал вне его, в его «бессознательном», а затем — в сознании аналитика.
Осознавать для себя смысл, который до этого был смыслом только для другого, — вот чего добивается аналитик
от пациента. Здесь обнаруживается еще более глубокое родство между Марксом, Ницше и Фрейдом. Все трое, отмечали мы, начинают с сомнения, говоря об иллюзии сознания, и прибегают к приему дешифровки; все трое, не будучи ниспровергателями сознания, в конечном итоге стремятся к расширению последнего. Маркс хотел освободить праксис путем познания необходимости, но такое освобождение неотделимо от «осознания», которое наносит ответный удар по мистификациям ложного сознания. Ницше хотел возвышения способностей человека, восстановления его могущества; то, что он намеревался сказать своей «волей к власти», можно расшифровать, размышляя над символами «сверхчеловека», «вечного возвращения» и «Дионисия», без чего эта воля на деле предстанет простым насилием. Фрейд хотел, чтобы пациент, присваивая до этого чуждый ему смысл, расширял поле своего сознания, жил лучше и шаг за шагом становился более свободным, а если возможно, и более счастливым. Одной из первейших забот психоанализа было «исцеление сознания». Это справедливо при условии, если аналитик хотел противопоставить непосредственному и скрытому сознанию сознание размышляющее, построенное по принципу реальности. Таким образом, сомневающийся, видящий в «Я» «несчастного горемыку», подчиненного трем властителям: «Оно», «Я», «Реальность», то есть необходимости, — выступает в то же время и толкователем, отыскивающим логику там, где господствует алогичное; и Фрейд с беспримерной скромностью и корректностью осмеливается завершить свое исследование «Будущее одной иллюзии» ссылками на Логос — не всемогущего Бога, а бога, действующего постоянно, глас которого слаб, но неутомим.
6. Отзвуки фрейдовской интерпретации в культуре
Вот что эти три толкователя хотели сделать для современного человека. Но мы далеки от того, чтобы освоить их открытия и полностью понять самих себя с помощью предложенных ими интерпретаций. Надо отметить, что мы еще
не готовы понять их интерпретаций, что они еще не оценены по существу: между их интерпретациями и нашим пониманием — дистанция огромного размера. Более того, мы имеем дело не с единой интерпретацией, которую нам следовало бы сразу усвоить; перед нами три интерпретации, расхождение между которыми значительнее их родства. Еще не существует никакой отлаженной структуры, никакого последовательного дискурса, никакой философской антропологии, которые были бы способны соединить их вместе и интегрировать с нашим пониманием герменевтики Маркса, Ницше, Фрейда; их травмирующие последствия накапливаются, их разрушительная сила увеличивается, но они не соединяются друг с другом и нет еще нового единого сознания, которое объединило бы их. Вот почему следует признать, что значение психоанализа как принадлежащего нашей культуре события остается в подвешенном состоянии и его место в ней до сих пор не определено.
1. Сопротивление истине
Характерно, что и психоанализ в своих истолковывающих схемах признает собственное отставание и неопределенность в понимании своего места в культуре: сознание, утверждает он, «сопротивляется» самопознанию; Эдип также «сопротивляется» общепринятой истине; он отказывается признавать себя в том человеке, которого сам проклял; самопознание поистине трагично; но это — трагедия второго уровня; трагедия сознания — трагедия Отказа и Возмущения — удваивает изначальное трагическое, то есть трагическое, связанное с инцестом и отцеубийством. Об этом «сопротивлении» истине Фрейд великолепно рассказал на страницах известного и часто цитируемого произведения «Одна из трудностей психоанализа» (1917). Психоанализ сегодня, говорит он, — последнее из «усмиряющих» воздействий, которые под влиянием науки испытали на себе «нарциссизм» и «самовлюбленность», свойственные человеку как таковому. Сначала было космологическое усмирение, внушенное ему Коперником, разрушившим нарциссическую иллюзию, согласно которой Земля, где живет человек, неподвижна и находится в центре
Вселенной; затем последовало биологическое усмирение, когда Дарвин показал несостоятельность притязаний человека на существование, обособленное от животного мира; наконец, дело дошло до психологического усмирения: человек, знающий уже, что не является ни властителем Космоса, ни властителем всего живого, понял наконец, что он не властитель даже собственной психической жизни. Психоанализ, таким образом, апеллирует к «Я»: «Ты полагал, что знаешь все самое главное, что происходит в твоей душе, поскольку об этом тебе говорило твое сознание. И если ты не знал о чем-нибудь, что происходило в твоей душе, ты с полной уверенностью утверждал, что этого в ней нет. Ты дошел до того, что отождествил «психическое» и «сознательное» как то, что тебе известно, и все это вопреки тому, что в твоей психической жизни со всей очевидностью постоянно происходило нечто такое, что не находило отражения в твоем сознании. Перестань же терзаться по этому поводу! Ты компрометируешь себя как абсолютный монарх, довольствующийся сведениями, которыми снабжают его высокопоставленные сановники, и неудосуживающийся снизойти к народу, чтобы услышать его голос. Погрузись в собственные глубины и научись прежде познавать самого себя, тогда ты узнаешь, какая опасность подстерегает тебя, и, может быть, тебе удастся ее избежать»*.
«Перестань же терзаться по этому поводу… Погрузись в собственные глубины и научись прежде познавать самого себя…» — именно так психоанализ понимает свое собственное место в общем сознании: быть наставником, стремиться к ясности, невзирая на сопротивление со стороны дикого и неотступного нарциссизма, то есть со стороны либидо, которое никогда полностью не объективируется и которое «Я» удерживает в себе. Вот почему подобное просвещение «Я» с необходимостью осуществляется как самоуничижение, как оскорбление, наносимое либидо моему «Я».
Тема нарциссического самоуничижения красной нитью проходит через все наши предшествующие рассуждения о подозрении, об уловках и о напряженности, существующих в поле сознания: теперь мы знаем, что уничижению
* Freud Essais de psychanalyse appliquée. P. 145–146.
подвергается не сознание, а определенная претензия сознания, либидо, живущее в «Я». И мы знаем также, что то, что уничижает, есть самое что ни на есть добротное сознание, «ясность», «научное знание», как говорит истинный рационалист Фрейд; а как скажем мы — сознание, лишенное «Я» в качестве собственного центра, сознание «незанятое», «смещенное» Коперником в сторону необъятного Космоса, обращенное Дарвином к движению самой жизни, а Фрейдом — к темным глубинам психики. Сознание увеличивается в объеме, обретая в качестве центра свое Другое: Космос, Жизнь, Душу; оно обретает себя, теряя себя, — обретает себя просвещенным и сведущим, теряет же себя в качестве нарциссического сознания.
2. «Непосредственные» реакции обыденного сознания
Расхождение между интерпретацией культуры, принадлежащей психоанализу, и пониманием этой интерпретации, которого может достичь обыденное сознание, объясняет — полностью или, по меньшей мере, частично — хитрые уловки обыденного сознания; психоанализ, говорили мы выше, с трудом находит себе место в культуре: теперь нам известно, что мы постигаем сознание в его значении только через искаженные представления, которые порождает оказывающий сопротивление нарциссизм.
Именно эти искаженные представления мы встречаем на уровне «внезапных» влияний и «непосредственных» реакций. Уровень «внезапных» влияний — это уровень вульгаризации; уровень «непосредственных» реакций — это уровень болтовни. Однако небезынтересно остановиться здесь на одном моменте: психоанализ избежал опасности опуститься на уровень вульгаризации и подвергнуться господствующим в нем оценкам, осуждениям и похвалам; когда Фрейд выступал с докладами, публиковал свои книги, он обращался не к аналитикам и не к тем, кого подвергают анализу; он отдавал психоанализ на суд общественности, и, как бы то ни было, им высказывались такие вещи, которые с самого начала не умещались в рамки интерсубъективного отношения, складывающегося между врачом и пациентом. Распространение психоанализа за пределы терапии является важным культурным событием, которое
социальная психология сделала предметам научного анкетирования, изучения и объяснения.
Психоанализ становится общественным достоянием прежде всего как глобальный феномен рассекречивания: скрытая и безмолвствующая часть человека выносится на всеобщее обозрение; благодаря психоанализу заговорили о сексуальности, сексуальных извращениях, о вытеснении, о «Сверх-Я», цензуре. В этом смысле психоанализ предстает событием мира on[160], темой «болтовни». Но заговор молчания также принадлежит миру on, и лицемерие ничуть не менее болтливо, чем публичное разоблачение тайных дел каждого из нас, оказывающихся на поверку тайной Полишинеля. Никто не знает, как поступить с этими разоблачениями, поскольку вместе с ними начинаются самые скверные недоразумения: если иметь в виду «внезапные» влияния, то от психоанализа требуют создания непосредственной морали: в таком случае в психоанализе видят систему обоснования нравственных позиций, которые в своей основе не подлежат обсуждению с точки зрения психоанализа; ведь психоанализ выступил с претензией разоблачить все и всяческие обоснования. Таким образом, одни требуют от психоанализа создания лишенной противоречий системы просвещения — поскольку невроз является непосредственным следствием вытеснения — и видят во Фрейде тайного и изощренного апологета нового эпикуреизма[161]. Другие, опираясь на учение о стадиях взросления и интегрирования, а также о сексуальных извращениях и регрессии, ис-
j пользуют психоанализ в целях защиты традиционной мо-
*' рали — разве сам Фрейд не определял культуру как при-
несение в жертву влечений?
Действительно, на первых порах можно сомневаться в
I том, чего же реально добивался Фрейд, и пытаться под-
вергнуть сам психоанализ «изначальному» психоанализу:
разве Фрейд не выступал открыто с «буржуазной» аполо-
гией моногамии, в то время как втайне он был сторонником «революционного» оправдания оргазма? Но сознание, которое ставит данный вопрос и стремится свести учение Фрейда к этой нравственной альтернативе, не прошло испытания психоаналитической критикой.
Революция, произведенная фрейдизмом, заключается в его диагностике, в холодной трезвости, в настойчивом поиске истины; Фрейд, если иметь в виду непосредственный эффект, не проповедует никакой морали. «Я не даю никаких утешений», — говорит он в конце работы «Будущее одной иллюзии». Но люди ждут от науки четких прописных истин, стремясь превратить ее в религиозную проповедь. Когда Фрейд говорит об извращении и регрессии, они спрашивают: Фрейд — это ученый, занятый описанием и объяснением, или венский буржуа, озабоченный самооправданием? Когда Фрейд говорит, что человек руководствуется принципом удовольствия, его подозревают — то ли порицая, то ли воздавая должное — в том, что он под воздействием своей диагностики незаметно скатывается к одобрению эпикуреизма, в то время как на деле он без патетики, строго научно ставит вопрос о коварстве в поведении морального человека. Таково вот недоразумение: Фрейду внимают как пророку, в то время как он — мыслитель, далекий от всяких пророчеств; он не стремится создать новую этику, но он изменяет сознание тех, для кого этическая проблематика остается открытой; он изменяет сознание, изменяя путь познания сознания и давая ему ключ к постижению его собственных уловок. Фрейд может в далеком будущем изменить нашу этику, а сегодня он не является моралистом.
7. Фрейд — трагический мыслитель?
Только уточняя свои поверхностные суждения, обыденное сознание сможет воспринять глубинное значение психоанализа. Короткий путь, как мы уже видели, ведет к одним лишь недоразумениям и противоречиям, которые свойственны этике, непосредственно выведенной из психоанализа. Длинный путь — это путь преобразования самосознания через опосредованное понимание знаков, которыми оперирует человек. Куда приведет нас этот длинный путь? Мы этого еще не знаем. Психоанализ — это подспудная революция: она изменит нравы, лишь изменив качество видения человека и содержание его слов, касающихся его самого; речь идет о работе истины, которая входит в сферу этики только благодаря ею же поставленной проблеме правдивости.
Теперь можно рассмотреть несколько силовых линий, по которым осуществляется давление на сознание современных людей со стороны того, что я определил как опосредованное понимание знаков человека.
Если иметь в виду продолжение общего усилия по рассекречиванию, которое психоанализ осуществляет на самом элементарном уровне, то можно сказать, что психоанализ весьма чуток к тому, что сам Фрейд называет суровостью жизни. Трудно быть человеком, скажем мы: если психоанализ выступает поочередно то за сокращение импульсных жертв с помощью ослабления социальных запретов, то за принятие этих жертв путем подчинения принципа удовольствия принципу реальности, — это происходит не потому, что он верит в непосредственную «дипломатическую» договоренность между противоположными инстанциями; он надеется на изменение сознания, которое последует за более широким и более ясным пониманием человеческого трагизма, не веря, однако, в то, что из него в ближайшем будущем будут сделаны этические выводы.
Фрейд не говорит, как это делает Ницше, что человек — «больное животное»: он делает очевидным, что человеческий удел — в неизбежных конфликтах. Почему? Прежде всего потому, что человек — единственное существо, которое довольно долго сохраняет в себе детство и на протяжении длительного времени зависит от него. Человек «историчен», — об этом говорят на разный манер. Фрейд провозглашает: человек с самого рождения доисторичен и долгое время продолжает оставаться таковым; он и по сей день все еще доисторичен из-за своей инфантильной судьбы. Внушительные образы — реальные и вымышленные — отца, матери, братьев, сестер, Эдипов комплекс, страх кастрации — все это не могло бы иметь такого значения для существа, которое не было бы жертвой своего детства. Ведь становиться взрослым трудно. А разве знаем мы, что такое взрослое чувство виновности?
Трагична инфантильная судьба, но также трагично «повторение». Именно трагизм «повторения» и лежит в основе всех генетических объяснений, о принципиальной ограниченности которых мы говорили выше. Ведь не в угоду своему методу, а из уважения к истине Фрейд неустанно отсылает нас к началу. Детство не было бы судьбой, если бы человек постоянно не испытывал давления прошлого. Фрейд, как никто другой, был чувствителен к этому трагическому опыту прошлого и его многочисленным формам: возврат подавленного, стремление либидо вернуть утраченные позиции, трудности, связанные с преодолением несчастий и вообще с изъятием связанных друг с другом энергий, с отсутствием подвижности у либидо; не стоит забывать и того, что рассуждения о влечении к смерти в большинстве своем родились из анализа тенденции к повторению, которую Фрейд без колебаний сближал со стремлением органического мира вернуться к миру неорганическому: Танатос вступает в сговор с изощренно действующей архаикой Психического.
Противоречия либидо трагичны: из работы «Три очерка по теории сексуальности» нам известно, что энергия либидо не проста, ее объект и ее цель не обладают единством, ее поток всегда может расщепиться, и она пойдет путями, ведущими к извращениям и попятным движениям; усложняющаяся фрейдовская система влечений — разделение между либидо «Я» и объективным либидо, перетолкование садизма и мазохизма, опирающееся на влечение к смерти, — все это не могло не сделать более четким представление о меняющем свое направление желании человека. Трудности жизни — это также (а может быть, и главным образом) и неудачи в любви, в любовной жизни.
Но и это еще не все: отмеченные мотивации свидетельствуют о том, что психоанализ достиг только того, что лишил сексуальность ореола тайны. Но если он, изучив импульсную основу человека, берет на себя задачу доказать «сопротивляемость» сознания этому разоблачению, опровергнуть рациональные формы, в которых эти «сопротивления» себя выражают, и если верно, что эти «сопротивления» принадлежат той же самой сфере, что и запреты и идентификации, образующие проблематику «Сверх-Я», то не будет преувеличением сказать, что трагическое имеет не один, а два очага. Один из них — «Оно», другой —
«Сверх-Я». Вот почему к трудностям взросления и тяготам любви прибавляются трудности самопознания и правильной самооценки. Таким образом, вопрос об истинности предстает как главнейшая жизненная трудность. В истории Эдипа подлинная трагедия не в непредумышленном убийстве отца и женитьбе на собственной матери — это было когда-то, это прошлая судьба человека; современный трагизм человека в том, что он проклинает за данное преступление другого, и этим другим является он сам, и это следует признать. Мудрость заключается в том, чтобы увидеть здесь самого себя и перестать проклинать себя; но старый Софокл, написавший «Эдипа в Колоне», знал, что Эдип, даже став взрослым, не перестал испытывать «Гнев» на самого себя.
Теперь понятно, почему напрасно требовать от психоанализа соответствующей ему этики, не изменив предварительно своего сознания: человек — это несправедливо обвиненное существо.
Может быть, здесь Фрейд наиболее близок Ницше: обвинять надо само обвинение. К тому же Гегель, критикуя в «Феноменологии духа» «моральное видение мира», еще до Ницше сказал: осуждающее сознание лицемерно и оно не имеет оправдания: надо признать его конечность, его равенство с судимым сознанием, чтобы «отпущение грехов» стало возможным как примиряющее самопознание. Но Фрейд не обвиняет обвинение; он понимает его и, понимая, выставляет на всеобщее обозрение его структуру и стратегию. Только двигаясь в этом направлении, можно было бы создать подлинную этику, где жестокость «Сверх-Я» уступила бы место строгой любви. Но прежде надо было проделать долгий путь, чтобы прийти к пониманию, что катарсис желания ничего не стоит без катарсиса обвиняющего сознания.
Но этим не исчерпывается все то, что следовало бы усвоить, прежде чем приступить к созданию этики; мы еще не прошли всего пути, предваряющего создание этики.
Действительно, в свете изложенных замечаний о двойственности трагического, связанной с «Оно» и «Сверх-Я», можно было бы иначе истолковать все то, что мы выше говорили о культуре.
Мы знаем теперь, какое место занимают понятия «иллюзия», «замещение», «соблазн». Эти понятия принадлежат области трагического, об истоках которого мы только что рассуждали. Культура на самом деле состоит из процедур, с помощью которых человек, опираясь на воображение, преодолевает воздействие ищущих выхода желаний, которые нельзя ни подавить, ни удовлетворить. Меж-ДУ удовлетворением и подавлением желаний открывается непростой путь сублимации. Но именно потому, что человек не есть ни животное, ни божество, он попадает в это безвыходное положение; тогда он создает «бред и мечту»; он, как и герой «Градивы» Йенсена, творит произведение искусства и богов; величественную функцию воображения, которую Бергсон противопоставил господствующей в закрытых обществах дисциплине[162], Фрейд сравнивает с тактикой внешнего и внутреннего притворства, изобретенной человеком только после того, как он уклонился от чего-то, однако используя при этом само уклонение. Данная мысль чрезвычайно глубока: поскольку принцип реальности встает преградой на пути принципа удовольствия, то человеку не остается ничего другого, как «культивировать» искусство замещения наслаждения. Человек, как часто говорят, есть существо, способное к сублимации. Но сублимация не отменяет трагического, она возрождает его; в свою очередь утешение, то есть примирение с неизбежностью жертв и искусство переносить страдание, которое идет к нам от нашей телесности, от мира и от другого человека, — это утешение никогда не бывает безобидным; родство религиозной «иллюзии» с навязчивым неврозом свидетельствует о том, что человек не выходит за границы инстинктов и «восстает» — сублимирует! — только для того, чтобы вновь обрести — уже в более неявной форме, с помощью более изощренного притворства — трагическое, свойственное детству, когда мы впервые сталкиваемся с ним. Одно лишь искусство кажется нам безопасным; по крайней мере Фрейд именно это заставляет нас признать, поскольку одному искусству доступны приемы идеализации и оно одно способно с помощью неуловимого колдовства обуздывать темные силы; одного его нельзя подозревать ни в нетерпимости, ни в желании все разнюхать, все оспорить, взорвать —
словом, пойти на скандал. Вот почему, как представляется, к одному лишь искусству Фрейд относился без подозрения. В действительности же «сублимация» кладет начало новому циклу противоречий и опасений; но разве воображению не свойственно служить сразу двум господам — Лжи и Реальности, что является причиной его двойственности? Лжи — поскольку оно водит за нос Эрос со всеми его фантазмами (заглушает голод, как говорят); Реальности — поскольку приучает трезво смотреть в глаза необходимости.
В конечном счете именно трезвое познание необходимого характера конфликтов является если и не высшим признаком мудрости, то с него, по крайней мере, мудрость начинается, и именно им руководствуется психоанализ, создавая свою программу. В этом отношении Фрейд взглянул по-новому не только на истоки трагического, но и на сам «трагизм знания», поскольку он ведет к примирению с неизбежным. Ведь не случайно Фрейд — натуралист, детерминист, сциентист, наследник Просвещения — всякий раз, когда речь шла о чем-то существенном, обращался к трагическим образам мифов: Эдип и Нарцисс, Эрос, Анан-ке, Танатос. Именно это трагическое знание необходимо было усвоить, чтобы достичь порога новой этики, которая непосредственно не вытекает из учения Фрейда, — она постепенно вызревает с помощью абсолютно не-этического психоанализа. Мы с трудом приходим к осознанию того, что психоанализ предоставляет в распоряжение современному человеку; психоанализ — учение скорбное, поскольку внушает нарциссическое унижение; но такой ценой сознание приходит к согласию, о котором говорил Эсхил: «Тф Ttâôei ца0ос»(«через страдание — к пониманию»)*.
За пределами этого согласия и наряду с ним должна вестись как критическая работа, о которой мы говорили в начале исследования, так и усвоение достигнутого, к чему мы теперь и приступаем; рефлексия о границах фрейдовской интерпретации остается в подвешенном состоянии, как в подвешенном состоянии остается и осмысление глубинного значения осуществленного Марксом, Ницше и Фрейдом разоблачения самосознания.
* Eschyle. Agamemnon, vers 177.
Философская интерпретация фрейда аргументация
Философу необходимо различать две позиции, которые он может занять по отношению к работам Фрейда: позицию «читателя» и позицию «философского интерпретатора». Читать Фрейда — это удел историка философии; чтение Фрейда ставит перед ним те же проблемы, что возникают, когда он читает Платона, Декарта, Канта; и в том, и в другом случае он может претендовать на определенную долю объективности. Философская интерпретация — это работа философа: она предполагает чтение, также претендующее на объективность, но вместе с тем занимающее и определенную позицию по отношению к читаемому произведению; философская интерпретация добавляет к архитектонической перестройке произведения нечто такое, что принадлежит другому дискурсу — дискурсу философа, который мыслит, исходя из Фрейда, то есть идя следом за ним, вместе с ним и навстречу ему. Именно «такая» философская интерпретация Фрейда и представляется здесь для всеобщего рассмотрения.
1. В предлагаемом нами прочтении фрейдовский дискурс выступает как дискурс смешанный, соединяющий друг с другом вопросы, относящиеся к смыслу (смысл сновидения, смысл симптома, смысл культуры и т. п.), и вопросы, относящиеся к энергии (инвестиция, экономическое равновесие, конфликт, вытеснение и т. п.); отметим здесь, что этот смешанный дискурс не является дискурсом двусмысленным — он диктуется той реальностью, которую стремится познать, то есть существующей в семантике желания связью между смыслом и энергией. Такое прочтение соответствует самым что ни на есть реалистическим и натуралистическим сторонам фрейдовской теории и вместе с тем неизменно трактует «влечения», «бессознательное», «Оно» в качестве означаемого, расшифрованного как работа смысла.
2. Вопрос, который привел к такой интерпретации, заключается в следующем: может ли какая-либо рефлексивная философия брать в расчет аналитический опыт и соответствующую ему теорию? Я считаю, что утверждение типа: «я мыслю — я есть» лежит в основе любого трезвого суждения о человеке; если это так, то уяснить для себя Фрейда можно, сформулировав понятие археологии субъекта; это понятие определяет место аналитического дискурса в философии; у Фрейда нет такого понятия; я сформулирую его, чтобы, анализируя Фрейда, понять самого себя: только в рефлексии и при помощи рефлексии психоанализ являет себя как археология.
Но о каком субъекте идет речь?
Прочтение Фрейда свидетельствует в то же время о кризисе философии субъекта; оно требует отказа от субъекта, каким тот изначально предстает перед самим собой в качестве сознания; оно делает сознание не тем, что дано, а предъявляет его в качестве проблемы, задачи. Подлинное Cogito должно быть достигнуто, опираясь на маскирующие его ложные Cogito.
Именно при этом условии прочтение Фрейда становится делом рефлексии.
3. Следующий вопрос таков: может ли субъект иметь археологию, не имея телеологии?
Этот вопрос имеет свою историю; не Фрейд впервые поставил его, а рефлексивное мышление, которое утверждает: только тот субъект имеет arche, который имеет telos, поскольку присвоение смысла, конституированного до «Я», предполагает движение субъекта вперед, за пределы себя самого, осуществляемое с помощью последовательных «образов» (как это имеет место в «Феноменологии духа» Гегеля), когда каждый из них находит свой смысл в последующих образах.
Эта диалектика археологии и телеологии позволяет перетолковать некоторые фрейдовские понятия, такие, например, как «сублимация» и «идентификация», которые, как мне кажется, во фрейдовской систематике не обладают убедительностью.
Наконец, эта диалектика является философской основой, на которой может быть построена общая программа соперничающих друг с другом герменевтик искусства, морали и религии. Вне этой диалектики данные интерпретации либо противостоят друг другу, либо объединяются с помощью бесплодной эклектики, а это есть не что иное, как карикатура на мышление.
В данном сообщении я буду защищать не какое-то одно прочтение Фрейда, а, скорее, рефлексию, свободную от подстерегающих ее трудностей.
Итак, с самого начала возникают два вопроса:
1. Можно ли, как я предлагаю, различать прочтение Фрейда и философскую интерпретацию Фрейда?
2. Имеем ли мы право на философскую интерпретацию, которая, как я отметил в изложении аргументов, применила бы к деятельности Фрейда иной дискурс, особенно если этот дискурс принадлежит рефлексивной философии?
На первый вопрос я дам два ответа — общий и частный. Если говорить в общих чертах, я полагаю, что история философии и философия (или, как неосмотрительно говорят, общая философия) являются двумя отличными друг от друга видами философской деятельности. Если иметь в виду историю философии, то, я думаю, между историками философии существует негласное, но вполне определенное соглашение по поводу того, какой степени объективности можно достичь в этой дисциплине; вполне возможно понять того или иного автора, не искажая его взглядов и не пересказывая их (я сошлюсь на замечания М. Геру[163] об архитектонической реконструкции произведения). Но я уверен: все другие историки философии — даже если они говорят о философской интуиции в гораздо более определенном в бергсоновском смысле — считают, что не существует возможности абсолютного совпадения с произведением; более того, мы можем воссоздать произведение, исходя из совокупности тем, которые подсказывает нам интуиция, и, особенно, исходя из сети взаимодействий, образующих нечто вроде субструктуры, или несущей конструкции, произведения. Вот почему мы не повторяем, а реконструируем. Однако, с другой стороны, мы ни в коей мере не искажаем изучаемого произведения, хотя, случается, что мы создаем не то чтобы двойник произведения, что было бы бесполезным, но его подобие, то есть в собственном смысле слова его замену, обладающую той же структурой. Именно в этом смысле я говорю об объективности, поскольку, если иметь в виду обратное, то есть не-объек-тивность, философу придется вынести за скобки свои собственные убеждения, собственные позиции и — прежде всего — собственный подход, собственное критическое отношение, как и стратегию своего мышления; это — объективность в позитивном смысле, поскольку ее толкование подчиняется тому, на что нацелено само произведение и что оно хотело бы сообщить, и это остается тем quid[121]*, которое регулирует его прочтение.
Итак, я утверждаю, что Фрейда можно читать так же, как наши коллеги и наши учителя читают Платона, Декарта, Канта. Таково мое первое утверждение, убедить в правоте которого, сознаюсь, не так-то легко: не противопоставляет ли Фрейда приведенным мыслителям и философам соотнесение его доктрины с опытом, который требует обучения и компетентности и который является ремеслом и даже техникой? Однако я продолжаю утверждать — и здесь трудно что-либо возразить, — что чтение Фрейда не ставит никаких других проблем, кроме тех, что встречаются при чтении Платона, Декарта, Канта, и оно может претендовать на одинаковую с ним объективность. Почему? Прежде всего потому, что Фрейд проделал такую работу, которая адресована не его ученикам, коллегам или пациентам — она предназначена всем нам: читая лекции, публикуя книги, он предполагал, что его слушатели и читатели будут вести с ним те же дискуссии, что и философы; рисковал он, а не я. Но аргументация эта все еще весьма неубедительна и слишком зависит от случайных обстоятельств; я уверен: то, что возникает в отношении аналитика и пациента, не отличается радикальным образом от того, что в состоянии понять тот, кто не подвергается психоанализу; я говорю о понимании, а не о переживании; никакое книжное знание никогда не сможет заменить реального развития психоанализа; но смысл того, что таким образом переживается, может быть передан другому; аналитический опыт, поскольку его можно передать, теоретически формулируется с помощью дескриптивных понятий, существующих на втором уровне концептуализации; как в театре я могу понимать ситуацию, чувства, жизнь персонажей, которыми я не жил, точно так же, опираясь на рассудочную симпатию, я могу понимать, что означает опыт, субъектом которого я не являюсь. Вот почему, несмотря на серьезные недоразумения, важности которых я не отрицаю, философ в состоянии понять философию психоаналитической теории и даже в некоторой мере сам психоаналитический опыт. Смогу ли я добавить к этому какой-либо более весомый аргумент? Не кто иной, как сам Фрейд, ступил на нашу почву. Каким образом? А вот таким: предметом постижения для Фрейда, вопреки поспешным утверждениям, является не человеческое желание, воля (Wunsch), либидо, влечение, Эрос (все эти слова имеют точный контекстуальный смысл), а желание в его более или менее конфликтном соотношении с миром культуры, отцом, матерью, авторитетами, императивами и запретами, произведениями искусства, социальными целями и идолами; вот почему, когда Фрейд пишет об искусстве, морали и религии, он не включает в реальность культуры науку и практику, которым изначально принадлежит определенное место в человеческой биологии, или в психофизиологии; его наука и практика находятся в точке соединения желания и культуры. Прочитайте «Толкование сновидений» или «Три очерка по теории сексуальности», чтобы не ограничиваться уже рассмотренными произведениями, — в них влечения берутся в их отношении к «цензуре», «препятствиям», «запретам», «идеалам»; образ отца в «Царе Эдипе» является всего лишь гравитационным центром системы. Вот почему в первой, а затем и во второй топиках мы сразу сталкиваемся со множеством «мест» и «ролей», где бессознательное прямо противостоит сознанию и предсозна-нию, где «Оно» сразу же вступает в диалектическое соотношение с «Я» и «Сверх-Я». Именно эту диалектику, то есть переплетение желания и культуры, и изучает психоанализ. Именно поэтому я и утверждал, что Фрейд близок нам: даже когда он ведет речь о влечении, он говорит о нем в плане выражения и исходя из этого плана, в плане определенных действий смысла и исходя из него, а их можно воспринимать в качестве текстов, подлежащих расшифровке, — текстов онейрических и симптоматических, которые внезапно проступают в сфере общения, в сфере обмена знаками. Как раз в сфере знаков и разворачивается опыт аналитика, поскольку это — работа слова, поединок говорящего и слушающего, сложная игра говорения и молчания. Эту принадлежность аналитического опыта и фрейдовской доктрины сфере знаков, фундаментально обеспечивающей не только передаваемость аналитического опыта, но и его гомогенность, а в конечном итоге и принадлежность целостному человеческому опыту, и предстоит осмыслить и понять философии.
Таковы предпосылки, которыми я руководствуюсь, взяв на себя смелость читать работы Фрейда так, как я читаю труды других философов.
Что касается подобного прочтения, сейчас я о нем почти ничего не скажу, поскольку, выступая перед Философским обществом, я избрал темой философскую интерпретацию психоанализа; я позволю себе лишь прокомментировать то, что я назвал архитектонической реконструкцией, и предложу более систематическое изложение того, о чем идет речь в моей книге[165].
Мне кажется, что произведения Фрейда можно разделить на три значительные части: каждая из них имеет собственную архитектонику и может рассматриваться как один из трех концептуальных уровней, находящих свое наиболее завершенное выражение в систематическом обобщении, которое вслед за этим можно истолковать с точки зрения диахронии. Первая связь образована интерпретацией снов и невротических симптомов и находит свое завершение в «Метапсихологии», в системе, известной как первая топика (серия «Я», «Оно», «Сверх-Я» образует, согласно Лагашу[166], персонологию). Вторая значительная масса фактов и понятий, создающая следующую теоретическую связку, содержит интерпретацию культуры: произведения искусства, идеалы и идолы; эта вторая часть вытекает из предшествующей, поскольку заключает в себе диалектику желания и культуры; но, применяя онейриче-скую модель, работающую там, где речь идет о желании, ко всем действиям смысла, которые мы можем встретить в мире культуры, мы существенным образом нарушаем равновесие, достигнутое в работе «Метапсихология»; результатом этой перестройки является вторая позиция системы, выражающаяся в соотношении: «Я» — «Оно» — «Сверх-Я»; она не заменяет первую, а наслаивается на нее. И, наконец, большое число фактов и понятий, образующих третью теоретическую связку, проистекает из переработки, опосредованной введением влечения к смерти в предшествующее построение; эта переделка задевает самые основы существования, поскольку в ней происходит перераспределение энергий в зависимости от полярного соотношения: Эрос — Танатос; но так как отношение между влечением и культурой в значительной мере остается ведущим, эта переделка есть одновременно и переделка надстройки; появление на сцене влечения к смерти на деле знаменует собой кардинальную переинтерпретацию культуры; именно о ней идет речь в «Недовольстве культурой»; в чувстве виновности, в неудовлетворенности цивилизацией, во вспышках войн неслышимое ранее влечение заявляет о себе во весь голос.
Такова, в общих чертах, архитектоника фрейдизма.
Как видим, здесь наблюдается определенная эволюция, которую, правда, можно понять лишь при условии перехода системы из одного состояния в другое. Тогда мы отчетливо увидим линию, идущую от механистического истолкования психического аппарата к романтическому пониманию драмы жизни и смерти. Но такое развитие имеет внутреннюю связь: оно берет начало в последовательной перестройке структур. И эта последовательность закладывается внутри однородной среды — в смысловых действиях желания. Именно эту однородную среду структурных перестроек фрейдовского учения я и назвал семантикой желания.
Однако я хотел бы вернуться к главному предмету моего рассмотрения — к философской интерпретации Фрейда. Я остановлюсь на втором затруднении, с которым можно столкнуться в подобного рода предприятии; будет ли вполне обоснованным пресечение любой попытки применить к деятельности Фрейда иной дискурс? Деятельность Фрейда, скажут нам, обладает своей целостностью и она самодостаточна: вы извратите ее, если перенесете в другое мыслительное пространство, отличное от того, где она зародилась. Это серьезное возражение, и оно имеет отношение к любому мыслителю; но Фрейд — особый случай: всегда существует возможность обратиться к его философскому осмыслению, которое в состоянии интегрировать психоаналитическое учение со всеми его хитроумными уловками в превосходящем его отрицании. Вероятно, так оно и есть. Вместе с тем я признаю, что нельзя основывать философское истолкование Фрейда, опираясь лишь на одни — пусть и весьма, существенные — возражения.
Против некоторых фанатичных фрейдистов можно было бы выдвинуть двоякого рода аргументы. Прежде всего я буду возражать против того, будто Фрейд создал психоанализ как некое целостное учение. Следует ли приводить все тексты, где Фрейд недвусмысленно заявляет, что он описал лишь группы влечений — те, которые соответствовали его практике, и что сфера «Я», например, лишь частично охватывается тем, что имеет отношение к влечениям «Я», принадлежащим тому же самому циклу, что и объективное либидо? Психоанализ — это всего лишь один из лучей света, направленных на человеческий опыт. Однако. — и это чрезвычайно важно, так как следует из самой аналитической практики, — данное учение необходимо рассматривать как упорядочение с помощью изобретенных им и приведенных в соответствие понятий одного, весьма частного, аспекта человеческого опыта, каким является аналитический опыт; этой позиции надо держаться непреклонно: в конечном итоге фрейдовская концептуализация существует и находит подтверждение только в пределах аналитического отношения; на небе и на земле есть еще много такого, что никак не укладывается в рамки психоанализа. Я только что сказал, что этот опыт может приниматься за целостный человеческий опыт, за человеческий опыт как таковой; но на деле он является лишь отдельным моментом последнего. Философия, как я уже пытался показать, призвана выступать арбитром не только там, где имеется множество интерпретаций, но и там, где имеется множество различных опытов.
Но это еще не все. Психоаналитический опыт и психоаналитическое учение не только не имеют всеобщего характера — между ними существует расхождение, разрыв, что требует философской интерпретации. Я говорю о неувязках, существующих между фрейдовским открытием и концептуализацией, порожденной определенной системой. Это справедливо по отношению к любой деятельности: недавно Ойген Финк[167] говорил то же самое о Гуссерле: не все понятия, которыми оперирует та или иная теория, могут быть объективно выражены в подвергаемой тематизации сфере. Новая философия в значительной мере пользуется предшествующим языком, и в этом источник неизбежных недоразумений. В случае с Фрейдом такое расхождение очевидно: его открытие принадлежит плану действий смысла, а он продолжает концептуализировать их и излагать на языке своих венских и берлинских учителей[168]. Можно было бы возразить, что это расхождение не философского характера: оно связано с вопросом о прояснении грамматики нашего языка, с признанием правил языковой игры, как сказали бы англичане. Но эта аномалия фрейдовского дискурса соответствует природе самих вещей; если верно, что психоанализ действует в пространстве между желанием и культурой, то можно было бы ожидать, что он будет пользоваться понятиями, принадлежащими одновременно двум различным планам, двум дискурсам: дискурсу энергии и дискурсу смысла. Язык энергии — это слова, обозначающие динамику конфликтов, и среди них наиболее употребляемым является термин «вытеснение», особенности которого лучше всего изучены; сюда же относятся и экономические термины: «инвестиция», «дезинвестиция», «сверх-инвестиция» и др.
Язык смысла — это слова, относящиеся к абсурдности симптомов или к их значимости, мысли о сновидении и его обусловленности, игра слов; сюда же входят слова, обозначающие отношение одного смысла к другому, которые определяются при интерпретации: отношение между очевидным смыслом и скрытым смыслом, между невразумительным текстом и понятным текстом. Здесь смысловые отношения вплетены в отношения энергетические: вся «деятельность сновидения» выражается с помощью этого смешанного дискурса; энергетические отношения заявляют о себе и скрывают себя в смысловых отношениях; в то же время смысловые отношения выражают и представляют энергетические отношения. Этот смешанный дискурс, как я считаю, не является двусмысленным, непроясненным; речь не идет о «category mistake[169]»; этот дискурс по пятам преследует реальность, которую обнаруживает прочтение Фрейда и которую мы назвали семантикой желания. Начиная с Платона, все философы, размышлявшие об отношениях желания и смысла, сталкивались с проблемой удвоения иерархии идей с помощью иерархии любви; Спиноза, например, связывал уровни утверждения и действия conatus со степенью ясности идей; у Лейбница также уровни желания монад и уровни их перцепции взаимосвязаны:
«Действие внутреннего принципа, вызывающего изменения или ведущего к переходу от одной перцепции к другой, можно назвать желанием…»*. Фрейд, вполне вписывается в указанную традицию. Но здесь со всей неотложностью заявляет о себе интерпретация: прочтение подводит нас к критической точке, «где мы осознаем, что энергетика пронизывает герменевтику, а герменевтика раскрывает энергетику. Именно в этой точке процесса символизации и благодаря ему желание заявляет о себе»**.
Впрочем, как раз это и отличает психологическое понятие влечения от психофизиологического понятия инстинкта: влечение постигается только благодаря его психическим проявлениям и действиям смысла, точнее — благодаря искажениям смысла; только потому, что влечение в своих психических проявлениях получает словесное выражение, возникает возможность интерпретировать желание, хотя оно как таковое остается невыразимым. Но если этот смешанный дискурс препятствует психоанализу склоняться на сторону науки о природе, он в той же мере не дает ему встать и на сторону семиологии: закономерности, которые в психологии подчинены смыслу, не могут быть сведены к законам лингвистики, берущей свое начало в работах Фердинанда де Соссюра, Ельмслева и Якобсона; двойственность отношения, которое желание поддерживает с языком, неустранима, и, как прекрасно показал Эмиль Бенвенист, символика бессознательного не является лингвистической stricto sensu**: она свойственна многим культурам, независимо от языка, и представляет такие явления, как смещение и сгущение, которые действуют на образном уровне, а не на уровне фонематики или семантики; в терминологии Бенвениста механизмы сновидения будут проявляться поочередно то как долингвистические, то как вне лингвистические; мы, со своей стороны, скажем, что они свидетельствуют о соединении долингвистических феноменов с тем, что лежит по ту сторону их; они долингвистичны в той мере, в какой свидетельствуют о нарушении дистинктивной функции языка; они сверхлингвистичны, если мы считаем, что сновидение, как отмечал сам Фрейд, находит свое
* Leibniz- Monadologie. § 15. **Ricoeur. De l'interprétation. P. 75.
подлинное родство с такими важными элементами дискурса, как поговорки, пословицы, фольклор, мифы; с этой точки зрения сравнение следовало бы проводить, скорее, на уровне риторики с ее метафорами, метонимиями, синекдохами, эвфемизмами, аллюзиями, каламбурами, литотами. К тому же риторика имеет дело не с языковыми явлениями, а с явлениями субъективности, проступающими в дискурсе*. Фрейд сам постоянно употребляет слово Vorstellung («представление»), чтобы обозначить деятельность смысла, которой влечение уступает свои полномочия; для него именно «представления вещей», Dingvorstellungen, являются моделями для «представления слов», Wortvorstellungen, как раз слова трактуются как вещи, а не наоборот. В сноске 69 на стр. 387 моей книги я привел высказывание Фрейда, полностью подтверждающее это положение[171].
Представление о влечении также лежит в центре проблемы: оно не является ни биологическим, ни семиотическим; вызванное влечением и предвещающее языковую практику, оно говорит о влечении, лишь опираясь на его проявление, и имеет отношение к языку только благодаря причудливым комбинациям «инвестиций вещей», только по эту сторону словесных представлений; следует, однако, не забывать о несводимости отношений между означающими и означаемыми; знаки, действия смысла напоминают о языке, но в своей специфике не принадлежат языковой сфере; Фрейд обозначает это явление словом Vorstellung, «представление»; и именно это принадлежит области фантазма, отличного от слова; Лейбниц тоже говорил об этом в тексте, отрывок из которого я только что процитировал: «Действие внутреннего принципа, вызывающего изменения или ведущего к переходу от одной перцепции к другой, можно назвать Желанием; верно, что желание никогда нельзя полностью выразить в перцепции, но в ней оно так или иначе проявляется и открывает путь новым перцепциям»**.
Итак, рассматривая фрейдовскую трактовку проблемы либидо и смысла сквозь призму лейбницианства, мы тем самым вплотную приблизились к порогу философского осмысления.
*Ricoeur. De l'interprétation. P. 388. ** Leibniz. Monadologie. § 15.
Я отнюдь не думаю, будто одна только философия способна выработать наиболее приемлемую структуру, где отношение между энергией и смыслом может быть ясно выражено; напротив, я считаю, что речь может идти лишь о конкретном прочтении Фрейда, об определенной философской интерпретации Фрейда. То, что я предлагаю, имеет непосредственное отношение к рефлексивной философии, родственной философии Жана Набера, которому я посвятил свою работу «Символика зла»; именно у него я нашел наиболее точную формулировку, говорящую об отношении между желанием быть и знаками, в которых это желание выражается, проецируется и проясняется; вслед за Набером я вполне определенно утверждаю, что понимание неразрывно связано с самопониманием, что область символов является сферой самообъяснения человеческого «Я»; это означает, что, с одной стороны, проблема смысла не могла бы существовать, если бы знаки не были средством, средой, медиумом, благодаря которым человеческое существо стремится обрести собственное место, проецировать себя, понимать себя; с другой стороны, не существует такого понимания, с помощью которого «Я» понимало бы себя непосредственно, не существует внутренней апперцепции, и я могу овладеть собственным желанием быть, идя не коротким путем познания, а лишь долгим путем интерпретации знаков. Короче говоря, моя гипотеза философской деятельности такова: она есть конкретная рефлексия, Cogito, опосредованное всей совокупностью знаков.
Это — рабочая гипотеза, и я не скрываю того, что она не вытекает непосредственно из прочтения Фрейда: напротив, прочтение Фрейда, проблематизация его идей требуют именно такой деятельности — и прежде всего там, где Фрейд ставит вопрос о субъекте. Действительно, каким образом можно говорить о «бессознательном», «предсознательном», «сознательном», «Я», «Оно», «Сверх-Я», не обращаясь к проблеме субъекта? Каким образом можно говорить о желании и смысле, не задаваясь вместе с тем вопросами: кому принадлежит желание? для кого существует смысл? И хотя вопрос о субъекте диктуется самой проблематикой психоанализа, он тем не менее не тематизирован в нем, не поставлен в нем даже аподиктически. Акт, в котором субъект себя полагает, может принадлежать ему одному; таково тетическое суждение Фихте[172]; в этом утверждении существование выступает в качестве мышления, а мышление — в качестве существования; я мыслю — я существую. По отношению к этой позиции, к этой аподиктической пропозиции все «места» первой фрейдовской топики и следующие за ней «роли» являются объективациями. И задача будет заключаться как раз в том, чтобы подтвердить, обосновать эти объективации как пути, ведущие к менее абстрактному Cogito, как дорогу, с необходимостью направляющую к конкретной рефлексии.
Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что между проблематичным включением вопроса о субъекте в психоанализ и аподиктической позицией субъекта в рефлексивной философии существует определенное расхождение. Именно это расхождение и образует дистанцию, отделяющую обычное прочтение Фрейда от его философской интерпретации.
О данном расхождении необходимо заявить со всей определенностью, дабы развеять недоразумения, возникающие, когда путают одно с другим — прочтение Фрейда и его философскую интерпретацию.
Не стоит упрекать меня в том, будто я соединяю рефлексивную философию с позицией Фрейда, поскольку, читая Фрейда, никогда не обращаюсь к Cogito; чтение Фрейда основывается на hypothéton[173] Платона: именно этим словом мы обозначили отношение желания и смысла, семантику желания; для психоаналитиков — это ti ikanon, «нечто достаточное», достаточное для понимания всего того, что происходит в сфере опыта и в области теории. Философия, формулирующая вопрос о субъекте с позиции я мыслю, следовательно, я есть, задается вопросом об условии условия и устремляется к anhypothéton[174] этого hypothéton. Стало быть, не следует смешивать возражения, которые можно было бы адресовать прочтению Фрейда, с теми, которые можно было бы выдвинуть против моей философской интерпретации.
Второе недоразумение возникает, когда проходят мимо философского истолкования, когда упускают из виду изначальный философский акт, чтобы сразу же перейти к обсуждению далеко идущих последствий, вытекающих из этого философского истолкования; так происходит, если связывают окончательные выводы с верой и религией и с фрейдовской критикой религии. Не следует поступать таким образом. Между предпринятыми мною шагами существует определенная последовательность: позиция субъекта, трактуемая психоанализом как его археология, диалектически связана с телеологией, с вторжением абсолютно Иного, этой альфы и омеги в двойственном отношении археологии и телеологии. Разумеется, можно отделить друг от друга эти тезисы, которые действительно возникли на ином уровне, в других философиях. Но философия не есть скопление идей, соединение разрозненных тем, которые можно было бы так или иначе упорядочить; здесь имеет вес один лишь способ, каким философия возникает и упорядочивает свои идеи; здесь архитектура управляет тематикой; вот почему мои «идеи» относительно религии и веры в философском отношении имеют не такое большое значение, как то, что они опираются на диалектическое отношение, существующее между археологией и телеологией; в свою очередь эта диалектика имеет значение постольку, поскольку она внутренне цементирует конкретную рефлексию; наконец, эта конкретная рефлексия имеет смысл только тогда, когда ей удается по-новому поставить фрейдовский вопрос о бессознательном, об «Оно», о влечении и смысле в движении субъекта рефлексии.
Именно это надо иметь в виду, поскольку все держится на данном основании; в зависимости от крепости этого основания интерпретация либо устоит, либо разрушится.
Теперь я хотел бы объясниться по поводу такого рефлексивного подхода к фрейдовским понятиям.
Мой вопрос звучит так: что происходит с рефлексивной философией, когда она начинает руководствоваться идеями Фрейда?
У этого вопроса есть лицевая сторона и изнаночная. Основной вопрос звучит так: каким образом смешанный дискурс Фрейда, имеющий отношение к желанию и смыслу, вписывается в рефлексивную философию? Но тут же возникает и встречный вопрос: что происходит с субъектом рефлексии, когда всерьез воспринимают уловки сознания, когда сознание предстает как ложное сознание, говорящее совсем о другом, — не о том, о чем оно действительно говорит или верит, что говорит? Здесь лицевая сторона и изнаночная неотделимы друг от друга, как две стороны одной медали или одной и той же ткани. Ведь одновременно с тем, как я говорю: философское место аналитического дискурса определено понятием археологии субъекта, я также утверждаю: после Фрейда невозможно говорить о философии субъекта как о философии сознания; рефлексия и сознание не совпадают друг с другом; чтобы обрести субъект, необходимо нанести урон сознанию. Субъект — это не тот, о ком мыслят; нельзя говорить об аподиктичности Cogito, не признавая одновременно неадекватности сознания; о смысле моего собственного существования как о смысле конкретной вещи можно утверждать (пусть на других основаниях), что его существование допустимо и оно имеет свои предпосылки. В таком случае можно, говоря о фрейдизме, назвать его рефлексивным и признать приключением самой рефлексии. Я назвал бы обесцениванием такое движение мысли, находящееся в противоречии с фрейдовской систематикой; именно необходимость этой уступки объясняет фрейдовский натурализм. Я согласен с тем, что во фрейдовском реализме, трактующем о психических «локальностях», есть много шокирующего и философски невежественного; я признаю, что он антифеноменологичен по своему существу; я принимаю его энергетику и экономику как инструменты в борьбе против иллюзорного Cogüo, которое сначала занимало место создателя в акте я мыслю — я существую. Короче говоря, я использую психоанализ так же, как Декарт использовал аргументы скептиков против догматической трактовки вещи; но на этот раз психоанализ хотел бы, вопреки Cogito, скорее — внутри самого Cogito, отделить друг от друга аподиктичность «Я», иллюзии сознания и претензии «Я». В одной из работ 1917 года Фрейд говорит о психоанализе как об оскорблении, унижении нарциссизма, сравнивая его с открытиями Коперника и Дарвина, представившими Вселенную и жизнь иначе, чем они виделись сознанию до тех пор[175]. Психоанализ проделывает ту же операцию с миром фантазма в его отношении к сознанию. В итоге этого обесценивания сознание изменило свой философский статус: оно перестало быть чем-то данным, как
перестало существовать то, что было «непосредственными данными» сознания; сознание превратилось в задачу, в задачу становления посредством сознания. Там, где раньше было Bewusstsein, сознание-бытие, обосновалось Bewusst-werden, сознание-становление. Таким образом, фрейдизм в его энергетическом и экономическом аспектах нашел двойное подтверждение: во-первых, благодаря прочтению Фрейда, противостоящему сведению его к семиологии, отстаивающему специфику психоанализа и не дающему ему согнуться ни под действием силы энергии, ни под действием смысла; во-вторых, благодаря философской интерпретации, гарантирующей чистоту и строгость испытанию, которому должна подвергнуться рефлексия, чтобы сохранить свою подлинность. В то же время загадка фрейдовского дискурса, встающая перед сугубо эпистемологическим рассмотрением, предстает как парадокс рефлексии: вспомним, что загадка фрейдовского дискурса заключается в переплетении энергетического и герменевтического языков; если перенести ее в область рефлексии, то мы получим следующее: реальность «Оно» — идеальность смысла; реальность «Оно» в условиях обесценивания — идеальность смысла в условиях подъема; реальность «Оно», проявляющаяся на уровне сознания, с помощью ослабления действий смысла до-ходит до уровня влечения, то есть до уровня бессознательного; идеальность смысла в работе интерпретации, которая свидетельствует о сознании-становлении. Таким образом, прочтение Фрейда само становится приключением рефлексии. Здесь возникает раненое Cogito, которое себя полагает, но не владеет собой; это Cogito понимает собственную прирожденную истину только как признание неадекватности сознания самому себе, его иллюзорности, его ложности.
Второй этап предлагаемой мною философской интерпретации отмечен диалектикой археологии и телеологии. И здесь рефлексии предстоит сделать еще один шаг вперед — речь идет о признании полярности arche и telos в рефлексии. Я пришел к этой мысли путем рассмотрения временных аспектов фрейдизма. Эти аспекты тесно связаны с
фрейдовским реализмом бессознательного, с «Оно»; более того: эти аспекты, наряду с топикой, касаются также и фрейдовской экономики; действительно, позиция желания имеет нечто ей предшествующее, носящее одновременно филогенетический, онтогенетический, исторический и символический характер; желанию во всех отношениях что-то предшествует, но оно само что-то предвосхищает. Тема предшествования является навязчивой идеей фрейдизма; и я, вопреки всем культурологам, стремящимся обломать ей рога и представить в качестве причины нашего сегодняшнего дикого отношения к окружающей среде, буду отстаивать идею об этом предшествующем желании, которое тянет нас назад и незаметно переводит все наши эмоциональные срывы в семейные ссоры, в фантасмагорические образы искусства, в этическом плане — в чувство виновности, в религиозное чувство страха перед наказанием и инфантильную жажду утешения. Фрейд убедительно говорит о бессознательном как о zeitlos, то есть «вневременном», как о том, что сопротивляется времени, связанному с сознанием-становлением. Именно это я и называю археологией — археологией, ограниченной влечениями и нарциссизмом, обобщенной археологией «Сверх-Я» и идеалов, гиперболической археологией борьбы титанов, Эроса и Танатоса. Но необходимо иметь в виду, что понятие археологии само по себе является понятием рефлексивным; речь идет об археологии субъекта: это прекрасно понимал Мерло-Понти, о чем написал во Введении к книге Эснара «Творчество Фрейда»[176].
Вот почему понятие археологии является философским понятием, а именно понятием рефлексивной философии; соединение археологии и телеологии также является соединением, осуществляемым рефлексией и в рефлексии. Только рефлексивное мышление может сказать: один лишь субъект, обладающий «оряе», обладает и «телосом», поскольку присвоение смысла, созданного до «Я», предполагает движение субъекта, извлеченного из самого себя и устремленного вперед таким образом, что каждый из его «образов» обретает свой смысл в последующих «образах».
Этот новый шаг мышления вперед, несомненно, представляет собой проблему; вот почему я предлагаю прокомментировать наиболее проблематичные вещи. Верно,
что психоанализ — это прежде всего анализ, то есть, если воспользоваться метким выражением Фрейда, регрессивная деконструкция; согласно Фрейду, не существует психического синтеза; по крайней мере психоанализ как таковой не предлагает подобного синтеза. Именно поэтому мысль о телеологии субъекта и не приходила в голову Фрейду; телеология субъекта — это философское понятие, которое читатель Фрейда формулирует на свой страх и риск. Но как бы то ни было, это понятие образовалось не без участия Фрейда; Фрейд постоянно наталкивался на нечто похожее, и это находило отражение в его работе — в некоторых выражениях и теоретических положениях, возникавших в ходе практического анализа; но эти выражения и понятия не нашли своего места во фрейдовской схеме психического механизма, поэтому-то они и повисли в воздухе, как я попытался показать, анализируя понятия идентификации и сублимации, о которых сам Фрейд говорил, что ему не удалось найти для них объяснения, которое его удовлетворило бы.
Второе замечание: я связываю мысль о телеологии субъекта с гегелевской «Феноменологией духа», и здесь нет никакой натяжки — все абсолютно ясно, и вот почему: телеология, или, если пользоваться выражением Жана Ипполита[177], «телеологическая диалектика», выступает в этой работе единственным законом построения образов; это подтверждается также и тем, что диалектика образов придает философский смысл психологическому созреванию человека, его взрослению и мужанию; психология ставит следующий вопрос: каким образом человек расстается со своим детством? Человек расстается со своим детством, если становится способным на что-то значительное, что подтверждается определенными достижениями культуры, которые сами обретают свой смысл, черпая его из будущего. Пример Гегеля показателен еще и потому, что он позволяет отделить телеологию и финальность, понимаемую по крайней мере как конечная причина, раскритикованная Спинозой и Бергсоном. Телеология не есть финаль-ность: в телеологической диалектике образы являются не конечными целями, а значениями, черпающими свой смысл из движения тотализации, которое их увлекает и устремляет вперед, за их пределы. Пример Гегеля показателен еще и потому, что дает возможность наполнить содержанием пустую идею экзистенциального проекта, который всегда остается проектом для самого себя и определяется произвольно, с помощью отчаяния или просто-напросто с помощью самого банального конформизма.
Так что пример Гегеля не натяжка; я попытался схематично представить связь отдельных сфер культуры, начиная с экономики обладания и кончая политической властью и личным достоинством, которые, несмотря на одну и ту же общую ориентацию, имеют тем не менее различное содержание. Отсюда вытекает вопрос не о переходе к сознанию, а о переходе от сознания к самосознанию. Ставкой здесь является «Я», или Дух.
Небезынтересно было бы отметить, что претензии сознания столь же требовательны и там, где речь идет о регрессивной деконструкции фантазмов желания. Именно в таком двойственном отступлении от собственного «Я», в такой двойственной децентрации смысла и состоит конкретная рефлексия. Но данной рефлексии свойственно также стягивать воедино регрессию и прогрессию: только в рефлексии осуществляется отношение между тем, что Фрейд называет бессознательным, и тем, что Гегель называет духом, между изначальным и конечным, между судьбой и историей.
Позвольте мне остановиться на этом и не погружаться далее в глубины конкретной рефлексии; в разделе «Аргументация» я уже говорил: «…данная диалектика является философской основой, на которой может быть построена общая программа соперничающих друг с другом герменевтик искусства, морали и религии». Вопрос о соперничающих герменевтиках нельзя проанализировать в одном параграфе. Диалектика, которую я намереваюсь применить к рассмотрению этой проблемы, не может быть автономной по отношению к тому, что я назвал диалектикой прогрессии и регрессии, телеологии и археологии. Речь идет о применении конкретного философского метода к конкретной проблеме — конституированию символа, который я обозначил как выражение, имеющее двойственный смысл. Я применил его к символам искусства, этики и религии;
но суть этого метода не принадлежит ни рассматриваемым областям, ни их объектам; она заключается в сверх детерминированности символа, и понять ее невозможно вне предлагаемой мною диалектики рефлексии; вот почему всякая дискуссия, в которой моя двойственная интерпретация религиозных символов трактуется как изолированная тема, с необходимостью сводит ее к философии компромисса, лишенного всякого воинствующего содержания. Из этой непримиримой борьбы за смысл ничто и никто не выйдет победителем: «теплящаяся» надежда должна будет идти рядом с траурной процессией. Вот почему я останавливаюсь на пороге, за которым разыгрывается борьба интерпретаций, и, останавливаясь, предупреждаю: за пределами диалектики археологии и телеологии эти интерпретации будут безуспешно вести тяжбу друг с другом — или, противостоя друг другу, объединяться в бесплодной эклектике, которая является карикатурой на мышление.
Техническое и нетехническое в интерпретации
Существует механизм мифа, утверждает г-н Касте л ли, и этот механизм является главнейшей составляющей процесса демистификации; я задаюсь вопросом о том, в какой мере такого рода суждение соответствует психоанализу, который, как представляется, г-н Кастелли включил в свое «жизнеописание интимного» (речь идет о его замечаниях по поводу механизмов дневной и ночной жизни) [178]
Я хотел бы ответить на следующие два вопроса:
1. В каком смысле психоанализ можно считать техникой анализа ночной жизни?
2. В какой мере он разрушает традиционные представления об интимном?
I. Психоанализ как техника анализа ночной жизни
Вопрос, который нас волнует, вполне закономерен: психоанализ является техникой, одной из многочисленных техник описания современного мира; мы еще не осознали, какое место на самом деле ему принадлежит; нам еще предстоит определить это место; но несомненно одно: психоанализ— это техника; он берет начало в терапевтической деятельности, которая является ремеслом; это такое ремесло, которому обучаются, которому учат, которое имеет свою дидактику и деонтологию. Философ чувствует это собственной кожей и стремится воссоздать целостный механизм психоанализа, опираясь на иной опыт, в частности на опыт гус-серлевской феноменологии. Он, разумеется, может вплотную приблизиться к массиву психоаналитических идей и освоить его близлежащие окрестности, пользуясь понятиями феноменологической редукции, смысла и не-смысла, временности и интерсубъективности. Но существует также точка, приближаясь к которой феноменология, ищущая сближения с психоанализом, терпит поражение; в точке этой — как раз все то, что обнаруживается в самой аналитической ситуации. Как раз в сфере собственно психоана-лцтического отношения и создается образ техники. В каком смысле речь здесь идет о технике? Будем исходить из самого слова «техника»; в важном с методологической точки зрения [179] тексте Фрейд проводит различие между тремя терминами, чтобы затем неразрывно связать их; термины эти таковы: метод постижения, техника толко-jaaHHH, выработка теории. Техника берется здесь в узком смысле — как терапия, направленная на исцеление. Это слово не имеет отношения ни к искусству интерпретации, лли герменевтике, ни к объяснению механизмов, или ме-тапсихологии. Но оно необходимо нам для того, чтобы по-казать, что психоанализ от начала до конца является практикой, включающей в себя как искусство интерпретации, так и умозрительную теорию. Чтобы вопрос, заданный» г-ном Кастелли, предстал во всем его значении, я должен буду брать слово «техника» не в одном из указанных трех аспектов, а как основу и отсылку для совокупных аналитических процедур.
Для пояснения этого я введу опосредующее понятие, каким является фундаментальное понятие труда, работы; в действительности, аналитическая деятельность есть работа, которой соответствует другая работа, — работа пациента, работа осознания. В свою очередь эти два вида работы: работа аналитика и работа пациента — раскрывают психику в ее целостности как работу. Работа сновидения, работа скорби и, если хотите, работа невроза; метапсихоло-гия в целом — ее топика и ее экономика — предназначена для того, чтобы высветить с помощью энергетических метафор это направление работы.
Опираясь на данную схему, мы можем показать, что метод постижения и метапсихологическая теория суть не что иное, как два аспекта психоанализа, взятого в качестве практики.
Примем за исходный момент деятельность психоаналитика.
Почему психоанализ является работой? Фрейд всякий раз так отвечает на этот вопрос: потому что психоанализ является борьбой с противостоящими ему силами. Ключевая мысль здесь такова: сопротивление, на которое наталкивается анализ, — того же самого характера, что и сопротивление, порождающее ее невроз. Мысль о том, что анализ есть борьба с противостоящими силами, настолько важна, что именно она явилась причиной расхождения Фрейда с Брейером; если он отвергал всякую форму катарсиче-ского метода, в той или иной мере опирающегося на гипноз, то только потому, что, как наивно предполагалось, подобного рода процедура даст возможность без особого труда добраться до истоков заболевания. Более того, именно понимание возрастающей роли стратегии анализа сыграло решающую роль в корректировке аналитической практики, относящейся к 1905–1907 годам.
Так, Фрейд пишет, что аналитическое исследование ставит целью не столько воссоздание импульсной основы и восстановление того, что было утрачено, сколько описание препятствий и их устранение.
Как сказывается это на отношении между техникой и герменевтикой? Отметим две вещи: прежде всего искусство интерпретации само должно рассматриваться как часть искусства преодоления сил сопротивления; искусство интерпретации, которое Фрейд более или менее удачно сравнивает с искусством перевода и которое во всех отношениях принадлежит сфере понимания, мышления, суждения, интеллигибельности, — это искусство, рассмотренное с точки зрения аналитической операции, является всего лишь одним из интеллектуальных слоев деятельности, практики; сошлюсь здесь на чрезвычайно важную на этот счет статью 1912 года «Руководство толкованием сновидений в психоанализе». Из нее следует, что результаты, достигнутые в исчерпывающей интерпретации сновидения, могут быть использованы противоборствующими силами в качестве ловушки, в которую заманивают аналитика, чтобы затормозить ход лечения.
Вот почему Фрейд не переставал повторять: борьба с со-противлением изнурительна; больной расплачивается за нее искренностью, временем, деньгами, медик — своим ремеслом и своими нервами, если он готов в ситуации пере-всоса достойно сыграть свою роль визави, на которого обрушиваются капризы больного, а не будет уклоняться от них и проведет своего соперника по всем теснинам фрустрации.
Но подобное подчинение интерпретации (последняя по-щадается как строго интеллектуальное постижение) techne, аналитической деятельности, имеет и другой аспект, говорящий не о работе аналитика, а о работе пациента. Здесь недостаточно сообщить больному — в целях его выздоров-дэния — правильную интерпретацию, потому что, если го-ворить о больном, понимание также является одним из зве-цьев его собственной работы. Фрейд пишет в статье «О «диком» психоанализе» (1910): «Раскрытие перед больным того, чего он не знал, поскольку подверг это вытеснению, является всего лишь одним из необходимых предварительных условий лечения; если бы познание бессознательного было так же необходимо больному, как это считает непрактикующий психоаналитик, то ему было бы достаточно прослушать лекцию или прочитать ту или иную книгу.
Но подобная мера, если речь идет о невротических симптомах, оказывает такое же воздействие, какое оказывают на испытывающих голод описания всяческих яств. Данную параллель можно было бы продолжить, поскольку, сообщая больным о их бессознательных влечениях, мы постоянно провоцировали бы у них усиление конфликтов и обострение симптомов»[180]. Анализ заключается вовсе не в том, чтобы заменить незнание знанием, а в том, чтобы деятельностью по преодолению сопротивления вызвать работу сознания. Фрейд возвращается к этой проблеме в статье «Начало лечения» (1913); здесь он, говоря об истоках психоанализа, отвергает чрезвычайную значимость для него знания: «…надо было смириться и не верить больше, как это было до сих пор, в значение познания и делать акцент на сопротивлении, которому мы изначально обязаны нашим не-знанием и которое все еще готово продлевать его существование; осознанное знание не подвергается изгнанию, хотя оно и обнаруживает свою неспособность справиться с сопротивлением»[181]. Однако нередко бывает так, что сообщение какой-нибудь скороспелой и сугубо интеллектуальной интерпретации усиливает сопротивление; искусство анализа состоит в том, чтобы найти подобающее место как знанию, так и сообщению знания в этой стратегии сопротивления.
Итак, в чем же состоит работа пациента? Она начинается с применения основного правила — сообщить все, что соответствует его намерениям, хотя он и может понести от этого ущерб; это работа не просто досужая беседа; это работа, осуществляемая «лицом к лицу»; в статье «Воспоминание, повторение и проработка» Фрейд пишет: «Пациент должен найти в себе мужество, чтобы сосредоточить свое внимание на проявлениях собственного заболевания; он должен не воспринимать свою болезнь как нечто презрительное, а, напротив, относиться к ней как к чему-то достойному уважения, как к части самого себя, существование которой вполне обоснованно и из которой надлежит черпать драгоценный материал, необходимый для последующей жизни»*. Это и есть работа «лицом к лицу»; Фрейд часто повторяет: «Мы не боремся с врагом in absentia и in effigie»**[182].
Таким образом, мы приходим к следующему: существует экономическая проблема осознания, Bewusstwerden, полностью отличающая психоанализ от любой феноменологии с ее идеями о диалоге, интерсубъективности. Именно эту экономику сознания-становления Фрейд и называет Durcharbeiten, что доктор Валабрега переводит как «проработка». «Проработка препятствий может поставить перед пациентом довольно трудную практическую задачу и потребовать от психоаналитика испытания его терпения, что производит на пациентов сильнейшее воздействие и отличает аналитическую работу от всякого рода других практик силой своего внушения»***.
Мы не можем идти далее в этом направлении, не включив в данный анализ позицию Фрейда относительно переноса; мы будем говорить здесь о переносе (трансфере) лишь в рамках его отношения к понятию «работа»; в этом и заключается существо аналитической деятельности и сфера ее экономики. В статье «Начало лечения», на которую мы уже ссылались, Фрейд показывает, каким образом оперирование трансфером связано с «силами, приводимыми в движение при лечении»****. «Движущей пружиной последнего, — говорит он, — является страдание пациента, из которого вытекает его желание выздоровления»; но силы эти беспомощны: «Используя энергии, которые в любой момент готовы к перемещению, аналитическая работа приводит в действие эмоционально-аффективные свойства, необходимые для подавления сопротивления, и аналитик, оповещая в нужный момент больного, указывает ему путь, по которому он должен направить свою энергию»*****. Именно таким образом перенос начинает преобразовывать едва ощутимые энергии страдания и желания излечения. Эта связка настолько существенна, что Фрейд чуть дальше пи-
* Freud. Remémoration, répétition et élaboration. P. 111. ** Freud. Dynamique du transfert. P. 60. ***Ibid.P. 115.
**** Freud. Début du traitement. P. 103. ***** Ibid.
шет: «Название «психоанализ» применимо только к процедурам, где сила переноса используется против сопротивления»*. «Управление» переносом в высшей степени свидетельствует о техническом характере психоанализа. В статье «Воспоминание, повторение и проработка» Фрейд подробно анализирует это преимущественное свойство всякой психоаналитической деятельности: борьба с сопротивлением, управление переносом, стремление больного заменить чем-нибудь другим всплывающие вновь воспоминания. Вот почему Фрейд, обращаясь к начинающим аналитикам, в «Замечаниях о трансферной любви» (1915) говорил: «Каждый психоаналитик, конечно же, начинает с опасений перед трудностями, с которыми он столкнется, интерпретируя возникающие у пациента ассоциации и стремясь отыскать вытесненные элементы. Но он вскоре научается не так серьезно относиться к этим трудностям и убеждает себя в том, что с подлинно серьезными трудностями он сталкивается при деятельности переноса»**.
Как мне представляется, критическим моментом здесь является следующее: главное для аналитика — это проблема удовлетворения; вся его деятельность состоит в том, чтобы использовать при переносе чувство любви, не давая ему удовлетворения. Фрейду даже доводилось писать («Пути психоаналитической терапии», 1918), что данный «фундаментальный принцип», несомненно, призван управлять всей областью новой техники; об этом фундаментальном принципе он говорит следующее: «…психоаналитическая деятельность должна, насколько это возможно, протекать в условиях фрустрации, неудовлетворенности»***. Стало быть, это правило соотносится главным образом с «динамикой болезни и излечения»****. Каким образом? Здесь необходимо вернуться к экономическому значению симптомов как замещающему удовлетворению. Оставить просьбу без ответа — значит воспрепятствовать безоглядной растрате «импульсной силы, которая толкает больного к излечению»*****. Фрейд прибавляет к этому: «Сколь бы жесто-
* Freud. Début du traitement. P. 103. ** Freud. Observation sur l'amour de transfert. P. 116. *** Freud. Voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique. P. 135. **** Ibid. *****Ibid.P135—136.
ким это ни казалось, мы должны заботиться о том, чтобы страдания больного не уменьшались преждевременно; если же симптомы уничтожаются или лишаются своего смысла, мы должны вновь вызвать страдание в виде другой крайней неудовлетворенности; в противном случае мы рискуем привести больного лишь к временному, недолговечному выздоровлению… Долг врача состоит в том, чтобы энергично противостоять подобному преждевременному удовлетворению… Если же говорить об отношении больного к врачу, то больной должен постоянно испытывать желания, которые не могут получить удовлетворения»*. Я полагаю, что эти цитаты весьма прозрачны; их вполне достаточно, чтобы показать пропасть между тем, что рефлексия может извлечь из самой себя, и тем, чему может научить ремесло. В рассуждениях Фрейда о переносе без особого труда можно обнаружить расхождение между самой что ни на есть экзистенциальной феноменологией и психоанализом. Как раз отношение одной работы к другой — работы аналитика к работе пациента — и составляет специфику психоанализа, превращая его в технику.
Дозвольте закончить мои рассуждения о работе аналитика цитатой из «Гамлета», на которую Фрейд любит ссылаться: «Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назовите меня каким угодно инструментом — вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете»**[183].
«Играть на психическом инструменте…»
Мне кажется, что это выражение открывает нам фундаментальный аспект аналитической техники, а значит, соответствующая ей теория, то есть то, что Фрейд называет ме-тапсихологией, является функцией практики.
Мы все еще будем принимать в качестве руководящего понятия понятие практики; на этот раз мы обратимся к ме-тапсихологическому аппарату психоанализа. Как известно, понятие работы является центральным в «Толковании сновидений»: если сновидение можно рассматривать как «исполнение желания» (Wunscherfüllung), то именно потому, что в нем бессознательные мысли подвергаются «искаже-
* Freud. Voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique. P. 136–137. ** Freud. De la psychothérapie. P. 15.
нию». Это искажение (Entstellung) интерпретируется Фрейдом как работа; это — работа сновидения (Traum-arbeit), и все составляющие ее процедуры есть не что иное, как виды этой работы; работа сгущения (Verdichtungsarbeit), работа перемещения (Verschiebungsarbeit). Стало быть, осуществляемая в анализе работа (одновременно и аналитика, и пациента) свидетельствует о том, что функционирование психики есть также работа. Фрейдовская энергетика, несомненно, метафорична, но это такая метафоричность, которая свидетельствует о специфике метапсихологии по сравнению с любой феноменологией, идет ли речь об интенционально-сти, смысле или мотивации. Вот почему Мерло-Понти в своем содержательном введений к книге доктора Эснара «Творчество Фрейда», высказав соображения по поводу концептуального аппарата психоанализа, пишет: «По меньшей мере, энергетические, или механистические, метафоры, обладая той или иной степенью идеализации, дают нам интенсивное ощущение нашей археологии, которая является едва ли не самым ценным во фрейдизме»*. Вергот[184] говорит нечто подобное: «Фрейдовское бессознательное не может существовать вне практики». Очевидно, что в аналитической деятельности постоянно участвует психика как работа. Это замечание может до какой-то степени оправдать фрейдовскую топику: речь идет о самой ее наивной форме — о двойных записях (Niederschrift) одних и тех же представлений, существующих в двух различных «психических ло-кальностях» (так бывает, когда воспоминание осознается сугубо интеллектуально, в отвлечении от его архаической основы). Эта топография есть дискурс, плохо поддающийся объяснению с философской точки зрения; он соответствует структуре психики, понимаемой как работа; топика дает четкое представление об удаленности (Entfernung) и искаженное™ (Entstellung), которые отделяют (ent…) и делают непонятным другой дискурс, проступающий в дискурсе анализа; удаленность и искаженность «побегов» бессознательного лежат в истоке сопротивлений, которые требуют, чтобы они были признаны «Я», и это признание становится работой. Я сказал бы, что метапсихология стре-
* Hesnard. Oeuvre de Freud. P. 9.
мится учитывать упущение, работу не-знания, которая ведет к признанию как работе. Если проблема интерпретации существует, то только потому, что желание получает удовлетворение косвенным путем, путем замещения; работа, которая подразумевается, когда мы говорим работа сновидения, является действием, с помощью которого психика реализует это Ent-stellung, то есть искажение смысла, в силу чего желание становится непонятным самому себе. Любая метапсихология предстает в таком случае теоретической конструкцией, концептуальным построением, открывающим путь к пониманию психики как деятельности незнания, как техники искажения.
Теперь мы можем дополнить наше описание психоанализа, понимаемого в качестве техники. Технический объект психоанализа, если использовать язык Симондона для обнаружения того, кто отвечает на вопросы и непосредственно участвует в деятельности, — это человек в той мере, в какой он сам является средоточием процесса деформации, переноса, искажения, связанного со всеми представлениями (аффективными и репрезентативными) о своих самых застарелых желаниях — тех, которые в «Толковании сновидений» обозначаются как «не подлежащие разрушению», «вневременные», а в статье «Бессознательное» характеризуются как zeitlos, то есть «существующими вне времени»; психоанализ формируется как техника, потому что в процессе Entstellung человек ведет себя подобно механизму, подчиняясь чуждой ему инстанции, «конденсируя» и «смещая» свои мысли; если же человек ведет себя подобно механизму, то лишь с той целью, чтобы лукаво реализовать проект Wunscherfüllung[185]; тем самым психика выступает, как механизм, воздействующий сам на себя: техника маскировки, техника незнания; целью этой техники является отыска-цие утраченного архаического объекта, постоянно смещающегося и заменяемого объектами-заместителями, объектами фантазма, иллюзорными, бредовыми или идеальными. Короче говоря, в чем проявляется психическая работа, обнаруживаемая в сновидении или неврозе? Эта работа проявляется в технике, с помощью которой желание ускользает от познания; в свою очередь имманентная желанию техника приводит к такому действию, которое мы
назвали аналитической техникой. В этой сети, в этом переплетении трех форм работы (работа анализа, работа сознания, работа сновидения), «натурализм» и «техницизм» Фрейда получают свое частичное обоснование.
2. Интимное. иконоборческие тенденции в психоанализе
Теперь я затрону вопросы, поставленные г-ном Кастелли и касающиеся техники, понимаемой как высшая ступень демистификации. Согласно этому автору, любая техника исключает классическую причинность, упраздняя выбор и признавая единственной детерминирующей причиной ин-тенциональность; если дело обстоит таким образом, то остается признать только одну причинность — причинность конечную и наивысшую, то есть причинность эсхатологическую.
В каком смысле психоанализ является требованием техники, понимаемой как целостный способ поведения перед лицом мира и сакрального?
Я хотел бы подчеркнуть два момента: прежде всего я со всей силой, на какую только способен, буду настаивать на том, что психоанализ по своей глубинной сути не вписывается в данный мир техники, поскольку последняя является техникой овладения природой. В таком — строго определенном — смысле он есть, скорее, антитехника. Именно это я и хотел сказать названием настоящего раздела.
Когда я говорю, что психоанализ не является техникой овладения, я хочу тем самым подчеркнуть одну существенную деталь, а именно, что психоанализ есть техника достижения правдоподобия; его ставка — это самораспознавание, и путь его пролегает от незнания к знанию; он заимствует свою модель у греческой трагедии «Царь Эдип»; судьба Эдипа уже состоялась — убийство собственного отца и женитьба на собственной матери; но драма познания начинается задолго до этого, и она целиком состоит в познании человека, которого она уже предала проклятию: тем человеком был и я, в каком-то смысле я всегда знал о его
существовании, и в то же время ничего не знал о нем; отныне я знаю, кто я такой. Что же теперь может означать выражение «техника опознавания»? Прежде всего то, что техника эта от начала и до конца действует в сфере языка. Именно эту изначальную ситуацию полностью игнорируют те, кто — будь они психологи или психоаналитики — пытается встроить психоанализ в общую психологию бихевиористского типа[186]. Тем самым они готовят почву для включения аналитической деятельности в технику, имеющую целью приспособление индивида и являющуюся одной из ветвей техники овладения природой. В действительности психоанализ не есть наука, изучающая поведение, а поэтому он и не есть техника приспособления; поскольку же он не техника приспособления, он, если иметь в виду его судьбу и призвание, пребывает в положении критика по отношению к любым технологическим притязаниям, имеющим целью овладение природой. Целая школа американских психоаналитиков, работающих в стиле Гартмана и Ра-папорта, трудится над тем, чтобы встроить психоанализ в академическую психологию, не отдавая себе отчета в том, что все предлагаемые ими исправления и переформулировки свидетельствуют лишь о сдаче позиций. Разумеется, нужно иметь определенное мужество, чтобы сказать: психоанализ не является одной из ветвей наук о природе и поэтому его техника тем более не является той областью техники, которая нацелена на овладение природой. За такое признание приходится платить дорого: психоанализ не удовлетворяет критериям эмпирических наук; «факты», с которыми он имеет дело, не могут быть верифицированы одновременно несколькими внешними наблюдателями; «законы», формулируемые им, не могут быть «переменными величинами» («переменными величинами», независимыми от среды; «переменными величинами», зависимыми от поведения; опосредованными «переменными величинами»); бессознательное психоанализа вообще не является величиной переменной, находящейся между стимулом и ответом на него. Собственно говоря, в психоанализе нет «фактов» в том смысле, как их трактуют экспериментальные науки. Вот почему его теория не есть теория, какой, например, являются кинетическая теория газа или теория происхождения видов в биологии.
Почему? Потому что его работа, о которой речь шла в первой части нашего исследования, полностью осуществляется в сфере языка; что касается психической деятельности, с которой психоанализ имеет дело, это — деятельность искажения, протекающая в сфере смысла, на уровне текста, который может быть передан в повествовании. Для психоанализа действовать технически означает действовать на манер детектива. Его экономика неотделима от семантики. Поэтому в нем нет ни «фактов», ни наблюдения «фактов», а есть интерпретация «истории»; даже если психоанализ и оперирует наблюдаемыми извне фактами, то они выступают не в качестве таковых, а как выражение изменений смысла, возникающих в этой истории. Изменения в поведении оцениваются не как «наблюдаемые», а как «значимые» в истории желания; отсюда следует, что его собственный объект — это исключительно действия смысла (симптомы, мании, сны, иллюзии), которые эмпирическая психология может рассматривать только в качестве фрагментов поведения; для аналитика же именно поведение есть фрагмент смысла. Из этого следует, что метод психоанализа гораздо ближе к методу исторических наук, нежели наук о природе. Проблема техники интерпретации значительно ближе к проблемам, которые интересовали Шлейермахера и Дильтея, Макса Вебера, Бультмана[187], чем к бихевиористской проблематике даже в ее наиболее современной трактовке. Их необходимо согласовать — таков единственный довод, который можно выдвинуть в ответ на упреки логиков, семантиков и методологов, оспаривающих научный характер психоанализа. Необходимо оценить и пересмотреть сам этот довод; необходимо признать, что расхождение между психоанализом и бихевиоризмом изначально и абсолютно; изначально, поскольку с момента своего возникновения психоанализ идет иным путем, нежели бихевиоризм; он с самого начала имеет дело не с эмпирически наблюдаемым поведением, а с не-смыслом, который предстоит подвергнуть интерпретации; всякая попытка соединить психоанализ с эмпирической наукой и использовать ее технические процедуры, игнорирует самое существенное, а именно то, что аналитический опыт протекает в сфере языка и что внутри этой сферы он выявляет, как говорит Лакан[88], другой язык, отличный от общепри-
пятого, требующий дешифровки и опирающийся на действия смысла.
Итак, мы столкнулись с необычной техникой, если иметь в виду характер ее действия и отношение к энергиям и механизмам, свойственным экономике желания. Эта техника не похожа ни на какую другую: она получает доступ к энергиям и манипулирует ими исключительно через действие смысла, через то, что Фрейд называет «побегами» на стволе дерева, которому дало жизнь влечение. Психоанализ никогда не имеет дела с силами непосредственно, но опосредованно, через игру смысла, двойного смысла, смысла замещенного, смещенного, транспонированного. Экономика желания — да, но эта экономика действует через семантику смысла. Энергетика — да, но эта энергетика сопряжена с герменевтикой. Психоанализ имеет дело только с действием смысла и работает в поле, где это действие осуществляется.
Вероятно, можно, приступая к осмыслению психоанализа, трактовать его как не-технику, если мерить его аршином такой техники, которая непосредственно имеет дело с силами, энергиями и управляет ими. Любая техника, соответствующая психологии поведения, является в конечном итоге техникой приспособления и овладения. В психоанализе речь идет о нахождении подхода к сфере дискурса, а это совсем не приспособление; вот поэтому некоторые и спешат свести на нет дебаты по поводу психоанализа и сделать его податливым в социальном отношении. Ведь кто знает, где может найти выражение подлинный дискурс, если иметь в виду существующее положение дел, то есть идеализированный и общепринятый дискурс? Как мне представляется, психоанализ, напротив, решительно настроен на то, чтобы вынести за скобки вопрос о приспособлении, который неминуемо должен обсуждаться в других дисциплинах с позиций существующего положения дел, на основе реифицированных идеалов и ложно понятого отношения между идеализированной профессией тех, кто верит в нее, и действительной реальностью их практических отношений.
Можно возразить, что психоанализ сам себя понимает в качестве перехода от принципа удовольствия к принципу реальности. Мне кажется, что главное расхождение меж-
ду тем, что называют «адаптативной точкой зрения», и психоанализом как раз и касается принципа реальности. Реальность, о которой идет речь в психоанализе, радикальным образом отличается от соответствующих ей понятий возбудителя, или окружающей среды; реальность, о которой говорит психоанализ, — это по существу своему истина личной истррии, протекающей в конкретных обстоятельствах; реальность здесь не является, как это имеет место в психологии, стимулятором, с каким работает экспериментатор, она — истинный смысл, к которому пациент должен пробиться, идя по мрачному лабиринту фантазма; преобразование смысла фантазма — вот в чем заключается реальность. Как раз отношение к фантазму в той мере, в какой он является опорой для понимания в замкнутом пространстве аналитической речи, и составляет специфику фрейдовского понимания реальности; реальность всегда подлежит интерпретации, исходя из видения объекта влечения, объекта, который поочередно то скрывается, то выявляется этим видением. Достаточно сослаться на эпистемологическую трактовку Фрейдом нарциссизма, предложенную им в 1917 году в небольшом по объему великолепном очерке «Одна из трудностей психоанализа»; в нем он возводит нарциссизм в ранг фундаментального методологического затруднения. Именно нарциссизму, если говорить по большому счету, следует приписать наше сопротивление истине, когда она выставляет нас в качестве людей, заблудившихся в природе, лишенной этого центра самолюбования. Именно нарциссизм стал препятствием перед Коперником, когда он шел к своему открытию, благодаря которому человек перестал быть физическим центром универсума; он же препятствовал и открытию Дарвина, лишившему нас звания хозяев жизни; наконец, именно нарциссизм стал препятствием и перед самим психоанализом, когда он попытался убедить нас в том, что мы не являемся хозяевами в собственном доме; вот почему «испытание реальностью», характерное для вторичного процесса, не является процессом, который можно было бы наложить на процедуру урегулирования; его необходимо поместить в рамки аналитической ситуации; в таком контексте испытание реальностью коррелятивно Durcharbeiten, Working through, то есть, если говорить об истинном смысле, ра-
боте, которая равнозначна одной только борьбе за самопонимание, составляющей содержание трагедии Эдипа.
Второй тезис непосредственно вытекает из предшествующего: если аналитическая техника не является техникой, понимаемой как притязание на господство над природой и другими людьми, то она не участвует в процессе демистификации таким же образом, что и техника овладения ими. Г-н Кастелли прекрасно показал, что демистификация, связанная с техникой как таковой, это — ^ разоблачение; Entzauberung, Entgötterung[188] сущностным образом связаны с тем, что имеется в наличии и доступно манипуляции. Однако этим не исчерпывается работа психоанализа. Он направлен также и на «освобождение от иллюзий». А это не одно и то же; это не имеет ничего общего с прогрессом, когда речь идет о доступном манипуляции наличном, об овладении. Демистификация, свойственная психоанализу, определенным образом связана с образующей его семантикой желания. В «богах», которых он лишает трона, укрылся принцип удовольствия, и сделал он это самым затейливым образом — с помощью замещенного удовлетворения. Когда Фрейд связывает с «богами» комплекс отца, он развенчивает идола как неимоверно разросшийся образ, созданный скорее в угоду детскому утешению, нежели запрету. Я не буду возвращаться к интерпретации религии, которую Фрейд предлагает в «Тотеме и табу», в «Будущем одной иллюзии», в «Моисее и монотеистической религии» и которую я подверг разбору на коллоквиуме на тему «Герменевтика и рефлексия»*. Тогда я задался целью показать, в чем редукционистская герменевтика совпадает с герменевтикой, восстанавливающей смысл. Сегодня моя задача совсем иного рода, и она более определенна: каким образом демистификация, если она действительно истинна, соотносится с разоблачением, вытекающим из наращивания техничности как таковой? Я утверждаю, что такая демистификация отличается от всех других видов демистификации, как аналитическая техника отличается от всякой другой техники» имеющей дело с овладением. Она принадлежит сфере достоверности, а не господства. Она имеет отношение не к области владения собой, при-
* См. далее: «Герменевтика символов и философская рефлексия (1)».
родой и другими людьми, а к сфере самопознания, протекающего на фоне уловок желания. Вы, несомненно, согласитесь со мной, что подобного рода демистификация — дело благое и необходимое. Она имеет касательство к смерти религии как суеверия, которая может быть, а может и не быть равнозначной подлинной вере; понимаемая таким образом демистификация не может находиться в компетенции психоанализа.
Я вовсе не отрицаю того, что свойственное психоанализу иконоборчество никак не соотносится с иконоборчеством техник, разоблачающих господство; как раз благодаря своим социальным последствиям психоанализ входит в общую ментальность технической цивилизации. На деле психоанализ не является всего лишь специфическим опытом, осуществляемым там, где имеет место дуализм отношений; психоанализ — это событие культуры; он принадлежит общественной сфере; данное свойство обусловило его общественный характер в самом широком смысле этого слова; желание со всеми его уловками пригвождено к позорному столбу и выставлено на всеобщее обозрение; иконоборчество, таким образом, стало общественным делом. Именно это со всей справедливостью утверждает г-н Касте лли: техника ночного является борьбой за подлинно интимное. Сама эта ситуация-не лишена позитивного смысла. Фрейд отчетливо показывает это в интересном очерке 1910 года «Перспективы психоаналитической терапии»: «Психоанализ, как вы знаете, воспроизводит вытесненное удовлетворение, деформированное инстинктами, от которого необходимо освободиться всем — и мне, и другим людям. Возможность его существования основана исключительно на деформации, на обмане; но если загадка разгадана и больной принимает решение, болезненные состояния не могут более продолжаться. Трудно найти что-либо подобное в медицине; в сказках о феях речь идет о неких злых духах, злокозненные действия которых прекращаются, как только удается произнести их тайное имя»*. Перенося эти суждения с индивида на массы, Фрейд, не колеблясь, предсказывает то время, когда социальные последствия гласности сделают невозможным умолчание: «Боль-
* Freud. Perspectives d'avenir de la thérapeutique analytique. P. 31.
ные, в подобных случаях, зная, что их патологические проявления могут беспрепятственно обсуждаться всеми, будут тщательно скрывать их. Такое сокрытие, невозможное в былые времена, разрушит симптом самого заболевания. Высвечивание тайного подвергнет атаке «этиологическое равенство», из которого берет начало невроз, представив иллюзорными те преимущества, какие якобы дает заболевание, и в конце концов бестактность врача, спровоцировавшего изменение существующего хода дел, обернется в пользу, болезнь прекратится… Большое число людей, ставших жертвой конфликтов, которые они не в силах разрешить, погружаются в состояние невроза и получают таким образом, благодаря болезни, некое преимущество, хотя на долгое время становятся обременительными для других. Что станут делать эти люди, если их погружение в невроз будет приостановлено разоблачительной бестактностью психоаналитика? Они будут вынуждены стать искренними и, признав существование действующих в них влечений, в конфликтной ситуации будут держаться стойко; они будут либо бороться, либо откажутся от борьбы, а общество, ставшее терпимым благодаря психоаналитическим знаниям, будет помогать им в решении их задач»*. Я вполне отдаю себе отчет в том, что в данном тексте Фрейда речь идет о Aufklärung; но эта сфера спасения, открытая психоанализом, это социальное излечение невроза, это «учреждение социального строя, более достойного и соответствующего реальности»**, легко могут превратиться в насмеш-Ку, став новой формой иллюзии. Тем не менее я хотел бы выделить наиболее значимую часть приведенного текста и вместе с вами поразмышлять над феноменом разоблачения, являющимся его главной темой. Не может быть, чтобы отказ от неискренности и лицемерия не имел никакого значения для истины. Чем же может стать подлинный смысл подобного разоблачения?
Чем больше я думаю о том, что широкое распростране-йие психоанализа встает препятствием на пути того, что делает человека банальным, невежественным и ничтожным, тем более я убеждаюсь, что непрекращающееся раз-
* Freud. Perspectives d'avenir de la thérapeutique analytique. P. 33. ** Ibid. P. 34.
мышление над психоанализом может иметь тот же благотворный эффект, что и понимание Спинозы, которое начинается со сведения свободной воли, идей добра и зла к идеалам, как скажем мы вслед за Ницше и Фрейдом; Фрейд, как и Спиноза, начинает с отрицания кажущейся произвольности сознания, которая свидетельствует о незнании скрытых мотивов; вот почему, в отличие от Декарта и Гуссерля, начинавших с акта воздержания, выражающего свободу субъекта в отношении себя самого, психоанализ, как это было и в «Этике» Спинозы, начинает с отказа от контроля со стороны сознания, благодаря которому субъект предстает подлинным рабом самого себя. Именно исходя из этого рабства, то есть безостановочно занимаясь исследованием всесильного потока глубинных мотиваций, можно раскрыть подлинное положение сознания. Мысль об отсутствии мотивации, с которой сознание связывает свою иллюзию о владении самим собой, признается ложной; на месте абсолютно произвольного сознания вырисовывается в достаточной мере мотивированное сознание. Именно этот процесс построения иллюзий открывает, как это было и у Спинозы, новую проблематику свободы, связанной не с произволом, а с осознанной необходимостью. Мне представляется, что с помощью Фрейда и вопреки самому аналитическому опыту (практике) мы могли бы сформулировать новое понятие свободы, близкое тому, о котором говорил Спиноза. Не свободная воля, а освобождение. Такова самая радикальная возможность, какую открывает перед нами психоанализ. Какие отношения в таком случае могут быть установлены между этим процессом освобождения и человеческим миром техники? Мне кажется справедливым утверждение, что правильно понятый и глубоко прочувствованный психоанализ освобождает человека для осуществления иных проектов нежели мечта о господстве.
Каких таких проектов? Я с удовольствием указал бы на два аспекта этого освобождения: способность говорить и способность любить; но вместе с тем я хотел бы, чтобы меня правильно поняли: речь идет об одном-единствен-ном проекте.
Способность говорить. Вернемся к тому, о чем мы только что рассуждали, — к разоблачению, к высвечиванию тайного. В каком-то смысле разоблачение тайного может быть
понято в смысле простой редукции. Так, перемещая неосмотрительно и без разбору схему невроза в область идеалов, мифов, религий, мы можем утверждать: теперь-то мы уж наверняка знаем, что эти представления есть не что иное, как… Это «не что иное, как» может стать последним словом психоанализа и выражением разоблаченного сознания. Я не спорю, какая-то часть, и, может быть, самая значительная часть, работ Фрейда идет по другому пути. Но мне представляется, что здесь открывается и иная возможность, как это по меньшей мере следует из небольших работ Фрейда по искусству, таких как ««Моисей» Микел-анджело» и «Леонардо»; в них интерпретация вовсе не заключается в том, чтобы потратить все силы на отыскание смысла. Я позволю себе в данном случае противопоставить друг другу тайну и загадку; тогда я скажу: разоблачение скрытого не является разгадыванием загадки; тайное лишь в незначительной мере является продуктом работы по искажению смысла; загадка — это то, что становится явным благодаря интерпретации. Тайное — производное ложного сознания, загадка — это результат, полученный в процессе интерпретации.
Вспомним известную-интерпретацию фантазма грифа в «Леонардо». Фрейд использует ее наряду с другими биографическими деталями в качестве средства для проникновения в слой детских воспоминаний Леонардо, оторванного от родной матери и помещенного в чуждый ему мир отца. Прочитав «Леонардо», мы могли бы сказать: итак, теперь мы знаем, что скрывает в себе загадочная улыбка Джоконды. Это — не что иное, как фантасмагорическое изображение улыбки утраченной матери. Но что узнали мы, что поняли в конце этого анализа (исключительно с помощью аналогии, поскольку мы не можем подкрепить эту мысль словами самого Леонардо)? Любовь матери, ее поцелуи буквально утрачены, утрачены для всех — для нас, для Леонардо, для самой матери; улыбка Моны Лизы является эстетическим творчеством, с помощью которого, как говорит Фрейд, Леонардо одновременно «преодолел» и «сотворил» потерянный архаический объект; улыбка матери не существует, более не существует; теперь перед нами только произведение искусства; анализ не открыл нам никакой реальности, которой мы могли бы располагать, но он
обнаружил за произведением искусства игру отсылок, которые одна за другой свидетельствуют о ране, нанесенной желанию, и обнажают зияющую пустоту, возвращающую нас от неполучившего реализации фантазма ко всемогущему символу.
Способность говорить. В семантике желания необходимо отыскать влечение, ведущее к безостановочному говорению, способность выражать себя в речи и вести беседу. Разве этот проект по существу своему не является прямой противоположностью мечте о господстве? Разве не отсылает он нас к тому, что лучше всего было бы назвать не-техни-кой дискурса?
Я прекрасно понимаю, что мне могут возразить (и это возражение приведет меня к написанию второй части диптиха): Фрейд как раз и говорил на языке господства; разве не утверждает он в одной из своих последних «Новых лекций»[189], что психоанализ можно сравнить с попыткой возведения дамбы на Зейдер-Зе[190]; разве не добавляет он, имея в виду свое прежнее описание «Я» как несчастного создания, слуги трех господ: наша задача заключается в том, чтобы укрепить «Я», сделать его более независимым от «Сверх-Я» и от «Оно», превратить его в хозяина, контролирующего то, что вырвано из рук «Оно»? Однако, говоря о психоанализе и употребляя слова «контроль», «управление энергиями», не возвращаемся ли мы к идее о наличном, доступном манипуляции? Разве в конечном итоге Фрейд не стоит ближе к Фейербаху или Ницше, чем к Спинозе, когда пытается возвратить человеку его могущество? Разве мы сами не заявляем о способности говорить и способности любить?
Здесь важно понять, что психоанализ предлагает человеку единственную возможность — новую направленность его желания, способность по-новому любить. Если бы я не опасался того, что эта идея сразу может быть искажена и опошлена, я бы выразил ее следующим образом: новая способность наслаждаться. Люди еще не обладают этим даром — способностью любить и наслаждаться, которая сегодня искажена конфликтами между либидо и запретом. В конечном итоге, важнейшей проблемой, открытой психоанализом, является проблема удовлетворения, психоанализ от начала и до конца является оспариванием прин-
ципа удовольствия, уменьшающего наслаждение; все обнаруженные им симптомы являются образами замещенного удовлетворения, ответвлениями принципа удовольствия. Вместе с тем психоанализ, как и «Этика» Спинозы, стремится к переделке желания. Именно переделку желания он выдвигает в качестве условия, предваряющего любую перестройку человека — духовную, политическую, социальную.
Теперь понятно, почему психоанализ не дает никакого ответа — ни категорического, ни нормативного — и не может проникнуть в ту область (старую или новую), относительно которой мы задаемся вопросом. Его вопрошание, если так можно сказать, касается значительно более древних вещей: какие желания ведут нас к моральным проблемам? до какой степени искажается наше желание, когда мы сталкиваемся с этим вопросом?
Я готов биться об заклад, утверждая, что психоанализ делает ставку на ничейный результат в схватке между страстным сторонником технологий и их разочарованным хулителем. Он будет спрашивать себя: разве не одно и то же искажение языка и извращение наслаждения воодушевляют того и другого, пробуждая в первом инфантильные мечтания о господстве, а во втором — страх перед миром вещей, над которым он не в силах господствовать? «Тотем и табу» научили нас соотносить — с точки зрения психогенетической и онтогенетической — наше всемогущество с самыми архаическими проявлениями желания. Вот почему принцип реальности становится поручителем нашей силы, если только желание лишается своего всемогущества; одно только желание, смирившееся с собственной отставкой, может свободно располагать вещами; но последним прибежищем всемогущего желания является иллюзия собственной имморальности. Одно только желание, испытавшее то, что Фрейд называет покорностью судьбе, то есть желание переносить тяготы существования (die Schwere des Daseins zu ertragen), в состоянии, как об этом говорят поэты, свободно обращаться с вещами, существами, бла-гами цивилизации и культуры.
Что касается вопроса о чрезвычайных ситуациях, кото-рые мы попытались противопоставить технологическому всесилью, то он, может быть, принадлежит тому же кругу
разоблачений, что и неистовство техники. Кто сказал, что предложенное вопрошание само не является техникой профилактики и господства? Техникой предупреждения виновности, превращающей в ритуал повседневное существование, техникой господства небывальщины, ведущей к воображаемому разрешению чрезвычайных ситуаций.
Поэтому-то я и считаю, что психоанализ не в состоянии сказать свое слово по поводу этих вопросов, как он не в состоянии сказать ни «да», ни «нет» по поводу любого нормативного мышления. И я признателен ему за то, что он хранит молчание на этот счет; в его обязанность входила постановка предварительного вопроса: свободно или несвободно наше желание? Обоснуйте способность говорить и наслаждаться — и вы получите все остальное. Разве не можем мы сказать вслед за Августином: «Люби и делай, что хочешь»? Ведь если любовь твоя истинна, то и чувству твоему воздается по справедливости. Но так будет только на пути милосердия, а не закона.
Искусство и фрейдовская систематика
Уже само название данной работы отсылает к фрейдовской систематике. Что это означает?
В строгом смысле слова это означает анализ эстетических явлений с позиции, которую Фрейд называет «систематической точкой зрения» и которую он, как известно, противопоставляет дескриптивному, как и любому другому, так сказать, динамическому методу. В чем же состоит эта систематическая точка зрения?
Согласно выводам метапсихологии, она заключается в подчинении любого анализа двум требованиям. Во-первых, любое объяснение, сколь бы частным оно ни было, следует осмысливать, опираясь на топику инстанций: «бессознательное», «предсознательное», «сознание»; «Я», «Оно», «Сверх-Я». Представление о психическом аппарате как о серии не-анатомических локальностей отличает систематическую точку зрения от любого феноменологического описания. Здесь не место доказывать это положение, и я
выдвигаю его в качестве рабочей гипотезы, в качестве того, что требует осмысления. Во-вторых, следует определить экономическое равновесие явления, то есть установить его энергетические нагрузки, которые обнаруживают себя в виде системы сил в их динамике, конфликтах, компромиссах. Таким образом, проблема удовольствия, которая нас будет здесь занимать, есть проблема экономическая в той мере, в какой она выступает не в своем качественном, или ценностном, аспекте, а в виде реального, дифференцированного, замещенного, вымышленного и т. п. удовлетворения.
Мы сразу же увидим, каким образом использование подобной систематики ведет к созданию специфической дисциплины и в то же время высвечивает границы основанного на ней объяснения.
1. Экономика «предварительного удовольствия»
Применяя к произведениям искусства топико-экономиче-скую методологию, Фрейд преследовал несколько целей. Это давало ему, как клиницисту, отдохновение — ведь он был страстным путешественником, коллекционером и библиофилом, большим знатоком классической литературы от Софокла до Шекспира, от Гёте до современной ему поэзии, интересовался этнографией и историей религий. Фрейд использовал искусство, особенно в период изоляции в предвоенные годы, для обоснования и иллюстрирования своей доктрины — психоанализа, для пропаганды его в широких общественных кругах, далеких от науки. Для Фрейда, теоретика в области метапсихологии, это было средством искания истины и ее доказательства и, наконец, вехой на пути создания крупномасштабного философского проекта, который он никогда не упускал из виду и который скорее маскировался, нежели прояснялся в теории психоневрозов. Определенное место эстетики в этом проекте не обозначилось сразу же, хотя бы по причине его фрагментарности, о чем мы еще будем говорить, а также потому — и это следует особо подчеркнуть, — что в нем отводилась важная роль защите психоаналитической эстетики. Но если считается, что симпатии Фрейда к искусству столь же устойчи-
вы, сколь сурово его отношение к религиозной «иллюзии», и что, с другой стороны, эстетическое «наслаждение» не удовлетворяет полностью требований к правдоподобию и истине, которым бескомпромиссно служит одна только наука, то в его на первый взгляд самых бесхитростных анализах можно обнаружить движущие мотивы, которые полностью прояснятся лишь на конечной стадии, когда эстетическое наслаждение само найдет свое место между Любовью, Смертью и Необходимостью. Для Фрейда искусство — это ненавязчивая, не-невротическая форма удовлетворения вытесненного влечения. «Очарование» эстетическим творчеством возникает не в результате возвращения прежде подавленного влечения. Но как найти ему подобающее место между принципом удовольствия и принципом реальности? Вот важнейшая проблема, которая остается открытой и после написания «Очерков по прикладному психоанализу».
Что в первую очередь следует понять, так это систематический и одновременно фрагментарный характер эстетических изысканий Фрейда. Именно систематичность сообщает им фрагментарность и усиливает ее. Действительно, психоаналитическая трактовка произведений искусства не может сравниться с терапевтическим или дидактическим психоанализом по той простой причине, что она не прибегает к методу свободных ассоциаций и интерпретация отношений между медиком и пациентом не находит в ней своего места; с этой точки зрения биографические документы, которые могут подвергнуться интерпретации, не имеют такого значения как сведения, почерпнутые в ходе лечения, пусть даже неполные. Психоаналитическая интерпретация фрагментарна, поскольку она пользуется методом аналогий.
Именно таким образом Фрейд и создавал свои работы. Они в некотором роде напоминают археологические изыскания, где по отдельной детали восстанавливается облик монумента в целом. Как раз систематичность психоаналитической точки зрения и позволяет увидеть во фрагментах некое целое и дает надежду на всеобъемлющую интерпретацию произведения культуры, о чем мы будем говорить ниже. Именно этим объясняется весьма частный характер фрейдовских работ, поражающая подробность описывав-
мых в них деталей и неукоснительная строгость теории, которая соединяет эти фрагментарные анализы в огромную фреску, составленную из сновидений и неврозов. Если работы Фрейда рассматривать изолированно, то они кажутся весьма ограниченными. Так, «Остроумие» — это блестящая, но довольно осмотрительная трактовка юмора, опирающаяся на работу сновидения и совершенная в обход удовлетворения влечений. Интерпретация «Гради-вы» Йенсена не претендует на целостную теорию романа; она ставит задачей подтвердить теорию сновидений и неврозов, опираясь на вымышленную судьбу, которую непосвященный в психоанализ романист уготовил своему герою, и на психоаналитическое исцеление, к которому она приводит. «Моисей» Микеланджело анализируется в качестве произведения единственного в своем роде, и психоаналитик не предлагает никакой теории, где трактовалась бы проблема художника или художественного творчества. Что касается труда «Леонардо да Винчи. Детское воспоминание», в нем Фрейд, вопреки открывающимся возможностям, не выходит за рамки того, что обозначено в его скромном названии: детское воспоминание Леонардо да Винчи. Здесь лишь описываются некоторые особенности творческой манеры Леонардо: световые пятна на полотне, остающемся в тени, лучи света, вспышки света, которые, как увидим в дальнейшем, служат оживлению теней.
В целом же структурные аналогии кочуют из работы в работу, идет ли в них речь о сновидении или искусстве, о влечениях или судьбе художника.
Именно такой скрытый смысл мы попытаемся выявить, опираясь на некоторые фрейдовские исследования. Не придерживаясь строго хронологической последовательности, я начну с небольшой работы 1908 года «Поэт и фантазирование»*. Поступить таким образом меня побуждают две причины: во-первых, это небольшое эссе, как будто ничего особенного собою не представляющее, прекрасно иллюстрирует косвенный подход к эстетическому явлению. Поэт в нем подобен играющему ребенку: «Он создает собственный вымышленный мир, к которому относится, однако,
* Freud. Essais de psychanalyse appliquée. P. 69–81; Gesammelte Werke. T. VIII. S. 211–223.
9 — 2256
весьма серьезно; иными словами, он придает большое значение аффекту*, явно отделяя его от реальности (Wirklichkeit)*. От игры мы переходим к «фантазии», и делаем это, руководствуясь не смутной аналогией, а предположением, что между ними существует необходимая связь: человек не уходит от мира, но лишь представляет вещи, замещая их друг другом. Так, взрослый человек, вместо того, чтобы играть, предается фантазии; фантазия, взятая в ее функции замещения игры, есть сон наяву, сон средь бела дня. Тем самым мы оказываемся у истоков поэзии: в операции опосредования рождается роман, то есть произведение искусства повествовательного характера. В вымышленной истории героя Фрейд различает фигуру «Его величества «Я»**; иные формы литературного творчества, как представляется, благодаря различным переходам, непосредственно связаны с этим прототипом.
Так вырисовываются контуры того, что можно было бы назвать галлюцинацией. В этом поражающем воображение ракурсе Фрейд сближает два полюса фантастического явления — сновидение и поэзию. И сновидение, и поэзия свидетельствуют об одной и той же судьбе — судьбе человека недовольного, неудовлетворенного: «…неудовлетворенные влечения являются импульсной основой фан-тазмов (Phantasien); всякий фантазм есть исполнение желания, исправление неудовлетворяющей человека реальности»***.
Означает ли это, что нам остается лишь повторять основные положения «Толкования сновидений»? Отнюдь нет, и мы покажем это в двух небольших отступлениях. Знаменательно прежде всего то, что цепь аналогий включает в себя игру. Работа «По ту сторону принципа удовольствия» говорит о том, что уже в игре можно увидеть господствующую роль отсутствия, нехватки; но это — господство иного рода, нежели простое галлюцинаторное восполнение желания. Этап сна наяву ни в коей мере не лишен значения: фантазм со всей очевидностью несет на себе «клеймо времени» (Zeitmarke); он не есть простое выражение бессозна-
* Freud. Affektbeträge. — Gesammelte Werke. T. VII. S. 214. ** Ibid. S. 214 (фр. пер. Р. 77). *** Ibid. S. 216 (фр. пер. Р. 72).
тельного, которое, как мы уже говорили, существует «вне времени»; фантазия, в отличие от чисто бессознательного фантазма, обладает способностью интегрировать в единое целое настоящее, заключенное в актуальном впечатлении, инфантильное прошлое и будущее, которому предстоит осуществиться. Эти два слоя остаются изолированными друг от друга, как две пометки, сделанные для памяти.
С другой стороны, данное краткое исследование обладает in fine[191] большой силой внушения, ведя нас от фрагментарного анализа к систематическому. Не располагая способностью постичь глубинный динамизм творчества, мы тем не менее, вероятно, могли бы кое-что сказать об отношении между вызвавшим его к жизни удовольствием и техникой исполнения. Если сновидение есть род деятельности, то вполне естественно, что психоанализ видит в произведении искусства своего рода работу, а за структурной аналогией ищет еще более важную аналогию — функциональную. Исследование в таком случае надо ориентировать на устранение сопротивлений: наслаждаться собственными фантазмами без сомнений и стыда — такова будет наиболее общая цель произведения искусства; эта интенция имеет двойную задачу: с помощью всевозможных уловок и завес замаскировать сопутствующий сну наяву эгоизм — и очаровать публику, памятуя о том удовольствии, какое она получает от воспроизведения фантазмов поэта. «Подобное использование удовольствия, дарован-ного нам для того, чтобы мы освободились от еще более сильного удовольствия, связанного с глубинными психическими основами, мы называем первичным удовлетворением, или предварительным удовольствием»*.
Эта глобальная концепция эстетического наслаждения как детонатора, используемого для глубинных взрывов, является самой дерзкой интуицией психоаналитической эстетики в целом. Связь между техническим и гедонистическим аспектами может служить путеводной нитью в самых проникновенных исследованиях Фрейда и его школы. Она отвечает предъявляемому аналитической интерпретацией требованию простоты и связности. Вместо того, чтобы зада-
* Freud. Affektbeträge. — Gesammelte Werke. T. VII. S. 223 (фр. пер. P. 81). 9*
ваться общими вопросами о творчестве как таковом, аналитик исследует частную проблему об отношениях между чувством удовольствия и техникой исполнения произведения. Решение этой вполне законной проблемы относится к компетенции экономики желания.
2. ИНТЕРПРЕТИРОВАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Как раз в работе * Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905) Фрейд расставил несколько вполне определенных вех на пути создания экономической теории предварительного удовольствия. То, что предлагает эта блистательная, скрупулезная работа, есть не общая теория искусства, а опыт изучения вполне определенного явления — чувства удовольствия в его связи со смехом. Однако и в этих узких рамках анализ достигает необычайной глубины.
Исследуя вначале словесную технику остроумия, Witz, Фрейд обнаруживает в нем то, что свойственно работе сновидения: сгущение, смещение, контрарное представление; тем самым он подтверждает без конца постулируемую им взаимосвязь между деятельностью, в которой проявляется экономика, и риторикой, предоставляющей возможность для интерпретации. Но в то время как остроумие подтверждает лингвистическую интерпретацию деятельности сновидения, сновидение дает лишь предварительные представления об экономической теории комического и юмористического. Тем самым Фрейд продолжает Теодора Липпса73 («Komik und Humor», 1898) и одновременно превосходит его. Именно здесь и кроется загадка предварительного удовольствия. Остроумие, действительно, поддается анализу, в процессе которого верхний слой удовольствия, обнаруженный чисто технически, отделяется от лежащего в его основании глубинного удовольствия, которое с помощью игры слов — непристойных, агрессивных или циничных — выдвигается на первый план. Как раз сочленение технического удовольствия с удовольствием инстинктивным образует сердцевину фрейдовской эстетики и соединяет последнюю с экономикой влечения и удовольствия. Если мы допускаем, что удовольствие связано с ослаблением напря-
жения, то мы тем самым признаем, что удовольствие технического порядка есть удовольствие минимальное и связано оно с накоплением психической энергии, реализующейся в сгущении, смещении и т. п. Таким образом, удовольствие, полученное от того, что не имеет смысла, освобождает нас от оговорок, которые вменяет нашему мышлению логика, и ослабляет давление, оказываемое на нас научными дисциплинами. Но, несмотря на то, что это удовольствие минимально, как минимальны и накопления, какие оно выражает, оно тем не менее обладает замечательной способностью присоединяться к эротическим, агрессивным, скептическим тенденциям, усиливая их и даже выдвигая на первый план. Фрейд использует здесь теорию Фехнера[193] относительно «схождения», или аккумуляции, удовольствия и соединяет ее со схемой функционального освобождения Джексона*.
Эта связь между техническим аспектом произведения искусства и чувством удовольствия является руководящей нитью при условии, если вообще можно говорить о строгости в психоаналитической эстетике. Эстетические работы Фрейда можно разделить на блоки, исходя из того, насколько они соответствуют модели интерпретации, разработанной в «Остроумии». ««Моисей» Микеланджело» — главное произведение первой группы, «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства» — второй (мы увидим, что в «Леонардо» вводит в заблуждение как раз то, над чем нам приходится более всего задумываться, когда речь заходит о подлинно аналитическом объяснении в области искусства, равно как и в других областях).
В ««Моисее» Микеланджело» особенно восхищает то, tïfo интерпретация этого шедевра осуществляется, опираясь на интерпретацию воображения вплоть до отдельных деталей. Этот собственно аналитический метод позволяет совместить деятельность воображения и творческую деятельность, интерпретацию воображения и интерпретацию ^произведения искусства. Анализ стремится разрешить общую эстетическую проблему, скорее опираясь на единичное произведение искусства и созданные им значения, не-
* Freud. Affektbeträge. — Gesammelte Werke. T. VII. S. 53–54 (фр. пер. Р. 157–158).
жели путем объяснения в самом общем плане природы удовольствия, получаемого от восприятия произведения искусства. Эта задача осталась недоступной многим психоаналитикам. Ранее мы подробно и детально прокомментировали эту интерпретацию*.
««Моисей* Микеланджело» уже выходит за рамки прикладного психоанализа; эта работа не ограничивается подтверждением аналитического метода; она указывает на некий тип сверхдетерминации, которая яснее всего проступает в «Леонардо», несмотря на все обескураживающие неточности. Речь идет о сверхдетерминации символа, берущего начало в скульптуре, которая позволяет утверждать, что анализ не завершается объяснением, но открывает смысл во всей его полноте: «Микеланджело» больше говорит, чем умалчивает; его сверхдетерминация касается Моисея, почившего папы, Микеланджело и, может быть, самого Фрейда и его неоднозначного отношения к Моисею… Комментарий непрестанно открывает все новые возможности, и не только не разоблачает тайны, но еще больше усиливает ее. Не означает ли это, что психоанализ искусства по сути своей не имеет предела?
Обратимся к «Леонардо», Почему я выше сказал об обескураживающих моментах? Просто потому, что эта содержательная и блистательная работа породила, как это ни странно может показаться, дурной психоанализ искусства — психоанализ биографический. Но разве не спекулирует Фрейд на самом механизме эстетического творчества как такового, соотнося его, с одной стороны, с запретом, то есть с сексуальной извращенностью, а с другой — с сублимацией либидо в его научном истолковании? Разве не объясняет он тайну улыбки Моны Лизы, основываясь на зыбком фундаменте фантазма грифа, который к тому же и не был грифом?
Не утверждает ли он, что воспоминание об утраченной матери и ее горячих поцелуях транспонируются одновременно и в фантазм хвоста грифа во рту ребенка, и в гомосексуальную наклонность художника, и в загадочную улыб-
* См. выше, с. 187–189.
ку Моны Лизы? «Это была его мать, ей принадлежала таинственная улыбка, с ней он был разлучен, и она пленила его, когда он нашел эту улыбку на губах флорентийской дамы»*. Та же материнская улыбка повторилась в двух других образах — в композиции со св. Анной[194]. «Если улыбка Джоконды воскрешала живущее в глубинах его памяти воспоминание о матери, то это воспоминание прежде всего толкнуло его на прославление материнства, и он возвратил своей матери улыбку, принадлежащую знатной даме»**. И далее: «Это полотно обобщает историю его детства; детали, запечатленные на картине, объясняются самыми интимными переживаниями Леонардо»***. «Материнская фигура, более удаленная от ребенка, изображающая бабушку, по своему виду и месту, занимаемому на картине по отношению к мальчику, соответствует настоящей матери, Катерине. Блаженной улыбкой св. Анны прикрыл художник страдание, которое испытывала несчастная, когда она должна была уступить сына, как раньше уступила мужа, своей знатной сопернице»****.
Этот анализ, если следовать критериям, почерпнутым из «Остроумия», вызывает подозрение, поскольку Фрейд в нем, как представляется, идет дальше структурных ана-лргий, которые поддерживаются одним лишь рассмотрением композиционной техники, и продвигается в направлении тематики влечений, которую произведение искусства одновременно и прячет, и выставляет напоказ. Разве не та же самая претензия питает дурной психоанализ, трактующий проблему смерти, проблему литературного и художественного творчества?
Всмотримся в вещи пристальнее. Знаменательно прежде всего то, что, по существу, Фрейд говорит не о творческих способностях Леонардо, а о состоянии заторможенности, вызванном самим исследовательским духом. «Целью нашей работы было объяснить задержки в сексуальной жизни Леонардо и его художественном творчестве»*****; именно этот дефицит творческого начала находится в центре
* Freud S. Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. P. 147.
** Ibid. P. 148.
*** Ibid. P. 151.
**** Ibid. P. 154.
***** Ibid. P. 200.
внимания первой главы «Леонардо», где содержатся также показательные для Фрейда суждения об отношении между познанием и влечением. Более того, именно в этих рамках превращение, перерастание инстинкта в любознательность предстает как неизбежное следствие вытеснения, не сводимого ни к чему другому. Вытеснение, говорит Фрейд, может вести либо к запрету любознательности, которая, таким образом, разделяет судьбу сексуальности (тип невротического запрета), либо к навязчивой идее, имеющей сексуальный оттенок, когда само мышление сексуали-зируется (тип навязчивого влечения); «третий же тип, наиболее редкий, но и наиболее совершенный, благодаря особым склонностям избегает как торможения, так и навязчивого влечения к интеллектуальной деятельности; в этом случае либидо не дает себя вытеснить: оно с самого начала сублимируется в интеллектуальную любознательность, чем усиливает сам по себе уже достаточно мощный исследовательский инстинкт. Здесь нет невроза, нет подчинения изначальным комплексам, вызванным инфантильным сексуальным любопытством, и инстинкт может добровольно встать на службу интеллектуальным запросам. Но сексуальное вытеснение, опираясь на сублимированное либидо, накладывает на них свой отпечаток, чем значительно усиливает их и позволяет избежать сексуальной зависимости»*. Совершенно очевидно, что мы всего лишь описываем и классифицируем явления и что с помощью понятия сублимации делаем тайное еще более недоступным. Фрейд охотно признает это в своем заключении. Мы уже отмечали, что творческая деятельность — это своего рода обходной путь для реализации сексуальных влечений** и что именно импульсная основа высвечивается в обращении к детским воспоминаниям, усиленным встречей с флорентийской дамой: «Так, благодаря самым ранним эротическим переживаниям, празднует он победу, еще раз преодолевая задержку в своем искусстве»***. Но этим мы лишь намечаем контуры проблемы: полагая, что «художественный дар и работоспособность тесно связаны с сублимаци-
* Freud S. Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. P. 61. ** Ibid. P. 203. ***Ibid.P207.
ей, мы тем самым вынуждены признать, что и сущность художественной деятельности остается недоступной для психоанализа»*. И далее: «Если психоанализ не может объяснить, почему Леонардо является художником, то он, по меньшей мере, помогает нам понять проявление и границы его таланта»**.
Именно в этих пределах Фрейд приступает отнюдь не к ^счерпывающему описанию интересующей его проблематики, а к своего рода раскопкам, вдохновившись четырьмя-пятью загадочными явлениями, названными им археологическими останками. Как раз здесь интерпретация фантазма грифа, трактуемого в качестве археологического обломка, играет роль опоры. К тому же такая интерпретация, при отсутствии подлинного психоанализа, пользуется одной только аналогией; она достигается путем соединения симптомов, почерпнутых из разрозненных источников: из психоанализа гомосексуальности (эротическое отношение к матери, вытеснение образа матери и идентификация с ним, нарциссический выбор объекта, проецирование нарциссического объекта на объект того же пола и т. п.), из сексуальной теории отношения ребенка к материнскому соску, из мифологических параллелей (фаллос, священный гриф, о котором свидетельствует археология). «Детская фантазия о существовании пениса у матери является общим источником, из которого исходят и андро-гинная структура материнских божеств, наподобие египетской богини Мут, и «кода» грифа в детском фантазме Леонардо»***.
О каком же духовном содержании произведения искусства сообщает нам подобная интерпретация? Игнорирование духовного смысла произведения искусства в работе Фрейда «Леонардо» дает нам гораздо больше материала, чем его истолкование в ««Моисее» Микеланджело».
При первом чтении кажется, что мы разгадали улыбку Моны Лизы и увидели то, что скрывается за нею; нас «заставили увидеть» поцелуи, щедро расточаемые Леонардо разлученной с ним матерью. Но вчитаемся внимательнее
* Freud S, Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. P. 212. ** Ibid. P. 213 *** Ibid. P. 106.
в следующую фразу: «Может быть, Леонардо с помощью искусства отрекся от своего ненормально развившегося чувства, превозмог его; в сотворенных им образах блаженное слияние мужского и женского существ изображает исполнение желания, вызванного в свое время матерью»*. Эта фраза звучит так же, как и та, на которую мы обратили внимание при анализе ««Моисея» Микеланджело». Что означает «отречься» и «превозмочь»? Полотно, где воплощено детское влечение, представляет ли оно что-либо иное, кроме дублирования фантазма, выставления напоказ влечения, простого высвечивания того, что скрыто? И не является ли сама интерпретация улыбки Джоконды на полотне великого художника фантазмом, раскрытым при анализе детского воспоминания? Эти вопросы толкают нас от самонадеянного объяснения к сомнению. Анализ не ведет нас от менее известного к более известному. Материнские поцелуи, запечатленные на губах ребенка, не принадлежат реальности, из которой я мог бы исходить, и не представляют собой твердой основы для суждений о духовном содержании произведения искусства; отец, мать, отношение к ним ребенка, конфликты, первые поражения в любви — все это существует лишь на почве отсутствия означаемого; если кисть художника в улыбке Моны Лизы воссоздает улыбку матери, то можно утверждать, что воспоминание существует никак не иначе, нежели в этой улыбке Джоконды, самой по себе ирреальной, переданной одними только линиями и цветом. «Леонардо да Винчи. Воспоминания детства» — повторим название работы — это то, к чему отсылает улыбка Джоконды, но она в свою очередь существует лишь как символическое отсутствие, проступающее сквозь улыбку Моны Лизы. Потерянная как вос-поминайие, улыбка матери предстает пустотой в реальности; это та точка, где исчезают все реальные линии, где утраченное граничит с фантазмом. То, что нам более всего известно, не прояснит тайны произведения искусства; намеренное отсутствие не только не рассеивает таинственности, но лишь усиливает ее изначальный смысл.
* Freud S. Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. P. 163.
3. ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
Метапсихология как определенная доктрина сама предостерегает нас от преувеличения ее «прикладных» возможностей. Мы никогда не получим доступа к влечениям как таковым, а лишь к их психическим проявлениям, к их воспроизведению в представлениях и аффектах. Отсюда следует, что экономика зависит от дешифровки текста; баланс импульсных инвестиций проступает в хитросплетениях истолкования означающих и означаемых и их взаимодействии. Произведение искусства есть показательная форма того, что сам Фрейд называл «психическими побегами» импульсных проявлений; это, собственно говоря, искусственные побеги. Утверждая это, мы хотим подчеркнуть тем самым, что фантазм, который есть не что иное, как обозначение утраченного (анализ детского воспоминания свидетельствует именно о таком отсутствии), объявляется произведением, входящим в сокровищницу культуры; мать с её поцелуями впервые ставится в один ряд с произведениями искусства, дарованными людям для созерцания; кисть Леонардо не воспроизводит воспоминания о матери, а творит это воспоминание как произведение искусства. Именно поэтому Фрейд мог сказать, что «Леонардо с помощью искусства отрекается от своего ненормально развившегося чувства и превосходит его…»*. Произведение искусства, таким образом, является одновременно и симптомом, и излечением.
Последние размышления позволяют нам сформулировать несколько принципиальных вопросов.
1. В какой мере прав психоанализ, когда он оценивает и произведение искусства, и сновидение, исходя из одной и той же концепции экономики влечения? Если произведение искусства существует в пространстве и времени, то не потому ли, что оно обогащает культуру новыми ценностями? Психоанализ не отрицает этого, о чем свидетельствует его учение об обходных путях, какими пользуется
* Freud S. Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. P. 163.
сублимация. Но понятие сублимации указывает скорее на существование проблемы, а не на ее решение*.
2. Граница, разделяющая психоанализ и философию творчества, обнаруживается и в другой плоскости: произведение искусства имеет не только социальное значение; как великолепно показывает анализ в ««Моисее» Микелан-джело» и в «Леонардо», а также споры вокруг «Эдипа» Софокла, если эти произведения и являются произведениями искусства, то потому, что они не только выступают простыми проекциями внутренних конфликтов художников, но и намечают пути их разрешения. Сновидение ведет назад — в прошлое, в детство. Произведение искусства опережает самого художника, оно — в большей степени символ личностного единства человека и его будущего, нежели симптом, свидетельствующий о его прошлых неразрешенных конфликтах. Может быть, это противопоставление между регрессивным и прогрессивным аспектами истинно лишь в первом приближении; вероятно, его следовало бы преодолеть. Произведение искусства ведет нас по дороге новых открытий в области сублимации и символической деятельности. И не состоит ли подлинный смысл сублимации как раз в порождении новых значений через мобилизацию прежних энергий, какими обладают архаические образы? Разве не в этом направлении работает мысль Фрейда, когда он в «Леонардо» различает сублимацию запрета и сублимацию навязчивой идеи, а в «Очерке о нарциссизме» противопоставляет сублимацию вытеснению?
Однако, чтобы преодолеть противоположность между регрессией и прогрессией, нужно тщательно проанализировать ее и определить условия, при которых она сама себя упразднила бы.
3. Намерение углубить психоанализ путем сопоставления его с другими, на первый взгляд прямо противоположными точками зрения, может привести к пониманию подлинного смысла самого психоанализа и его ограниченности. Границы психоанализа не отличаются устойчиво-
* Об этом см. выше в статье «Психоанализ и развитие современной культуры». С. 169.
стью; они подвижны и постоянно расширяются. Речь идет не о межевых столбах, которые встают на нашем пути: до сих пор, и ни шагу дальше. Это — предел в кантовском понимании: он говорит не о внешней границе, а о внутреннем значении теории. Психоанализ ограничен уже тем, что сам доказывает, иными словами, самим своим решением подтверждает необходимость видеть в явлениях культуры лишь то, что поддается анализу с точки зрения экономики влечений и сопротивлений. Однако должен заметить, что благодаря этой закрытости и жесткости Фрейд мне более предпочтителен, чем Юнг[195]. Рядом с Фрейдом я знаю, где нахожусь и куда иду. У Юнга же все рискует перепутаться: психика, душа, архетипы, сакральное. Именно внутренняя ограниченность фрейдовской проблематики заставляет нас прежде всего противопоставить ей другую точку зрения, вероятно, более соответствующую формированию явлений культуры как таковых, а затем постараться отыскать в самом психоанализе основы для его преодоления. Дискуссии вокруг фрейдовского «Леонардо» дают нам возможность представить некоторые моменты подобного движения: объяснение с помощью либидо не заводит нас в тупик, а подводит к определенному порогу; предложенная Фрейдом интерпретация не раскрывает нам что-то реальное, даже если это «что-то» имеет отношение к психике человека; влечение, к которому эта интерпретация отсылает, в свою очередь также отсылает к «своему предшествующему» и открывает возможность для многочисленных символизации. Этот кладезь символов доступен пониманию, опирающемуся на иные, нежели психоаналитическая, методологии: феноменологическую, гегелевскую и даже теологическую. В семантической структуре символа необходимо увидеть основу для других подходов и возможность их сравнения с психоанализом. Сам психоаналитик, между прочим, благодаря специфике собственного учения, должен быть готов к подобной конфронтации. Не хранить на замке границы психоанализа, но найти в нем самом доводы в пользу расширения уже достигнутых пределов — вот единственное, что от него требуется. Только таким путем психоанализ сможет перейти от первых, чисто редукционистских, выводов к последующему анализу яв-
лений культуры. Задача такого анализа заключается не в том, чтобы отыскать вытесненное и найти то, что з^го вытесняет; цель его *— погрузиться в работу по производству смыслов, в результате которой от отсутствующих означаемых влечения мы будем постоянно приближаться к творениям рук человеческих, переводящих фантазмы в мир культуры и воссоздающих их в качестве реальности, имеющей эстетическую ценность.
III Герменевтика и феноменология
Жан набер об акте и знаке
В этой статье последовательно и скрупулезно анализируется одно затруднение, свойственное философии Набера, которого я едва коснулся в моем введении к его работе «Основы этики»*. Это затруднение впервые дает о себе знать во «Внутреннем опыте свободы» («L'Expérience intérieure de la liberté»), когда речь заходит о проблеме мотивов и ценностей, а в «Основах этики» оно одновременно получает и законченный вид, и самое радикальное разрешение. Это затруднение, взятое в его наиболее общем виде, касается отношений между актом, в котором сознание полагает и творит себя, и знаками, с помощью которых оно представляет себе смысл свой деятельности. Эта проблема свойственна не только мышлению Набера; она присутствует во всех философских концепциях, стремящихся подчинить объективность Идеи, Представления, Рассудка — назовите это, как хотите, — основополагающему акту сознания, который называют Волей, Желанием, Деятельностью. Когда Спиноза переходит от идеи к усилию каждого отдельного существа, направленному на то, чтобы существовать, когда Лейбниц связывает перцепцию с желанием, а Шопенгауэр — представление с волей, когда Ницше подчиняет перспективу и ценность воле к власти, а Фрейд — представление либидо, — все эти мыслители принимают важное решение, касающееся судьбы представления: оно перестает быть первичным фактом, приоритетной функцией и для психологического сознания, и для философской рефлексии; оно становится вторичной функцией усилия и желания; оно перестает быть тем, что осуществляет познание; теперь оно то, что следует познать.
* Naben J. Eléments pour une éthique. P. 10–13.
Эту проблему Набер ставит отнюдь не абстрактно и не в общих понятиях, если не считать его статьи во «Французской энциклопедии»*, когда рисует генеалогическое древо рефлексивного метода; но именно здесь ему удается раскрыть всю глубину данной проблемы; говоря о себе скорее как о последователе Мэн де Бирана[196], нежели Канта, Набер обозначает проблему, о которой мы говорим и которую будем сейчас разрабатывать, в четких и строгих терминах. В учениях, наследующих идеи Мэн де Бирана, операции действующего сознания не сводятся к тем операциям, которые управляют познанием и наукой, и рефлексивный анализ, направленный на деятельность, должен выйти из-под опеки критики познания. С помощью близких друг другу терминов во «Внутреннем опыте свободы» проводится различие между изучением «функции объективности и истины» Cogito** и рефлексией, которая должна иметь своим предметом «сознание в его продуктивной деятельности, не подлежащее определению в категориях, на которых основывается истина познания»***. Эту задачу Набер также связывает с именем Мэн де Бирана: «Мы считаем, что было бы полезно вернуться к Мэн де Бирану, поскольку этого мыслителя оценивают скорее по тому, что он намеревался осуществить в философии, а не по дословным его формулировкам. То, что Мэн де Биран намеревался выразить, так это мысль о том, что сознание само себя порождает не иначе, как в акте, и что Cogito, являющееся по существу позицией «я» в действующем сознании, не следует (по меньшей мере, когда речь идет о волютивной жизни) в целях обоснования объективности познания смешивать ни с деятельностью разума, ни с методом…»****. «Никогда еще мы не понимали так отчетливо, что можно освободить сознание от моделей, заимствованных из области представления и познания, имеющих дело с внешним миром»*****.
Именно такое освобождение и порождает проблему, которой мы сейчас заняты: ведь если конструктивные опера-
* Encyclopédie française. T. XIX: La Philosophie reflexive. P. 19.04–14 / 19,06-3.
** Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. X. *** Ibid. P. IX. ****Ibid. P. 157. ***** Ibid. P. 160.
ции истинного познания не в состоянии дать ключ к этой «продуктивности», то это означает, что судьба представления, если следовать рефлексивному методу, являет собой проблему.
* Здесь нельзя удовлетвориться предварительным решением, которое состояло бы в различении и противопоставлении таких «очагов рефлексии», как очаг истины и очаг свободы; по поводу этого действительно существует несколько высказываний Набера; однако они не имеют целью высветить радикальное конституирование сознания и существования, а направлены только на то, чтобы описать исторические пути рефлексивной философии. Более важной задачей является обоснование «солидарности» и «взаимодополнительности» между регулятивными нормами истинного познания и конститутивными операциями свободной деятельности. Это предписание ведет не к эклектике, которая объединяет Канта и Мэн де Бирана, а к философии деятельности, изучающей изнутри эту функцию объективности и истины. Именно таким включением объективного Cogito внутрь активно действующего и продуктивного сознания Набер намеревался в конечном итоге укрепить рефлексивную философию: «Без этого противовеса, — говорил он в предисловии 1924 года, — исследования, непосредственно направленные на изучение конкретных форм внутреннего опыта, не сводимых к категориям, с помощью которых мы воссоздаем природу, будут склонять философию в сторону бесплодного иррационализма»*. Знаменательно, что в статье 1957 года во «Французской энциклопедии» повторяется то же предупреждение: «Было необходимо, чтобы критическая теория знания в выражении «я мыслю» выдвинула на первый план функцию объективности и истины с целью недопущения того, чтобы исследования, непосредственно занятые конкретными формами внутреннего опыта, приводили бы к бесплодному иррационализму»**. Однако эта декларация, использующая термины, которые присутствуют в названии указанной работы Набера, скорее очерчивает контуры проблемы, чем намечает пути *ёе решения. Первое решение родилось в рамках другой
* Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. X. ** Encyclopédie française. T. XIX. P. 19.06-1.
проблемы, значительно более узкой и на первый взгляд далекой от той, о которой идет речь. Это типично классическая, почти академическая проблема, из которой вытекает важнейший вопрос об акте и знаке, это вопрос о роли мотивов в психологии воли. Известно, что во «Внутреннем опыте свободы» делается попытка осмыслить свободу в понятиях психологии причинности. «Показать, каким образом свобода, не утрачивая себя, участвует в жизни сознания и в системе вытекающих из нее психологических фактов, значительно труднее, чем различить детерминизм и индетерминизм»*.
Но автор тут же предупреждает нас: «Когда гсрорят о совпадении свободы с психологической каузальностью, то только выделяют… проблему, но не решают ее»**. Действительно, мы рискуем посвятить себя лишь изучению дуализма двух функций Cogito: функции истины, когда речь идет о детерминизме, и функции свободы, когда речь идет об активном и продуктивном сознании: именно это и происходит в учениях, вытекающих из кантианства, которые переводят в план феноменов последовательность мотивов и концентрируют все, относящееся к субъекту, в акте мышления, преследующего объективность. Все сохраняется, но ничто не приобретается, поскольку отстаиваемый таким образом субъект не является ни «я», ни личностью. Тем более ничто не приобретается, если мы ищем в свойствах определенных представлений и идей способность к деятельности; нам ничего не известно об этой психомоторной способности, и вопрос о том, является ли представление той фундаментальной реальностью, из которой следует исходить, остается открытым.
Только из акта, утверждает Набер***, и необходимо исходить, если мы хотим обнаружить в принятии решения причину, благодаря которой этот отдельный акт предстает перед размышлением в качестве эмпирической серии актов. Эта причина и есть то, что мы будем теперь называть «законом представления».
Этот закон возникает лишь при условии, если в своем движении мы идем от акта к представлению, а не наоборот.
* Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 63. ** Ibid. P. 64. *** Ibid. P. 123–155.
Если мы действительно будем верны такому ходу дела, мы должны будем изучить наброски, наметки, начальные стадии акта, не говоря уже о мотивах, предшествующих, как мы считаем, принятию решения. Эти наброски постфактум кажутся мне своего рода планом действия, включенного в представление; именно таким образом мы будем трактовать мотивы — как предшествующие представления, способные производить действие. К тому же до свершившегося акта существуют начальные, неполные, незавершенные акты, и эти незавершенные акты, если их оценивать ретроспективно, обладают своей последовательностью и связаны все друг с другом в рамках представлений. Этот осадок незавершенного акта в представление мы называем мотивом; объективированное таким образом освобождение являет собой костяк необходимости, куда мы уже не в состоянии внести дух свободы. Однако мотивы эти — всего лишь следствие каузальности сознания, точнее, ее продолжение; в каждом из них «транспонируют себя неполные акты, и в них стремится проникнуть наше сознание». Но это транспонирование — результат отступления, отхода назад нашей ответственности, которая, сосредоточиваясь в высшем акте, покидает фазу, предшествующую той, где действует закон представления.
Вся трудность в таком случае состоит в двойственной природе мотива, который, с одной стороны, «участвует в акте», с другой — «готов к тому, чтобы моментально стать элементом психологического детерминизма»*. Именно эта двойственная природа позволяет избежать не только кан-товской антиномии: ноуменальная свобода — эмпирическая каузальность, но и бергсоновской оппозиции: длительность — внешнее Я.
Разве мы сделали что-то иное, нежели просто обозначили проблему? Что это за экспрессивная способность, причудливой добродетелью которой является «обнаружение акта в представлении»?** Разумеется, мы понимаем, что акт, становясь зрелищем, легко узнается нами: исходя из мотивов, мы знаем, чего же мы хотели. Но почему это знание выступает не в качестве знания об актуальном воле-
* Naben J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 127. **Ibid. P. 129.
нии, выраженном в знаках, а как знание о волении, выведенном из инертного данного? Следует ли отсюда, что эта функция обнаружения, выявления сама ведет к отмене, к устранению каузальности, которой знаки обязаны тем, что они есть? Странное дело: акт, сам себя превращающий в собственный «комментарий»*, в текст, подлежащий расшифровке, остается одновременно и известным и неизвестным; и сознание, чтобы вновь узнать себя в собственном проявлении, должно идти в обратном направлении. Однако нет ничего более чуждого мысли Набера, чем трактор вать этот переход от акта к своему знаку, а от знака к представлению как какое-то недоразумение. Способность читать текст сознания, руководствуясь законом детерминизма, полностью совпадает с усилием достичь ясности и искренности, без которых нам не узнать, чего же мы сами хотим. Более того, без этого погружения в повествование, где нет места пропускам, наши акты были бы всего лишь мгновенными вспышками молний, не способными соткать полотна истории, а тем более образовать некую длительность. Вот почему в тот момент, когда акт постигает себя в слове, говорящем о нем, сильнее всего дает о себе знать тенденция забыть акт, вычеркнуть его из знака и устранить смысл психологической каузальности из детерминизма.
Как раз в переходе от акта к свету и к слову одновременно коренится и генезис представления, и ловушка для мотивации. Вот почему следует без конца проделывать обратный путь, который Набер называет «репризой» («reprise»), путь от представления к акту; поскольку в акте, даже едва заметном, содержится нечто большее, чем в представлении о нем как о мотиве; это возвратное движение, как кажется, всегда извлекает большее из меньшего; именно таким образом тенденции и другие силы, ведущие к волевому акту, обретают в представлении плоть; представления, в свою очередь, являются нам как модели движений, которые надлежит совершить; затем, чтобы принимать в расчет всю немотивированность «я хочу», следует придать представлениям особую весомость, иными словами, внедрить в них то, что в действительности есть всего
* Nabert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 130.
лишь признак каузальности сознания. Короче говоря, чтобы принимать во внимание движение от представления к акту, необходимо, чтобы психологический факт предстал «преодолевающим самого себя, превращающимся в элемент акта, который в определенном смысле был бы для него материей, и, таким образом, отсылающим к каузальности, которую он не содержал в себе»*. Такое движение от психологического факта, перемещенного в план представлений, к акту сознания на деле является ответным действием на утверждение о том, что представление возникает в акте: «Все происходит так, как если бы эмпирическое сознание овладевало длительностью, поддерживало себя самое, развивалось только благодаря все обновляющемуся акту не-эмпирического сознания, создающего в феномене то, благодаря чему он выражает духовную жизнь и сообщает ей движение»**.
Следуя этими двумя путями рефлексии, мы постигаем психологический детерминизм как то, что включает в себя «каузальность иного рода»***. Без учета этой связи между актом и знаком философии не остается ничего другого, как балансировать между учением об изгнанной свободе и концепцией об эмпирическом объяснении, которое одно следует закону представления.
Таким в 1924 году мыслил себе Набер сближение неэмпирического акта сознания с его эмпирическими последствиями. Это предприятие по своему значению выходило за пределы отношений между философией свободы и психологией воли; обосновывая закон представления в его двойственной природе мотива, Набер стремился представить взаимосвязанными и взаимодополнительными две функции Cogito, которые философская традиция отделила друг от друга. Но что означало данное решение? Очевидно, что требовалось выйти за пределы данной структуры мотива: преобразование мотива в представление, находящееся перед разумом, носит характер незавершенного акта,
* Naben 3. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 149. ** Ibid. *** Ibid.
мотивом которого является выражение; истинный же акт, то есть акт свершившийся, исполненный, где причинность сознания равна самой себе, есть акт, который мы не в состоянии совершить когда-либо; все наши решения в действительности являются попытками, уступающими этому полному и конкретному акту; об этой незавершенности свидетельствует само усилие; усилие на деле является не приращением акта, а его умалением; завершенный акт совершается без труда, без особых хлопот, без усилия; неравенство нас самих нам самим является нашей горькдц участью; именно в расселину между эмпирическим созйани-ем и Cogito, являющимся, благодаря действующему сознанию, по существу позицией «я»*, и проникает закон представления, а вместе с ним и уверенность в том, что все наше существование может быть понято с позиций детерминизма; в то же время свободный акт превращается в идеал самого себя и проецирует себя вовне, за пределы нас самих, в идею вневременного выбора, как это имело место у Платона и Канта; эта идея абсолютного выбора выступает контрапунктом по отношению к сокрытию в детерминистском поле представлений незавершенного акта. Рефлексивное сознание и психологическое объяснение сопутствуют друг другу не по недоразумению, а по необходимости.
Рефлексивная философия всего лишь усилила дуализм действующего сознания и объективной функции рассудка; это уже не классический дуализм действия и познания; это более тонкое раздвоение самого действующего сознания на его чистую способность полагать себя и тяжкий труд самопроизводства «с помощью психологических элементов»**; это такое раздвоение, которое делает возможным «соскальзывание акта сознания в природу и его включение в детерминизм психологической жизни»***. И это упущение, это расслабление, как кажется, является следствием незавершенности человеческого акта и его несоответствия чистой позиции сознания.
То, что мы сталкиваемся здесь с гораздо более загадочным явлением, чем изначальная проблема, из которой мы
* Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 157. **Ibid. P. 155. *** Ibid. P. 269.
исходили, подтверждают последние страницы «Внутреннего опыта свободы». Проблема психологической каузальности не является единственной, где вольно живется этому загадочному явлению. Сам рассудок, относительно которого мы признали, что в нем имеет место закон детерминизма и — более широко — норма истины, — это всего лишь один аспект разума, понимаемого как «совокупность норм»*. «Рассудок выражает разум в той мере, в какой он является тружеником на ниве объективности. Но, как говорил Мальбранш[197], наряду с отношениями величия, существуют и отношения совершенства»**. Рассудок, стало быть, является одной из спецификаций более общей функции порядка, из которого проистекают также нормы красоты и моральности.
Решение, намеченное на уровне «закона представления», то есть рассудка, само является всего лишь частным решением. Следовало бы со всей серьезностью поставить вопрос об отношении свободы и разума; «Внутренний опыт свободы» пытается сделать это, но уж слишком поспешно; по меньшей мере на тех страницах этого произведения, которые мы только что прокомментировали, это решение едва затрагивается. В самом деле, последняя глава работы 1924 года ограничивается тем, что устанавливает «взаимодополнительность» свободы и норм; и только в суждении ценности появляется мысль о «взаимообратимости» свободы и разума. Идея ценности в конце работы носит такой же смешанный характер, что и рассмотренная выше идея мотива. Ценность проступает одновременно и со стороны «объективной» нормы, и со стороны случайной связности сознания: «Разум в состоянии поставлять одни только нормы. Ценности же предлагают синтез норм и свободы. Ценность Существует только благодаря случайному соединению сознания с нормами мышления, предназначенного для без-Айчностного»***. Объективность ценностей говорит о сопротивлении норм нашему желанию; их субъективность выражает согласие, без которого ценность имела бы исключительно принудительное свойство. Этот двойственный ха-
* Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 304. ** Ibid. *** Ibid. P. 310.
рактер ценности, схожий с двойственностью мотива, дает повод для такого же раздвоения; утрата инициативы, поддерживающей ценность, также толкает сознание к отступлению перед истиной порядка; то же «смещение»* субъекта деятельности к полюсу разумеция, или разума, обеспечивает идеалу его внешнее проявление. Это «смещение» никак не является ущербом; благодаря ему я могу оценивать себя; тем не менее этот путь надо без конца расчищать, чтобы высвобождать первичную спонтанность, из которой берут начало деятельность, созерцание и гипнотическое влечение к порядку.
Непреодолимый дуализм акта и нормы свидетельствует о незавершенности теории знака в первой работе Набера. Сами выражения: «согласование», «уравновешивание»**, — свидетельствуют о том, что непреодолимый дуализм свободы и разума постоянно возобновляется: теория мотиваций «сблизила» спонтанность сознания и объективность рассудка; расширяя проблему за счет различных характеристик разума, понимаемого в качестве законодателя норм, последняя глава работы вновь возвращает нас к тем дебатам, которым, как казалось, теория мотивации положила конец. По крайней мере «Внутренний опыт свободы» четко определил направление исследований.
Таким направлением стала общая теория знака. В статье, опубликованной во «Французской энциклопедии», об этом говорится со всей определенностью: «Ведь в самом деле, во всех областях, где дух выступает в качестве творческой инстанции, рефлексия призвана к тому, чтобы отыскивать акты, которые скрыто присутствуют в продуктах деятельности и их раскрывают, как только они, обретя собственную жизнь, как бы отделяются от операций, с помощью которых были произведены: речь идет о том, чтобы высветить в продуктах деятельности внутреннее отношение между актом и значениями, в которых они объективируются. Вовсе не отрицая того, что дух в любом отношении должен прежде всего действовать, запечатлевать себя в истории и в плодотворном опыте, чтобы раскрывать свои глубинные способности, рефлексивный анализ обнаружи-
* Nähert J. L'Expérience intérieure de la liberté. P. 314. **Ibid. P. 318, 322.
вает всю свою действенность, если схватывает тот момент, когда духовный акт объективируется в знаке, который сразу же грозит обернуться против него»*.
Общая теория знака в «Духовном опыте свободы» представлена в двух планах: в плане мотива и в плане ценности. Эти два плана соответствуют двум точкам зрения, которые в то время не соотносились друг с другом: точке зрения психологического объяснения и точке зрения этической нормативности, то есть в конечном итоге — точке зрения рассудка и точке зрения разума.
В VI главе «Основ этики», озаглавленной «Осуществле-йие ценностей», делается попытка преодолеть отмеченные точки зрения и вместе с тем покончить с их внешним противостоянием друг другу. Психологическая каузальность и этическая нормативность не являются более точками зрения, созданными вне рефлексии. Более того, эпистемологический вопрос о различии очагов рефлексии преодолевается в пользу более радикальной проблематики — проб-лёйатики существования. Если различие между сознанием, которое само себя осуществляет, и сознанием, изучающим себя, существует всегда, то только потому, что само существование конституировано двойственным отношением между утверждением, которое обосновывает свое осознание и опережает его, и провалом бытия, о котором свидетельствует чувство ошибки, поражения, одиночества. «Несовпадение существования с самим собой»** является пер-аичным по отношению к множественности очагов рефлексии. Именно оно ставит в центр философии задачу присвоения изначального утверждения с помощью знаков его деятельности в мире или в истории; оно одно превращает философию в Этику в том ее могущественном и широчайшем смысле, какое этому понятию придал Спиноза, то есть в(смысле назидательной истории желания быть.
Что стало в этой этике с теорией знака, наброски которой мы дважды имели возможность обнаружить в работе 1924 года, посвященной как теории мотива, так и теории
* Encyclopédie française. T. XIX. P. 19.06-1. ** Naben J. Eléments pour une éthique. P. 77.
* Encyclc 1 ** Naben.
вались на линиях, предписанных инстинктами… Каждая из символических систем, образованных в соответствии с этими требованиями строгости, является прежде всего методом разложения реальности, какой она предстает перед непосредственным сознанием…»*.
С помощью такого двойственного понимания ценности — как объективации чистого акта и символизации естественного желания — мы располагаем возможностью пробиться к искомому нами истоку; как говорил Кант, «воображение совершает переход»**. Именно воображение несет в себе двойственную способность выражать, поскольку оно «символизирует» принцип***, верифицируя его, и поскольку оно, стремясь к строгости, возвышает желание до уровня символа. Об этом воображении следовало бы сказать, что «оно создает инструменты и материю ценности, то есть ценность как таковую»****. Именно в воображении и вкзд* коне самовоодушевления (которое есть само время) следовало бы искать причину раздвоения — чистое производство актов и их затененное существование в знаках, — которое мы анализируем в настоящей статье. Творчество возникает наподобие длительности, а по ту сторону длительности оседают (как это происходит со временем) произведения, становясь неподвижными, доступными наблюдению объектами, предназначенными для восприятия, или сущностями, которым следует подражать.
Если бы надо было выразить одним словом эту игру проявления и затенения, которая разворачивается и в мотиве, и в ценности, я бы предпочел термин «феномен».
Феномен — это проявление в «схватываемом выражении» «внутреннего действия, которое может поддерживать себя, лишь устремляясь к такому выражению»*****. Феномен — это коррелят уверенности в себе в отличие от «я-сам»; ведь мы никогда не владеем собой непосредственно, мы всякий раз не равны самим себе, поскольку, согласно выражению, взятому из «Внутреннего опыта свободы», мы производим целостный акт, если только сосредоточиваем-
* Naben J. Eléments pour une éthique. P. 96.
** Ibid. P. 97.
*** Ibid. P. 78.
**** Ibid. P. 97.
***** Ibid. P. 98.
ся иа абсолютном выборе и проецируем его в сферу идеала; нам надлежит безостановочно присваивать то, чем мы сами являемся благодаря многочисленным выражениям нашего желания быть. Поворот в сторону феномена обосновывается в таком случае самой структурой изначального утверждения как отличия чистого сознания от сознания реального и их взаимоотношения. Закон феномена — это неразрывно связанные друг с другом закон выражения и закон затенения.
Теперь понятно, почему «весь чувственно наблюдаемый лир и все сущие, с какими мы имеем дело, порой встают перед нами как тексты, подлежащие расшифровке»*. Если обратиться к другому языку, которым Набер не пользовался, но возникновению которого он содействовал, мы могли бы сказать так: поскольку рефлексия не является интуицией «я» по поводу «я», она может быть, она должна быть герменевтикой.
Хайдеггер и проблема субъекта
Сейчас важно понять значение хорошо известной критики субъект-объектного отношения, которая подразумевает от-каз от приоритета Cogito. Я специально выделяю это слово «значение»; я намереваюсь на деле показать, что этот отказ означает нечто большее, чем просто отвержение понятия ego, или «Я», как если бы эти термины лишались какого бы то ни было значения или были с необходимостью поражены фундаментальным незнанием, которым отмечены все философские учения, исходящие из картезианскогоCogito. Напротив, онтология, разрабатываемая Хайдег-гером, со всей основательностью закладывает фундамент того, что я назвал бы герменевтикой «я есть», вытекающей из отвержения Cogito, трактуемого в качестве простого эпистемологического принципа, и одновременно означивающей слой бытия, который следует, так сказать, поместить до Cogito. Имея в виду понимание этого сложного от-
« * Naben J. Eléments pour une éthique. P. 96.
ношения между Cogito и герменевтикой «я есть», я сопоставил бы эту проблематику с деструкцией истории философии, с одной стороны, и с повторением или новым начертанием онтологического проекта, который живет внутри Cogito и который был забыт в формулировке Декарта, с другой.
Этот общий тезис требует следующего порядка анализа:
1. Опираясь на введение Хайдеггера к «Бытию и времени», я направлю внимание на изначальную связь, существующую между вопросом о бытии и возникновением Dasein в вопросе самого вопрошающего. Именно эта изначальная связь делает одновременно возможными и деструкцию Cogito как первичной истины, и его перемещение в план онтологии в виде «я есть».
2. Переходя к «Неторным тропам» («Holzwege»), и главным образом к работе, озаглавленной «Время картины мира», я подвергну принципиальной критике Cogito> пытаясь показать, что речь идет не столько о критике Cogito как такового, сколько о критике метафизики, которая заключена в нем: таким образом, критика сконцентрируется на понятии существующего как Vorstellung, как «представления».
3. После обращения к темам, которые можно было бы в хайдеггеровском понимании назвать деструктивными, я попытаюсь исследовать позитивную герменевтику «я есть», которая заменяет собой Cogito, в каких бы значениях это слово «заменять» ни бралось. Этот третий пункт анализа будет опираться на §§ 9, 12 и 25 «Бытия и времени» и на все то, что в них говорится относительно «Я».
Дойдя до этого момента, мы будем вправе признать, что анализ мог бы быть не таким долгим, если бы он опирался на раннего Хайдеггера и осуществлялся бы до Kehre, до «поворота»[199]. Не станете же вы на деле утверждать, будто Kehre кладет конец этому сложному отношению к Cogitol Поэтому я попытаюсь в четвертой части показать, как своего рода импликация, циркулирующая межу Sein и Dasein, между вопросом о бытии и «Я», о чем идет речь во введении к «Бытию и Времени», продолжает господствовать в философии позднего Хайдеггера. Во всяком случае, как раз в философии языка оно уж точно господствует, чего нельзя сказать об Аналитике Dasein. Задача «приблизить бытие к языку»
воспроизводит ту же проблематику, то есть проблематику возникновения сущего, каким «я есть», в проявлении бытия как такового и с помощью этого проявления. Этот второй тип доказательства — или контрдоказательство, — которое при случае я хотел бы развить, будет обрисован только в общих чертах. Проблема в своей совокупности переносится в область хайдеггеровской философии языка. Это означает, что возникновение Dasein как такового и возникновение языка как слова — это одна и та же проблема.
I. В качестве исходной точки и в качестве руководства я возьму то, что называю изначальной связью между вопросом о бытии и возникновением Dasein как вопрошающего.
Всем известна фраза, которой открывается «Бытие и время»: «Сегодня вопрос о бытии предан забвению». Эта манера начинать изложение ясно показывает, что акцент переносится с философии, исходящей из Cogito как первоисти-ны, на философию, которая исходит из вопроса о бытии как вопроса, преданного забвению, и как того, что присутствует; в Cogito. Во всяком случае, важным моментом является то, что проблема бытия сохраняется в виде вопроса, цли, точнее, сохраняется в трактовке термина «вопрос», который отсылает к «Я». Что же это означает? Что проблема бытия сохраняется в виде вопроса и что то, что было предано забвению, — это не только бытие, но и вопрос о бьггии? Забвение касается вопроса, но это не просто педагогическое предостережение. В вопросе как таковом заключается структура, которая имеет определенные содержания, касающиеся нашей проблемы. Содержания эти двух видов.
Вопрос как таковой включает в себя отвержение приоритета позиции «я» или утверждения «я» в качестве Cogito. Здесь не следует думать, будто вопрос как вопрос включает в себя некую неуверенность или сомнение, которых мы больше не найдем в Cogito. Такое противостояние все еще носит эпистемологический характер. Возражение против картезианского Cogito заключается как раз в том, что оно изначально основано на модели достоверности, какой оно
измеряется и удовлетворяется. Таким образом, структура вопроса не определяется ни своим эпистемологическим характером, ни тем фактом, что мы задаем вопрос потому, что пребываем в состоянии неуверенности. Нет, в вопросе важно, что он руководствуется тем, о чем спрашивают, тем, принадлежащим субъекту, по поводу чего ставится вопрос: «Всякое спрашивание есть искание. Всякое искание имеет заранее свою направленность от искомого… Всякое спрашивание о… есть тем или иным способом допрашивание у…» (hat sein Befragtes)*[200]. Именно этот первый момент будет развит в качестве негативного аспекта в критике Cogito.
Но в то же время мы обнаруживаем возможность новой философии ego в том смысле, что подлинное ego конституировано самим вопросом. Под подлинным egö нет необходимости подразумевать какую бы то ни было эпистемологическую субъективность, а лишь ту субъективность, которая задает вопрос. Это ego не является более центром, поскольку вопрос о бытии и значение бытия являются забытым центром, который философии надлежит восстановить. Таким образом, в позиции ego следует видеть одновременно и забвение вопроса как вопроса, но также и рождение ego как вопрошающего. Это двойственное отношение и составляет реальный предмет настоящего исследования.
Такое ego9 содержащееся в вопросе, не полагается как некое «я-сам». Оно полагается как само бытие того сущего, для которого существует вопрошание о бытии. Обратимся к первой отсылке к Dasein в «Бытии и времени»: «Всматривание во что, понимание, схватывание, выбор, подход к чему-то суть конститутивные установки спрашивания и сами таким образом суть модусы определенного сущего, того сущего, которое мы, спрашивающие, всегда сами есть»**. Таким образом, «я» как «л есть», а не как «л мыслю», занесено в анкету; чтобы адекватным образом сформулировать вопрос о бытии, нам необходимо взвалить на себя бремя того, что существует, ein Seiendes: «Задавание этого вопроса как модуса бытия определенного сущего само сущностно
* Heidegger M. L'Etre et le Temps. Trad. Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens. Ed. Gallimard, 1964. P. 20. **Ibid. P. 22.
определено тем, о чем в нем спрошено, — бытием. Это сущее, которое мы сами всегда суть и которое среди прочего обладает бытийной возможностью спрашивания, мы терминологически схватываем как присутствие (Dasein, l'être-là)*.
!: Таким образом, противостояние Cogito становится все менее напряженным по мере того, как вопрос о Dasein обретает определенный приоритет в вопросе о бытии. Но этот йриоритет, который привел к стольким недоразумениям, и прежде всего к антропологической интерпретации «Бытия и времени», останется приоритетом оптическим, смешанным с онтологическим приоритетом вопроса о бытии. Это отношение и есть источник новой философии ego. Всем известна знаменитая формулировка, согласно которой «он-тическое отличие присутствия в том, что оно существует онтологически»**; если говорить менее загадочно, это означает: «понятность бытия сама есть бытийная определенность присутствия»***. Таким образом, мы подошли к сво-егр рода круговому отношению, которое вместе с тем не является порочным кругом. Хайдеггер пытается овладеть этой ситуацией с помощью необычных терминов: «Не «круг в. доказательстве» лежит в вопросе о смысле бытия, но, пожалуй, странная «назад- или вперед-отнесенность (Rück-pder Vorbezogenheit)» спрошенного бытия к спрашиванию как бытийному модусу сущего»****.Именно здесь и рождается субъект: вопрос о смысле бытия ведет одновременно и назад и вперед по отношению к самому вопрошанию как способу бытия возможного ego^ Я предлагаю принять это отношение в качестве путеводной нити для всего последующего анализа. В нем содержится не только оспаривание философии Cogito, но и ее восстановление в качестве онтологии, если признать, что главнейшей проблемой Декарта было — не- *я мыслю*, но «А ее/ль», как, впрочем, об этом свидетельствует продолжение размышления, где за существованием следует существование Бога и существование мира.
i * Heidegger M. L'Etre et le Temps. Trad. Rudolf Boehm et Alphonse de Wael-
hens. Ed. Gallimard, 1964. P. 22–23.
**Ibid. P. 28. *** Ibid. **** Ibid. P. 23.
И. Оспаривание Cogito является частью деструкции истории онтологии, как она представлена во введении к «Бытию и времени». В знаменитом параграфе, посвященном Декарту (§ 6), мы читаем, что утверждение Cogito sum проистекает из существенного упущения — упущения онтологии присутствия; в этом «радикальном» начинании способ бытия res cogitans, точнее, бытийный смысл «sum», остается неопределенным»*. В чем заключается это упущение? Или, точнее, какое позитивное решение имел в виду Декарт, задаваясь вопросом о значении бытия, каким обладает сущий? «Бытие и время» дает лишь частичный ответ на это: именно «абсолютная достоверность Cogito» позво^ ляет ему поставить проблему смысла бытия сущего. Теперь вопрос звучит так: в каком смысле поиски достоверности являются составной частью забвения бытия?
Этот вопрос был сформулирован Хайдеггером в 1938 году в работе «Время картины мира»[201]. Из нее мы узнаем, что Cogito не является невинным высказыванием; оно принадлежит эпохе метафизики, для которой истина была истиной сущих, что как раз и означало забвение бытия. Каким образом и в каком смысле Cogito принадлежит эпохе метафизики? Аргументация здесь весьма убедительна, и ее следовало бы рассмотреть тщательнейшим образом. Философская основа, на которой возникло Cogito9 принадлежит науке; если говорить обобщенно, это способ понимания, согласно которому «исследование доходит до сущего» (tr. fr., p. 79**) с помощью «объясняющего представления»***. Первое предположение заключается в том, что мы ставим проблему науки в терминах разыскания (suchen), которое говорит об опредмечивании сущего и помещает его непосредственно перед нами (vor-Stellung). Тогда человек, занимающийся исчислением, может быть уверен (sicher), он может достоверно знать (gewiss) сущего. Именно в этой точке совпадают друг с другом проблема достоверности и проблема представления, и здесь возникает Cogito. В метафизике Декарта впервые сущее определялось как опредмечивание
* Heidegger M. U Etre et le Temps. Trad. Rudolf Boehm et Alphonse de Wael-hens. Ed. Gallimard, 1964. P. 41.
** Heidegger M. Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege). Trad. Brokmeier, éd. Gallimard, 1962. P. 79. *** Ibid.
представления, а истина — как достоверность представления*. Однако вместе с предметностью возникает и субъективность в том смысле, что достоверное бытие предстоит позиции субъекта. Таким образом, мы имеем одновременно и позицию (la position) субъекта и пропозицию (la proposition) представления. Такова была эпоха, когда мир выступал в качестве «картины» (Bild). Попытаемся точнее оценить этот новый шаг. Мы ввели понятие субъекта; но необходимо уяснить, что это еще субъект не в качестве «я», а в качестве substratum: subjectum означает прежде всего не ego> а — если следовать греческому imoKei^evov и латинскому substratum — то, что собирает все вещи, чтобы сделать из них основу, фундамент. Это subjectum не есть еще человек и уж тем более не «я»; благодаря Декарту произошло то, что человек превратился в первичный и реальный subjectum, в первичное и реальное основание. Образовалось нечто вроде соучастия, идентификации между двумя понятиями: subjectum как основание и subjectum как «я». Субъект в качестве «я-сам» становится центром, из которого возникает сущее (das Seinde); но это оказывается возможным только потому, что мир становится Bild (образом, картиной) и предстает перед нами. «Там, где мир становится Bild у целостность сущего понимается как то, на что человек может ориентироваться и что, следовательно, он хотел бы преподнести себе, иметь перед собой, надеясь в определенном смысле представить перед собой»**. Пред став л ен-ность, неразрывно связанная с сущим, является коррелятом возникновения человека как субъекта.
Отныне сущее предстает перед человеком как то, что является предметным и чем можно располагать. В соответствии с этим анализом Cogito не является более вневременной истиной; оно принадлежит определенному времени, прежде всего тому, для которого мир выступает в качестве картины; вот почему у греков не было Cogito: человек, согласно грекам, не «наблюдает мир; скорее сущее глядит на человека, он понимался, определялся и тем самым поддерживался открывшимся сущим и наличествовал бла-
* Heidegger M'. Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege). Trad. Brokmeier, éd. Gallimard, 1962. P. 79. **Ibid. P. 81.
годаря открытию в сущем». Хайдеггер не говорит, что для греков еще не было человека; напротив, у их человека была сущность и задача: «собрать то, что раскрывается в своем раскрывании, сберечь и принять на себя его таким, каким оно раскрылось в собирании, взглянуть в глаза всему его зияющему хаосу»*. Отвлечемся от этой темы с тем, чтобы вернуться к ней в конце нашего анализа; данная тема является ключом к пониманию той связи, которая соединяет раннего Хайдеггера и Хайдеггера позднего, если иметь в виду развитие философии «Я». Сейчас же мы отметим только: Cogito не является абсолютом; оно принадлежит определенной эпохе, эпохе «мира», понимаемого как представление и как картина. Человек сам выводит себя на сцену, он сам себя полагает в качестве сцены, на которой отныне существующий должен представать, предъявлять себя, словом, делаться картиной. Претензия на господство над сущим как надо всем в техническую эпоху является всего лишь следствием (к тому же в высшей степени опасным) появления человека на сцене собственного представления. Сила этого анализа заключается в том, что он не остается на уровне Cogito, понимаемого в качестве аргумента. Мы обсуждаем не ergo, присутствующее в Cogito ergo sum; анализ уходит вглубь; он выводит на свет событие, лежащее в основании нашей культуры, точнее, событие, или свершение (Ereignis), которое являет сущее как всё. Итак, родился гуманизм, если под гуманизмом понимать «такое философское исголкование человека, когда сущее в целом интерпретируется и оценивается от человека и по человеку»**.
Теперь нам понятно, в каком смысле Cogito принадлежит метафизической традиции: субъект-объектное отношение, истолкованное как Bild, как картина, как видение, затеняет, скрывает принадлежность Dasein бытию. Оно затеняет процесс истины как обнаружение этой онтологической принадлежности. Но разве подобная критика исчерпывает любое возможное отношение аналитики присутствия к традиции Cogitol
* Heidegger M. Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege). Trad. Brokmeier, éd. Gallimard, 1962. P. 82. ** Ibid. P. 84.
Теперь необходимо хотя бы в общих чертах показать, что такая деструкция Cogito вкупе с деконструкцией эпохи, к которой оно принадлежит, является непременным условием для подлинного рассмотрения вопроса об ego.
III. Что вопрос об ego не исключается предшествующей критикой, можно показать, вернувшись в исходную точку. Dasein соотносится с самим собой. Dasein обладает характеристиками «Я». Разумеется, Dasein определяется не этой соотнесенностью с самим собой, а своим отношением к вопросу о бытии; и тем не менее именно вопрошание как вопрошание обеспечивает Dasein соотнесение с самим собой: «Это сущее, каким мы сами являемся и которое, благодаря своему бытию, обладает, наряду со всеми другими возможностями, возможностью вызывать вопросы, будет обозначено как присутствие (être-là)»* и далее: «Мы называем экзистенцией сущее, по отношению к которому присутствие являет себя так или иначе, и ничего более»**. Совпадение этих двух определений Dasein — того, кто вопрошает, и того, кто обладает бытием своего бытия как своим собственным, — становится проблемой. Я полагаю, Что идентичность этих двух определений Dasein есть не что иное, как Rückbezogenheit, ретроспективное соотношение, частью которого мы сами являемся. В §§ 9, 12 и 25 «Бытия и времени» Хайдеггер поясняет, в каком смысле Dasein включает в себя экзистенциальность. Dasein всегда понимает себя в терминах существования, то есть исходя из еврей способности быть или не быть самим собой. Здесь не стрит ссылаться на то, что именно в этом заключается экзистенциальное (existentiel) и что Хайдеггер не проявляет интереса к этой стороне дела, он озабочен экзистентным (existential)[202]; ведь экзистенциальность есть не что иное, как совокупность структур сущего, которое существует лишь благодаря возобновлению своих возможностей или их упущению; если такое-то решение можно назвать экзистенциальным, то сам факт, что мы приняли решение, можно Назвать экзистенциалом (existential) самого существования
* Heidegger M. L'Etre et le Temps. P. 22–23. ** Ibid. P. 28.
(existence). Таким образом, круг, существующий между присутствием и бытием, о котором мы говорили выше, принимает теперь форму круга между экзистенциальностыо и бытием*
Однако этот круг есть не что иное, как круг, существующий между вопрошающим и тем, по поводу чего задается вопрос. Это имеет место в любом вопрошании; существенным отличием от картезианского Cogito является то, что приоритет оптического, о котором мы уже говорили, не содержит в себе ни грана непосредственности: «Разумеется, недостаточно сказать, что присутствие оптически ближе нам или оно ближе всего нам, — истина заключается в том, что мы сами суть присутствие. Однако вопреки этому (а может быть, по причине этого) оно онтологически наиболее удалено от нас»*. Вот почему возвращение к «я есть» отсылает не только к феноменологии, в смысле интуитивной дескрипции, но и к интерпретации — и делает это как раз потому, что «я есть» предано забвению; «я есть» должно быть вновь завоевано путем раскрывающей его интерпретации. И именно потому, что то, что онтическое ближе всего к «я-сам», а онтологически наиболее удалено, «я есть» становится темой герменевтики, а не только интуитивной дескрипции. Поэтому-то возвращение к Cogito возможно, только если идти путем регрессии, исходя из «бытия в мире» и обращаясь к вопросу «тс/no» этого бытия в мире.
Однако само значение этого вопроса сокрыто. Мы читаем в"§ 25, отдельные положения которого, кстати сказать, можно было бы сравнить с психоаналитическими положениями Фрейда, что вопрос «тс/no» остается и должен оставаться вопросом. Этот вопрос представляет ту же структуру, что и вопрос о сущем. Это не то, что дано, не вещь, на которую можно было бы опереться; это то, о чем можно осведомляться. Это не позиция (про-позиция); «кто?» является вопросом для себя самого, поскольку вопрос о «Я» как «Я» изначально сокрыт; не случайно проблема «Я» возникает вместе с проблемой ons: она рождается в контексте раздумий над повседневностью, то есть над миром, где «каждый есть другая личность и личность не есть «я-
* Heidegger M. L'Etre et le Temps. P. 31.
еам»*. Эта запутанная ситуация и делает из ego вопрос, а не то, что дано: «Могло случиться, что как раз «кто» повседневного присутствия не стало бы тем, кем является «я-сам»**.
-.. Нигде так отчетливо не проявляется то, что феноменология — это особая герменевтика, поскольку нигде близость, принадлежащая оптическому плану, не является более обманчивой***. Самое время еще раз подчеркнуть: ближайшим образом «я/по» присутствия ставит не только онтологическую проблему; даже в оптическом плане эта проблема скрыто существует»****. Такая сокрытость не йвдет к скептицизму, когда встает вопрос о «Я». Напротив, «я» остается сущностной характеристикой присутствия, и в силу этого оно должно подвергнуться экзистент-ной интерпретации. Известно, что эта часть «Бытия и времени» начинается с исследования встречи с другими в условиях повседневности. Мы не будем воспроизводить этот анализ; ограничимся тем, что покажем его философское Значение: невозможно продвигаться вперед в вопрошании относительно «тс/no» вне проблемы повседневной жизни, без познания «Я» в его отношении к другим и, в конечном итоге, в его отношения к смерти. Для Хайдеггера, по меньшей мере в «Бытии и времени» (и мы увидим, что в этом состоит его принципиальное отличие от позднего Хайдеггера), подлинность «кто» достигается лишь тогда, когда мы пытаемся подойти к целостному исследованию проблемы, вплоть до проблемы «свободы к смерти». Только тогда имеет место «кто». В повседневной жизни еще нет «кто», в ней присутствует своего рода анонимное «Я» — on. Это означает, что вопрос о «Я» остается формальным до тех щ>р, пока мы не раскроем целостного диалектического отношения между подлинным и неподлинным существованием. В этом смысле вопрос «кто» — вопрос о «присутствии» — перерастает в вопрос о «способности-бытъ-самим-собои* в качестве целостности. В обращении к проблеме существования перед лицом смерти коренится ответ на во-
* Heidegger M. L'Etre et le Temps. P. 160. **Ibid. P. 146. *** Ibid. P. 55–56. **** Ibid. P. 148.
прос «кто» «присутствия». Тогда герменевтика «л есть* получает свое наивысшее значение в герменевтике конечной тотализации перед лицом смерти.
IV. Дойдя до этого момента, я хотел бы вернуться к затруднению, о котором шла речь во вступительной части. Можно сказать, что герменевтика «я есть» внутренне присуща «Бытию и времени» и что переход от раннего Хайдег-гера к позднему включает в себя ослабление и даже, быть может, исчезновение герменевтики «я есть». По правде говоря, это затруднение должно распространяться на всю проблематику «Я», подлинного и неподлинного существования и решимости перед лицом смерти. Можно также сказать, что все эти темы оставались все еще слишком экзистенциальными (existentials) и недостаточно экзистентны-ми (existentiaux), чтобы от них стоило отказываться, и что истолкование присутствия должно было быть заменено истолкованием языка поэта и языка мыслителя. Мое убеждение, напротив, заключается в том, что неразрывная связь между ранним и поздним Хайдеггером коренится главным образом в неустранимом существовании описанного выше круга: ретроспективное и предвосхищающее соотношение между бытием, о котором мы вопрошаем, и самим вопрошающим как способом бытия. Вопрос об Аналитике Dasein отступил назад, а круг не перестает существовать, но выражается он уже в новых терминах. Его действительно можно найти в центре философии языка, которая, в определенном смысле, заменяет собой Аналитику присутствия.
Те же проблемы, связанные с «Я» Dasein, снова встают в сфере языка; они относятся теперь к проблемам слова, речи, то есть к проблемам носителя бытия в языке. Слово у позднего Хайдеггера ведет непосредственно к той же проблеме, что и «Da» в Dasein, поскольку слово в своем роде и есть Da. Во «Введении в метафизику» он использует те же термины, говоря о функции слова, точнее, наименования, Nennen: «Слово, именование ставит раскрывающего себя сущего в его бытии, умеющего устоять без подпорок, и хранит его в открытости ограниченным и в постоянстве бытия»*. Таким образом, слово Nennen сохраняет то,
* Heidegger M. Introduction à la métaphysique. Trad. G. Kahn. P.U.F., 1958. P. 185–186.
что было раскрыто как таковое; именно в этом выражается Noeiv — Denken (мыслить), — где переплетаются умиротворяющее согласие и борьба против ограничений. Стало быть, именование означает место и роль человека в языке. Здесь бытие устремляется к языку и рождается конечное говорящее сущее. Образование имени свидетельствует одновременно об открытости бытия и о его ограниченности в языке. Это то, что Хайдеггер обозначает словами «устоять», «сохранить». «Сохраняя», человек уже «удерживает», прилагает усилие, начинает утаивать. Мы находимся в той точке, где становится возможным разумное господство человека над бытием, например, в науке логики; эта возможность может быть осмыслена, начиная с ее истоков, с того момента, когда язык рождается в свойственных слову удержаниях. Акт собирания, свойственный логосу, включает в себя это разграничение, в соответствии с которым бытие становится противоположным проявлению.
В этом отношении существует насилие слова. Здесь следует понять, что разграничение является аспектом проявления; разграничение делает возможной иллюзию, нашу иллюзию, согласно которой мы, как люди, «имеем» язык «Ф своем распоряжении». Отныне «присутствие» может выдавать себя за творца языка.
~ * Таким образом происходит своеобразное возвращение, йовторное явление не только Cogito, но и аналитики Dasein. Ранний Хайдеггер возвращается, повторяя себя в филосо-фии языка позднего Хайдеггера. Внезапное появление языка есть не что иное, как появление присутствия, поскольку последнее означает, что в речи бытие нацелено на слово*. Возникновение «слова» под влиянием бытия в точности повторяет возникновение «тут» в «Бытии и времени» как того, кто вопрошает о бытии.
Это совпадение настолько полное, что мы не были гото вы к нему. Понятие «Я» в «Бытии и времени» (гл. IV) требовало герменевтики я есть и сосредоточивалось в решимости быть «свободным к смерти». Точно так же положе-;HHe человека в языке может привести его к притязаниям на овладение языком с помощью логики и на вынесение приговора в суде, перед которым бытию надлежит предстать. Таким образом, возникновение «присутствия» свя-
* Richardson. De la phénoménologie à la pensée. P. 292.
зано с требованием сделать язык нашим творением. Жизнь, названная нами «свободой к смерти» в «Бытии и времени», у позднего Хайдеггера соответствует порабощенности поэта и мыслителя словом, их создавшим. В Urdichtung поэт свидетельствует о таком языке, в котором Всемогущество бытия основывает возможность существования человека и его конкретного языка. Я сказал бы, что Urdichtung заменяет собой «свободу к смерти» как ответ на проблему «тс/по» и подлинности этого «кттго». Подлинное Dasein рождается из ответа бытию; отвечая, оно сохраняет силу быть с помощью силы слова. Таково конечное значение возврата sum, «я есть» по ту сторону деструкции истории философии и деконструкции Cogito, понятого как простой эпистемологический принцип.
Итак, в заключение я скажу следующее: во-первых, деструкция Cogito как сущего, которое само себя полагает, как абсолютного субъекта прямо противоположна герменевтике «я есть», поскольку последнее конституировано своим отношением к бытию. Во-вторых, герменевтика «я есть», как она представлена в «Бытии и времени», не претерпела коренного изменения в последних работах Хайдеггера; она осталась верной той же идее «ретроспективного и предвосхищающего» соотнесения бытия с человеком. В-третьих, подобная диалектика подлинной и неподлинной жизни сообщает этой герменевтике конкретную форму. Отныне фундаментальное отличие позднего Хайдеггера от раннего будет состоять в следующем: «Я» надлежит теперь искать свою подлинность не в свободе к смерти, а в Gelassenheit[204], которое является даром поэтической жизни.
Вопрос о субъекте вызов семиологии
Нам говорят, что философии субъекта грозит исчезновение*. Допустим, что это так. Но эта философия все время подвергалась опровержению. Конкретной философии субъекта ведь никогда и не было; скорее существовали лишь
* Часть этой работы была опубликована в статье, написанной в ответ на анкету «Будущее философии» («Avenir de la philosophie»).
следующие друг за другом стили рефлексии, результат прогресса переопределения, вдохновляемого самим опровержением.
Разве Cogito Декарта не должно было быть изолировано наподобие неизменного утверждения, вечной истины, нависающей над историей. У самого Декарта Cogito было лишь моментом мышления; оно свидетельствовало о процессе и говорило о его связности; оно соответствовало видению мира, где вся предметность предстает как зрелище под его суверенным взглядом*. Cogito Декарта есть, главным образом, лишь одна из вершин — пусть даже высочайшая — в цепи Cogito, образующей рефлексивную традицию. В этой цепи, в этой традиции каждое из выражений Cogito перетолковывает предшествующее ему Cogito. Так можно говорить о сократовском Cogito («заботься о своей душе»), об августиновском Cogito («внутренний» человек на грани между «внешними» вещами и «высшими» истинами), само собой разумеется, о картезианском Cogito, о кантовском Cogito («я мыслю» должно сопровождать все мой представления»). Фихтевское «Я», несомненно, является самым значительным моментом в современной рефлексивной философии: как отметил Ж. Набер, нет такой рефлексивной философии, которая не пыталась бы перетолковать Декарта сквозь призму Канта и Фихте. И «эголо-гия», которую Гуссерль попытался привить к феноменологии, является одной из таких попыток.
Итак, все эти философии, наподобие сократовского Cogito, являются ответом на вызов софистики, эмпиризма или, p другом отношении, догматизма идеи, ссылок на истину без субъекта. Самим этим вызовом рефлексивная философия побуждается отнюдь не к тому, чтобы поддерживать и сохранять собственную идентичность, отражая атаки противника, а к тому, чтобы, используя его, вступить в брачный союз с тем, кто ее более всего оспаривает.
Мы рассмотрим два ее ниспровергающих действия — психоаналитическое и структуралистское, — которым и дадим: это название: вызов семиологии. Общим для них является обращение к знаку, что ставит под вопрос любое на-
*См. выше, главу «Хайдеггер и проблема субъекта».
мерение, или претензию, обосновывать рефлексию о субъекте на нем самом, и позицию субъекта по отношению к себе — с помощью изначального фундаментального и основополагающего акта.
1. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА
Психоанализ достоин того, чтобы именно о нем мы поговорили в первую очередь. Психоанализ отвергает как раз то, в чем, как полагал Декарт, он обрел твердую почву достоверности. Фрейд углубился еще ниже под действия смысла, образующие область сознания, и вывел на всеобщее обозрение игру фантазий и иллюзий, за которыми скрывается наше желание.
Оспаривание приоритета сознания, по правде говоря, идет еще дальше: психоаналитическое объяснение, известное под именем топики, состоит в том, чтобы отыскать поле, место, или, скорее, совокупность мест, не опирающихся на внутреннее представление субъекта. Эти «места» — бессознательное, пред-сознательное, сознание — ни в коем случае не определяются дескриптивными, феноменологическими, средствами; они определяются в качестве систем, то есть совокупностей представлений и аффектов, подчиняющихся специфическим закономерностям, необходимо вступающих во взаимодействия, не сводимые ни к какому свойству сознания, ни к какой детерминации «жизненным».
Таким образом, объяснение начинается с вынесения за скобки всего того, что имеет отношение к сознанию. Это некая анти-феноменология, требующая не сведения к сознанию, а избавления от сознания.
Такое предварительное отграничение является условием всех фрейдовских анализов, касающихся описания «жизни» сознания.
Чем вызвано это требование? Тем обстоятельством, что интеллигибельность действий смысла, поставляемых непосредственным сознанием: сновидениями, симптомами, фан-тазмами, фольклором, мифами, идолами — не может быть достигнута на том же уровне дискурса, что и сами эти действия смысла. Однако такая интеллигибельность недоступ-
на сознанию, поскольку оно отделено от уровня, где происходит конституирование смысла, барьером вытесненного. Мысль о том, что сознание отрезано от своего собственного смысла препятствием, которым оно не то что не управляет, но о котором оно и не осведомлено, является ключом к фрейдовской топике: динамика вытесненного, ставящая систему бессознательного вне границ досягаемости, требует техники интерпретации, специально приспособленной к искажениям и перемещениям, которые весьма наглядно иллюстрируют сновидения и неврозы.
Отсюда следует, что само сознание является всего лишь симптомом; стало быть, оно представляет собой систему в ряду других систем, то есть перцептивную систему, регулирующую наше отношение к реальности; разумеется, сознание не есть «ничто» (к этому мы в дальнейшем вернемся); по меньшей мере оно является местом всех действий смысла, которые могут быть подвергнуты анализу; но оно не является ни принципом, ни судьей, ни мерой всех вещей; именно такое возражение выдвигается против философии Cogito. Дальше мы покажем, какие преобразования ему предстоят сверху донизу.
Прежде чем рассмотреть отдельные моменты этой мучительной ревизии, обратимся к другой серии понятий, которые еще раз подчеркивают расхождение между психоанализом и философиями субъекта. Как известно, Фрейд пришел к противопоставлению вторичной топики — «Я», «Оно», «Сверх-Я» — топике первичной: бессознательное, пред-сознательное, сознание. По правде говоря, речь идет не о топике в строгом смысле — как последовательности «мест», в которые вписываются представления и аффекты в соответствии с их позициями по отношению к вытесненному. Речь скорее идет о серии «ролей», образующих учение о личности, персонологию; некоторые роли образуют изначальный слой: нейтральное, или без личностное, личностное, сверх-личностное. Фрейд приходит к этому новому распределению инстанций, исходя из следующего положения: бессознательное является не только «глубинной» частью «Я», но и «высшей» его частью. Иными словами, бессознательное несет в себе не только характер вытесненного, но и характер весьма сложных процессов, с помощью которых мы интериоризуем императивы и правила,
берущие начало в социальном мире, и прежде всего в инстанции родства, этого первоистока запрета, действующего в годы младенчества и детства.
Фрейд интуитивно уловил этот механизм, изучая патологическое его разрастание в случаях навязчивого невроза и особенно меланхолии; последняя наглядно показывает, каким образом утраченный объект может быть интери-оризован: субъект-объектное инвестирование заменяется идентификацией, то есть восстановлением объекта внутри «Я»; отсюда проистекает мысль об искажении «Я» путем идентификации с утраченными объектами. Этот процесс и сопровождающая его десексуализация являются ключом к пониманию любой «сублимации». Фрейд полагал, что он нашел эквивалент (а в конечном итоге, и механизм) в случае с преодолением Эдипова комплекса; игра сил, которая сталкивает трех персонажей — представителей двух полов, — в нормальной ситуации разрешается идентификацией с отцом, приходящей на смену желания вытеснить его; за разрушением стоит желание в его субъект-объектной форме; родственные фигуры, интериоризованные и сублимированные, отменяются как термины желания: так происходит идентификация с отцом и матерью как с идеалами.
Фрейд на самом деле исходит из генеалогии морали, понимаемой в квазиницшеанском смысле, генеалогии, где «Сверх-Я» призвано «наследовать Эдипов комплекс», быть «выражением самых значительных превращений» (Schicksale) «Оно»; речь идет о генеалогии морали в том смысле, что этот процесс, оставаясь импульсивным с точки зрения энергий, вовлеченных в работу, которую можно сравнить с нагнетанием скорби, тем не менее порождает «идеалы» благодаря замещению либидинозной цели социально приемлемой целью. Такое замещение либидинозной цели идеалом является ключом к пониманию сублимации, дающей начало изживанию Эдипова комплекса. Благодаря этой работе — этой интроекции, этой идентификации — слой «идеалов-Я» свешивается со структурой личности и становится внутренней инстанцией, называемой «Сверх-Я», которая надзирает, судит, управляет. Вокруг этого первичного очага «Сверх-Я» и «идеала-Я» оседают, как бы выпадают в осадок все идентификации, проистекающие из струк-
туры власти, моделей, форм культуры, — идентификации, которые у Гегеля выступали под названием «объективный дух»; таким образом, путем выпадения в осадок формируется моральное «сознание» и «культурная» инстанция личности вообще.
Очевидно, что бессознательное «верхнего» слоя в той же мере несводимо к самоконституированию ego Cogito в его картезианском понимании, как и бессознательное «нижнего» слоя, которое получило имя «Оно», чтобы лишний раз подчеркнуть его силу и чуждость по отношению к инстанции «Я».
Таким образом, Фрейд к понятию сознания, трактуемого как одно из мест его топики, присоединяет понятие «Я» как силы, испытывающей воздействие более властного хозяина, который господствуют над ним. В итоге вопрос о субъекте становится двусоставным: сознание связано с задачей бдительного и активного восприятия, понимания, подчиненного реальности и управляемого ею; «Я» обречено господствовать и управлять силами, которые прежде его подавляли: очерк Фрейда «Я и Оно» заканчивается мрачным описанием того, каким образом можно облегчить судьбу ego, и это напоминает участь слуги, чьи хозяева оспаривают друг у друга свои притязания на него: «Сверх-Я», «Оно» и «Реальность». Задача слуги подобна задаче дипломата, вынужденного постоянно лавировать, чтобы уменьшить оказываемое на него давление. Таким образом» становление субъекта обретает черты двулико-сти: становление сознанием и становление «Я», то есть становление неусыпным стражем у существующим на грани между принципом удовольствия и принципом Реальности, с одной стороны, и становление хозяином, пребывающим там, где скрещиваются силы, — с другой. Победа принципа Реальности и принципа «Я» — это одно и то же, несмотря на то, что психоанализ различает эти две проблемы, соответствующие двум различным слоям — слою трех «мест» и слою трех «ролей». Фрейд дал объяснение по поводу этого наслаивания двух триад в «Новых лекциях»[205]; он сравнивает их с тремя группами людей, разместившимися в трех районах таким образом, что географичеки первые не имели общего пространства со вторыми. Несовладение двух отдельных частей позволяет различать две
проблематики: одну — соответствующую решению проблемы восприятия и реальности', другую — соответствующую разрешению проблемы облегчения участи и господства; первая — это кантовская проблема, проблема критики объективности; вторая — гегелевская проблема, проблема диалектики господина и раба; достижение объективности, как и у Гегеля, остается абстрактным моментом, достижением суждения-решения (Urteil), достижением разумения, отделяющим (teilen) фантазию от реальности; конкретный момент — это момент взаимного признания, осуществляемого в конце борьбы, которая научает господина как носителя мышления, как субъекта свободного выбора и наслаждения понимать себя через призму рабского труда; в конечном итоге, этот обмен ролями, через который каждый приходит к другому, уравнивает сознания. Почти что гегелевское решение предлагает Фрейд в своем известном изречении: Wo es war, soll ich werden, «Где было «Оно», там должно стать «Я»».
Это краткое напоминание о принципиальных моментах фрейдовского учения о субъекте дает основание говорить о том, что психоанализ ни в коей мере не устраняет сознания и «Я»; он не замещает субъект, а смещает его. Мы видели, что сознание и «Я» продолжают фигурировать среди мест и ролей, совокупность которых образует человеческий субъект. Смещение проблематики заключается в том, что ни сознание, ни «Я» не выступают более в роли принципа или истока. Какого рода переформулировки выражают это смещение?
Возьмем за исходное последний момент предшествующего изложения: «где было «Оно», там должно стать «Я»». Этот вывод присоединяется к предыдущему замечанию относительно сознания: Фрейд, говорили мы, заменяет бытие сознания (Bewusst'sein) становлением сознания (Bewusst-werden). To, что было истоком, становится задачей или целью. Это следует понимать вполне конкретно: психоанализ не выдвигает никакого другого терапевтического требования, кроме расширения области сознания, наделения «Я» чуть большей силой, подчиненной трем своим могущественным господам. Такая трактовка сознания и «Я» как задачи и как господства продолжает связывать психоанализ с позицией Cogito. Однако Cogito, прошедшее через критическое испытание психоанализом, не является уже тем Cogito, какого требовала наивная дофрейдовская философия. До Фрейда путали два момента: момент аподиктичности и момент адекватности. В соответствии с моментом аподиктичности «я мыслю — я есть» действительно входило составной частью в сомнение, даже было моментом заблуждения, моментом иллюзии: если злой гений вводит меня в заблуждение относительно того, в чем я абсолютно уверен, необходимо, чтобы мыслящее «я» существовало. Но этот момент неодолимой аподиктичности стремится соединиться с моментом адекватности, в соответствии с которым «я» предстаю таким, каким сам себя воспринимаю. Тетическое суждение, если воспользоваться выражением Фихте, то есть абсолютная позиция существования, смешивается с суждением перцепции, с восприятием моего такого-то бытия. Вбивая клин, психоанализ отделяет аподиктичность абсолютной позиции существования от адекватности суждения, направленного на такое-то бытие. Я есть, но каков я тот, который есть? Вот этого-то я больше и не знаю. Иными словами, рефлексия утратила уверенность сознания. То, что я есть, столь же проблематично, как аподиктично то, что я есть.
Такой результат могла бы предвидеть трансцендентальная философия кантовского или гуссерлевского типа. Эмпирический характер сознания оставляет место тем же заблуждениям и иллюзиям, что и восприятие мира. У Гуссерля в-§§ 7 и 9 «Картезианских размышлений» мы найдем теоретическое подтверждение этого расхождения между достоверным характером Cogito и сомнительным характером сознания. Смысл того, что я есть, не дан, он сокрыт; он даже может оставаться нескончаемо проблематичным, юак вопрос без ответа. Но философ знает это только абстрактно. Психоанализ же считает, что теоретическое зна-яие о чем-то есть ничто, как и то, что структура предлежащих ему желаний ни в коей мере не изменяется под его воздействием. Вот почему рефлексивный философ не в состоянии преодолеть абстрактные и негативные формулировки, такие, как: аподиктичность не является непосредственностью. Рефлексия не является интроспекцией. Философия субъекта не является психологией сознания. Все эти утверждения истинны, но лишены жизни.
Только размышление над психоанализом, при всей его возможной неэффективности, позволяет преодолеть эти абстракции и достичь конкретной критики Cogito. Я сказал бы, что такая конкретная критика имеет намерение подвергнуть деконструкции ложное Cogito, приступить к работе на руинах его идолов и тем самым положить начало тому процессу, который можно сравнить с разрушением ли-бидинозного объекта. Субъект является прежде всего наследником самовлюбленности, глубинная структура которой аналогична структуре либидо. Существует либидо-Я, родственное либидо-объекту. Это нарциссизм, который призван заполнить собой абсолютно формальную истину «я мыслю — я есть», но наполнить иллюзорной конкретикой. Именно нарциссизм приводит к смешению рефлексивного Cogito и непосредственного сознания и заставляет меня верить в то, что я таков, каким сам себе себя представляю. Но если субъект — это не тот, относительно косо я думаю, что он есть, тогда надо утратить сознание, чтобы отыскать субъект.
Таким образом, я могу рефлексивно осознать необходимость такого отступления от сознания и присоединиться к фрейдовской философии (я сказал бы, к анти-феноме-нологии) субъекта. На деле именно необходимость этого обесценивания любого непосредственного сознания стоит за наиболее реалистическими, наиболее натуралистическими, наиболее «вещистскими» понятиями фрейдовской теории; сравнение психики с механизмом, с изначальным функционированием, подчиненным принципу удовольствия, топическая концепция психических «локальностей», экономическая концепция инвестирования и дезинвестирования и т. п. — все эти теоретические построения обнаруживают одну и ту же стратегию и направлены против иллюзорного Cogito, которое с самого начала заняло место основополагающего акта: я мыслю — я есть; идущее по этому пути прочтение Фрейда само превращается в одиссею рефлексии. В конце этой одиссеи перед нами уязвленное Cogito, Cogito, которое полагает себя, но не владеет собой; Cogito, которое понимает свою изначальную истину, только признавая неадекватность, иллюзорность, ложность непосредственного сознания и только в процессе этого признания.
Разве философия субъекта получает от психоанализа какой-либо иной урок, кроме этого критического очищения? Идея укорененности субъективного существования в яселании представляется позитивным содержанием пси-хоанализа, обратной стороной негативной задачи по деконструкции ложного Cogito. Мерло-Понти предложил называть археологией субъекта эту импульсную укорененность.
Данный аспект фрейдизма ничуть не менее значим, чем тот, который мы рассмотрели выше: разоблачение претензий и идолов сознания есть всего лишь оборотная сторона одного открытия — открытия «экономики», о которой Фрейд говорил, что она более основательна, чем «топика». Именно из «экономики» выводятся временные аспекты желания или, скорее, выявляется отсутствие у него отношения к временному порядку реальности. «Вневременной» характер бессознательного желания, его существование «вне времени» является, как известно, одной из отличительных характеристик les в его отношении к системе Cs. Именно оно управляет первобытной стороной нашего импульсного существования. Именно благодаря ему возникают аффективные задержки, которые психоанализ находит в неврозе и во всякого рода фантазиях, начиная со сновидений и кончая идолами и иллюзиями. Тот же архаический характер желания просвечивает в этическом плане (чувство виновности), в религиозном плане (боязнь наказания и детская потребность в утешении).
Тезис о предшествовании желания, о его архаике является фундаментальным при переформулировании Cogito. Фрейд, так же как Аристотель, Спиноза, Лейбниц и Гегель, когда речь идет о желании, делает акцент на акте существования. До того, как субъект сознательно и волевым усилием полагает себя, он уже присутствует в бытии на импульсном уровне. Это предшествование импульса по отношению к осознанию и волевому усилию означает предшествование плана оптического плану рефлексивному, приоритет «я есть» по отношению к «я мыслю». Это говорит в пользу менее идеалистической и более онтологической интерпретации Cogito; чистый акт Cogito, поскольку оно само себя полагает абсолютно, есть всего лишь абстрактная и бессодержательная истина, одновременно и
бесспорная и неустранимая. Ее остается только подвергнуть осмыслению, исходя из тотальности мира знаков и их перетолкования. Длинный путь есть путь прозрения. Таким образом, аподиктичность Cogito и его неустранимо сомнительный характер должны быть тесно увязаны друг с другом. Cogito является одновременно неоспоримой достоверностью того, что я есть, и открытым вопрошанием относительно того, кто я есть.
Итак, я скажу, что философская функция фрейдизма заключается, в установлении интервала между аподиктично-стью абстрактного Cogito и возвращением к истине конкретного субъекта. В этот интервал вклинивается критика ложного Cogito, здесь совершается деконструкция идолов «Я», которые образуют преграду между «Я» и «Я-сам». Такая деконструкция есть своеобразная деятельность погребения, перенесенная с субъект-объектного отношения на отношение рефлексивное. Этой деконструкции, терминологически определяемой как отказ, подчинен весь методологический аппарат, который Фрейд называет «метапси-хологиейм реализм психических «локальностей», натурализм энергетических и экономических понятий, генетическая и эволюционистская оснащенность культурными достижениями, начиная с первичных импульсных объектов и т. п. Эта кажущаяся утрата самого Cogito со свойственной ему ясностью, является следствием деятельности по погребению ложного Cogito. Это похоже на детерминистское объяснение, которое Спиноза начинает применять к ложным очевидностям свободной воли в первой книге «Этики», прежде чем приступить к анализу подлинной свободы в четвертой книге и блаженства — в пятой, которые берут начало в рационалистическом истолковании рабства. Следовательно, у Фрейда, как и у Спинозы, освобождение от иллюзий сознания является условием возврата к истинному субъекту.
Такой возврат, осуществляемый в ходе описанного выше погребения, и составляет, как я полагаю, будущую задачу рефлексивной философии. Что касается меня, я бы выразил эту задачу следующим образом: если можно считать психоанализ археологией субъекта, то задача рефлексивной философии после Фрейда будет состоять в диалектическом присоединении телеологии к этой археологии.
Только данная полярность arche — telos, истока и цели, импульсной основы и культурного видения может вырвать философию Cogito из объятий абстракции, идеализма, солипсизма, короче говоря, освободить ее от всех патологических форм субъективизма, извращающих позицию субъекта.
Чем станет телеология субъективности, которая пройдет критическое испытание археологией фрейдовского типа? Это будет последовательно развивающаяся конструкция образов духа, как это имеет место в «Феноменологии духа» Гегеля, но она еще более, чем у Гегеля, будет развертываться на почве регрессивного анализа образов желания.
Я ссылаюсь здесь на гегелевскую, а не на гуссерлев-скую модель по двум причинам: прежде всего, Гегель пользуется диалектическим инструментарием, с помощью которого он помышляет о преодолении натуралистического уровня субъективного существования, сохраняющего изначальную импульсную силу. В этом смысле я сказал бы, что гегелевское Aufhebung как сохранение «преодоленного» есть философская истина фрейдовских «сублимации» и «идентификации». Более того, Гегель сам понимал диалектику образов в «Феноменологии» как диалектику желания. Проблема удовлетворения (Befriedigung) есть аффективное средство для перехода от сознания к самосознанию: неустранимость желания, его удвоение в желании другого желания, которое есть в то же время желание другого человека, переход к равенству сознаний с помощью борьбы — все эти перипетии, хорошо известные из гегелевской «Феноменологии», являют собой яркий, но не лишенный противоречий пример телеологической диалектики духа, укорененной в жизни желания. Разумеется, сегодня нельзя повторить гегелевскую «Феноменологию»; после Гегеля появились новые образы «Я» и Духа и новые бездны разверзлись у нас под ногами; но проблема осталась та же самая: как выявить проспективную упорядоченность образов духа и прогрессирующую связность сфер культуры, которая была бы на деле сублимацией субстанциального желания, разумным использованием той энергии, какую выявил психоанализ в архаизмах и регрессиях мира человеческих фантазий?
Поставить эту проблему в более строгих понятиях и разрешить ее с помощью синтеза, который удовлетворил бы одновременно и фрейдовскую экономику желания и гегелевскую телеологию духа, — такова задача философской антропологии после Фрейда.
2. Спор со «структурализмом»
Не прибегая к детальному анализу семиологической модели, господствующей сегодня в различных структуралистских концепциях*, я хотел бы показать общий смысл атак, ведущихся на основе психоанализа и лингвистики против философии субъекта.
Эти атаки направлены, по существу, против гуссерлев-ской и постгуссерлевской феноменологии. И это понятно: последняя связывает философию субъекта с теорией значения, которая находится в том же эпистемологическом поле, что и семиологическая модель. Точнее, феноменология связывает вместе три тезиса: 1) значение есть всеобъемлющая категория феноменологического описания; 2) субъект является носителем значения; 3) редукция — это философский акт, делающий возможным появление сущего, которому свойственно образовывать значения. Данные три тезиса неотделимы друг от друга, и их можно рассматривать в двух аспектах: в том аспекте, в каком мы их уже изложили, он характеризует скорее их открытие на пути от «Логических исследований» к «Идеям-I»; мы видим, что логическое значение находится в центре гравитации лингвистического значения; лингвистическое значение вписано в более широкий периметр интенциональности сознания; благодаря такому расширению исследования, переходящего из области логики в перцептивную сферу, лингвистическое выражение и — еще на больших основаниях — логическое выражение доказывают свою способность конституировать только разумную форму деятельности означивания, имеющей более глубокие корни, чем оценки и суждения относительно Erlebnis вообще; именно в этом смы-
* См. выше, раздел I. Герменевтика и структурализм, гл. «Структура, слово, событие».
еле значение становится всеохватывающей категорией феноменологии. Понятие ego также получает соответствующее этому расширение — в той мере, в какой ego это тот, кто живет, усматривая смысл, и формирует себя в качестве полюса, в котором сосредоточены все очаги смысла.
Третий тезис, если иметь в виду очередность открытий, является первым с точки зрения обоснования. Если, согласно создателю феноменологии, значение открывает обширную область феноменологических описаний, то это означает, что данная область в своей совокупности установлена трансцендентальной редукцией, которая преобразует любой вопрос о бытии в вопрос о смысле бытия. Такая функция редукции существует независимо от идеалистических интерпретаций ego Cogito и прежде всего от интерпретации, даваемой самим Гуссерлем, начиная с первого тома «Идей-I» и кончая «Картезианскими размышлениями»; именно редукция выявляет наше отношение к миру; в редукции и посредством нее любое бытие поддается описанию как феномен, как явление, стало быть, как значение, подлежащее прояснению.
Итак, если иметь в виду порядок обоснования, можно перейти от редукции к субъекту как ego cogito cogitatum и от теоретического субъекта к значению как универсальному посреднику между субъектом и миром. Всё есть значение, как только любое сущее начинает рассматриваться в качестве смысла жизненного, благодаря которому субъект устремляется к трансценденциям.
Идя таким путем, можно представить феноменологию как теорию языка. Язык перестает быть деятельностью, функцией, операцией: он идентифицируется с общей средой значений, с сеткой знаков, как бы наброшенной на поле нашего восприятия, деятельности, жизни. Вот почему Мерло-Понти мог сказать, что Гуссерль «отводит языку центральное место»*. Феноменология может даже пре-
* В сообщении, сделанном на I Международном коллоквиуме по феноменологии в 1951 г., Мерло-Понти утверждал: «Именно потому, что в рамках философской традиции проблема языка не является исконно философской, Гуссерль подходит к ней с большей свободой, чем к проблемам восприятия или познания. Он делает проблему языка центральной, и то немногое, что он говорил в этой связи, оригинально и загадочно. К тому же, проблема эта позволяет лучше, чем любая другая, исследовать фено-
тендовать на то, что только она способна открывать мир значений и, следовательно, мир языка, впервые тематизи-руя интенциональную и означивающую деятельность воплощенного, воспринимающего, действующего и говорящего субъекта.
Однако феноменология до такой степени радикализо-вала вопрос о языке, что стало невозможно вести диалог с современной лингвистикой и с семиологическими дисциплинами, сформировавшимися, опираясь на феноменологическую модель. Пример Мерло-Понти здесь поучителен по той причине, что его философия языка почти что потерпела крах.
«Возврат к говорящему субъекту», отстаиваемый и развиваемый Мерло-Понти вслед за поздним Гуссерлем, понимается как отвержение этапа объективной науки о знаках и слишком поспешное устремление к слову. Почему? Потому что с самого начала феноменологическая позиция и объективная позиция противостоят друг другу: «Беря язык как свершившийся факт, как то, что осталось в результате прошлых актов означивания, как регистрацию уже устоявшихся значений, ученый с неизбежностью оставляет в стороне собственную ясность говорения, плодотворность выражения. С точки зрения феноменологической, то есть для говорящего субъекта, использующего свою речь в качестве средства общения с живым сообществом, язык обретает единство: он не является более результатом хаотического прошлого независимых лингвистических фактов, а есть система, все элементы которой содействуют усилию, направленному на уникальное выражение, обращенное к настоящему или будущему и, стало быть, руководствующееся современной логикой»*.
менологию, не только повторяя Гуссерля, но и возобновляя его усилие, обращаясь не столько к его идеям, сколько к движению его мысли («Signes», р. 105). Я люблю цитировать этот текст, потому что наше отношение к самым именитым французским феноменологам, вероятно, стало таким, какое Мерло-Понти испытывал к Гуссерлю: не повторять, а продолжать движение его рефлексии. *Ibid. P. 107.
: Очевидно, что диалог с ученым едва ли возможен, скорее он вообще невозможен: система существует только при условии, если язык берется в качестве объекта науки; вопреки Соссюру и его первоначальным определениям, утверждается, что лингвистика видит «язык в его прошлом»*. Напротив, система создается исключительно в актуальной жизни языка. Феноменология, связывая синхронию с говорящим субъектом, а диахронию — с объективностью науки, берет на себя задачу внедрить объективную точку зрения в субъективное видение, показать, что синхрония говорения включает в себя диахронию языка.
Поставленная таким образом, проблема кажется более доступной разрешению, чтобы не оставлять ее последующим поколениям. Дело заключается в том, чтобы показать, каким образом прошлый язык живет в языке настоящем: задача феноменологии говорения заключается именно в том, чтобы показать внедрение прошлого языка в сегодняшнюю речевую практику; когда я говорю, интенция означивания присутствует во мне лишь как пустота, предназначенная к заполнению словами; в таком случае надо, чтобы она заполнялась, приводя «в порядок уже имеющий значение инструментарий или нашедшие свое выражение в речи значения (морфологические, синтаксические, лексические средства, литературные жанры, повествовательные приемы, способы представления событий и т. д.), которые вызывают у слушателя предчувствие иных, новых, значений, а тем, кто выступает с устными речами или занимается писательством, позволяют укоренить еще не высказанные значения в мир наличных значений»**. Таким образом, говорение является возрождением определенного лингвистического знания, берущим начало в прежних словах других людей, словах, которые откладываются, «выпадают в осадок», «институируются», становятся наличным достоянием, и с его помощью я теперь могу словесно заполнить ту пустоту, какой является существующее во мне желание означивать, когда я начинаю говорить.
* Merleau-Ponty M. Signes. P. 107. **Ibid. P. 113.
Данный анализ, приведенный в «Знаках», продолжает линию, идущую от объемной главы из «Феноменологии восприятия», где язык отождествляется с «жестом», приводящим в движение умение делать, то есть приобретенную способность[206]. Принимается ли всерьез то, как трактуют язык лингвисты? Тот факт, что понятие о языке как об автономной системе не принимается в расчет, тяжелым грузом давит на подобную феноменологию говорения. Ее участие в процессе «выпадения в осадок» можно определить с помощью старого понятия habitus[207], достигнутого состояния, где структурный факт, как таковой, отсутствует.
По правде говоря, Мерло-Понти важен не диалог с лингвистом, а его философский вывод: если я в состоянии выразить себя, лишь оживляя выпавшие в осадок и ставшие наличными значения, слово никогда не станет прозрачным самому себе, а сознание никогда не будет конституирующим сознанием; сознание всегда пребывает в зависимости от «научающей спонтанности»* моего тела со всеми его обретенными способностями и его наличным словарным оснащением. Здесь в игру вступает философия истины: истина есть процесс внедрения наличных значений в новые значения без какого бы то ни было обращения к предельным характеристикам чистого, всеобъемлющего, абсолютного значения: «Истина — это другое название того, что выпадает в осадок, что само по себе есть присутствие в нашем присутствии всех других присутствий. Это означает, что даже для философского, и особенно для философского субъекта в высшем его понимании, не существует объективности, которая учитывала бы наше сверхобъективное отношение ко времени, как нет света, кроме того, что светит нам сегодня»**.
Разумеется, эта феноменология слова и говорящего субъекта подспудно тяготеет к вопросам, которые структурализм не только не разрешает, но обходит стороной: каким образом автономная система знаков, полагаемая без гово-
* Merleau-Ponty M. Signes. P. 121. ** Ibid. P. 120.
рящего субъекта, действует, стремится к новому равновесию и всегда готова жить и быть использованной в истории? Может ли система существовать иначе, кроме как в акте говорения? Является ли она чем-то иным, нежели разграничителем в жизненной операции? Является ли язык чем-то большим, нежели потенциальной системой, никогда не переходящей целиком в акт, полной изменчивости, открытой субъективной и интерсубъективной истории?
Такие вопросы, несомненно, имеют право на существование. Но сейчас они преждевременны. Сегодня можно вернуться к ним только в конце длительного обходного пути с помощью лингвистики и науки о знаках. К тому же этот обходной путь подразумевает, по меньшей мере, хотя бы на время, вынесение за скобки вопроса о субъекте, временной отсрочки со ссылкой на говорящего субъекта с целью создания науки о знаках, достойной такого названия.
Прежде чем предложить такой обходной путь, структурная лингвистика бросает вызов философии субъекта: вызов состоит в том, что понятие означивания переносится в другую область, отличную от области интенциональ-ных намерений субъекта. Это перемещение вполне сравнимо с тем, которому психоанализ подвергает смысловую деятельность непосредственного сознания. Но оно свидетельствует о другой системе постулатов, чем постулаты фрейдовской топики. Об этих постулатах мы уже говорили в другом месте* и теперь лишь кратко перечислим их; первый постулат: дихотомия язык — слово (за языком сохраняется игровая возможность с ее институциальным характером и социальной противоречивостью; за словом отвергается его проективная осуществимость, как и его индивидуальная инновациия и свободная комбинаторика); второй постулат: подчинение точки зрения диахронической точке зрения синхронической (понимание состояний системы предшествует пониманию изменений, которые воспринимаются только как переход от одного состояния си-
* См. выше, раздел I. Герменевтика и структурализм, гл. «Структура, слово, событие».
стемы к другому); третий постулат: редукция субстанциальных аспектов языка — фонической субстанции и семантической субстанции — к формальным аспектам: язык, разгруженный таким образом от своих фиксированных состояний, является только системой знаков, определяемых исключительно их различиями; в такой системе нет больше значения — если под ним подразумевать собственное содержание идеи, взятой самой по себе, — а есть ценности, то есть величины относительные, негативные и противоположные друг другу. Смысл любой структурной гипотезы отныне ясен — и это четвертый постулат: «С точки зрения научной законно описание языка как по существу своему автономной сущности внутренних зависимостей, одним словом, структуры»*.
Иначе говоря, система знаков не имеет более «внешней стороны», у нее есть только «внутренняя сторона»; этот последний постулат, который можно было бы назвать постулатом закрытости знаков, резюмирует все другие постулаты и подчиняет их себе. Как раз этому главным образом и бросает вызов феноменология. Для последней язык не есть объект, он — посредник, то есть то, посредством чего и через что мы устремляемся к реальности (какой бы она ни была); роль языка заключается в том, чтобы говорить что-то о чем-то; благодаря этому язык вырывается за пределы самого себя и устремляется к тому, о чем он говорит, он обосновывает себя и превосходит себя благодаря интенци-ональному движению отсылки. Для структурной лингвистики язык самодостаточен: все его различия имманентны ему; система предшествует говорящему субъекту. С этой точки зрения субъект, постулируемый структурализмом, требует другого бессознательного, иной «локальности», нежели импульсное бессознательное, но сравнимого с ним, подобной ему локальности; вот почему смещение в сторону иного бессознательного, другой «локальности» смысла ждет от рефлексирующего сознания той же уступки, что и смещение в сторону фрейдовского бессознательного; вот почему во всех отношениях можно говорить об одном и том же семиологическом вызове.
* Hjelmslev. Essais linguistiques. P. 21.
Какого рода философия субъекта будет способна принять этот вызов в той форме, какую ему сообщает структурализм?
Вспомним три компонента феноменологии: ее теорию значения, теорию субъекта, теорию редукции, — которые, как мы показали выше, пребывают в единстве. Разумеется, теория субъекта нас здесь интересует больше всего. Но, как считается, она получает свой смысл от теории значения, с которой она связана с точки зрения дескриптивной, и от теории редукции, которая ее обосновывает с точки зрения трансцендентальной; вот почему мы можем вернуться к субъекту феноменологической философии, исходя из теории значения и теории редукции.
Что представляет собой феноменологическое понятие значения, если учитывать вызов семиологии? Феноменология, обновленная с помощью значения, не может удовлетворяться повторением описаний слова, не признающих теоретического статуса лингвистики и примата структуры над процессом, который служит здесь первичной аксиомой. Она не может также удовлетворяться противопоставлением того, что она называет открытостью языка жизненному миру опыта, закрытости мира знаков в их толковании структурной лингвистикой: только благодаря лингвистике языка и посредством нее сегодня возможна феноменология слова, то есть только в последовательной борьбе с пресуппозициями семиологии она должна вновь получить доступ к трансценденции знака, иными словами, свою отсылку.
Итак, язык, рассмотренный в соответствии с иерархией его уровней, составляет иного рода единицу, отличную от тех, которые фигурируют в перечне элементов, идет ли речь ' о единицах фонологических, лексических или синтаксических; новая лингвистическая единица, на которую могла бы опереться феноменология значения, имеет уже отношение не к языку, но к речи, или дискурсу; эта единица — фраза, или высказывание; ее следует называть семантической единицей, а не семиологической, поскольку именно она означивает. Однако мы не устраняем тем самым проблему значения, заменяя ее проблемой различия знаков; эти две проблемы находятся на разных уровнях; мы
не делаем также выбора между философией знака и философией представления: первая выделяет знак на уровне потенциальных систем, предложенных испытанию дискурсом; вторая сопутствует осуществлению дискурса. Семантическая проблема также вполне определенно отличается от проблематики семиологичской тем, что знак, образованный различием, устремляется к универсуму по пути референции; и это противостояние референции различию может быть с полным основанием названо представлением, если следовать средневековой, картезианской, кантовской или гегелевской традициям. Лингвист такого уровня, как Е. Бенвенист, очевидно и безукоснительно свидетельствует в пользу этой традиции, когда сближает такие вещи, как «сказать что-то», «обозначить», «представить»*[13]. Противопоставлять знак знаку — это функция семиологии; представлять реальность с помощью знака — это функция семантики; первая подчинена второй. Первая находится в поле зрения второй, или, если угодно, язык артикулирован в зависимости от означивающей или репрезентативной функции.
Именно на основании этого фундаментального различия семиологического и семантического возможно осуществить конвергенцию: лингвистика фразы (взятой в качестве инстанции дискурса), логика смысла и соотнесенности (как об этом говорят Фреге и Гуссерль), наконец, феноменология слова (Мерло-Понти); но мы не можем, как это делал Мерло-Понти, непосредственно перейти к феноменологии слова. Необходимо терпеливо отделять семантику от семиологии, следовательно, сначала надо сделать крюк в сторону структурного анализа таксономических структур, затем выстроить высказывание на фонологических, лексических, синтаксических основах. В свою очередь, теория высказываний требует, чтобы мы шаг за ша-
* См.: £. Benveniste. Problèmes de la linguistique générale: «С наивной точки зрения говорящего, как и с точки зрения лингвиста, язык имеет своей функцией «говорить что-то». Что это за «что-то», по поводу которого язык артикулируется, и каким образом отграничивать это «что-то» от самого языка? Тут встает проблема значения» (р. 7). Итак, эта функция есть не что иное, как «способность представлять объективную действительность с помощью «знака» и понимать «знак» как представителя объективной действительности» (р. 26),
гом составляли план смысла, будь он идеальный или ирреальный, затем план референции с его требованием истины, понимания реального или, как говорит Гуссерль, план заполнения. Тогда, и только тогда, станет возможным обращение (не в смысле психологизма) к понятиям интенциональности, нацеленности, выражения, как их понимал Мерло-Понти. Переход с помощью языка возвращает анализу речи его собственно лингвистический характер, который нельзя будет сохранить, если искать его в непосредственном продолжении «жеста». Напротив, слово как семантическое производное от семиологического порядка самим фактом своего внезапного возвращения заставляет человеческий жест предстать в качестве означивающего, по крайней мере на инхоативном уровне. Философия выражения и означивания, которая не обходится без всевозможных опосредовании семиологического или логического характера, обречена на то, что ей никогда не переступить собственно семантического порога.
Вопреки этому позволительно утверждать, что за пределами семантической функции, в которой они актуализируются, семиологические системы теряют всю свою интел-лигибельность; можно даже задаться вопросом, сохранит ли свой смысл различение означающего и означаемого вне референциальной функции. Ведь это различение воз-никает как требование лингвистического знака — и на этом основании Ельмслев делает его критерием последнего — в противоположность нелингвистическим знакам, которые не представляют собой дуализма экспрессивного плана и плана содержательного. Разве в таком случае не нацеленность на означивание, которую фраза шаг за шаром сообщает каждому из своих элементов и прежде всего словам*, не эта нацеленность своим трансцендирующим движением обеспечивает внутреннее единство знака? Находились бы вместе означащее и означаемое, если бы нацеленность на означивание не устремляла их, как стрела, к возможному референту — существует ли он или не существует?
* О понятии слова как лексическом знаке в фразе см. раздел I. Герменевтика и структурализм, главу «Структура, слово, событие» (наст, изд., с. 05–96). Слово, говорим мы в этой работе, есть точка соединения семиологического и семантического, формы и смысла в каждом моменте дискурса.
Таким образом, семиологический порядок, взятый сам по себе, есть лишь совокупность условий артикуляции, без которой языка просто не было бы. Но, будучи артикулированным, язык тем не менее не есть еще язык в своей способности означивания. Он является только системой систем, которую можно назвать речью, чье существование, хотя и проблематичное, делает возможным нечто вроде определенного дискурса, существующего каждый раз лишь в инстанции дискурса. В нем связываются вместе возможность и актуальность, артикуляция и оперативность, структура и функция, или, как мы говорили ранее, система и событие.
Такова теория означивания, и ее следовало бы дескриптивным образом ввести в теорию субъекта, которая, если следовать начальному замыслу этой статьи, вытекает из затруднений, составляя с ними, однако, единое целое.
В действительности, на одном и том же уровне организации и осуществления язык имеет и субъект, и отсылку: в то время как система анонимна или, скорее, у нее нет субъекта, даже такого, как «on», поскольку вопрос: «кто говорит?» не имеет смысла на уровне языка, только вместе с фразой встает вопрос о субъекте языка. Этим субъектом может и не быть «я» или тот, кем «я» намеревается быть; по меньшей мере на этом уровне вопрос «кто говорит?» приобретает смысл, даже если и не суждено получить ответа.
Напрасно было бы также пытаться воспроизводить здесь классические примеры гуссерлевского и постгуссерлев-ского феноменологического анализа. Их необходимо встроить в лингвистическую сферу в соответствии с тем, что было предложено выше: как в фразе или в слове необходимо показать переход от семиологического к семантическому, так же необходимо показать, каким образом говорящий субъект обретает собственный дискурс.
Итак, феноменология говорящего субъекта находит свою прочную опору в исследованиях некоторых лингвистов, посвященных анализу личного местоимения и родственных словесных форм, имени собственного, глагола и глагольного времени, утверждению и отрицанию и вообще фор-
мам обращения, свойственным любому моменту дискурса. Само выражение «инстанция дискурса» вполне определенно указывает на то, что явно недостаточно одного противопоставления расплывчатой феноменологии речевого акта строгой лингвистической системе языка; речь должна идти о том, чтобы связать язык и речь в работе дискурса.
Я бы ограничился здесь одним примером — природой личного местоимения и структурой отношений лица в глаголе, который стал предметом изучения в главном произведении Э. Бенвениста «Проблемы общей лингвистики»*. Личные местоимения («я», «ты», «он»), несомненно, прежде всего являются фактами языка: структурное исследование соотношений лиц в глаголе должно предшествовать любой интерпретации употребления местоимения в каждой инстанции дискурса; таким образом, «л» и «ттш» совместно противостоят «ему», как личность противостоит не-личности^ и, в свою очередь, противостоят друг другу <как тот, кто говорит, и тот, к кому обращена речь. Но это структурное исследование не в состоянии учесть всего содержания данных отношений; оно является лишь введением к изучению. Значение «л» возникает тогда, когда тот, кто говорит, присваивает себе смысл, чтобы обозначить самого себя; значение «я» каждый раз является уникальным; оно соотносится с той инстанцией дискурса, которая его содержит и которая предназначена только ему; «ел» есть индивид, который производит данный речевой акт, содержащий акт производства языковой формы «л»»**. Вне этого отношения к частному индивиду, которое само себя обозначает, говоря «л», личное местоимение является пустым знаком, и всякий может присвоить его себе: в моем языке это местоимение пребывает в готовности как инструмент, способный превратить язык в дискурс путем присвоения того, что я делаю с этим пустым знаком.
Нам удивительно такое сочленение: «речь — слово»; частично оно основано на особых знаках, или «индикаторах», для которых личные местоимения являются чем-то несущественным наряду с указательными местоимениями и на-
* Benveniste E. Problèmes de la linguistique générale. P. 226–236, 251–266. ** Ibid. P. 252.
речиями времени и места; эти знаки не коннотируют некий класс объектов, но обозначают актуальную инстанцию дискурса, они не именуют, ауказуют: «л», «здесь», «теперь* , «этпо», короче говоря, обозначают отношение говорящего субъекта к ситуации и к слушателям. Знаменательно, что «язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обозначает себя как «я», как бы присваивать себе язык целиком*.
Проблему глагола следует анализировать в том же ключе. С одной стороны, мы имеем структуру временных отношений, характерную для данной речи; с другой стороны, мы имеем выражение времени в инстанции языка, в фразе, которая, как таковая, во всех отношениях погружает высказывание во время. Именно это высказывание само себя обозначает с помощью настоящего времени и, благодаря этому, открывает возможность использования всех других времен. Такая соотнесенность с настоящим полностью сопоставима с явно выраженной (или деикти-ческой) ролью указательных местоимений («это», «то»…) и адвербальных выражений («здесь», «теперь»…): «Это настоящее в свою очередь имеет в качестве временной референтной соотнесенности только одну языковую данность: совпадение во времени описанного события с актом речи, который его описывает»**.
Можно ли сказать, что «я» есть творение языка? Лингвист готов утверждать это («…только язык, — пишет Бен-венист, — придает реальность, свою реальность, которая есть свойство «быть», понятию ego»***). Феноменолог возразит на это, заметив, что способность слушателя полагать себя в качестве субъекта и противопоставлять себе другого в качестве собеседника есть сверхлингвистическая предпосылка личного местоимения. Он останется верным разделению семиологии и Семантики, в соответствии с которым только в языке знаки сводимы к внутренним различиям; в этом плане «л» и «/nw», в качестве пустых знаков, являются творениями речи; но употребление hic et пипс[208] этого пустого знака, при помощи которого слово «л»
* Benveniste E. Problèmes de la linguistique générale. P. 262. ** Ibid. *** Ibid. P. 259.
становится значением и достигает семантической значимости, предполагает присвоение этого пустого знака субъектом, который, выражая себя, сам себя полагает. Разумеется, позиция «я» и выражение «я» принадлежат одному и тому же времени; но выражение «я» в столь же малой степени создает позицию «я», как и указательное местоимение «это» создает образ мира, на который нацеливает деиктический указатель. В той мере, в какой субъект полагает себя, в той же мере мир проявляет себя. Местоимения и указательные прилагательные находятся на службе этого полагания и этого проявления; они, если говорить точнее, обозначают абсолютность этой позиции и этого проявления, которые находятся по ту и по эту сторону языка: по эту сторону мирного (mondain), куда он устремлен, поскольку сообщает что-то о чем-то; по ту сторону не-мирно-го (non-mondain) ego, который просвечивает в его актах. Язык не является более основанием, как и не является объектом; он — посредник, медиум, «среда», в которой и благодаря которой субъект полагает себя и мир и обнаруживает себя.
Таким образом, задача феноменологии уточняется: отныне позицию субъекта, к которой взывает вся традиция Cogito, следует перенести в сферу языка, а не искать ее рядом с языком, и делать это надо постоянно, несмотря на риск никогда не преодолеть антиномичности между семиологией и феноменологией. Ее надо заставить проявиться в инстанции дискурса, то есть в акте, с помощью которого возможная система речи становится актуальным событием слова.
Нам остается связать феноменологическое понятие субъекта с трансцендентальной редукцией. Мы уже давали пояснения по поводу этого двойного отношения субъекта: с одной стороны, к значению, с другой — к редукции. Первое отношение принадлежит дескриптивному плану, как в этом мы убедились в ходе предшествующего обсуждения: субъект, на деле, — это тот, кто, соотнося себя с реальностью, соотносит себя и с самим собой: ретроспективное и актуальное отношение к реальности складываются
симметричным образом. Второе отношение ничего не прибавляет к первому в плане дескрипции: оно касается условий возможности соотнесения субъекта с самим собой в его соотнесении с какой-либо вещью: в этом смысле оно схоже с отношением «трансцендентального» к «эмпирическому».
Что же можно сказать по поводу постструктуралистской редукции?
Известно, что Гуссерль видел в редукции изначальный философский акт, с помощью которого сознание отделяется от мира и превращает себя в абсолют; после редукции любое бытие становится для сознания смыслом, то есть релятивным по отношению к сознанию. Тем самым редукция ставит гуссерлевское Cogito в центр идеалистической традиции как продолжение картезианского Cogito, кан-товского Cogito и фихтевского Cogito. «Картезианские размышления» с точки зрения трактовки самодостаточности сознания пойдут еще дальше, вплоть до радикального субъективизма, для которого единственным выходом станет борьба с солипсизмом при помощи собственных средств и обращение к другому в момент изначального конституи-ровании ego Cogito.
Преимущество, какое таким образом получает сознание в идеалистической концепции редукции, абсолютно несовместимо с тем приматом, который структурная лингвистика признает за языком по отношению к слову, за системой — по отношению к процессу, за структурой — по отношению к функции. Для структурализма такое абсолютное преимущество является крайним предрассудком феноменологии. Благодаря этой антиномии кризис философии субъекта достигает своего апогея.
Стоит ли приносить в жертву феноменологическую редукцию, признавая предрассудком трактовку сознания как абсолюта? Но неужели возможна иная интерпретация редукции? Я предпочел бы идти здесь другим путем и предложить толкование редукции, которое представило бы ее тесно связанной с теорией означивания, признанным осевой позицией в феноменологии. Отказываясь отождествлять редукцию с непосредственным, мгновенным прорывом, осуществляемым одним скачком, который позволил
бы феноменологической позиции возникнуть из естественной установки и вырвать сознание из бытия, мы избрали долгий окольный путь, учитывающий наличие знаков; мы будем искать редукцию среди тех условий, которые обеспечивают отношение означивания, символическую функцию как таковую. Созвучная философии языка, редукция может перестать являться нам в качестве фантастической операции, благодаря которой сознание выглядит как осадок, как остаток, вычитаемый из бытия. Редукция предстанет скорее как «трансцендентальное» языка, как возможность для человека быть чем-то иным, нежели природным явлением наряду с другими такими же природными явлениями, соотноситься с реальностью, означивая ее с помощью знаков. Такое перетолкование редукции в связи с философией языка осуществляется в полном соответствии с пониманием феноменологии как общей теории означивания, как обобщенной теории языка.
Пойдем же по этому пути: здесь мы найдем поддержку у Леви-Строса, проникновенно заявившего в своем знаменитом Введении к произведению Марселя Мосса «Социология и антропология»: «Какими бы ни были время и условия возникновения языка на лестнице живых существ, он мог родиться только мгновенно. Вещи не обладали возможностью к последовательному самоозначиванию… Радикальное изменение в области познания оказалось беспрецедентным, но оно шло медленно, постепенно. Иными словами, в тот момент, когда вся Вселенная мгновенно обрела значение, она от этого не стала более понятной, даже если истинно то, что рождение языка должно было бы ускорить ход развития познания. В истории человеческого ду-хд, следовательно, существует фундаментальное противостояние между символизмом, который предполагает прерывность, и познанием, отмеченным непрерывностью…»*.
Ведь символическая функция лежит в иной плоскости, ^ем различные классы знаков, которые может улавливать и артикулировать общая наука о знаках, то есть семиология; речь идет вовсе не о классе, не о роде, а об условии возможности. Вопрос здесь стоит о рождении человека, принадлежащего к особому роду знаков.
* Lévi-Strauss С. Préface // Moss M. Sociologie et anthropologie. Paris, 1950. P. 42.
Поставленный в этих терминах вопрос об истоке символической функции, как мне представляется, дает начало абсолютно новому толкованию феноменологической редукции: редукция, скажем мы, есть начало означивающей жизни и это начало носит не хронологический, не исторический характер; оно — трансцендентальное начало, наподобие того, как договорные отношения являются началом жизни в обществе. Эти два начала, понятые радикальным образом, являются одним и тем же началом, если, согласно замечанию Леви-Строса, символическая функция есть исток, а не результат социальной жизни. «Мосс считает воз-можным разработать социологическую теорию символизма, в то время как — и это вполне очевидно — следует искать символический исток общества»*.
Но в таком случае возникает следующее затруднение: идеальный генезис знака, скажем мы, нуждается в разрыве, в различии, но никак не в субъекте. Ведь сам Леви-Строс, заявляя о внезапном зарождении символизма, настойчиво отвергает любую философию, которая помещает субъект в исток языка, и более охотно говорит о «бессознательных категориях мышления»**; не следует ли отныне принимать в расчет различие бессознательных категорий мышления и не является ли это бессубъектное различие условием всех других различий, которые существуют в области лингвистики: одного знака и другого знака, а в самом знаке — означающего от означаемого? И если дело действительно обстоит так, то фундаментальным заблуждением Гуссерля было постулирование трансцендентального субъекта этого различия, которое, собственно говоря, есть не что иное, как трансцендентальное условие, делающее возможным все эмпирические различия между знаками и в самих знаках. В таком случае необходимо «де-субъективировать» различие, коль скоро оно должно быть «трансцендентальным» знака.
Если это затруднение существует в самом деле, то, имея в виду философию субъекта, мы ничего не выигрываем, сводя редукцию к истоку символической функции, поскольку трансцендентальная сфера, которой принадлежит раз-
* Lévi-Strauss С. Préface // Moss M. Sociologie et anthropologie. P. 23. ** Lévi-Strauss С Anthropologie structurale. P. 82.
личие, не требует никакого трансцендентального субъекта.
Но затруднения как такового нет. Оно проистекает из смешения семиологического и семантического планов. Мы уже говорили, что дискурс отличен от речи, а значение — от знака. Отныне рефлексия, которая ограничивалась бы выяснением условий возможности семиологического порядка, просто-напросто была бы неспособна решить проблему условий возможности семантического порядка как такового, который является жизнью, конкретикой, актуальностью языка.
Неудивительно, что исследование, нацеленное на «трансцендентальное» языка, в котором, однако, отсутствует переход от речи к дискурсу, раскрывает лишь негативное и не-субъективное условие языка: различие. Разумеется, это уже что-то! Но это всего лишь первое измерение редукции, то есть трансцендентальное порождение различия: Гуссер-До уже был знаком этот негативный облик отношения означивания; он называл его «временной приостановкой», «заключением в скобки», «выведением из обращения»; он относил его непосредственно к естественной установке, чтобы из нее, путем различения, родилась феноменологическая позиция; если он считал, что сознание должно было зародиться благодаря этому различию, то оно было не чем иным, как не-естественностью, не-мировостью, требуемыми знаком как таковым; но такое сознание не несет в себе да грана эгологичности, оно — только лишь «поле», поле когитацищ по правде говоря, сознание без ego вполне познаваемо; знаменитая статья Сартра «Трансценденция eg©»[209] это прекрасно показывает; следовательно, акт зарождения сознания как отличия от природы, или, говоря словами Леви-Строса, появление языка, вследствие чего t вся Вселенная сразу же стала значимой», не требует субъ-гекта, даже если оно требует сознания, то есть поля коги-таций. Этот философский вывод не содержит в себе ниче-.fo неожиданного: семиологический порядок, по определению, — это система без субъекта.
Однако семиологический порядок — это еще не весь язык; необходимо перейти от речи к дискурсу: только в этом плане можно говорить о значении.
В чем тогда при переходе от знака к значению, от семиологии к семантике состоит редукция? Мы не можем более говорить лишь о ее негативном характере как о разрыве, отступлении, различении; необходимо перейти к ее позитивному измерению, то есть к возможности сущего, которое с помощью различия вырвалось из природных отношений, чтобы повернуться к миру, нацеливаться на него, постигать, схватывать, понимать его. Это движение от начала до конца позитивно; в нем, согласно приведенным выше словам Гюстава Гийома, знаки устремляются к универсуму; это момент рождения фразы, сообщающей что-то о чем-то. Отныне «приостановка» естественного отношения к вещам является всего лишь негативным условием возникновения отношения означивания. Принцип дифференциации выступает оборотной стороной принципа референции.
Итак, редукцию теперь следует рассматривать не только в ее негативном, но также и в позитивном смысле, отказавшись от преувеличения негативности, от наделения самостоятельной сущностью различия, берущих начало в ограниченной модели языка, где семиологическое занимает место семантического.
Но если редукция должна браться в позитивном смысле как условие возможности референции, она должна также браться в ее субъективном смысле как возможность ego обозначать себя в инстанции дискурса. Позитивность и субъективность идут рука об руку в той мере, в какой соотнесенность с миром и с самим собой, или, как мы говорили выше, явленность мира и позиция ego симметричны и взаимны друг другу. Разве может существовать видение реального, то есть притязание на истину, без самоутверждения субъекта, который погружается в речь и в ней сам себя определяет?
Следовательно, если я могу обнаружить не-субъектив-ный источник различия, образующего знак как знак, то он не может быть одновременно и источником референции. С этой точки зрения я скорее сказал бы, что символическая функция, то есть способность означивать реальное посредством знаков, является полной, если только она мыслится исходящей из двойственного принципа различия и соотнесения, иными словами, из категорий «бессознательное» и «эгологическое». Символическая функция — это, разумеется, способность подчинять любой обмен (в том числе и о0мен знаками) одному закону, одному правилу, стало быть, одному анонимному принципу, который выше любых субъектов; но это также и способность актуализировать данное правило в событии, в инстанции обмена, прототипом которой является инстанция дискурса; последняя вовлекает меня, вводит меня в качестве субъекта во взаимоотношение между вопросом и ответом. Часто забываемое значение слова «символ» напоминает нам об этом: в своей социальной, а не только в сугубо математической форме символизм включает в себя правило взаимного признания субъектами друг друга. Эдмон Ортиг в своей замечательной книге, которая многим обязана Леви-Стросу, но в этом вопросе значительно расходится с его точкой зрения, пишет: этот закон «обязывает каждое сознание, исходящее из своего «другого», возвращаться к себе… Общество существует только благодаря данному процессу, внутренне свойственному каждому субъекту»*. Редукция, в ее целостном смысле, и есть такое возвращение к себе, исходящее из своего «другого», которое создает трансцендентальное не из знака, а из значения.
Таково, если следовать семиологическому вызову, истинное «возвращение к субъекту». Оно неотделимо от размышления о языке, от размышления, которое не останавливается в пути; оно переступает порог, отделяющий семиологию от семантики; согласно этому рассмотрению, установленный в процессе редукции субъект есть не что иное, как начало означивающей жизни, одновременное зарождение выговоренного бытия (l'être-dit) мира и говорящего бытия (Г être-parlant) человека.
3. К герменевтике «я есть»
Наступил момент сопоставить две серии исследований, являющихся предметом настоящего очерка. Читатель, несомненно, был удивлен тем, насколько разнятся друг от друга критические высказывания, а еще больше отклики на них.
* Ortigues E. Le Discours et le Symbole. P. 199.
С одной стороны, довольно трудно совместить друг с другом две позиции «реализма», вытекающие из той и из другой критики: реализм «Оно», реализм языковых структур. Что общего между топическими, экономическими и генетическими понятиями психоанализа и семиологическими понятиями структуры и системы, между импульсным бессознательным одного и категориальным бессознательным другого?
Итак, если обе критики независимы друг от друга в своих наиболее фундаментальных предположениях, то неудивительно, что и требуемые ими виды обновления философии субъекта по своей природе отличаются одно от другого. Вот почему философия субъекта, которой принадлежит будущее, не должна формироваться исключительно под воздействием разнонаправленных влияний критики психоанализа и критики лингвистики; такая философия будет говорить о новом содержании согласия, дающего возможность совокупно осмысливать уроки психоанализа и семиологии. В заключение данного изложения я хотел бы расставить некоторые вехи на этом пути, что в достаточной мере объясняет его исследовательский, ищущий характер.
1. Прежде всего я думаю, что рефлексия по поводу говорящего субъекта позволяет вернуться к выводам, которые были сформулированы в конце наших споров о психоанализе, и представить их в новом свете. Сознание, утверждали мы тогда, постоянно имеет в качестве своей предпосылки определенную топику, как имеет ее «Я» во фрейдовской персонологии; и мы добавляли к этому: критика психоанализа ставит целью не приблизиться к ядру апо-диктичности «я мыслю», а только уяснить, что «я» является таким, каким само себя воспринимает. Такое расхождение между аподиктичностью «я мыслю» и адекватностью сознания будет иметь менее абстрактное значение, если мы соотнесем его с понятием говорящего субъекта; ядром апо-диктичности «я мыслю» тогда станет трансцендентальное символической функции; иными словами, в любом сомнении, к чему бы оно ни относилось, неопровержимым останется акт отхода, отступления, создающий зазор, благодаря которому становится возможным появление знака, что свидетельствует о возможности существования между ве-
щами не только причинных отношений, но и отношений означивания.
Какова польза подобного сближения аподиктичности и символической функции? А вот какая: любая философская рефлексия по поводу психоанализа должна отныне осуществляться в пространстве смысла, значения. Если субъект по своей сути является субъектом говорящим, любое приключение рефлексии, когда она затрагивает преимущественную область психоаналитического исследования, должно быть приключением, протекающим в рамках означающего и означаемого. Пересмотреть психоанализ в свете семиологии — такова первая задача философской антропологии, которая намеревается соединить расходящиеся в разные стороны результаты наук о человеке. Знаменательно то, что даже когда Фрейд говорит о влечении, то делает это всегда в плане экспрессивном, беря его за исходную точку, в плане определенного действия смысла, которое, исходя из них, надлежит расшифровать и которое можно трактовать как текст: текст онейрический, текст симптоматический. Именно в области знаков развертывается психоаналитический опыт, поскольку он есть действие слова, поединок говорения и слушания, сообщничество говорения и молчания. И эта принадлежность сфере знаков фундаментальным образом обосновывает не только то, что психоаналитический опыт можно передавать, но и то, что он, в конечном итоге, соотносим с тотальностью человеческого опыта, о котором философия начинает размышлять и который намеревается осмыслить.
Спецификой психоаналитического дискурса является то, что действия смысла, какие он расшифровывает, обеспечивают выражение отношениям силы. Отсюда — видимая Двойственность фрейдовского дискурса; кажется, будто он оперирует понятиями, принадлежащими двум разным планам связности, двум вселенным дискурса — силы и смысла. Язык силы: употребляемые здесь слова свидетельствует о динамике конфликтов и об экономической игре инвестиций, дезинвестиций, контринвестиций. Язык смысла: употребляемые здесь слова касаются абсурдности или значимости симптомов, сновидческого мышления, его детерминированности, игры слов, с которыми оно сталкивает-
ся. Именно отношение смысла к смыслу мы прочитываем при интерпретации: между выявленным смыслом и смыслом сокрытым существует то же отношение, что и между интеллигибельным и неинтеллигибельным текстами. Эти смысловые отношения, таким образом, оказываются включенными в силовые отношения; любая работа сновидения выражает себя в этом сложном дискурсе: силовые отношения заявляют о себе в смысловых отношениях и с их же помощью маскируют себя, в то время как смысловые отношения выражают и представляют отношения силовые. Этот смешанный дискурс не является двусмысленным, хотя он и недостаточно прояснен; он придерживается той реальности, которую обнаружило прочтение Фрейда и которую мы могли бы обозначить как семантику желания. Все философы, размышлявшие об отношениях между желанием и смыслом, уже сталкивались с этой проблемой, которая, начиная с Платона, удваивает иерархию идей с помощью иерархии любви и доходит до Спинозы, связывавшего ясность идеи с утверждением и действием conatus; у Лейбница стремление монады и нацеленность восприятия также коррелятивны друг другу: «Деятельность внутреннего принципа, осуществляющая изменение или переход от одного восприятия к другому, можно назвать стремлением; правда, стремление не всегда может полностью достичь цельного восприятия, к которому оно стремится, но какой-то части его оно достигает и приходит к новым восприятиям» *.
Если, таким образом, переинтерпретировать психоанализ в свете семиологии, то обнаружится, что он занят исследованием проблемы отношения между либидо и символом. В таком случае психоанализ может вписываться в более обширную дисциплину, которую мы называем герменевтикой. Я здесь называю герменевтикой всякую дисциплину, которая берет начало в интерпретации, а слову «интерпретация» придаю его подлинный смысл: выявление скрытого смысла в смысле очевидном. Семантика желания вырисовывается на более широком фоне действий двойного смысла: эти действия лингвистическая семантика находит под другими названиями — перенесение смы-
* Leibniz. Monadologie, § 15.
ела, метафора, аллегория. Задача герменевтики заключается в том, чтобы сопоставить друг с другом различные употребления двойного смысла и различные функции интерпретации с помощью таких отличных друг от друга дисциплин, как лингвистическая семантика, психоанализ, феноменология, сравнительная история религий, литературная критика и т. п. Тогда мы увидим, каким образом, опираясь на такую общую герменевтику, психоанализ может быть соединен с рефлексивной философией: с помощью герменевтики рефлексивная философия освобождается от абстракций — утверждение бытия, желание и усилие существовать, которые меня конституируют, обретают в интерпретации знаков долгий путь осознания; желание быть и знак находятся в том же отношении, в каком находятся либидо и символ; это означает две вещи: с одной стороны, понимание мира знаков является средством для самопонимания; символический универсум — это среда самообъяснения; на деле проблемы смысла не существовало бы, если бы знаки не были средством, условием, медиумом, благодаря которым существующий человек стремится локализовать себя, спроецировать себя вовне, понять себя. В противоположном смысле, с другой стороны, это отношение между желанием быть и символизмом означает, что короткий путь самоинтуиции отныне закрыт; присвоение моего желания существовать невозможно, если следовать коротким путем осознания; открыт только долгий путь — путь интерпретации знаков. Такова моя гипотеза ^относительно философской деятельности: я называю ее конкретной рефлексией, то есть Cogito, опосредованным всем универсумом знаков.
2. Не менее важно подвергнуть окончательную рефлексию о семиологии психоаналитическому рассмотрению. На деле нет ничего более опасного, чем обобщать выводы семиологии и утверждать: все есть знак, все есть язык. Перетолкование Cogito как актд говорящего субъекта может идти в этом направлении; более того, здесь осуществляется интерпретация феноменологической редукции как скачка, как образования дистанции между знаком и вещью: человек в таком случае выступает не чем иным, как языком, а язык — как то, что отсутствует в мире. Психоанализ, связывая символ с влечением, ведет нас по другому
пути: он вновь погружает означающее в существующего. В одном смысле язык первичен, так как только исходя из того, что говорит человек, может проясняться сетка значений, в которой познаются присутствия; но в другом смысле язык вторичен; расстояние до знака и отсутствие языка в мире — это всего лишь негативная сторона позитивного отношения: язык хочет говорить, то есть показывать, делать присутствующим, направлять к бытию; отсутствие знака у вещи есть только негативное условие того, чтобы знак достиг вещи, соприкоснулся с ней и растворился в этом контакте. Принадлежность языка бытию требует, чтобы мы в последний раз перевернули отношение между ними и чтобы язык сам предстал в качестве способа бытия в бытии.
Итак, психоанализ по-своему готовит такое переворачивание: предшествование, архаизм желания, дающие основание говорить об археологии субъекта, заставляют подчинить сознание, символическую функцию, язык предваряющему их желанию. Фрейд так же, как Аристотель, Спиноза, Лейбниц и Гегель (это мы уже отмечали выше), говоря о желании, делает акцент на существовании. Прежде чем субъект сознательно и с помощью воли полагает себя, он уже присутствует в бытии на уровне влечений. Предшествование влечения сознанию и воле означает предшествование оптического плана плану рефлексивному, приоритет «я есть» по отношению к «я мыслю». Следует еще раз повторить то, что мы только что говорили об отношении влечения к осознанию, когда речь заходит об отношении влечения к языку. «Я есть» более фундаментально, чем «я говорю». Необходимо, чтобы философия шла к «я говорю», отправляясь от позиции «л есть», чтобы внутри самого языка она была «на пути к языку», как того требовал Хайдеггер. Задача философской антропологии состоит в выяснении того, в каких оптических структурах возникает язык.
Я только что сослался на Хайдеггера; необходимо, чтобы философская антропология приняла сегодня в расчет выводы лингвистики, семиологии и психоанализа и, опираясь на них, попыталась возобновить путь, намеченный в «Бытии и времени», который берет начало в структуре
бытия в мире, проходит через чувственное восприятие ситуации, через проекцию конкретных возможностей и понимание, устремляясь к проблематике интерпретации и языка.
Следовательно, философская герменевтика должна показать, каким образом сама интерпретация берет начало в бытии в мире. Прежде имеет место бытие в мире, затем его понимание, затем интерпретация и уже затем его словесное выражение. Кругообразный характер этого движения не должен нас останавливать. Правда, мы говорим обо всем этом внутри языка; но язык так образован, что способен обозначать основу существования, из которой он проистекает, и признавать самого себя в качестве способа бытия, о котором он говорит. Такая циркуляция между «я говорю» и «я есть» приводит к тому, что инициатива постепенно переходит к символической функции, а также к импульсным и экзистенциальным корням. Но этот круг не является порочным, он — живой круг выражения и выра-э&енного бытия.
Если дело обстоит таким образом, то герменевтика, которой должна следовать рефлексивная философия, не может ограничиваться проблематикой действий смысла и двойного смысла: несмотря ни на что, она должна быть герменевтикой «я есть». Только на этом пути можно одержать победу над иллюзиями и притязаниями идеалистического, субъективистского, солипсистского Cogito. Только такая герменевтика — герменевтика «я есть» — может включать в себя одновременно аподиктическую достоверность картезианского «я мыслю» и сомнение, то есть ложь и иллюзии «я», непосредственного сознания; только она может удерживать рядом лучезарное утверждение «я есть» и мучительное сомнение «кто я такой!».
Таков мой ответ на поставленный в начале вопрос: что в рефлексивной философии принадлежит будущему? Я отвечаю: рефлексивная философия, полностью усвоившая и скорректировавшая выводы психоанализа и семиологии, идет долгим окольным путем интерпретации знаков — частных и общих, психических и культурных, — в которых могут быть выявлены и выражены конституирующие нас желание и усилие быть.
IV Символика интерпретации зла
«Первородный грех»: исследование значения
В одном из церковных «Исповеданий веры» («Confessions de foi») периода Реформации мы читаем, что человеческая воля «полностью находится во власти греха»*. В выражении: «находится во власти [34]» — можно без труда обнаружить следы пророческого и апостольского учения; однако чуть ниже в том же «Исповедании веры» мы читаем: «Веруем, что весь род Адамов подвержен заразе — следствию первородного греха и наследственной порочности, а не только духу подражания, как об этом говорили пелагиан-цы[210], омерзительные в своих заблуждениях»**. «Первородный грех», «наследственная порочность» — эти слова несут с собой существенное изменение: мы переходим от пророчества к теологии, мы покидаем область, где действующим лицом был пастор, и входим в область, где господствует ученый; одновременно с этим изменение претерпевает и сфера выражения: «находиться во власти» — это образ, иносказание; «наследственный грех» тяготеет к тому, чтобы стать понятием. Более того, когда мы читаем следующий текст: «Веруем также, что порок этот и есть грех, и одного этого достаточно, чтобы заклеймить весь род человеческий вплоть до младенцев во чреве матери, чтобы счесть род человеческий греховным перед Богом…»***, — у нас создается впечатление, что теперь мы не только входим в сферу теологии как дисциплины, созданной учеными, но и вступаем в борьбу мнений, в схоластический спор: толкование первородного греха как врожденной виновности, обретае-
* Confession de foi de la Rochelle, art. 9. ** Ibid., art. 10. *** Ibid., art. 11.
мой младенцами в утробе матери, не только не соответствует пророчеству, но приводит к тому, что работа теолога совершает поворот в сторону абстрактной спекуляции, схоластики.
Моя задача вовсе не заключается в том, чтобы на этом уровне абстракции одной формулировке противопоставить другую: я не являюсь догматиком. Я хотел бы поразмышлять над значением теологической работы, сосредоточенной на таком понятии, каковым является понятие первородного греха. Тем самым я ставлю вопрос о методе. В действительности, это понятие, как таковое, не является библейским, и, тем не менее, пользуясь средствами рационального аппарата, о котором мы будем размышлять далее, оно стремится учитывать конфессиональное содержание обычной церковной проповеди. Размышлять о значении значит пытаться отыскать интенции понятия, его способность отсылать к тому, что является не понятием, а провозвестием, которое изобличает ложь и объявляет о прощении грехов. Короче говоря, размышлять о значении значит определенным образом разрушать понятие, вскрывать его мотивацию и, обращаясь к своего рода ин-тенциональному анализу, отыскивать ростки смысла, нацеленного на саму керигму.
Я только что употребил выражение, способное вызвать недоумение: разрушить понятие. Да, я считаю, что следует разрушить понятие как таковое, чтобы узреть интенцию смысла: понятие первородного греха — это ложное знание, и как знание оно должно быть разрушено — как квазиюридическое знание о виновности новорожденных, квазибиологическое знание о наследственно передаваемой порочности, как ложное знание, которое блокирует проникновение в еще не сложившееся понятие юридической категории долга и биологической категории наследования.
Однако цель данной критики — на первый взгляд уничтожающей — состоит в том, чтобы показать, что это ложное знание есть в то же время подлинный символ, подлинный символ чего-то такого, что передать может только символ. Поэтому эта критика не является исключительно негативной: поражение знания — это оборотная сторона работы по восстановлению смысла, в ходе которой и обнаруживается «ортодоксальная» интенция, прямой смысл, экклезиастический смысл первородного греха; смысл этот, как мы увидим далее, уже не является ни юридическим, ни биологическим знанием и, что самое важное, не является он и юридическо-биологическим знанием, говорящим о какой-то чудовищной наследственной виновности, — он есть рациональный символ того, о чем мы с необычайной проникновенностью говорим, исповедуясь в грехах.
Каким побуждением руководствовалась христианская теология, чтобы прийти к такого рода концептуализации? На этот вопрос может быть два ответа; прежде всего, внешний ответ, то есть, скажем мы, ответ под воздействием знания (gnose). В трактате «Извлечения из Феодота» мы читаем, что это — вопросы, которые, согласно Клименту Александрийскому[211], определяют познание: «Кем были мы? Кем стали? Где были мы раньше? Из какого мира были мы заброшены? К какой цели мы упорно стремимся? От чего мы освободились? Что такое рождение (yevvrjaic)? Что такое возрождение (àvayévvrioiç)?» Еще гностики, говорит один христианский автор, задавались вопросом: TiôGev ta хосхос; откуда берется зло? Запомним: именно гностики попытались сделать этот вопрос умозрительным и дать на него ответ, который представлял бы собой познание, yvdxnç, знание, gnose.
Наша первая рабочая гипотеза такова: именно по апологетическим соображениям — в целях защиты знания — христианские теологи были вынуждены следовать гностическому способу мышления. Антиг^остическая по своей сути, теология зла оказалась перенесенной на почву знания и таким образом пришла к системе понятий, сравнимой с научной.
Антинаучность стала квазинаучностью; я попытаюсь показать, что понятие первородного греха антигностично по самой своей сути, но квазигностично по своему содержанию.
Этот первый ответ влечет за собой второй: одним апологетическим намерением нельзя объяснить, почему христианская теология позволила перенести себя на чуждую ей почву; необходимо будет в самом смысле, перемещенном этим квазизнанием, искать причину его появления на свет. Вероятно, в опыте зла, в исповедании греха есть что-то ужасающее и непостижимое, делающее гносис извечно прису-щим мышлению стремлением, не имеющим основания та-.инством, для которого псевдопонятие первородного греха служит чем-то вроде шифра.
Прежде чем мы углубимся в наши размышления, сделаем последнее замечание: большинство примеров и цитат будет взято нами у св. Августина. И это неизбежно: св. Августин явился свидетелем того великого исторического момента, когда родилось само это понятие; именно он, в ходе борьбы на два фронта — сначала против манихейства[212], затем против пелагианства — разработал полеми-.чсское и апологетическое понятие первородного греха. Однако моя работа ни в коей мере не является работой историка: меня интересует не история полемики с манихейством и пелагианством, а мотивация самого Августина, которую мы можем взять на вооружение, когда будем пытаться мыслить о том, что мы исповедуем и проповедуем.
Не будучи ни историком, ни догматиком, я хотел бы внести свою лепту в изучение того, что я определил бы как герменевтику так называемой догмы о первородном грехе; эта интерпретация, редукционистская по отношению к науке и восстановительная по отношению к символу, является продолжением того, что я пытался осуществить в другой работе, озаглавленной «Символика зла», содержащей в себе критику теологического языка, начиная с воображаемых и мифических символов, таких, как порабощение, падение, скитание, утрата, неповиновение и т. п., и кончая рациональными символами — неоплатоническими, гностическими и символами Отцов Церкви.
В качестве полемического и апологетического понятия «первородный грех» означает прежде всего следующее: зло это есть именно зло, и каким бы оно ни было, оно не обладает ни бытием, ни природой, поскольку исходит от нас, поскольку оно — творение свободы. Однако этого первого положения, как мы увидим дальше, явно недостаточно, поскольку в нем учитывается лишь наиболее очевидный аспект зла, тот, который мы могли бы назвать актуальным злом в двойном его смысле: зла в акте, в исполнении, и на-
личного зла, могущего стать фактом, или, как говорил Кьер-кегор, в том смысле зла, которое полагает себя сию минуту. Во всяком случае, это первое положение должно быть обосновано, поскольку сейчас, когда мы будем говорить о peccatum originale, или о peccatum naturelle*[4], не следует, чтобы, повторно обращаясь к квазиприроде зла, мы забывали о зле-природе, зле-субстанции; это вызовет трудности в трактовке самого этого псевдопонятия — peccatum naturale. Чтобы лучше понять верность этого понятия библейской традиции — по крайней мере в этом первом аспекте, — надо помнить об огромном давлении, которое в течение нескольких веков гносис оказывал на церковное исповедание веры. Если гносис есть гносис, то есть знание, познание, наука, то это потому, что в глубине своей — как показали Йонас, Киспель, Пёч[5] и другие — зло для него является квазифизической реальностью, которая вторгается в человека извне; зло пребывает вовне, оно — тело, оно — вещь, оно — мир, а душа — ниспала внутрь; эта экстери-орность зла сразу же дает нам схему некой вещи, субстанции, которая заражена, инфицирована. Душа приходит «откуда-то», ниспадает «сюда» и должна вернуться «туда»; экзистенциальная тревога, лежащая в основании гносиса, сразу же заполняет собой пространство и время, имеющие свои ориентиры; космос — это причина гибели и спасения, сотериология[213] — это космология. Сразу же все, что является образом, символом, иносказанием: скитание, падение, пленение и т. п. — укореняется в так называемом знании, которое буквально сковывает образ. Так, по словам Пёча, рождается догматическая мифология, неотделимая от пространственного, космического изображения. Космос, воспевая который псалмопевец воздает хвалу Богу и о красоте и божественности которого говорил философ-стоик, этот космос не то что не был обожествлен, а напротив, был, если так можно сказать, сатанизирован, и, опираясь на человеческий опыт зла, получил поддержку в абсолютной экстериорности, абсолютной бесчеловечности, абсолютной материальности. Зло — в самом что ни на есть мирском характере мира. Зло не только не проистекает из
* Здесь и далее в этом разделе переводы с латинского и греческого языков выполнены О. Головой.
человеческой свободы, ведя мир к тщете, оно, напротив, берет начало в могуществе мира и идет в направлении к человеку.
К тому же, грех, в котором исповедуется человек, — это не столько акт творения и причинения зла, сколько состояние пребывания-в-мире, несчастье существования. Трех — это интериоризованная судьба. Вот почему спасение приходит к человеку откуда-то, из другого места, путем чистой магии освобождения, вне какого-либо отношения к ответственности и даже к личности человека. Мы видим, как в гносисе ложное знание, имитатор рациональности, принимается за интерпретацию зла, — потому что зло есть вещь и мир, а миф есть «познание». Знание зла — это реализм образа, обмирщение символа. Таким образом, рождается самая фантастическая догматическая мифология западного мышления, самое фантастическое надувательство разума, имя которому gnose.
Возражая против именно такого понимания зла, греческие и римские Отцы Церкви с поразительным единодушием твердили: зло не от природы, зло — это не вещь, зло — это не материя, не субстанция, не мир. Оно не существует само по себе, оно исходит из нас. Отбросить надо не только ответ на вопрос, но и сам вопрос. Я не могу, отвечая на вопрос, сказать: malwn esse (зло есть), потому что и сам вопрос не может быть поставлен так: quid maluml (что есть зло?), а только как: unde malum faciamusl (почему происходит так, что мы совершаем зло?). Зло — это не быть, а делать.
Тем самым Отцы строго придерживались непрерывающейся традиции Израиля и Церкви, которую я назвал бы покаянной и которая обрела в повествовании о грехопадении свою пластическую форму, свое образцовое символическое выражение. Символ Адама прежде всего и главным образом передает утверждение о том, что человек является если не абсолютным источником, то по меньшей мере точкой зарождения зла в мире. Через человека грех вошел в мир. Грех — это не мир, он входит в мир; еще до всякого гностицизма Яхвист — или школа Яхве — начал бороться против вавилонских представлений о зле, которые исходили из представления о нем как о могущественной силе, зародившейся вместе с вещами, с которой бог сражался и которую он победил до того, как создал мир, и для того, чтобы создать мир. Мысль о катастрофе сотворенного, неожиданно перекинувшейся в безгрешное творение через образцового человека, одухотворило великий миф о Первочеловеке. Сущность символа было зафиксирована в самом имени исторического виновника зла: Адам, то есть Прах Земной, Человек, извлеченный из праха и предназначенный для того, чтобы снова превратиться в прах.
Именно это экзистенциальное понимание повествования об Адаме Августин выдвинул против Мани и манихей-цев. В этом драматическом споре, который он вел в течение двух дней с Фортунатом[214], Августин разоблачает сущность гностического мифа; душа, погрязшая во зле, могла бы сказать своему Богу: «Ты поверг меня в несчастье, разве это не жестокость возжелать, чтобы я страдала ради твоего царствия, против которого это царство теней бессильно?» (конец первого дня). Так Августин вырабатывает чисто этический взгляд на зло, согласно которому ответственность за зло полностью лежит на человеке. Этот взгляд Августина на человека лишен трагического видения: человек предстает у него не как субъект, а как жертва Бога, который, однако, вовсе не жесток и сам претерпел страдания. Как представляется, именно в трактате «Против Феликса» (Contra Felicem) Августин развивает далее первую концептуализацию первородного греха, когда противопоставляет злую волю худой природе; комментируя гл. 12.33 «Евангелия от Матфея» («Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым…»), он восклицает: это «или… — или…» говорит о силе, а не о природе (potestatem indicat, non naturam). Затем он выявляет сущность христианской теологии зла, сравнивая ее с гностической: «Если существует раскаяние — значит существует виновность; если существует виновность — значит существует воля; если в грехе участвует воля — значит не природа нам противостоит»*.
С этого момента нам может показаться, что концептуализация греха должна идти в направлении к идее случайности зла, к идее зла, которое возникает как сугубо иррациональное событие, по словам Кьеркегора, как качествен-
* Augustin. Contra Felicem, 8.
ный «скачок». Однако в эпоху неоплатонизма еще не существовало никакого средства для тематизации такого рода понятий; чтобы найти к ним подход, не оставалось ничего другого, как пересмотреть некоторые понятия, заимствованные у неоплатонизма и существующие в ранге ступеней бытия. Так, Августин в трактате «Против Секундина» («Contra Secundinum») утверждает, что зло есть «отклонение от того, что обладает большим бытием, в сторону того, что обладает меньшим бытием» (inclinât ab… ad*); или что «убывание (deficere) не есть небытие, это — стремление к небытию. Поскольку если вещи, обладающие большим бытием, стремятся (déclinant) к тем вещам, которые обладают меньшим бытием, то это не последние отклоняются, а те, которые умаляют себя и отныне обладают меньшим бытием, чем ранее, и они не становятся теми вещами, к которым устремляются, они становятся наименьшими, каждая в своем роде»**.
Так, с трудом, вырабатывается понятие defectus[215] как понятие негативно ориентированного согласия; небытие здесь означает не полюс бытия, онтологически ему противоположный, а экзистенциальную направленность, противоположную обращению, aversio a Deog, являющуюся негативным моментом по отношению к conversio ad creaturam, как говорится в трактате «О свободном решении»***.
Таким образом, Августину удается выделить тот момент, когда исповедание в грехе вплотную подходит к невероятным понятиям. На вопрос: unde malum faciamuslQt! — следовало отвечать: Sciri поп polest quod nihil est****; «душевное переживание неприятия, которое, как мы считаем, составляет грех, коль скоро оно является переживанием не-достатка (defectivus motus), a всякая недостаточность проистекает из не-бытия (omnis autem defectus ex nihilo est), видит, откуда грех может прийти и, не колеблясь, утверждает, что, конечно же, не от Бога»*****. То же мы читаем в трактате «Против Фортуната» (Contra Fortunatum): «Если
* Augustin. Contra Secundinum, § 12. ** Ibid., § 11.
*** Augustin. De libero arbitrio, 1,16,35; II, 19,35–54. **** Ibid., II, 19,54. ***** Ibid.
верно, что алчность есть корень всякого зла, то было бы тщетно искать помимо нее какой-то другой вид зла». Позже Августин скажет Юлиану Экланскому: «Ты ищешь, откуда пришла злая воля? Ты найдешь человека»*.
Несомненно, эти невообразимые понятия были слишком негативными: defectus, declinatio, corruptio[218] (последний термин у Августина означал: defectus в некой natura); более того, движение к небытию — ad non esse зла — трудно отличить от ex nihilo творения, означающего только его недостаточность быть самим собой, его зависимость как творения. У Августина не было довода в пользу того, чтобы концептуализировать позицию зла; таким образом, он должен был воспользоваться термином ex nihilo, заимствуя его из учения о творении, которое помогало бороться против идеи о несотворенной материи, и сделать из этого термина ad non esse, устремленность к небытию, чтобы бороться против идеи о материальной основе зла. Но это небытие в неоплатонической теологии по-прежнему мало чем будет отличаться от изначального небытия, которое обозначает всего лишь тотальный характер творения.
Однако не эта соотнесенность двух ничто — ничто творения и ничто отсутствия — должна была вызвать к жизни первую концептуализацию, которая продолжит свое существование в упоминаемых нами «Исповеданиях веры» под названием «порча», «полностью испорченная природа».
Эта негативность, однако, не учитывает определенного числа черт древнееврейского и христианского опыта, которые воспроизводит миф об Адаме, но которые тем не менее никак не связаны с идеей defectus, corruptio naturae. A именно эти черты и будет подчеркивать антипелагианская контроверза; именно они будут подталкивать к выработке значительно более позитивного понятия — нашего понятия первородного греха, наследственной порочности — и вести мышление к гностическому способу выражения, к выработке столь же содержательного понятия, что и понятие докосмического падения, разделяемого сторонниками Валентина, или манихейского понятия агрессии, осуществляемой князем мрака, короче говоря, догматического мифа, соответствующего мифам о гносисе.
* Augustin. Contra Julianum, chap. 41.
Теперь нам предстоит объяснить прилагательное «первородный»; мы видели, что св. Августин также употреблял выражение naturale peccatum; еще он говорил: per generatio-пет или generatim, указывая тем самым, что речь идет не о грехах, которые мы совершаем, не об актуальном грехе, а о состоянии греховности, в котором мы пребываем от рождения.
Если мы попытаемся восстановить цепочку смысла, то, что я называю слоями смысла, которые отложились в понятии, мы с самого начала столкнемся со схемой интерпретации, абсолютно несводимой ни к какой философии воли: со схемой наследования греха (немцы говорят: Erbsünde). Эта схема прямо противоположна той, которую мы комментировали до сих пор, — греха как индивидуальной склонности; речь идет вовсе не об индивидуальном порождении зла, а о продолжении, повторении, сравнимых с грузом наследия, переданном всему роду человеческому первым человеком, прародителем всех людей.
Очевидно, что эта схема наследования соответствует представлению о первом человеке, признаваемом инициатором и распространителем зла. Таким образом, воззрения, касающиеся первородного греха, связаны с представлениями об Адаме, имевшими место в позднем иудаизме, которые св. Павел ввел в христианство, проводя параллель между Христом, совершенным человеком, вторым Адамом, инициатором спасения, и первым человеком, первым Адамом, от которого исходит погибель.
Первый Адам, который у св. Павла является антитипом, «образом того, кто должен прийти» — тгжос тог> цеМлэу-тос — благодаря ему становится узловым пунктом воззрений. Грехопадение Адама, как и пришествие Христа, раскалывает историю надвое; эти две схемы все более и более накладываются друг на друга, как противоположные образы; и если легендарное совершенное человечество предшествует грехопадению, то человечество конца времен наследует черты архетипического Человека.
Именно опираясь на этот узел значений будет, шаг за шагом, формулироваться понятие первородного греха в том его виде, в каком его завещал Церкви сам Августин.
Было бы небесполезно показать, каким образом Августин ужесточил текст послания св. Павла к римлянам (Рим. 5, 12 и след.), посвященный параллели между двумя Адамами.
Прежде всего, для него индивидуальность Адама как персонажа исторического, как первопредка людей, появившегося на свет всего лишь за несколько тысячелетий до нас, не составляла вопроса. Тем более это не было вопросом для Пелагия и пелагианцев. Выражение Si' évoç àv9pdmo\) из Послания к Римлянам 5, 12 и 19 буквально означают per ипит, то есть единичного человека. Более того, выражение е<р' ф Tcàvteç fip.apTov из стиха 12-го послания трактуется св. Августином как inquoomnespeccaverunt, то есть «в ком» мы согрешили, при in quo, отсылающем к Адаму; авгу-стинианская интерпретация является, как мы видим, теологическим толкованием, так как е<р ф означает, что «все согрешили в Адаме»; заманчиво было бы попытаться узнать, каким это образом все люди уже присутствовали в Адаме, как об этом часто говорилось; напротив, если еср' ф означает «посредством чего», «в чем» или даже «вследствие чего» все согрешили, роль индивидуальной ответственности в этой цепи наследственной греховности сохраняется.
К этому следует добавить, что августинианская экзегеза сводит к минимуму все то, что в воззрениях Павла относительно Адама могло ограничивать буквальное толкование роли первого человека; прежде всего, тот факт, что этот образ является антиподом образа Христа: «так же, как… как»; далее, последовательное движение, прибавляющееся к параллели двух образов: «Ибо если преступлением одного… дар по благодати преизбыточествует для многих» (5, 15); «А когда умножился грех, стала преизоби-ловать благодать» (5, 20); наконец, грех, согласно св. Павлу, придуман не первым человеком; скорее именно мифическое величие превышает образ Адама; оно передается через первого человека: ôi' évoç àv9pœmyu, per ипит, через одно-го-единственного человека; но этот unus является не столько первым действующим лицом, первым творцом, сколько первым проводником; именно грех в своем сверхиндивидуальном величии собирает вместе людей, от первого человека до нас с вами, именно он «делает» каждого грешным, именно он «имеется во множестве» и именно он «царствует». Вот сколько черт, способных препятствовать чисто юридической или биологической интерпретации наследования. То, что я только что назвал мифическим величием греха у св. Павла, чтобы подчеркнуть сверх личностный характер таких реалий, как закон, грех, смерть, плоть, сопротивляется их юридическому истолкованию, которое, однако, прокладывает себе путь наряду с другими понятиями Павла, такими, как вменение в вину (еААо-уешвссг): грех, говорится в Послании к Римлянам, не вменяется, когда нет закона (5, 13). Можно ожидать, что утрата мифического измерения, еще присутствующего у св. Павла, приведет к исчезновению сверхличностного величия греха в юридической интерпретации индивидуальной виновности, подправленной биологизмом, свойственным идее передачи по наследству.
Именно Августин несет ответственность за классическую разработку понятия первородного греха и его включение — в прямом соответствии с христологией — в догматическое учение Церкви, в раздел о «милости Божйей».
И именно здесь следует выявить его действительную роль в опровержении пелагианства. Конечно, полемика с пелагианцами была решающей, хотя, как мы увидим дальше, она не освобождала от поиска внутри самого набирающего силу августинианского мышления, глубинного мотива догмы о первородном грехе.
Пелагий, действительно, принадлежит к волюнтаристическому направлению антиманихейства; мы видим, как в своем «Комментарии к 13-му посланию св. Павла» («Commentaire de treize epitre de saint Paul»), опубликованном Суте (Souter), он извлекает все возможные выводы из последовательного волюнтаризма: каждый грешит сознательно, Бог же справедлив и не может желать ничего неразумного, не может наказывать одного человека, абсолютно чуждого греху, за грех другого человека; отныне выражение «в Адаме», которое у всех или почти у всех, читавших «Послание к Римлянам», вставало перед глазами, может означать только отношение подражания; в Адаме означает как Адам. Более того, Пелагий, отличающийся суровостью и требовательностью, уверен в том, что человек ссылается на
собственную слабость и силу греха, чтобы оправдать себя за то, что не потрудился не желать греха. Вот почему следует сказать, что человек всегда властен не совершать греха, posse поп рессаге; Пелагий, следовательно, строго придерживался того, что можно было бы назвать возможностью греха, которая, как мы видели, была и остается подлинно библейской темой: «Я предлагаю тебе жизнь или смерть, трудолюбие или проклятье. Выбери жизнь». Эти слова Пелагий трактует следующим образом: überlas ad peccandum et ad non peccandum[219]. Для такого рода волюнтаризма, доведенного почти до последовательного пробабилизма, naturale peccatum, интерпретированный как наследственная виновность, может означать лишь возвращение в лоно манихейства; «Ты никогда не освободишься от таинств Мани», — скажет позже Августину Юлиан Экланский.
Именно для того, чтобы противостоять интерпретации Пелагия, устраняющего теневую сторону греха как власти, которая распространяется на всех людей, св. Августин почти до конца жизни придерживался понятия первородного греха, все более и более открывающего ему смысл, с одной стороны, личной виновности человека, с юридической точки зрения достойного смерти, с другой стороны — порока, унаследованного при рождении.
Однако если и можно приписывать полемике с пелаги-анством доктринальную жесткость и ложную концептуальную логичность, то считать ее глубоко мотивированной — нельзя. Непреклонно придерживаясь в борьбе с гностиками волюнтаристской позиции, Августин использовал собственный исповедальный опыт, живой опыт сопротивления желания и привычки доброй воле в страстном опровержении пелагианской идеи свободы, не имеющей никакой предданной природы, ничего привычного, ни истории, ни нажитого богатства, которые были бы для каждого из нас особой, отдельной точкой в ничем не детерминированном творчестве; конец VIII книги «Исповеди» свидетельствует об этом опыте, который возвращает нас к св. Павлу и предвещает Лютера, о воле, которая ускользает от себя и повинуется иному закону.
Решающим доказательством того, что спор с Пелагием не объясняет всего, мы находим в обращении к Симплициany (397)[220], написанном за пятнадцать лет до первого ан-типелагианского трактата («De Peccatorum meritis et remissi-one», 414–415), где, казалось бы, дается окончательная формулировка первородного греха. Впервые Августин говорит не только об «изначальной тревоге», не только о «дурной привычке», как это было в ранее написанных работах — он говорит о «наследственной вине», стало быть, о проступке, достойном наказания, который предшествует любому личному проступку и связан с фактом рождения.
Благодаря чему был сделан этот шаг? Благодаря размышлению над Посланием к Римлянам (9, 10–29), которое смещает экзегетический центр спора: речь больше не вдет, как это было в гл. 5 Послания, об антитезе двух Че-ловеков — Адама и Христа, но о двух возможностях выбора Бога: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (9, 13). «…Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (9, 18). Проблема зла, следовательно, это все еще проблема антипода, однако это уже не проблема противоположности: Человек — Христос, но проблема противоположности абсолютному акту Божию: избранность. Этот антипод — осуждение; и именно для того, чтобы поддержать справедливость этого осуждения, соответствующего выбору, Августин помещает виновность Исава до его рождения; вот знаменитый текст, связывающий предназначение и наследственную виновность: «Все люди образуют как бы массу греха, все они в искупительном долгу перед божественной и суверенной справедливостью. Этот долг Бог может потребовать или простить, не прибегая к несправедливости (supplicium debens divinae summaeque justiciae quod sive exigatur, sive donetur, nulla est inquitias). Именно от гордыни должников зависит Его решение, у кого требовать долг, а кому простить его»*.
Прекрасный образ глины и горшечника используется здесь для того, чтобы показать, что все люди инфицированы первым человеком.
Я не цойду по пути обобщения всей аргументации, используемой в ходе жесткой борьбы сначала против Целе-стия (412), затем против Пелагия (415) и наконец против
IP * Augustin. De diversis quaestionibus ad Simplicianum, 1,2,16.
Юлиана Экланского, который был большим пелагианцем, чем сам сдержанный Пелагий. С одной стороны, постоянно укрепляется и ужесточается юридическая аргументация: обвинение всего человечества — это снятие вины с Бога. Забота о логической связности заставляет признать, что, поскольку грех всегда дело добровольное — в противном случае Мани был бы прав, — необходимо, чтобы наша воля уже до своего проявления была включена в злую волю Адама — reatu ejus implicates. В таком случае следовало бы говорить о врожденной воле, дабы установить виновность детей во чреве матери. С другой стороны, чтобы оспорить тезис Пелагия о простом подражании Адаму, когда речь идет о человечестве в целом, следовало бы отыскать при самом «рождении» — per generationen — переносчика этой инфекции, хотя при этом имеется риск воскресить античные ассоциации с архаическим сознанием, связывающим запятнанность с сексуальностью. Таким образом вырисовывается концепция наследственной виновности, которая встает препятствием на пути юридической категории: достойное наказания добровольное преступление — и биологической категории — изначальное единство рода человеческого. Я с полной уверенностью скажу, что эта концепция, как таковая, то есть взятая в ее эпистемологическом значении, не является рациональным построением, отличным от рациональной концепции познания: доэм-пирическое грехопадение Валентина, царство мрака Мани и т. п.
Концепция первородного греха, антигностическая по своему истоку и нацеленности, поскольку зло остается в ней от начала и до конца человеческим, становилась квазигностической по мере того, как она рационализировалась; она превратилась в краеугольный камень догматической мифологии, сравнимой, с точки зрения эпистемологической, с концепцией знания. На деле, именно для того, чтобы рационализировать божественное порицание, которое у св. Павла было всего лишь антиподом избранности, св. Августин создал то, что я рискнул бы назвать квазизнанием. Разумеется, для Августина божественная тайна остается нетронутой, но это уже — тайна выбора: никто не знает, почему Бог оказывает милость тому, а не другому. Зато не существует тайны порицания: выбор совершается по милости, лишение жизни — по праву, и именно для того, чтобы оправдать лишение жизни по праву, Августин выдвинул идею естественной виновности, унаследованной от первого человека, — эффективной в качестве акта и наказуемой в качестве преступления.
Тогда я поставлю такой вопрос: отличается ли этот ход мышления от хода мышления друзей Иова, объясняющего тому, кто страдает по справедливости, справедливость его страданий? Не действует ли здесь старый закон о воздаянии, который, если иметь в виду коллективную виновность Израиля, был развенчан Иезекиилем и Иеремией, но взамен распространен на человечество в целом? Не достойны ли разоблачения извечная теодицея с ее ложной целью оправдания Бога — поскольку это он нас оправдывает? Не является ли это безрассудным мудрствованием защитников Бога, которое овладело теперь великим святым — Августином?
Но, могут нам возразить, каким образом случилось так, что концепция первородного греха стала наиболее ортодоксальной частью христианской традиции? Я без колебания скажу, что Пелагий был тысячу раз прав, выступая против псевдопонятия первородного греха, что св. Августин сумел разглядеть в этой догматической мифологии нечто существенное, что было абсолютно недоступно Пелагию; Пелагий, вероятно, был прав, выступая против мифологии первородного греха, но именно Августин был прав несомненно, опираясь на эту мифологию и действуя вопреки ей.
Вот что я хотел бы отметить в конце данного сообщения. Настало время использовать правило мышления, которое я предложил в самом начале: необходимо, говорил я, разрушить понятие; надо подвергнуть сомнению знание, чтобы выявить ортодоксальную интенцию, прямой смысл, экклезиастический смысл. И я бы поддержал утверждение о том, что этот прямой смысл является не понятием, SL символом — символом рациональным, символом, предназначенным для разума, — тем, что в наших высказываниях об исповедании в грехах есть наиболее глубинное и существенное.
Что понимаю я под рациональным символом? То, что понятия не самодостаточны, что они отсылают к аналогичным выражениям, аналогичным не потому, что им недостает строгости, а потому, что они обладают избыточным значением; в понятии первородного греха следует прозондировать не его ложную ясность, а его богатую аналогиями темную сторону. Теперь надо вернуться назад: вместо того, чтобы идти вперед по пути умозрения, надо вернуться к богатейшему содержанию смысла, каким обладают до-рациональные «символы», в том числе и библейские символы, существующие до того, как сложился абстрактный язык: скитание, восстание, отсутствующая цель, запутанный и извилистый путь, и, особенно, пленение; египетское пленение, затем вавилонское, ставшие символом человеческой участи под гнетом зла.
С помощью этих символов, скорее описательных, нежели объяснительных, библейские авторы обозначали некоторые непроясненные, навязчивые черты человеческого опыта зла, которые не могли перейти в чисто негативное понятие разрушения. Что это за черты исповедания в грехах, которые сопротивляются тому, чтобы их описывали на волюнтаристском языке антиманихейских работ, чтобы их интерпретировали путем сознательного отклонения от индивидуальной воли?
В этом опыте покаяния я выделю три отличительные черты. Это прежде всего то, что я назвал бы реализмом греха: осознанность греха не является его мерой; не мое сознание является мерой греха; грех — это мое истинное положение перед Богом, предстояние «перед Богом»; вот почему для изобличения в грехе необходим Другой — проповедник; никакого самоосознания здесь недостаточно, тем более что сознание само включено в мою ситуацию и становится ложью и злой верой. Этот реализм греха не может повторно использоваться в довольно кратком и ясном сознательном отклонении воли; это — скорее блуждание бытия, более радикальный способ бытия, чем любой его единичный акт; так, Иеремия сравнивает злые наклонности, укоренившиеся в сердце, с черным цветом кожи Эфйоплянина и пятен барса. Иезекииль называет жестокосердием (2, 4) эту ожесточенность существования, ставшего недоступным для божественной требовательности.
Вторая черта: для проповедников это условие греховности не сводится к понятию индивидуальной виновности в том виде, как его трактовал греко-римский юридический ум, чтобы дать в руки административных органов основание для судебной карательной меры; оно изначально носит общностный характер: люди здесь включены в некое целое; существует грех Тира, Едома, Галаада, грех Иуды; «мы» — «мы, другие, бедные грешники» литургии — говорится в исповедании в грехах; эта трансбиологическая и трансисторическая общность греха лежит в основе метафизического единства рода человеческого; и она также не поддается анализу, если рассматривать ее внутри разнообразных отклонений единичных человеческих волений.
Третья черта: опыт покаяния Израиля уже четко выявил один наиболее мрачный аспект греха; это — не только состояние, в которое человек погружается, находясь в плену; это — в большей мере фундаментальное бессилие, чем некое отклонение; это — дистанция между «я хочу» и «я могу». Это — грех как «беспомощное состояние».
К тому же св. Павел в своем опыте обращения уже подчеркивал этот аспект бессилия, рабства, пассивности в том пункте, где он, казалось бы, полностью разделяет словарь гностиков: так, он говорит о законе греха, который заключен в наших членах; грех для него — это демоническая сила, такая же мифическая величина, как Закон и Смерть; человек — это «обиталище» греха, и не он его полагает и создает. Грех «входит» в мир, «действует», «преизбыточе-ствует», «царствует».
Как мы видим, этот опыт, как никакой другой, полностью лишен высокомерного волюнтаризма, характерного для первых работ Августина; вспомним и о формулировке из трактата «О свободном решении»: nusquam nisi in voluntate çsse peccatum[221], которая в «Пересмотрах»*, добавит большие хлопоты Августину, пытающемуся укрыться от пела-гианских насмешек. Короче говоря, этот опыт ведет к ква-
* Augustin. Retractationes, 1,13,2; 1,15,2. 12 — 2256
зиприродной идее зла, опасно сближаясь с экзистенциальной тревогой, которая лежит в основании знания. Опыт схватывания, связывания, пленения побуждает к мысли о внешнем блокировании, зараженности субстанцией зла, которая лежит в истоке трагического мифа о познании.
Вероятно, уже наступил тот самый момент, когда мы можем приоткрыть символическую функцию первородного греха. Скажу только две вещи. Прежде всего, это — та же самая функция, что являет себя в повествовании о грехопадении, действующая не на уровне понятий, а на уровне мифических образов. Повествование это обладает необычайной символической заряженностью, поскольку сосредоточивает в архетипе человека все то, что смутно испытано верующим и передано им с помощью намеков; эта история, далекая от того, чтобы объяснять все, что ни на есть, — под угрозой остаться всего лишь этиологическим мифом, сравнимым с другими формами народного эпического сказания, — выражает, с помощью образного творчества, невыраженную и невыразимую в простых и ясных словах основу человеческого опыта. Можно даже сказать, что повествование о грехопадении мифично, но оно лишается своего смысла, если мы ограничиваемся этим; недостаточно выделить миф из истории, надо обнаружить его истину, которая не является исторической; Додд (C.RDodd), теолог из Кембриджа, в своей восхитительной книге «Библия сегодня» («La Bible aujourd'hui») справедливо отмечает, Говоря о мифе об Адаме, что его первейшая функция заключается в том, чтобы универсализировать трагический опыт человеческого изгнанничества: «Это трагическая судьба Израиля, спроецированная на человечество в целом. Слово Божие, заставившее человека покинуть райские кущи, есть слово осуждения, которое наслало на Израиль изгнание, слово, получившее универсальное применение»*. Слово Божие не есть миф как таковой, поскольку его первичный смысл мог быть совсем иным; это его способность открывать, касающаяся человеческой участи в целом, образует его смысл, данный в откровении. Это нечто раскрытое, обнаруженное, что без мифа так бы и осталось сокрытым, невыявленным.
* Dodd С. H. La Bible aujourd'hui. P. 117.
Однако функцией универсализации опыта Израиля в рамках рода человеческого дело не ограничивается: одновременно миф об Адаме обнаруживает таинственный аспект зла, а именно то, что, если каждый из нас начинает творить зло, дает ему начало, — это прекрасно понял Пелагий — каждый из нас тотчас находит его готовым в себе, вне себя, перед собой; для всякого сознания, которое пробуждается, чтобы брать на себя ответственность, зло уже здесь; возводя к далекому предку исток зла, миф раскрывает ситуацию каждого отдельного человека: это уже имело место; я не даю начало злу, я его продолжаю; я вовлечен во зло; у зла есть прошлое, и это его прошлое; у зла есть собственная традиция; таким образом, миф в образе предка рода человеческого закладывает все те черты, которые мы только что отметили: реальность греха, предшествующая его осознанию; общностное свойство греха, несводимое к индивидуальной ответственности; бессилие воли, обнимающей собой любой ныне совершаемый проступок. Это трехчленное описание, которое может артикулировать современный человек, кристаллизуется в символе «до», способном сосредоточить в себе миф о первом человеке. Здесь мы присутствуем при зарождении схемы наследования, обнаруженной нами в основании размышлений об Адаме — от св. Павла до св. Августина. Но смысл этой схемы прояснится, как только мы полностью откажемся от проецирования на историю образа Адама, если 1£ы будем интерпретировать его как «тип», как «тип древнего человека». Чего же при этом нельзя делать, так это переходить от мифа к мифологии. Нет ничего более зловредного для христианства, чем превращение его в буквальную, точнее было бы сказать «историцистскую», интерпретацию мифа об Адаме; такая интерпретация присутствует в учении об абсурдности истории, в псевдораци-ойалистческих спекуляциях по поводу квазибиологической трансмиссии квазиюридической виновности другого человека, перенесенного в глубину веков занимающего некое срединное положение между питекантропом и неандертальцем. Тем самым растрачиваются богатства, скрытое в символе Адама; уверенный в себе разум, разумный человек от Пелагия до Канта, Фейербаха, Маркса и Ниц-ше всегда будет прав в споре с мифологией; однако символ
заставляет выходить за пределы редукционистской критики. Между наивным историцизмом фундаментализма и безжизненным морализаторством рационализма открывается путь герменевтики символов.
Меня могут упрекнуть в том> что я ссылаюсь лишь на символы мифов, скажем, на повествование о грехе, связанное с именем Яхве, а вовсе не на символы рационального уровня, скажем, на понятие первородного греха, о котором, кстати, уже говорилось в настоящем сообщении. Разве не отмечал я, что это понятие обладает такой же символической функцией, что и повествование о грехопадении в Книге Бытия? Это так, но это не исчерпывает всего смысла. С одной стороны, следует сказать, что понятие отсылает к мифу, а миф — к исповедальному опыту древнего Израиля и Церкви; интенциональный анализ идет по пути от псевдорациональности к псевдоистории и от псевдоистории к жизненному опыту церкви. Однако следует пройти и обратный путь: миф — это не только псевдоистория, он — разоблачитель; разоблачая, он раскрывает такое измерение опыта, которое без него не получило бы выражения и, тем самым, как жизненный опыт, было бы выброшено за борт. Мы уже упоминали о некоторых разоблачениях, свойственных мифу. Стоит ли говорить о том, что процесс рационализации, начавшийся с размышлений св. Павла об Адаме и закончившийся августиновским понятием первородного греха, был лишен собственного смысла, что он представлял собой лишь псевдознание, привитое к мифу, буквально истолкованному и помещенному в псевдоисторию?
Главную функцию понятия — или псевдопонятия — первородного греха я вижу в усилии, направленном на то, чтобы сохранить завоевания первой концептуализации, где грех выступает не как природа, а как воля, и чтобы внедрить в эту волю квазиприроду зла. Именно из этой квазиприроды, выражающей, однако, то, что является не природой, а волей, Августин и выводит рациональный фантом; в работе «Пересмотры», где Августин вновь обращается к антиманихейским утверждениям своей молодости, мы читаем: «Грех следует искать не в каком-то там месте, а в воле»; теперь ему приходит на ум утверждение пелагианцев,
и он отвечает им: считается, что первородный грех детей «лишен абсурдной произвольности, поскольку он был продолжением злой воли первого человека и в некотором отношении является наследственным»*, и далее, грех, каким мы «были включены в его греховность», есть «творение воли»**. Отсюда веет некой безысходностью, если иметь в гаду концептуальную репрезентативность, и, однако, просматривается неизмеримая глубина, если встать на метафизическую точку зрения: именно в самой воле есть место для квазиприроды; зло — это нечто безвольное внутри воли, не перед волей, а именно внутри воли, и оно — хозяин положения. Вот почему надо строить чудовищную комбинацию из юридического понятия вменения в вину, чтобы здесь обнаружить наличие волевого, и биологического, понятия наследования, чтобы стало явным присутствие непроизвольного, приобретенного, принятого. Тем самым обращение переносится на тот же самый уровень глубинности; если зло находится на уровне «зарождения» (génération) ^^Символическом, не-фактическом смысле этого слова, то обращение — это «возрождение» (régénération). Я сказал бы, что вместе с первородным грехом был создан, при использовании абсурдного понятия, антитип возрождения, антитип нового рождения; благодаря этому антиподу воле дано было пассивное основание, включенное в ее актуальную способность выбора и принятия решения.
Но в таком случае — и я завершил бы свое изложение следующими тремя предупреждениями:
1. Мы не имеем никакого права спекулировать понятием первородного греха — которое, как таковое, есть не что иное, как рационализированный миф, — как если бы оно обладало собственной обоснованностью: оно проясняет миф об Адаме, как и сам этот миф прояснял исповедальный опыт Израиля. Это следует всегда иметь в виду, если речь идет об исповедании грехов Церковью.
2. Мы не имеем никакого права спекулировать злом, которое уже есть, вне зла, которое сами творим. «Уже есть» — это, несомненно, высшее таинство греха: мы даем начало злу, через нас зло входит в мир, но мы даем нача-
* Augustin. Retractationes, 1,13,5. ** Ibid., 1,15,2.
ло злу, лишь отправляясь от зла, которое уже есть и непостижимым символом которого является наше рождение. 3. Мы не имеем никакого права спекулировать ни злом, которому даем начало, ни злом, которое находим, вне всякого соотнесения с историей спасения. Первородный грех — это всего лишь антитип. Однако тип и антитип не только следуют параллельно друг другу (так же, как… как и…), они осуществляют движение один к другому («кроме того», «тем более»): «А когда умножился грех, стала преизобило-вать благодать» (Рим. 5, 20).
ГЕРМЕНЕВТИКА СИМВОЛОВ И ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ (1)
Цель этого очерка — обрисовать общую теорию символа, исходя из одного определенного символа, или, скорее, от комплекса определенных символов, то есть из символики зла.
Главная проблема, по поводу которой написан этот очерк, заключается в следующем: каким образом мышление, однажды соприкоснувшееся с обширной проблематикой символизма и со способностью расшифровывать символ, может развиваться в русле строгой рациональности, свойственной философии с момента ее зарождения? Короче говоря, каким образом соединить философскую рефлексию с герменевтикой символов?
Сначала несколько слов о существе самого вопроса.
Размышление о символах возникает в определенный момент рефлексии, отвечает определенному положению в философии и, вероятно, в современной культуре. Обращение к архаике, к ночному, сновидческому является попыткой избежать трудностей, с которыми столкнулись при рассмотрении отправной точки в философии.
Известно, сколь изнуряющим бывает отступление мышления назад в поисках первоистины и, что еще более существенно, в поисках исходной точки зрения, которая может и не нести в себе первоистину.
Вероятно следовало бы испытать разочарование, связанное с идеей беспредпосылочной философии, чтобы до-браться до проблематики, к которой мы будем направлять свои усилия. В противоположность философским концепциям, говорящим о начале, размышление о символах исходит из уже сформировавшегося языка и из уже наличествующих смыслов; оно исходит из языковой среды, которая уже сложилась и в которой все уже так или иначе высказано; оно хочет быть не мышлением без предпосылок, но мышлением со всеми его предпосылками и внутри всех его предпосылок. Для него первейшая задача заключается не в том, чтобы начать, а в том, чтобы, пользуясь словом, вновь напомнить о себе.
Однако, противопоставляя проблематику символа кар-тезианско-гуссерлевскому поиску начала, мы тесным образом связываем это размышление с вполне определенным этапом философского дискурса; следует, видимо, смотреть на вещи шире: если мы поднимаем проблему символа сейчас, в этот исторический период, то делаем это в тесной связи с определенными чертами нашей «современности» и вместе с тем для того, чтобы дать отпор самой этой современности. Историческим моментом для философии символа являются символы забвения и возрождения: забвения священничества; забвения знаков Священного; утрата человеком самого себя как принадлежащего Священному. Это забвение, как мы знаем, имеет своей оборотной стороной грандиозную задачу — накормить людей, удовлетворить их потребности путем освоения природы с помощью техники в планетарном масштабе. И именно это тайное признание того, что было забыто, движет нами, толкает нас к созданию интегрального языка. И именно в это время, когда наш язык становится более точным, более однозначным, словом, более техничным, более способным к тем интегральным фор мал изаци ям, которые называются символической логикой (дальше мы вернемся к удивительной двойственности слова «символ»), — в это самое время в истории речевой практики мы хотим возвратить себе наш язык во всей его полноте. Это — также знак внимания к «современности»; ведь мы живем в то время, когда существуют филология, экзегетика, феноменология, психоанализ» анализ языка. Наше время — это также время, когда возникает возможность опустошить язык и вновь заполнить его. Нами, следовательно, движет не сожаление об исчезнувшей Атлантиде, а надежда на воссоздание языка; по ту сторону пустыни, оставленной нам критиками, мы хотим вновь обрести язык.
«Символ дает пищу для ума: это понравившееся мне изречение говорит о двух вещах; символ дает; не я полагаю смысл, это символ дает смысл; то, что символ дает, — это стимул к мышлению, это то, о чем следует «мыслить». Надо исходить из того, что принесено в дар, из позиции, что данное изречение одновременно говорит о том, что все, уже изреченное, загадочно, и, тем не менее, в мышлении надо всегда с чего-то начинать, и начинать надо с начала. Именно это сочленение мышления, данного себе самому в свете символов, и мышления, полагающего и мыслящего, я и хотел бы выявить и понять.
1. КАТЕГОРИЯ СИМВОЛА
О чем говорит пример символики зла для такого масштабного исследования? Этот пример является хорошим пробным камнем в нескольких отношениях.
1. Весьма знаменательно, что наряду с теологией и умозрением, даже наряду с мифологическими сюжетами, мы сталкиваемся еще и с символами; эти простейшие символы принадлежат суверенному языку опыта, который мы для краткости назовем опытом «исповедания»; на самом деле не существует прямого, несимволического языка, говорящего о зле претерцеваемом, допустимом или совершаемом; человек, признающий себя либо ответственным за зло, либо жертвой причиненного ему зла, говорит об этом сначала символически, так что обнаружить здесь сочленения можно лишь благодаря различным ритуалам «исповедания», истолкованным нам историей религии.
Идет ли речь об образе пятна в магическом понимании зла как запятнанности, или об образах отклонения, кривого пути, нарушения, заблуждения, более характерных для этического понимания греха, или об образах тяжести, груза во внутреннем переживании вины, символ зла при своем образовании всегда исходит от означающего первого уровня — от контакта, ориентации человека в пространстве. Я назвал первичными символами этот простейший язык, чтобы отделить от него мифические символы, которые значительно лучше артикулированы и являются составной частью повествования со своими персонажами, воображаемым местом и временем действия, и сообщают о Начале и Конце этого опыта, для подтверждения чего служат первичные символы.
Эти первичные символы проясняют интенциональную структуру символа как такового. Символ — это знак, и как любой знак он соответствует какой-либо вещи и вместе с тем нацелен за ее пределы. Однако не любой знак является символом; символ содержит в себе двойную интенцио-нальность; прежде всего существует первичная, или буквальная, интенциональность, которая, как любая означивающая интенциональность, предполагает превосходство условного знака по отношению к знаку природному: к такого рода знакам относятся образы пятна, отклонения, тяжести; слова, непохожие на означаемую вещь; однако над этой первичной интенциональностью надстраивается вторичная интенциональность, которая, благодаря материальному пятну, отклонению в пространстве, испытанию тяжести, предусматривает определенную ситуацию человека в сфере Священного; эта ситуация, надстраивающаяся над смыслом первого уровня, говорит о существе запятнанном, 1*реховном, виновном; буквальный, явный смысл нацелен на то, что находится вне его, на то, что выступает как пятно, как отклонение, как тяжесть. Таким образом, в противоположность знакам техническим, абсолютно прозрачным, которые говорят только о том, о чем хотят сказать, полагая означаемое, символические знаки непрозрачны, поскольку первичный, буквальный, явный смысл сам аналогичным образом нацелен на вторичный смысл, который дин только в нем. Эта непрозрачность таит в себе глубину смысла, смысла, как скажут, неисчерпаемого. Попытаемся хорошенько понять эту аналогическую связь буквального смысла и смысла символического; в то время как ана-цогия есть рассуждение недоказательное, возникающее на четвертом уровне (А есть по отношению к В то, чем С является по отношению к D), в символе я не могу объективировать отношение аналогии, которое связывает вторич-ный смысл со смыслом первичным; лишь находясь внутри первичного смысла, живя в нем, я — благодаря ему — могу устремляться за его пределы: символический смысл создан внутри буквального смысла и самим буквальным смыслом, который, оперируя аналогией, порождает то, что ему аналогично. В отличие от сравнения, которое мы рассматриваем как бы со стороны, символ есть движение самого первичного смысла, заставляющее нас присутствовать в буквальном смысле и тем самым ассимилирующее нас с символизируемым так, что интеллектуально мы оказываемся неспособными подкрепить сходство. Именно в этом смысле символ есть «дающий»; он является дающим, поскольку он — первичная интенциональность, дающая вторичный смысл.
2. Вторым завоеванием такого понимания первичных символов исповедания является обнаружение динамики символов, их жизни. Семантика ставит нас лицом к лицу с подлинной лингвистической революцией, имеющей строго определенную ориентацию; опыт прокладывает себе путь, используя словесные нововведения. Траектория опыта проступка, таким образом, размечена вехами следующих друг за другом символических наметок. Мы не предаемся сомнительной интроспекции по поводу чувства вины; короткий, и, по моему мнению, вызывающей подозрение, путь интроспективной психологии следует заменить на длинный и более надежный путь рефлексии о динамике великих символов культуры*.
Динамика первичных символов, размеченная тремя группами явлений: запятнанности, греха и виновности, — имеет двойной смысл, и эта двойственность весьма показательна для динамики символов вообще: от одного символа к другому существует, во-первых, бесспорное движение ин-териоризации, а вместе с тем и другой вид движения, связанный с обеднением символического богатства; вот почему, заметим мимоходом, не следует злоупотреблять «исто-
* Длинный путь мне кажется необходимым еще и потому, что я противопоставляю свою интерпретацию психоаналитической. Интроспективная психология оказывается беспомощной перед лицом фрейдовской или юнги-анской герменевтики; рефлексивный подход, напротив, не только с успехом противостоит ей, но и, обращаясь к герменевтике символов культуры, дает начало подлинным дебатам между этими двумя видами герменевтики. Регрессивное движение к архаичному, инфантильному, инстинктивному должно противостоять прогрессивному движению к восходящему синтезу, к символике обетования.
рицистской» или «прогрессистской» интерпретациями эволюции сознания в этих символах. То, что мы выигрываем в одном отношении, проигрываем в другом. Таким образом, каждая «инстанция» держится тем, что обновляет символическое наследие предшествующей инстанции; нас не удивит, если «запятнанность», этот древнейший символ, получит по существу новую жизнь в третьей инстанции. Пребывая внутри опыта греховности, опыт нечистоты уже причастен свету говорения, чрезвычайному символическому богатству темы запятнанности. На деле залятнан-ность с самого начала — это нечто большее, чем пятно; она ведет вперед, к совокупному чувству личности, пребывающей перед Священным. То, что ощущает кающийся человек, не может быть устранено путем обычного отмывания. Сам обряд очищения за жестами замещения (скрывать, выплевывать, отбрасывать и т. д.) предусматривает нэкую целостность, невыразимую ни на каком ином языке, кроме символического; вот почему именно магический термин запятнанности, каким бы архаическим он ни был я каким бы изменениям ни подвергался, передает нам символику чистого и нечистого со всем ее гармоничным богатством. В центре этой символики — схема «экстериорнос-ти>, инвестированная с помощью зла, которое, как можно подумать, и является непостижимой основой «неправедного таинства». Зло является злом только в той мере, в какой я его полагаю, однако в центре зла, совершаемого в свободе, обнаруживается способность к совращению посредством зла, которое «уже здесь», — и это древняя античная запятнанность выразила символическим образом. Архаический символ сохраняется только благодаря революциям в опыте и в языке, которые включают его в себя. Движение иконоборчества первоначально отправляется не от рефлексии, а от самого символизма; символ — это прежде всего то, что разрушает предшествующий символ. Таким образом, мы видим, как символика греха концентрируется вокруг образов, противоположных образам пятна; теперь уже руководящей схемой является не внешний контакт, а удаление (от цели, прямого пути, от границы, которую нельзя преступить и т. п.). К тому же, это изменение темы говорит об изменении фундаментальных мотивов. Рождается новая категория религиозного опыта: категория «перед Богом», свидетельством которой является иудейский berit, Союз. На свет выходит требование бесконечного совершенствования, которое не перестает по-новому формулировать четко ограниченные предписания старых кодов. К этому неуничтожимому требованию присоединяется столь же неуничтожимая угроза, революционизирующая прежний страх перед запретом и заставляющая опасаться встречи с Богом, когда он во Гневе. Что происходит тогда с изначальным символом? С одной стороны, зло уже не является больше «чем-то», оно становится прерванным отношением, следовательно, «ничем»; это ничто заявляет о себе в образах источения, пустоты, испарения, тщетности идола. Гнев самого Бога — это как бы ничто его отсутствия. Однако в то же время возникает и новая позитивность зла, это уже не «что-то» внешнее, а некая реальная сила, которая закабаляет. Символ пленения, преобразующий историческое событие (египетское пленение, затем вавилонское) в экзистенциальную схему, представляет собой самое высокое выражение, которого достиг опыт покаяния Израиля. Благодаря этой новой позитивности зла первичный символизм зла, символизм запятнанности, смог снова возродиться: схема экстериорности найдена вновь, но уже на этическом, а не на магическом уровне. То же движение разрыва и возобновления можно наблюдать и в переходе от символов греха к символам виновности. С одной стороны, сугубо субъективный опыт вины стремится стать реалистическим и, если так можно сказать, онтологическим утверждением греха; в то время как грех реален даже тогда, когда о нем не знают, виновность измеряется тем, что она осознается человеком, становящимся виновником собственного проступка. Именно так образ тяжести и груза заменяется образом разрыва, сдвига, скитания; в глубинах сознания положение «перед Богом» готово уступить свое место положению «перед я»; человек виновен, если он сам чувствует себя виновным. Этой новой революции мы, несомненно, обязаны появлением более продуманного и взвешенного смысла ответственности, которая из коллективной становится индивидуальной, из тотальной — градуированной. Мы вступаем в мир продуманного обвинения, обвинения, выдвигаемого судьей и щепетильной совестью сознания. Однако в результате это-
го древний символ пятна не исчезает, поскольку ад перемещается из внешнего мира во внутренний; задавленная законом, который ей никогда не удовлетворить, совесть признает себя порабощенной даже своей несправедливостью и, хуже того, ложностью своей претензии на собственную справедливость.
В этой своей крайней запутанности символизм запят-нанности стал символизмом закрепощения свободы, свободной необходимости, о которой, пользуясь различными понятиями, почерпнутыми из одной и той же символики, говорили Лютер и Спиноза.
3. Однако мы подошли к следующему пункту экзегезы первичных символов вины и общей теории зависящих от нее символов, не обращаясь к структуре мифа, которая, как правило, в этих символах преобладает. Мне приходилось выносить за скобки эти символы вторичного порядка одновременно для того, чтобы определить структуру первичных символов и выявить специфику самого мифа.
Великие повествования, которые, как мы говорили выше, вводят в игру пространство, время, персонажей, сливающихся со своей формой, на деле имеют самостоятельную функцию. Тройственную функцию. Сначала они рассматривают человечество в целом и его драму под углом зрения образцового человека, Антропоса, Адама, который на символическом уровне представляет собой человеческий опыт в его конкретной универсальности. С другой стороны, они сообщают этой истории импульс, дают ход, направление, располагая ее между началом и концом; таким образом, они сообщают человеческому опыту историческую напряженность, отправляясь от двух горизонтов — генезиса и апокалипсиса. Наконец, что более фундаментально, они исследуют разлом в человеческой реальности, представленный переходом, скачком от невинности к виновности; они рассказывают о том, как изначально добрый человек стал тем, кем он является в настоящем; вот почему миф может выполнять свою символическую функцию только при помощи специфического средства повествования: то, о чем он хочет сообщить, уже является драмой.
Однако в то же время миф может схватывать что-то только во множестве повествований, и он ставит нас перед лицом бесконечного разнообразия символических систем, похожих на многочисленные языки, сообщающие о не имеющем строгого определения Священном. В особом случае символики зла трудность истолкования мифов возникает перед нами в двойственной форме: с одной стороны, речь идет о том, чтобы преодолеть бесконечную множественность мифов, предлагая типологию, позволяющую мышлению ориентироваться в их бесконечном разнообразии, не извращая специфики мифических образов, порожденных различными цивилизациями с их собственным языком; с другой стороны, трудность заключается в том, чтобы перейти от простой классификации, от статики мифов к их динамике. На деле именно постижение оппозиций и скрытого родства между различными мифами подготавливает философское овладение мифом. Мир мифов в большей степени, чем мир первичных символов, является миром неспокойным и неумиротворенным; мифы не прекращали борьбы между собой; каждый миф — это иконоборчество по отношению к другому мифу, подобно тому, как каждый отдельный символ — это стремление к уплотнению, к затвердению, к превращению в предмет поклонения. Стало быть, надо включиться в эту борьбу, в эту динамику, следуя которой символизм становится обреченным на самопреодоление.
Эта динамика существует благодаря фундаментальной оппозиции. С одной стороны, это мифы, соотносящие исток зла с катастрофой или изначальным конфликтом, предшествующим рождению человека, с другой — мифы, возводящие исток зла к человеку.
К первой группе принадлежит драма творения, проиллюстрированная вавилонской поэмой о творении «Энума Элиш»[222], где речь идет об изначальной борьбе, в которой рождались все новые поколения богов, шло созидание космоса и сотворение человека. К этой же обширной группе принадлежат трагические мифы, повествующие о героях, оказавшихся в тисках фатальной судьбы; согласно схеме трагического, человек обретает вину так же, как он обретает существование; и бог, испытующий его и вводящий в заблуждение, предстает в своей изначальной неразличимости добра и зла; бог этот, как и Зевс из «Прометея прикованного»[223], стал для мышления символом ужасающего и непостижимого величия. Сюда следовало бы присоединить еще и орфический миф о душе, заточенной в темнице оскверняющего ее тела; такое заточение на деле предваряет любое объяснение зла, поскольку зло здесь рассматривается с позиции ответственного и свободного человека; орфический миф — это миф о ситуации, с большим опозданием спроецированной в миф о начале, который принадлежит теомахии, близкой трагическому космогоническому мифу.
Рядом с этим трехсоставным мифом — библейское повествование о грехопадении Адама. Только этот миф и является собственно антропологическим; в нем мы можем видеть мифическое выражение опыта покаяния древнего Израиля; это — человек, обвиненный пророком; это — человек, который, исповедуясь в грехах, обнаруживает, что он — творец зла, и различает за актами зла, которые он совершает во времени, порочное явление, более изначальное, чем любое отдельно взятое решение. Миф рассказывает об этом порочном явлении в непостижимом разумом событии, о его внезапном возникновении внутри благого творения. Он сводит источник зла к символическому мгновению, в котором завершается невинность и начинается порча. Таким образом, посредством жизнеописания первого человека смысл истории раскрывается для каждого отдельного человека
Мир мифов, следовательно, поляризуется двумя тенденциями — той, что выносит зло за пределы человеческого, и той, что делает зло предметом выбора, начиная с которого бытие человека становится наказанием. Поднимаясь на более высокий уровень исследования, мы обнаруживаем полярность первичных символов, располагаемых между структурой экстериорности, господствующей в магических концепциях зла как запятнанности, и структурой ин-териорности, которая одерживает окончательную победу с ^приходом мучительного опыта виновного и совестливого сознания.
Но не это самое главное: конфликт существует не только между двумя группами мифов, он отражается и на самом мифе^об Адаме. На деле, у этого мифа два лика; с одной стороны — это повествование о миге грехопадения, на который мы только что ссылались; однако это, вместе с
СИМВОЛИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗЛА
тем, — повествование об искушении, имеющем свой срок, свой временной промежуток и приводящем в действие множество персонажей: бог, налагающий запрет, объект искушения, обольщенная женщина, наконец и главным образом, змей-искуситель. Тот же миф, концентрирующийся на человеке, на акте, мгновении, событии грехопадения, идет по другому пути — он распределяет это событие среди нескольких персонажей и рассредоточивает по нескольким эпизодам; качественный скачок от невинности к проступку является, в этом втором аспекте, переходом постепенным и незаметным; миф о грани — это вместе с тем миф о переходе; миф о дурном выборе — это миф об искушении, помутнении разума, неощутимом соскальзывании в сторону зла. Женщина, этот образ хрупкости, прямо противоположна мужчине, символу дурного выбора. Таким образом, конфликт мифов сосредоточен в одном мифе. Вот почему миф об Адаме, который, на первый взгляд, можно было бы рассматривать как результат последовательной демифологизации всех других мифов, касающихся истока зла, вводит в повествование образ сугубо мифологический — образ змея. Змей, уже в мифе об Адаме, — это другой лик зла, о котором стремились поведать другие мифы: предшествующее зло уже здесь, зло, которое манит и совращает человека. Образ змея означает, что не человек порождает зло. Он его обретает. Для человека «начать» значит «продолжить». Таким образом, несмотря на наши притязания, образ змея символизирует традицию зла более древнего, чем он сам. Змей — это Иное человеческого зла. Теперь понятно, почему существует динамика мифа. Структура экстериорности, которая проецируется в тело — эту гробницу души у орфиков[224], в злого бога Прометея, в изначальную драму творения, вне всякого сомнения, непреодолима. Именно поэтому она, изгнанная антропологическим мифом, возрождается и укрывается в нем, приняв образ змея. Образ же самого Адама — это нечто большее, чем парадигма ныне существующего зла. Адам как первочеловек предшествует каждому человеку и еще раз, по-своему, свидетельствует о том, что любое ныне свершаемое зло имеет своего предшественника. Адам древнее любого человека, а змей — древнее Адама. Таким образом, миф об Адаме одновременно и разрушает и вновь подтверж-
Дает трагический миф. Вот, несомненно, почему трагедия переживает свое двойственное разрушение — в греческой философии и в христианстве; если ее теологию нельзя помыслить, если она непристойна в собственном смысле это-£о слова, то потому, что то, о чем она хочет сообщить — и ие может не сообщить, — продолжает просматриваться в лежащем в ее основании трагическом герое, невинном и виновном одновременно.
Именно сама эта борьба мифов призывает нас попытаться с помощью символов перейти от простой мифологической экзегезы к философии.
2. ОТ СИМВОЛИЗМА К РЕФЛЕКСИРУЮЩЕМУ МЫШЛЕНИЮ
Задача теперь, следовательно, заключается в том, чтобы мыслить, исходя из символизма и следуя его духу. Ведь речь идет именно о мышлении. Я вовсе не отказываюсь от ХШщоналистической традиции, которая, начиная с греков, воодушевляет философию; речь идет вовсе не о том, чтобы следовать неизвестно какой интуиции воображения, а о том, чтобы выработать понятия, которые сами познают и Заставляют познавать, понятия, систематически связанные между собой, может быть даже, составляющие закрытую систему. Но одновременно речь идет о том, чтобы, опираясь на разработки разума, передать богатство уже имеющихся в наличии значений, предшествующих этим разработкам. Положение в самом деле таково: с одной стороны, все уже сказано до философии с помощью знака и загадки; вот одно из значений слов Гераклита: «Государь, ^ей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает (àXÀàc OTjjiaivei)»[225]. С другой стороны, наша задача заключается в том, чтобы, интерпретируя оракула, говорить ясно, хотя мы рискуем при этом оставить что-то невыявленным. Философия сама себя начинает, она — начало. Таким образом, дискурс, свойственный философским учениям, есть одновременно и герменевтическое истолкование загадок, которые предшествуют ему, включают в себя и питают его, и поиск начала, стремление к порядку, жажда систематизации. Вероятно, необходимо
особое стечение обстоятельств, чтобы одно и то же философское учение сочетало в себе обилие знаков, сохранившихся от прошлого загадок и строгость дискурса.
Главный пункт, или, по меньшей мере, узел всех трудностей, коренится в отношении между герменевтикой и рефлексией. На деле не существует символа, который не вел бы к пониманию с помощью интерпретации. Но каким образом такое понимание может быть одновременно и в рамках символа, и за его пределами!
Я различаю три этапа такого понимания. Три этапа, соответствующих движению, ведущему от жизни в символах к мышлению, мыслящему исходя из символов.
Первый этап — это этап обычной феноменологии, то есть понимание символа с помощью символа, совокупности символов; но это уже способ мышления, поскольку понимание здесь охватывает вселенную символов, связывает ее и сообщает ей плотность мира. Вместе с тем это также жизнь, согласованная с символом, вверившая себя символу. Феноменология религии редко выходит за рамки этого отношения; для нее познать символ значит переместить его в сходную с ним, но более обширную, чем он сам, тотальность, которая на своем уровне образует систему. Эта феноменология обнаруживает валентную множественность одного и того же символа, чтобы испытать его неисчерпаемый характер; тогда понимать, в этом первом смысле, значит воспроизводить в себе это единство во множественности, перемещение внутри одной и той же темы всех валентностей. В одном случае феноменология стремится понять один символ через другой; постепенно понимание, следуя чему-то такому, что отдаленно напоминает интенциональность, расширяется вовне, достигая всех других символов, имеющих сходство с изучаемым символом. В другом случае феноменология будет понимать символ через ритуал и миф, то есть через другие проявления Священного. Можно показать также — и это будет четвертым способом понимания, — каким образом один и тот же символ объединяет несколько уровней опыта, или представления: внешнее и внутреннее, жизненное и умозрительное. Так различными способами феноменология символа выявляет собственную связность, демонстрируя нечто вроде символической системы; интерпретировать, на этом уровне, значит выявлять связность.
Таков первый этап, первый уровень мышления — исходящий из символов. Но нельзя оставаться на этом уровне, поскольку еще не поставлен вопрос об истине; случается, что социолог называет истиной собственную связность, систематичность мира символов; это — истина без веры, истина на расстоянии, истина редуцированная, из которой исключены следующие вопросы: верю ли я в это? что делаю я с этими символическими значениями? Разумеется, эти вопросы не могли быть поставлены до тех пор, пока мы пребывали на уровне компаративистики, пока перескакивали от одного символа к другому, не имея собственного места. Этот этап может быть только этапом, этапом расширяющей свои границы способности мышления, панорамного мышления, мышления любопытствующего, но не заинтересованного. Теперь следует перейти к заинтересованному и вместе с тем критическому отношению к символам: однако это возможно, если только я, расставаясь с компаративистской точкой зрения, вместе с эгзегетом включаюсь в жизнь символа, мифа.
За пределами расширяющего свои границы мышления — мышления, находящегося в центре феноменологии компаративистов, — открывается поле герменевтики в собственном смысле этого слова, то есть интерпретации, всякий раз имеющей дело с особенным текстом. И действительно, именно в современной герменевтике соединяются даваемый через символ смысл и работа мышления по де-цщфровке. Она вовлекает нас в борьбу, в динамику, с по-мощью которой символизм сам себя преодолевает. Только включаясь в эту динамику, понимание получает доступ к собственно критическому измерению эгзегезы и становится герменевтикой. Но мне надо расстаться, точнее сказать, порвать, с позицией далекого и незаинтересованного наблюдателя, чтобы иметь дело с символизмом — всякий раз особым. Только тогда открывается то, что можно было бы назвать герменевтическим кругом, который любитель мифов обходит стороной. В общих чертах этот круг можно обозначить следующим образом: «Для понимания нужна вера, а для веры нужно понимание». Это — не порочный и^тем более не смертельно опасный круг; это — круг пол-ный жизни и инициативы. Чтобы понимать, надо верить: действительно, интерпретатору никогда не приблизиться
к тому, о чем сообщает текст, если он не пребывает в ауре искомого смысла. И, однако, лишь понимая, мы можем верить. Ведь вторичное непосредственно данное, которого мы ищем, вторичное доверие, на которое мы рассчитываем, можно обрести не иначе как путем герменевтики; мы можем верить, лишь интерпретируя. Такова «современная» модальность веры в символы; таково выражение разочарования в современности и средства против этого разочарования. Таков круг: герменевтика проистекает из пред-понимания того, что она, интерпретируя, стремится понять. Однако благодаря герменевтическому кругу я могу сегодня общаться со Священным, проясняя пред-понимание, которое руководит интерпретацией. Таким образом, герменевтика, достижение «современности», это один из способов, с помощью которого «современность» преодолевает себя в качестве забытого Священного. Я верю в то, что бытие все еще может общаться со мной, и, разумеется, моя вера выступает не в докритической, непосредственной форме, а в форме вторичной, усмотренной герменевтикой. Эта вторичное доверие может быть посткритическим эквивалентом докритической иерофании.
Из всего этого, однако, еще не следует, что герменевтика есть рефлексия; герменевтика связана с особенным текстом, толкованием которого она руководит. Третий, собственно философский, этап интеллектуального постижения символов — это этап мышления, исходящего из символа.
Однако герменевтическому отношению между философским дискурсом и символизмом, который его окруйсает, угрожают две опасности. С одной стороны, оно может быть сведено к простой аллегорической связи; именно так поступали стоики по отношению к поэмам Гомера и Геси-ода; философский смысл победно вытекал из своей воображаемой оболочки; он был там во всеоружии, как Минерва в голове Юпитера[226]; поэма была всего лишь обрамлением; упав и разбившись, оболочка отныне оказалась ненужной; в итоге аллегоризм означает, что подлинный философский смысл предшествовал поэме, которая была лишь вторичной оболочкой, вуалью, намеренно наброшенной на истину, чтобы сбить с толку простаков. Я убежден, что мыслить надо не вслед за символами, а исходя из символов, в соответствии с символами, что их субстанция нерушима, что символы образуют фон, раскрывающий живущее среди людей слово; короче говоря, символ заставляет мыслить. С другой стороны, подстерегающая нас опасность заключается в том, что мы можем повторить символ, подражая рациональности, рационализировать символы как таковые и тем самым сделать их неподвижными в лоне воображения, где они зарождаются и раскрывают себя. Это намерение «догматической мифологии» есть намерение познания. Не следует, однако, преувеличивать исторической роли этого движения мысли, открывшего три континента, господствовавшего на протяжении нескольких веков, воодушевившего столько умов, жадных до знания и познания и мечтающих о спасении через познание. Между познанием и проблемой зла существует вызывающий тревогу и буквально сбивающий с толку союз; именно гностики поставили со всей резкостью вопрос: откуда проистекает зло?
В чем же состоит эта способность гносиса сбивать с толку? Прежде всего в том, что познание, если иметь в виду его содержание, возводится исключительно на трагической теме падения, для которой характерна экстериор-ность: зло, с точки зрения познания, — снаружи; это нечто вроде физической реальности, которая проникает в человека извне. Тем самым — и это вторая черта, на которой мы остановимся, — все облики зла, вызванные этой экстериорностью, «черпаются» из этой предполагаемой материальности; так рождается догматическая мифология, неотделимая, как говорит Пёч, от своего пространственного и космического выявления*.
Для меня проблема состоит вот в чем: как можно мыслить исходя из символа, не возвращаясь к прежней интерпретации, отсылающей к аллегории, и не попадая в ловушку, поставленную познанием? И можно ли извлечь из символа смысл, приводящий в движение мышление, если заранее не предположить, что смысл этот уже присутствует в нем, сокрыт в нем, замаскирован, запрятан, и не взять на вооружение псевдознание догматической мифологии? Я хотел бы попытаться пойти другим путем — путем творческой интерпретации, интерпретации, которая с уваже-
*Обо всем этом см. главу «Первородный грех: исследование значения».
нием относится к изначальной загадке символов, руководствуется этой загадкой, но при всем этом привлекает внимание к смыслу, формирует смысл, опираясь на автономное и исполненное ответственности мышление. Каким образом мышление может быть одновременно и связанным, и свободным! Каким образом удержать вместе непосредственность символа и посредническую роль мышления?
Теперь я хочу исследовать эту борьбу мышления и символизма, опираясь на показательную в этом отношении проблему зла. На деле, мышление шаг за шагом проявляет себя здесь как рефлексия и как умозрение.
Мышление как рефлексия, по существу, является «демифологизирующим»; в то же время в ходе преобразования миф лишается не только своей этиологической функции, но и своей способности открывать и обнажать; мышление интерпретирует миф, сводя его исключительно к аллегории. Проблема зла в этом отношении показательна: рефлексия относительно символики зла празднует победу в том, что мы отныне будем называть этическим видением зла. Эта философствующая интерпретация зла питается богатством первичных символов и мифов, продолжая вместе с тем деятельность демифологизации, которую мы попытались описать выше. С одной стороны, она продолжает последовательную редукцию запятнанности и греха к личной, внутренней виновности; с другой стороны, она продолжает демифологизацию всех мифов, отличных от мифа об Адаме, сводя его к простой аллегории воли-необходимости.
Рефлексирующее мышление, в свою очередь, пребывает в состоянии борьбы со спекулятивным мышлением, пытающимся спасти то, что этическое видение зла стремится упразднить; и не только спасти, но и показать необходимость; особая опасность для спекулятивного мышления таится в гносисе.
Сначала мы обратимся к этическому видению зла; нам необходимо достичь определенного уровня и пройти его до конца; однако мы не сможем оставаться на этом уровне, нам необходимо изнутри преодолеть его; для этого нужно в полной мере осмыслить сугубо этическую интерпретацию зла.
Под этическим видением зла я понимаю интерпретацию, при осуществлении которой зло берется в наиболее полной свободе и для которой зло есть изобретение свободы; соответственно, этическое видение зла есть видение, согласно которому свобода обнаруживается во всей ее глубине — как способность делать (faire) и способность быть (être); свобода, которую предполагает зло, есть свобода, способная на разрыв, отклонение, ниспровержение, скитание. Это взаимное «объяснение» зла через свободу, а свободы через зло является сущностью морального видения мира и зла.
Каким образом соотносятся моральное видение мира и вселенная символа и мифа? Двояким образом: с одной стороны, это — радикальная демифологизация дуалистических мифов — трагических и орфических; с другой стороны, это — включение мифа об Адаме в интеллигибельную «философему». Моральное видение мира мыслит вопреки субстанции зла и в соответствии с грехопадением первого человека.
Исторически этическое видение зла, как представляется, связано с двумя великими именами, которые, как правило, не объединяют вместе, однако я хотел бы показать их близкое родство: это Августин и Кант. Августин — по крайней мере в своей борьбе против манихейства; в дальнейшем мы увидим, что «августинианство» — в определенном и узком смысле этого слова, какой ему придал Рот-майер — представляет собой, если сравнивать его не с Мани, а с Пелагием, преодоление морального видения мира и, в некотором отношении, его ликвидацию; к этому мы еще вернемся.
-:…. В своей демифологизации интерпретация зла Августином, до его борьбы против Пелагия, руководствовалась следующим положением: у зла нет природы, зло — это не вещь, не материя, не субстанция, не мир. Отвержение схемы экс-териорности было доведено до крайнего предела: не только зло не обладает бытием, но надо еще устранить вопрос: quidmaluml и на его место поставить вопрос: undemalumfa-ciamusl Следовательно, не остается ничего другого, как сказать, что зло, если иметь в виду его субстанцию и природу, — это «ничто».
Это «ничто», наследующее платоновское небытие (non-être) и плотиновскую материю, но лишенное субстанции, должно теперь соединиться с понятиями, унаследованными от греческой философии, и принадлежащими иной традиции, а именно с понятиями из «Никомаховой этики». Именно в этой работе впервые была разработана философия произвольного и непроизвольного («Никомахова этика», кн. III); однако Аристотель не доходит до разработки радикальной философии свободы; он формулирует понятия «предпочтения» (rcpoodpeaiç), свободного выбора, разумного желания, но не свободы. Можно утверждать, что именно св. Августин, непосредственно включая, осмелюсь сказать, способность ничтожения, свойственную злу и свободе действия, в волю, радикализовал рефлексию о свободе, представив последнюю изначальной способностью говорить бытию «нет»* способностью «проявлять малодушие» (de-ficere), «уклоняться» (declinare), стремиться к небытию (ad non esse).
Однако Августин, как я уже отмечал в другом месте*, не располагает понятийным аппаратом, который помог бы ему целостно представить сделанное открытие; таким образом, как мы видим, в работе «Против Феликса» он противопоставляет злую волю и злую природу; однако его мышление, оставаясь в рамках неоплатонизма, не в состоянии выявить и последовательно обосновать оппозицию природа — воля; здесь нужны философские учения о деятельности и о возможном, которые говорили бы о том, что зло возникает как событие, как качественный скачок.
Более того, он не был уверен в том, что слишком уж негативные понятия defectus, declinatio учитывают позитивную способность зла. Ему следовало бы дойти до понимания позиции зла как качественного «скачка», как события, как мгновения. Но тогда Августин был бы не Августином, а Кьеркегором.
Каково в таком случае значение Канта и особенно его «Очерков об изначально злом…» в сравнении с антимани-хейскими трактатами Августина? Я полагаю, что их можно понять, сопоставляя друг с другом.
Прежде всего, Кант говорит о концептуальных границах, чего недоставало Августину, выявляя до конца специ-
* Об aversio a Deo, об оппозиции potestas — natura в сочинении «Против Феликса» («Contra Felicem»), о едва заметном различии между двумя формами небытия — ex nihilo творчества и ad non esse зла — см. с. 343–344 наст. изд.
фику практических понятий: Wille, Willkur, Maxime, воля, свободная воля, или свободный выбор, максима воли. Эта Концептуализация завершается во «Введении в метафизику нравов» и в «Критике практического разума». Тем самым Кант доводит до конца противопоставление «воля — црирода», намеченное Августином в работе «Против Фе-лшсса».
Но, что самое главное, Кант сумел выявить основополагающие условия концептуализации зла как зла радикального, иными словами, формализм в сфере морали. Этого. ртношения мы не заметим, если будем адтать «Очерки об изначально злом…» вне их связи с «Критикой практического разума»; формализмом Кант завершает тенденцию, наметившуюся еще у Платона: если «несправедливость» может быть видом радикального зла, то «справедливость» для нас — это не одна из добродетелей, а форма Самой добродетели, принцип единения, который сплачивает разные начала души, делая ее единой (Государство. Кн. IV).
Аристотель в «Никомаховой этике» также идет по пути формализации добра и зла: добродетели определяются одновременно своим объектом и своим формальным характером середины (médiété, цеаотпс), зло — это отсутствие середины, разрыв, значительный разрыв. Платоновская 6Bi%ia, аристотелевская àxpocaicc[227] под видом несовершенных формализации полностью формализуют принцип моральности. Я не знаю, можно ли оставаться в рамках этического формализма; однако этического формализма, несомненно, следует достичь, чтобы затем преодолеть его.
Итак, преимущество формализации заключается в том, что с ее помощью создается понятие максимы зла, которую вырабатывает сама свободная воля. Зло вовсе не находится в чувстве; смешению зла с чувством, страстью положен конец; знаменательно, что этика, доведшая до конца разделение зла и чувства, считалась крайне пессимистической; это разделение было плодом формализации и вынесения за скобки желания в определении доброй воли; Кант мог утверждать: «Естественные склонности, которые выте-кают из чувств, не имеют прямого отношения ко злу». Од-нако зло тем более не может корениться в упущениях разума; существо, полностью пребывающее вне закона, не
может быть более порочным на том основании, что оно продалось дьяволу; остается одно — зло коренится либо в отношении, либо в разрушении отношения; это случается тогда, говорит Кант, когда человек подчиняет чистый мотив уважения мотивам, идущим от чувств, когда он «переворачивает порядок нравственных мотивов, включая их в свои максимы». Таким образом, библейская схема разрыва, противостоящая орфической схеме действенной эксте-риорности, получает своего рационального двойника в кан-товской идее нарушения максимы. Если говорить определеннее, я вижу у Канта полную философскую манифестацию того, что наибольшее зло — это не грубое нарушение долга, а лукавство, выдающее за добродетель то, что является отступлением от нее; зло зла — это мошенническое оправдание максимы путем кажущегося согласия с законом, это — подделка под нравственность. Кант, как мще представляется, впервые подошел к проблеме зла как злой воли, мошенничества.
Вот высшая степень ясности, достигнутая этическим видением зла: свобода — это способность разрыва, кардинального ниспровержения порядка. Зло не есть некая вещь, оно — нарушение отношения. Но кто не видит того, что, как только мы говорим это, мы в некотором отношении празднуем победу в пустоте? Цена ясности — это утрата глубины.
3. ЗАТЕМНЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАГИЧЕСКОМУ
Чего же не происходит в этическом видении зла? То, чего не происходит, то, что утрачено, — это тот затемненный опыт зла, который различными способами проявляет себя в символике зла и образует, собственно говоря, «трагическое» зла.
Мы видели, что на самом низком уровне символизма, на уровне изначальных символов, исповедание в грехах признает зло уже существующим, зло, в котором я рождаюсь, которое я нахожу в себе до пробуждения моего созна* ния, зло, не поддающееся анализу с точки зрения индивидуальной виновности и совершаемых в настоящее время проступков; я показал, что символ «пленения», рабства является специфическим символом этого измерения зла как силы, которая связывает, зла как господства.
Именно этот опыт зла как уже существующего, как силы в моем бессилии порождает целую серию мифов, отличных от мифа об Адаме и исходящих из схемы экстери-орности; к тому же эта серия мифов не исключается ми-фрм об Адаме, а определенным образом включается в зависящий от него ряд, который вполне заслуживает внимания; Адам является предком для всех людей, а не для ка-кош^то единичного человека; он — также и предшествование зла любому человеку; и он же — нечто иное по отношению к себе, собственное предшествование в образе змея, уже существующего и уже коварного. Таким образом, этическое видение зла тематизирует только символ актуаль-ного зла, «разрыв», «случайное отклонение»; Адам — это архетип, образец того настоящего, актуального зла, которое мы будем повторять и повторять всякий раз, когда будем совершать зло; и в этом смысле каждый заново начинает зло. Но, начиная зло, мы и продолжаем его, так что теперь мы можем сказать: зло — это традиция, историческая связь, это господство того, что «уже здесь». -^:, Однако мы сильно рискуем, поскольку, воспроизводя схему «наследия» и пытаясь связать ее со схемой «разрыва» в целостном понятии, снова приближаемся к уровню познания, понимаемому в самом широком смысле этого слова: 1) к догматической мифологии, 2) к материализации зла в «природе». В самом деле, понятие природы пред-лагается здесь для того, чтобы компенсировать понятие случайности, которое руководило первым движением мышления. Так что мы попытаемся теперь разобраться с тем, таощвляется как бы природой зла, природой, которая есть не природа вещей, а прирожденная природа человека, природа свободы, следовательно, пребывающий в напряженном состоянии habitus, способ обретения свободы, — с И здесь мы вновь обратимся к Августину и Канту: к Августину, поскольку он переходит от актуального зла к первородному греху; к Канту, поскольку он поднимается от максимы зла свободы воли к обоснованию всех максим зла.
(Одно замечание: я не приемлю ставшего привычным деления взглядов Августина, как если бы философия актуального зла была прерогативой философа, а философия первородного греха — прерогативой теолога; не разделяю я и теологию и философию по этому основанию; символ Адама, будучи изобличающим (révélant), a не изобличенным (révélé), принадлежит философской антропологии на том же основании, что и все другие символы; его принадлежность теологии обусловлена не собственной структурой, а, главным образом, отношением с «событием» и «пришествием» человека, Иисуса Христа, о чем идет речь в хри-стологии. Я полагаю, что никакой символ — ни раскрывающий, ни утаивающий истину человека — не чужд философской рефлексии; я, следовательно, не признаю понятие первородного греха чуждой философии темой, а напротив, считаю его темой, лежащей в основании интенци-онального анализа, герменевтики рациональных символов, задача которой заключается в том, чтобы воссоздавать пласты смысла, затвердевшие в виде понятий).
Итак, что лее выявляет этот интенциональный анализ? А вот что: будучи, так сказать, интеллигибельным, понятие первородного греха есть ложное знание, и его, если иметь в виду эпистемологическую структуру, необходимо соединить с понятиями познания: метаэмпирическим грехопадением Валентина, агрессивностью царства мрака Мани; антигностический по своей устремленности, первородный грех по форме своей является квазигностическим. Задача рефлексии заключается в том, чтобы разоблачить его как ложное знание и истолковать его интенцию с точки зрения не подлежащего замене рационального символа уже имеющегося зла.
Выявим это двойное движение рефлексии.
Необходимо, сказали мы, уничтожить понятие первородного греха как ложное знание: в самом деле, «августи-нианство», в узком смысле слова, о котором мы говорили в самом начале, этим своим необоснованным понятием, с одной стороны, не дает хода юридическому понятию, понятию обвинения, вменения в вину, и биологическому понятию, понятию наследования. Стало быть, для совершения греха надо, чтобы вина была преступлением воли: та-
ковым было понимание человека как индивида, реально существующего в начале истории; вместе с тем надо было, чтобы эта вменяемая виновность передавалась бы per gene-rationem[228] и чтобы мы — каждый в отдельности и все вместе — были бы обвинены «в Адаме». Мы видим, как в ходе долгой полемики с Пелагием и пелагианцами набирает силу идея имеющей личный характер виновности, наследуемой от рождения как некий порок: с юридической точки зрения это преступление заслуживает смерти; мотивация Августина стоит того, чтобы на ней специально остановиться*: она нацелена главным образом на то, чтобы рационализировать самую таинственную проблему, которую выдвигает св. Павел, — проблему осуждения: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим. 9, 13). Поскольку Бог справедлив, необходимо, чтобы осуждение младенцев во чреве матери было также справедливым, чтобы погибель санкционировалась правом, а спасение шло от милости; отсюда — идея естественной виновности, осуществляющей себя в деятельности и наказуемой как преступление, даже если она унаследована в качестве болезни.
Эта идея, скажем мы, интеллектуально несостоятельна, поскольку она смешивает два вида дискурса: дискурс этики или права и дискурс биологии; она же и скандальна, поскольку ведет от Иезекииля и Иеремии к старой мысли о массовом обвинении и вознаграждении людей; эта идея к тому же смехотворна, поскольку вновь обращается к вечной теодицее с ее оправданием Бога.
В понятии первородного греха необходимо исследовать не его ложную ясность, а его малоощутимое аналогическое богатство; его сила заключается в том, что оно интен-ционально нацеливает на то, что является самым радикальным в исповедании в грехах, — на то, что зло предшествует моему осознанию, что оно не подлежит анализу в качестве индивидуальных проступков, что оно говорит о моем изначальном бессилии; по отношению к моей свободе зло является тем же, чем мое рождение по отношению
*В этом отношении весьма интересно сочинение «О различных вопросах к Симплициану» (397), хотя оно и написано за четырнадцать лет до первого антипелагианского трактата, в нем уже присутствуют основные аргументы Августина.
к моему актуальному сознанию, — это то, что уже есть; рождение и природа здесь — аналогические понятия; тогда цель псевдопонятия первородного греха состоит вот в чем: внедрить в описание злой воли в том ее виде, как она трактовалась вопреки Мани и гносису, тему квазиприроды зла; тогда незаменимой функцией понятия будет соединение схемы наследования со схемой случайного. С точки зрения концептуального представления, здесь есть что-то недостижимое, а с точки зрения метафизической — что-то неустранимое. В самой воле есть что-то от квазиприроды; зло — это нечто непреднамеренное внутри преднамеренного, не перед преднамеренным, а именно внутри преднамеренного; и именно оно есть воля-необходимость. Так исповедание сразу же переносится на другой, более глубокий уровень, нежели простое раскаяние в совершенных делах; если зло существует уже при «рождении» — в символическом, а не фактическом смысле, — то нравственное обращение есть «возрождение». Таким образом, с помощью абсурдного понятия, создается антитип возрождения; этот антитип представляет волю испытывающей воздействие пассивного начала, включенного в ее актуальную способность к выбору и освобождению.
Именно этот антитип возрождения Кант пытался создать в качестве a priori нравственной жизни; в философском плане «Очерк об изначально злом…», который мы обсудили только отчасти, оперировал тем, что я только что назвал критикой первородного греха как ложного знания, и пытался «вывести из него дедукцию» — в том смысле, какая выводится из трансцендентальной дедукции категорий, подтверждающей свои правила способностью образовывать сферу объективности; таким образом, зло, идущее от природы, понимается как условие возможности максим зла, как их основание.
В этом отношении склонность творить зло является «интеллигибельной». Кант утверждает: «Хотя наличие (Dasein) этой склонности ко злу может быть эмпирически доказано (dargetan) существованием конфликта во времени, природу (Beschaffenheit) и основание (Grund) этой склонности необ-
ходимо узнавать a priori, поскольку речь идет об отношении свободы и закона, понятие которого не является эмпирическим»*[229]. Опыт «подтверждает» наши суждения, но он «никогда не сможет обнаружить корень зла в высшей максиме свободного произвола по отношению к закону, ибо речь идет об интеллигибельном действии, которое предшествует всякому опыту»**. Таким образом, из концепции «природной», «врожденной» склонности ко злу исключен всякого рода натурализм; о склонности ко злу можно сказать, что она дана «от рождения», хотя рождение не является ее причиной; она, скорее, «способ бытия свободы, идущий от свободы». Мысль о свободной воле как о «приобретенной» привычке дает нам, таким образом, символ примирения случайности зла и его предшествования***.
Но в таком случае, в отличие от всякого рода «гноси-са», претендующего на познание истока, философ признает, что он сталкивается с тем, что не поддается постижению и изучению: происхождение склонности ко злу «остается для нас непостижимым, так как оно само должно быть нам вменено в вину, следовательно, указанное выше основание всех максим, в свою очередь, потребовало бы допущения злой максимы»****. А вот еще более сильное высказывание: «Для нас, следовательно, нет никакой понятной причины того, откуда впервые могло бы появиться в нас моральное зло»*****. Непостижимость для нас как раз и заключается в том, что зло, всегда начинающееся со свободы, всегда уже существует для свободы, будь она действием и habitus, возникновением и предшествованием. Вот почему Кант специально для философии превращает это загадочное зло в образ мифического змея; змей, я думаю, представляет это «всегда здесь» зла, того зла, которое есть начало, действие, самодетерминация свободы.
* Kant l. La Religion dans les limites de la simple raison. P. 56. ** Ibid. P. 60.
*** «Под склонностью (propensio) я понимаю субъективное основание возможности того или иного влечения (привычных желаний, concupis-centia), поскольку оно для человечества вообще случайно» («Religion dans les limites de la simple raison». P. 48).
**** Kant I. La Religion… P. 63. ***** Ibid. P. 65.
Так Кант завершает Августина: сначала он решительно срывает гностическое покрывало с понятия первородного греха, потом пытается осуществить трансцендентальную дедукцию из основания максим зла и, найонец, погружает в не-знание исследование основания основания. Мышление здесь сначала как бы выходит на поверхность, а затем — снова уходит в глубину; сначала оно зарождается в свете трансцендентального, затем погружается во мрак не-знания. Но, может быть, философия сама несет ответственность не только за ограничение своего знания, но и за границы» которые она предписывает не-знанию; граница здесь не предел, а активное и трезвое самоограничение; повторим слова Канта: происхождение склонности ко злу «остается для нас непостижимым, так как оно само должно быть нам вменено в вину…»
Теперь мы с полным основанием можем задаться вопросом: почему рефлексия уменьшает символическое богатство, которое, однако, не перестает ее питать? Может быть, следовало бы вернуться к начальной ситуации: символическое, которое есть всего лишь символика души, субъекта, «я», с самого начала является разрушительным; оно ведь представляет собой отделение «психической» функции от других функций символа: космической, ночной, оней-рической, поэтической; символика субъективности уже говорит о разрыве символической целостности. Символ начинает разрушаться, когда перестает вести свою игру одновременно в двух регистрах: космическом и экзистенциальном. Отделение «человеческого», «психического» есть начало забвения. Вот почему чисто антропологическая символика уже стоит на пути к аллегории и кладет начало этическому видению зла и мира. Теперь мы понимаем, что сопротивление символа сведению его к аллегории берет начало в не-этическом облике зла. Именно масса других мифов препятствует какой бы то ни было морализирующей редукции символа Адама; внутри символа Адама эту роль играет трагический образ змея. Вот почему все мифы, повествующие о зле, необходимо рассматривать совокупно; их диалектика назидательна.
Так же, как образ змея внутри мифа об Адаме говорит о приостановлении демифологизации вавилонских мифов, первородный грех внутри этического видения мира свидетельствует о сопротивлении трагического этическому. Но разве это трагическое сопротивляется? Скорее следовало бы утверждать, что в трагическом получило свое особое выражение нечто такое, что несводимо к этическому и что дополняет любую этику. Ведь трагическая антропология, как мы уже видели, неотделима от трагической теологии; последняя же, по существу своему, сокрыта. Таким образом, философия не может подтвердить трагического как такового, не предав себя смерти. Функция трагического заключается в том, чтобы ставить под вопрос уверенность, самоуверенность, претензию на критику, можно даже сказать, высокомерие морального сознания, которое берет на себя все бремя зла. Может быть, за этим смирением стоит великая гордость. В таком случае трагические символы заявляют о себе в безмолвии нравственной гордыни; они говорят о «таинстве несправедливости», тяжесть которой человек не может полностью взять на себя, и свобода не в состоянии дать этому объяснение, поскольку видит это таинство в самой несправедливости. Этот символ невозможно редуцировать с помощью аллегории. Но, скажут нам, трагические символы говорят о божественном таинстве зла. Может быть, действительно стоит погрузить во мрак божественное, которое этическое видение свело к морализирующей функции Судьи? Вопреки юридическому формализму обвинения и оправдания, Бог Иова говорит «из бури»[230]. По существу, символика зла никогда не бывает просто символикой субъективности, символикой отдельного человеческого субъекта, символикой сознания человека, отделившегося от бытия, она — символика включенности человека в бытие. В таком случае следует присоединиться к той точке зрения, согласно которой зло — это приключение бытия, составная часть истории бытия.
4. СПЕКУЛЯТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО КРАХ
Пасует ли способность мышления там, где речь идет о незнании истоков, основания максим зла? Прекращается ли борьба между строгой рефлексией и богатством символа с возвращением к непостижимому символу грехопадения? Я так не считаю. На деле остается hiatus[231] между пониманием нами сущностной природы человека, с одной стороны, и признанием непостижимой случайности зла, с другой. А что если поставить их рядом — необходимость прегрешения и случайность зла?
Тогда окажется, что мы пренебрегаем важнейшей характеристикой мира символов, принадлежащих мифическому ряду, а именно тем, что символы «начала» получают все свое значение только в их соотнесении с символами «конца»: очищение запятнанности, прощение грехов, оправдание виновного. Великие мифы — это также мифы о начале и о конце: победа Мардука[232] в мифе о Вавилоне, примирение в трагическом и через трагическое, спасение путем признания отделения души, наконец, библейское искупление, отмеченное образами конца: царь последних дней, мучающийся слуга, Сын Человеческий, второй Адам, тип будущего человека. В этих символических построениях знаменательно то, что смысл движется от конца к началу, совершая попятный ход. В таком случае встают следующие вопросы: что представляет собой эта связь символов? на какую мысль наводит это попятное движение?
Не призывает ли оно перейти от случайности зла к определенной «необходимости» зла? Это — в высшей степени важная и вместе с тем в высшей степени рискованная задача для философии, занимающейся проблемой символов. Задача в высшей степени рискованная: как мы уже отмечали выше, путь мысли пролегает между двумя пропастями — аллегорией и гносисом. Рефлектирующее мышление готово сорваться в первую, спекулятивное мышление — во вторую. Но вместе с тем задача эта в высшей степени важная, поскольку движение, которое в символическом мышлении идет от начала зла к его концу, как представляется, предполагает, что все это в итоге имеет смысл, что на фоне зла властно вырисовывается несущий смысл образ, короче говоря, что зло принадлежит определенной целостности реального. Определенная необходимость… Определенная целостность… Но не любая необходимость, не любая целостность. Структуры необходимости, которые мы можем подвергнуть исследованию, должны удовлетворять одному довольно страдному требованию: необходимость появляется только постфактум, только если смотреть из ко-
нечной точки и «вопреки» случайности зла. Св. Павел, как можно думать, зовет нас именно к такому исследованию, сталкивая два образа: образ первого Адама и образ второго Адама, тип ветхого человека и тип человека нового; он не ограничивается их сравнением и противопоставлением: «как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим. 5, 18): кроме параллелизма образов, налицо движение от одного образа к другому, прогрессивное развитие, обогащение: «если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более яоААф pxxAAov благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыто-чествует для многих» (5, 15): «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (5, 20). Эти «преизбыточе-ствует», «преизобилует» являются для мышления великой задачей.
Итак, следует признать, что никакая великая философия целостности (totalité) не в состоянии постичь, осознать эту включенность случайности зла в некий осмысленный проект.
На деле получается, что мысль о необходимости либо оставляет случайность вне рассмотрения, либо включает ее в себя таким образом, что она полностью отвергает «скачок» полагающего себя зла и «трагическое» зла, которое всегда ему предшествует.
Первый случай — это великие недиалектические системы, например Плотина и Спинозы. И тот и другой располагали некоторыми знаниями по поводу этой проблемы, но они не смогли постичь ее внутри системы. Так, Плотин даже в последних своих трактатах пытался объяснить «ни-спадение» ослепленных собственным образом душ в тела, связывая его с необходимым характером их происхождения. Трактат IV, 3, 12–18 пытается свести нарциссиче-ское обольщение, рождающееся из отражения души в собственном теле, к влечению, благодаря которому душа подчиняется универсальному закону: «следует считать, что она движима и увлекаема магической силой непреодолимого притяжения»*. Таким образом, зло не исходит от нас, оно существует до нас и владеет человеком вопреки <
*Plotin. Traités, IV, 3, § 12. 13*
о\>х éxôvTocç). В конечном итоге, в последних трактатах (III, 2–3) о Провидении (яроvoice) Плотин возвращается к старой теме «логоса», унаследованной от Гераклита через стоиков и Фил она[26], и утверждает, что порядок рождается из диссонанса и даже что порядок есть основа беспорядка (отг ToÇiç àxaÇia). Таким образом, Провидение служит злу, которого оно не производит; и тем не менее несмотря на препятствия, гармония все-таки (оцхос) рождается. В борьбе со злом, благо одолевает зло.
Но разве не очевидно, что теодицея никогда не преодолевает уровня аргументированной и убедительной риторики? И не случайно она прибегает к такому количеству аргументов — ведь каждому из них недостает силы. В самом деле, каким образом мышление достигнет всеобщей точки зрения и сможет сказать: «коль скоро есть порядок, то есть и беспорядок»? А если мышление способно на это, то почему бы ему не свести страдание к фарсу, к зловещему фарсу, каким является игра света и теней, в крайнем случае к эстетике диссонанса («в диссонансе есть своя красота…», «в граде необходим палач, это хорошо, что он есть, там для него есть место»)! Такова злонамеренность теодицеи: она побеждает не реальное зло, а лишь его эстетический фантом.
Спиноза полностью отринет эту сомнительную аргументацию теодицеи; в не-диалектическом философском учении о необходимости, каковым является его концепция, есть, разумеется, место и для конечных модусов, но не для зла, которое является не чем иным, как иллюзией, и вытекает из незнания. Во всяком случае, даже у Спинозы остается неразгаданной загадка, которая необычайно ярко выражена в его удивительной аксиоме из IV книги: «В природе вещей нет ни одной отдельной вещи, могущественнее и сильнее которой не было бы никакой другой. Но для всякой данной вещи существует другая более могущественная, которою первая может быть разрушена»[233]. Как и в последних трактатах Плотина, закон внутренней противоречивости отнесен здесь к движению экспансии или экспрессии бытия. Эта противоречивость столь же необходима, как и само движение. Случайность зла, о котором говорит этическое видение зла, не удерживается в нем, а рассеивается, словно иллюзия.
Станет ли диалектическое философское учение о необходимости более правильным, если обратиться к тому, что есть трагического в самом зле? Несомненно. Именно поэтому философское учение Гегеля, например, представляет собой одновременно и самую значительную попытку постичь трагическое в истории, и самый великий соблазн. В нем преодолевается абстрактность любого морального видения мира; зло появляется одновременно с тем, как начинает свой ход история образов пребывающего в развитии Духа; зло действительно удерживается и преодолевается; борьба выступает средством взаимного признания сознаний; все обретает смысл; необходимо пройти через борьбу, несчастное сознание, прекраснодушие, кантовскую нравственность и разделение сознания на сознание виновное и сознание обвиняющее*.
Однако, если в «Феноменологии духа» зло уже присутствует, уже включено в нее, то вовсе не как зло, а как его противоположность; его специфика — в универсальной функции, о которой Кьеркегор говорил, что она является maître-Jacques[234] гегельянства: в отрицательности (négativité). Отрицательность говорит также об обращении единичного во всеобщее, о цротивоположности внутреннего и внешнего в силе, смерти, борьбе, проступке. Все отрицательности пребывают в одной определенной отрицательности. Раздел, озаглавленный «Зло и его прощение»**, не оставляет на этот счет никакого сомнения. Прощение это уже примирение в абсолютном знании путем перехода одной противоположности в другую, единичного во всеобщее, судимого сознания в сознание судящее, и обратно; «прощение» — это деструкция «осуждения», как если бы это была категория зла, а не спасения; это, конечно, в духе св. Павла: сам закон подвержен суду; однако в то же время символ прощения грехов утрачен, поскольку зло не столько «прощено», сколько «преодолено»: оно исчезло в примирении. Тем самым трагический акцент переносится с морального зла на движение экстериоризации, на отчуждение (Entfremdung, Entäusserung) Духа. Поскольку человеческая история есть откровение Бога, бесконечное содержит в себе зло конеч-
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit. Trad. Hyppolite. II, 190–197. ** Ibid., И, 197–200.
ного: «Вся эта долгая история заблуждений, какой является человеческое развитие и какую описывает феноменология, есть падение, — пишет Ж. Ипполит, — но следует учесть, что это падение представляет собой часть самого абсолюта, момент тотальной истины»*. Пантрагизм является ответом на распад этического видения мира; он завершается в абсолютном знании вместе с преобразованием отпущения грехов в философское понятие искупления. Ничего не остается ни от непростительности зла, ни от великодушия прощения.
Следовательно, если терпят неудачу не-диалектическая необходимость Плотина и Спинозы и диалектическая необходимость Гегеля, то не стоит ли искать ответа на наши поиски интеллигибельности скорее в сфере эмпирической истории, нежели в логике бытия? Разве полное смысла движение от грехопадения к искуплению является исключительно «логикой», будь она диалектической или недиалектической? Можно ли в таком случае постигать эмпирическую историю, в которой сохраняются и соединяются в единое целое случайность зла и инициатива обращения? Можно ли постигать становление бытия, в котором трагическое зла — зла, которое всегда уже есть, — было бы одновременно и признано и преодолено?
Я не могу ответить на этот вопрос; я только предвижу путь, по которому может пойти рассуждение. В заключение я скажу о том, что для меня очевидно. На ум приходят три формулировки, касающиеся связи между опытом зла и опытом искупления. Прежде всего, искупление, вопреки злу, ожидаемо. Это «вопреки чему-то» и составляет подлинную категорию надежды, категорию невероятного. Этому нет доказательств — одни лишь намеки; среда, место укоренения этой категории — история, а не логика, эсхатология, а не система. Далее, это «вопреки чему-то» есть «благодаря чему-то»: принцип всех вещей вместе со злом творит благо. Конечное невероятное есть вместе с тем скрытая педагогика: я осмелюсь утверждать, что св. Августин в «Атласном башмачке»[235] специально подчеркивает: etiam peccata; «наихудшее не всегда самое несомненное» — реплика Клоде ля служит здесь литотой; однако не существует
* Hyppolite J. Genèse et Structure de la Phénoménologie de l'Esprit. P. 509.
абсолютного знания — ни «вопреки», ни «благодаря». Третья категория этой эмпирической истории: «преизобилу-ет» (тсоААхр jiaAAov); и этот закон преизобилования объем-лет собой и «благодаря», и «вопреки». Именно в этом и состоит чудо Логоса; именно от него исходит попятное движение истины; из чуда рождается необходимость, которая обратным действием помещает зло под лучи бытия. То, что в прежней теодицее служило лишь средством для ложного знания, становится знаком надежды; необходимость, которую мы ищем, является самым высоким рациональным символом, какой порождает этот знак надежды.
ГЕРМЕНЕВТИКА СИМВОЛОВ И ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ (2)
Исходный момент этого второго сообщения уже напрашивался в ходе моих предыдущих исследований, касающихся символов зла в том их виде, в каком они были выработаны в прошлом в исповедальной литературе, в мифах и древней мудрости Ближнего Востока, Израиля и Греции.
Напомню, 'что это исследование, ограниченное рамками специфической проблемы — проблемы зла — и особыми культурными регионами — теми, которые, как я знаю, имеют греческие и иудейские истоки, — включает в себя более общую проблему: какова функция интерпретации символов в деятельности философской рефлексии? Я называю эту проблему, взятую в ее самом широком значении, герменевтической, если понимать под герменевтикой науку интерпретации.
Отнесемся с большим вниманием к методологической проблеме, исходя из образов, свойственных символике зла, и показывая, как этот пример может быть распространен на всю сферу религиозной символики.
Когда мы обращаемся к проблеме символов зла на семантическом уровне, то есть на уровне интерпретации таких лингвистических выражений, как запятнанность, греховность, виновность, наше удивление, как мы уже видели, прежде всего вызывает то, что подступиться к опыту зла — идет ли речь об испытании зла или о его причине-
нии, о моральном зле или о страдании — мы можем только с помощью символических выражений, то есть выражений, которые опираются на определенное буквальное значение (такое, как, например, пятно, изменение направления и скитание в пространстве, тяжесть или груз, рабство, падение) и предусматривают некое иное значение, которое мы могли бы назвать экзистенциальным, — быть буквально запятнанным, упавшим, виновным. Эти слова, которые в нашем современном языке кажутся в некотором роде абстрактными, обладают символической структурой в языках и культурах, в которых впервые было обозначено исповедание, или, точнее сказать, признание в совершенном зле; здесь экзистенциальное значение дано косвенным образом при использовании первичного, буквального значения, но через аналогию; именно поэтому осуществить опыт зла значит также выразить его в языке; однако последнее есть уже истолкование символов.
Теперь семантический уровень символов нельзя отделить от их мифологического уровня (тем более от догматического уровня рационализированных символов, о чем здесь я не буду говорить); как мы видим, в вавилонском мифе, в трагическом и орфическом мифах, а также в библейском повествовании о грехопадении выявляются и, если так можно сказать, изобличаются новые черты нашего опыта зла; они говорят о нашем опыте в свете опыта типичных персонажей — Прометея, Антропоса, Адама; более того, благодаря структуре истории, которая сложилась «во время оно», in illo tempore, наш опыт обрел временную направленность, идущую от начала к концу, от памяти к надежде; в конечном итоге, эти мифы рассказывают — как о трансисторических событиях — о не поддающемся уразумению разрыве и абсурдном скачке, позволивших связать вместе исповедание в нашем греховном существовании и утверждение нашего бытия, безвинного при его сотворении. На этом уровне символы имеют не только экспрессивное значение, как на семантическом уровне, но и исследовательское значение, поскольку они наделяют универсальностью, временностью и онтологическим смыслом по отношению к таким выражениям зла, как запятнанность, греховность, виновность.
Здесь встает следующий вопрос: существует ли необходимая связь между интерпретацией символов и рефлексией? Этот вопрос становится особенно острым, когда мы начинаем понимать, что проблема символов зла является частным случаем проблемы религиозной символики; можно утверждать, что символизм зла всегда противоположен символизму спасения или что символизм спасения противоположен символизму зла; нечистому соответствует чистое, греховности — искупление, виновности и порабощению — свобода; точно так же следует говорить, что образам начала соответствуют образы конца: царь, низвергнутый Мардуком, Аполлон и его очищение, новый Антро-пос, Мессия, страдающий Праведник, Сын Человеческий, Всевышний (Kurios), Logos и т. п. Философу, как таковому, нечего сказать по поводу провозвестия Евангелия, благодаря которому эти образы обрели «завершение» в событии, связанном с Христом; однако можно и нужно размышлять о значении этих символов, говорящих о Конце Зла. Так мы подошли к тому общему, что заключено в нашем вопросе: герменевтика зла предстает как частная сфера внутри общей интерпретации религиозного символизма. Теперь мы рассмотрим символизм зла только как оборотную сторону религиозного символизма. В итоге мы увидим, что герменевтика зла является не индифферентной, но самой значимой сферой, даже, может быть, местом рождения герменевтической проблемы.
Итак, почему же здесь существует проблема для философии? Потому что обращение к символу обнаруживает нечто удивительное и шокирующее.
1. Символ остается непроницаемым, непрозрачным, поскольку он дан с помощью аналогии на основе буквального значения, сообщающего ему одновременно конкретные истоки и материальную весомость, непроницаемость.
2. Символ — пленник разнообразия языков и культур и в этом отношении остается случайным: почему именно эти, а не другие символы?
3. Символы заставляют думать только благодаря интерпретации, которая всегда проблематична. Нет мифа без экзегезы, как нет экзегезы, не подлежащей оспариванию. Разгадывание загадки — это не наука ни в платоновском,
ни в гегелевском, ни в современном ее понимании. Непроницаемость, случайность в культуре, зависимость от проблематичной дешифровки: таковы три недостатка символа в сравнении с идеальной ясностью, необходимостью и научностью рефлексии.
Более того, не существует общей герменевтики, то есть общей теории интерпретации, общего канона экзегезы; существуют только отдельные и противостоящие одна другой герменевтические теории; наша изначальная проблема не перестает усложняться: она не однозначна, а двойственна; она ставит не только вопрос: почему рефлексия требует интерпретации? — но и вопрос: почему рефлексия требует именно этих противоположных друг другу интерпретаций?
Первая часть настоящего сообщения будет посвящена крайнему случаю противостояния в герменевтическом поле — противостоянию между феноменологией религии и психоаналитической интерпретацией религии. Далее наша задача будет заключаться в том, чтобы показать необходимость этого противостояния внутри рефлективной философии.
1. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ОТМЕЧЕННЫМИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ
Я предлагаю выделить три темы, которые, как я думаю, имеют непосредственное отношение к предпосылкам феноменологии религии; этим трем темам я противопоставлю три рабочие гипотезы психоанализа, касающиеся религиозного феномена.
L Феноменология религии имеет своей целью не объяснение (expliquer), a описание (décrire). Объяснять значит соотносить религиозный феномен с вызвавшими его причинами, с его истоком или с его функцией, будь она психологической, социологической или еще какой-нибудь. Описывать значит соотносить религиозный феномен с его объектом, как он обозначен и как дан в культе и в вере, в ритуале и мифе. Что в этом пункте имеет отношение к проблеме символов? Мы могли бы сказать, что тема феномено-
логии религии —/это «нечто», подразумеваемое в ритуальном действии, мифическом слове, мистическом чувстве; задача заключается в том, чтобы выделить этот «объект» многочисленных интенций поведения, говорения и эмоции. Назовем этот предполагаемый объект «Священным», не высказывая заранее никаких суждений о его природе. В этом самом общем смысле, чтобы подчеркнуть его характеристику интенционального Объекта, мы скажем, что любая феноменология религии является феноменологией «Священного».
Этой первой характеристике мы сразу же противопоставим то, что соответствует ей во фрейдовской герменевтике, — определение религиозного феномена, исходящее из его экономической функции, а не из интенционального объекта.
II. Согласно феноменологии религии, существует «истина» символов; истина в том смысле, какой дает этому слову Гуссерль в своих «Логических исследованиях» и которое означает осуществление (Erfüllung) интенции означивания.
Что это значит для символов Священного? Так же, как мы противоцоставили понимание, исходящее из объекта, объяснению, исходящему из причины, противопоставим, чтобы указать характер полноты символов, символ и знак. Первой характеристикой функции знака — или семиотической функции — является произвольность отношения, связывающего означающее и означаемое; для символа, напротив, характерно то, что он никогда не бывает произвольным, но не бывает и пустым: всегда существует некий остаток природного свойства в отношении между означивающим и означиваемым, как это имеет место в аналогии (и мы указывали на это) — например, между экзистенциальной запятнанностью и физическим пятном. Точно так же (сошлемся на пример, взятый из работы Мирче Элиаде) сила космического символизма коренится в непроизвольной связи между видимым небом и выражаемым им невидимым порядком; опираясь на аналогическую силу своего первичного значения, он говорит о мудрости и справедливости, о бесконечном и упорядоченном. Такова наполненность символа, противостоящая пустоте знаков.
Этой второй черте мы в дальнейшем противопоставим то, что противоположно психоаналитической интерпретации, то, что Фрейд называет «иллюзией», если следовать знаменитому названию его книги: «Будущее одной иллюзии».
Это ведет нас к третьей характерной черте герменевтики, касающейся онтологического значения символов Священного. Нацеленность на объект, о чем мы говорили в первом пункте, как и нацеленность на полноту символов, о которой речь идет во втором пункте, уже подразумевает онтологическое понимание, которое достигает своей кульминации в философии языка Хайдеггера, согласно которой символы — это как бы язык бытия. В конечном итоге, именно эта философия языка свойственна феноменологии религии; она возвещает не столько о том, что язык проговаривается людьми, сколько о том, что язык говорит в людях, что люди рождаются внутри языка, в лучах Логоса, «который изливает свой свет на любого человека, входящего в мир». В этом смысле философия, свойственная феноменологии религии, есть обновление теории припоминания; современный интерес к символам говорит о новом контакте со Священным, по ту сторону забвения бытия, о чем сегодня свидетельствует манипуляция с опустошенными знаками, с формализованными языками.
Этой третьей, и последней, характеристике мы противопоставим тезис Фрейда о «возвращении вытесненного».
Теперь совершим прыжок над пропастью, которую, на первый взгляд, невозможно преодолеть и которая делит сферу герменевтики на две концептуальные, с точки зрения символов, части: психоаналитическую и феноменологическую. Я не буду пытаться ни устранять этот конфликт, ни смягчать его. Точно так же, как я довел до крайнего значения философию, характерную для первой системы интерпретации, я хочу высказать свое несогласие с тем, что находится в крайней оппозиции к этой онтологии Священного; оставляя в стороне умиротворяющие и примиряющие интерпретации религии, предлагаемые некоторыми школами психоанализа, я предпочитаю иметь дело с
/
самой смелой и самой радикальной из них — с той, которую предлагает сам Фрейд; в конце концов, ведь он — учитель; именно с ним мы и должны «объясниться».
Сначала мы противопоставим функциональную интерпретацию религии, характерную для психоанализа, с интерпретацией религии через ее объект (objective), свойственной феноменологии; затем противопоставим идею «иллюзии» идее «истины», имея в виду полноту символов; и, наконец, противопоставим тему «возвращения вытесненного» теме «воспоминания о Священном».
Что мы имеем в виду, когда говорим о функциональном подходе как противоположном подходу объектному (objec-tale)? Интерпретация религии имеет свое место в общих рамках теории культуры. Когда Фрейд пытается интерпретировать цивилизацию в целом, он не выходит за рамки психоанализа; напротив, он подчеркивает его стремление быть толкователем культуры, а не только ветвью психиатрии. Вот почему психоанализ объем лет собой ту же область, что и другие виды герменевтики, и нет никакой надежды на то, чтобы различать их в зависимости от сферы их исследования; каждая из них включает в себя все, что касается человека, и претендует на то, чтобы понимать и интерпретировать все, что касается человека. Если и существует граница психоаналитической интерпретации, то ее следует искать в ее точке зрения, а не в ее объекте. Точка зрения психоанализа — эта точка зрения «экономии» импульсов, то есть равновесия отречения и удовлетворения, какими эти последние ни были бы: реальными, отложенными, замещенными или вымышленными.
Следовательно, надо исходить из самого объемного явления — из цивилизации, чтобы затем включить в нее под видом иллюзии религиозный феномен. Когда Фрейд в начале своей работы «Будущее одной иллюзии» пытается понять явление цивилизации в целом, он задается тремя вопросами: до какого предела можно идти при подавлении импульсивных влечений человека? каким образом примирить людей с неизбежными здесь жертвами? как компенсировать людям эти понесенные жертвы? Нам следует понять, что вопросы эти задаем не мы и не Фрейд ставит их перед субъектом цивилизации, — они лежат в основании
самой цивилизации, ее претензии и ее намерения. Цивилизация, следовательно, берется непосредственно в рамках экономической точки зрения. Религия по-своему отвечает на эти вопросы. Прежде всего следует сказать, что она ослабляет невротическое давление на индивида, освобождая его от груза индивидуальной виновности с помощью замещающей ее идеи жертвенности (дальше мы увидим, что индивид освобождается от индивидуального невроза ценой невроза коллективного); с другой стороны, религия действует как утешение, то есть примиряет с понесенными жертвами; наконец, религия доставляет радости, которые можно считать удовольствиями, возвышающимися над сферой влечений, над лежащим в их основе Эросом.
Именно здесь нам следует противопоставить друг другу психоаналитическую теорию иллюзии и феноменологическую теорию «истины», то есть теорию наполнения и осуществления полноты. Понятие иллюзии имеет у Фрейда функциональный, метапсихологический смысл, и его следует рассмотреть со всей серьезностью. Мы не освобождаемся от него, когда заявляем, что утверждение: религия есть иллюзия — не-аналитично, до-аналитично и отражает всего-навсего предрассудки современного сциентизма, наследника «безверия» Эпикура и рационализма XVIII века. Здесь важна сама новизна — «экономическая» интерпретация «иллюзии»; речь идет не об истине в ее феноменологическом понимании, а о функции религиозных представлений в балансе жертвования и компенсирующего удовлетворения, с помощью которого человек пытается поддерживать свою жизнь. Ключ к пониманию «иллюзии» — это суровость жизни: жизнь трудно переносима для существа, которое не только понимает и страдает, но и, в силу врожденного нарциссизма, жаждет утешения. Итак, цивилизация, как мы видим, имеет своей целью не только ослабить действие инстинктов, но и защитить человека от подавляющего его превосходства природы. «Иллюзия» — это средство, которое использует цивилизация, когда борьба с природой терпит неудачу; цивилизация придумывает богов, чтобы справиться со страхом, чтобы примирить человека с его жестокой судьбой и компенсировать «неудовлетворенность», которую инстинкт смерти делает неустранимой.
Теперь мы подошли к той точке, где расхождение между феноменологией и психоанализом достигает своего наивысшего накала. Мы отнесли на счет феноменологии онтологическое понимание, согласно которому любое понимание с необходимостью включает в себя пред-понимание бытия; в этом отношении интерпретация символики Священного могла возникнуть как обновление античного знания-припоминания. В психоанализе тоже есть знание-припоминание, но оно проявляет себя в ходе генезиса религиозной «иллюзии», исходя из символов и фантазмов, в которых выражаются изначальные конфликты детства и предыстории человечества. С точки зрения методологической, этот момент нашего анализа весьма важен, поскольку именно здесь генетическое объяснение включается в топическое и экономическое. И если, в самом деле, религиозные представления не обладают истиной и являются не более чем иллюзиями, то их можно понять, только восходя к их истокам: «Тотем и Табу», «Моисей и монотеизм» реконструируют исторические воспоминания, составляющие, если следовать подзаголовку «Моисея», «истину в религии», то есть изначальные представления, которые находятся у истоков образования цонятий. Я не буду излагать всем известные вещи, относящиеся к этому генезису: убийство отца, учреждение клановым братством закона об инцесте и экзогамии, восстановление образа отца в виде замещающих его тоте-мических животных, ритуальное повторение убийства отца в ходе тотемического пиршества, возрождение образа отца в образах богов и т. п. Я ограничусь тем, что укажу на одну фундаментальную черту этого генетического объяснения; религия, какой мы знаем ее сегодня, является возрождением в форме фантазма забытых образов прошлого — отдельных индивидов и человечества в целом. Это возвращение забытого в форме религиозного фантазма можно сравнить с возвращением вытесненного при неврозе навязчивых состояний. Это сравнение возрождения религиозного символа и возвращения вытесненного дает нам возможность в последний раз посмотреть на разрыв в поле герменевтики. Воспоминание о Священном в смысле онтологии символа и возвращение вытесненного в смысле этиологии фантазмов составляют здесь два полюса напряжения.
2. ПОЛЯРНОСТЬ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Интересующая меня проблема теперь выглядит так: каким образом эти противостоящие друг другу герменевтики возможны в одно и то же время? Моя гипотеза заключается в том, что обе они правомерны, но каждая в своей сфере. Однако мы не можем удовлетвориться лишь простым противопоставлением этих двух типов интерпретации; нам надо соединить их и показать, что они взаимно дополняют друг друга. Предварительное решение нашей проблемы мы будем искать на пути выяснения отношения между сознательным и бессознательным. Нам могут возразить, что такой подход к проблеме может склонить нас на сторону одного из этих типов интерпретации, а именно на сторону психоанализа; я с этим согласен. И тем не менее, полагаю, что после Фрейда мы уже не можем говорить о сознании так, как говорили до него, а также, что, если мы хотим найти новое понятие сознания, нам, как представляется, надлежит раскрыть новую связь между сознанием и тем, что мы назвали проявлением Священного, или знанием-припоминанием о Священном. Сознание — это не первая, а последняя реальность, которую нам надлежит познавать. Нам надо вернуться к сознанию, а не начинать с него. И поскольку сознание является местом, где пересекаются друг с другом две интерпретации символа, нам, чтобы исследовать полярность символов, необходим двойственный подход к понятию сознания.
Главное, что воодушевляет нас на попытку аналитической демистификации, — это желание оспорить приоритет сознания*. Именно на основе оспаривания того, что можно было бы назвать «иллюзией сознания», мы можем понять методологическое значение решения перейти от описания сознания к топографии психического аппарата. Философ должен признать, что обращение к натуралистическим моделям обретает свое подлинное значение лишь благодаря этой тактике низложения и лишения приоритета,
* В другом месте я комментирую известный текст Фрейда, трактующий психоанализ как продолжение двойной революции — коперниканской и дарвиновской (см. наст, изд., с. 203–204).
направленной против иллюзии сознания, укорененного в нарциссизме.
Тем самым мы подготовили себя к пониманию того, что источник значения может быть смещен, или перемещен, иным образом. Точка зрения — топографическая или экономическая — не отменяет всех вопросов, а скорее обновляет их. Само слово «бессознательное» напоминает нам о связи с сознанием: сознание не отменяется ни теоретически, ни практически.
Таким образом, интерпретация, которая на первых порах распростилась с точкой зрения сознания, следующим своим шагом не только не упраздняет сознания, но радикально изменяет его смысл. Что же здесь отвергается решительнейшим образом, так это не сознание, а его претензия познать самое себя, исходя из истока, познать свой нарциссизм. Нам следует дойти до критической точки, когда мы больше уже не знаем, что означает сознание, чтобы раскрыть его как способ существования, для которого бессознательное является его «иным». Это смещение нашего анализа имеет решающее значение, поскольку именно диалектическое отношение между бессознательным и сознанием управляет сочленением двух отмеченных герменев-тик.
Рассмотрим теперь этот новый подход к сознанию. Все, что после Фрейда мы можем сказать о сознании, как представляется, сводится к следующей формулировке: «Сознание является не непосредственным, но опосредованным; оно — не исток, а задача, задача стать более сознательным». Мы принимаем эту формулировку, когда противопоставляем исследовательскую функцию сознания тенденции повторения и регрессии, о которых говорит фрейдовская интерпретация иллюзии. В частности, в последних работах Фрейд особое внимание уделяет теме возвращения вытесненного и бесконечного повторения архаического умерщвления отца: интерпретация религии все больше и больше становится предлогом для того, чтобы подчеркнуть регрессивную тенденцию в истории человечества.
Теперь, как мне представляется, проблема сознания оказывается связанной со следующим вопросом: каким образом человек выходит из своего детства, как он становится взрослым? На первый взгляд, этот вопрос кажется сугубо психологическим, поскольку является темой любой генетической психологии, любой теории личности. На деле же он обретает свой смысл, когда мы исследуем, какие образы, фигуры и символы управляют этим становлением, этим взрослением индивида. Я считаю, что этот косвенный путь более впечатляющ, чем тот, что предлагает психология непосредственного взросления: взросление возникает в точке пересечения двух систем интерпретации.
Именно здесь требуется совсем другой тип герменевтики, которая смещает источник смысла иным образом, чем это делает психоанализ. Ключ к пониманию сознания — не в самом сознании; нам необходимо отыскать новые образы, новые символы, несводимые к тем, которые укоренены в либидинозной почве: эти образы, эти символы устремляют сознание вперед, за пределы детства. После Фрейда единственно возможной философией сознания может быть только та, которая родственна гегелевской феноменологии духа. В этой феноменологии непосредственное сознание само себя не познает. Используя только что употребленные слова, я сказал бы, что человек становится зрелым, «сознательным» тогда и только тогда, когда он становится способным на создание новых образов, которые, будучи последовательно связаны друг с другом, образует «дух» в гегелевском его понимании. Толкование сознания в таком случае будет состоять в том, чтобы шаг за шагом создавать и описывать сферу смысла, с которой должно столкнуться и которую должно присвоить себе сознание, если оно намерено размышлять о себе как о «Я» — человеческом, взрослом, нравственном. Этот процесс ни в коей мере не является интроспекцией, непосредственным осознанием; еще менее он является видом нарциссизма, поскольку очаг «Я» — не психологическое ego, a дух, то есть диалектика самих образов. Сознание — это всего лишь интериоризация того движения, которое следует выявить в объективной структуре институтов, памятников, произведений культуры и искусства.
Прервемся на минуту, чтобы рассмотреть результаты предпринятого анализа. Мы пришли к предварительному выводу о том, что значение сознания не может быть дано в психологии сознания; оно достигается путем обходных маневров, предпринимаемых несколькими метапсихология-ми, которые смещают центр отсылок либо в сторону бессознательного, как это происходит во фрейдовской мета-психологии, либо в сторону духа, как в гегелевской мета-психологии.
Два типа герменевтики, которые мы описали в первой части нашего исследования, основываются на полярности этих двух «метапсихологий». Противоположность между бессознательным и духом выражается в двойственности интерпретаций. Две науки интерпретации представляют собой два разнонаправленных движения: аналитическое, ведущее к бессознательному (регрессивное), и синтетическое, ведущее к духу (прогрессивное). С одной стороны, в гегелевской феноменологии каждый образ получает свое значение от того образа, который следует за ним: стоицизм — это истина взаимного признания господина и раба, однако истиной стоической позиции является скептицизм, который упраздняет любое различие между господином и рабом, и т. д.; истина настоящего коренится в том моменте, который следует за ним; интеллигибельность всегда идет путем от конца к началу. Вот почему мы можем говорить, что сознание — это задача: оно подтверждает себя только в конце. С другой стороны, бессознательное означает, что понимание проистекает из предшествующих образов; человек — единственное живое существо, которое так долго остается пленником своего детства; человек — это существо, которого собственное детство тянет назад; бессознательное, таким образом, является принципом всех регрессивных движений и всех застойных явлений. Стало быть, в самом общем виде мы можем сказать, что дух — это высший порядок, а бессознательное — порядок изначальный. Именно поэтому одна и та же игра символов может лежать в основании двух типов интерпретации: одной, направленной на возрождение образов, которые всегда «позади», и другой, направленной на обнаружение образов, которые всегда «впереди». Оба плана присущи любому символу, что делает возможными две прямо противоположные интерпретации.
3. РЕФЛЕКСИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Настало время вернуться к главному вопросу, который мы оставили в подвешенном состоянии: если философия есть рефлексия, как мы говорили в начале исследования, то почему рефлексия должна прибегать к помощи символического языка? Почему рефлексия должна превратиться в интерпретацию? Следовательно, нам нужно вернуться назад и выработать понятие рефлексии, которое до настоящего времени оставалось на уровне простого предположения.
Когда мы говорим, что философия есть рефлексия, мы имеем в виду рефлексию относительно «Я». Но что означает это «Я»? Я утверждаю здесь, что позиция «Я» есть первая истина для философии, по меньшей мере для той долгой традиции в современной философии, которая начинается с Декарта, проходит через Канта, Фихте и рефлексивное направление европейской философии. Для этой традиции, которую мы, прежде чем изучать ее отдельных представителей, рассмотрим в целом, позиция «я» является истиной, которая сама себя полагает; она не может быть ни верифицирована, ни дедуцирована; это — одновременно и позиция бытия, и позиция действия, позиция существования и операция мышления: я есть, я мыслю; существовать для меня значит мыслить; я существую постольку, поскольку мыслю; так как эта истина не может быть ни верифицирована в качестве факта, ни дедуцирована в качестве вывода, она должна сама себя полагать в рефлексии; ее самополагание — это рефлексия; Фихте называет эту первичную истину тетическим суждением[236]. Такова наша исходная позиция в философии.
Однако этой первой отсылки к позиции существующего и мыслящего «Я» недостаточно для того, чтобы охарактеризовать рефлексию. В частности, мы не понимаем еще, почему рефлексия настаивает на расшифровке, почему она обращается к экзегезе, к экзегетической, или герменевтической, науке, как не понимаем и того, почему эта дешифровка должна быть то психоанализом, то феноменологией Священного. Нам не понять этого до тех пор, пока рефлексия продолжает возвращать нас к так называемой очевид-
ности непосредственного сознания; нам необходимо обратиться к еще одной черте рефлексии, которую можно сформулировать следующим образом: рефлексия не является интуицией, или, если использовать позитивную терминологию, рефлексия является усилием, направленным на то, чтобы постичь ego ego Cogito сквозь призму его объектов, его творений, в конечном итоге — сквозь призму его актов. Однако, почему позиция ego должна быть понята через его акты? Именно потому, что она не дана ни в психологической очевидности, ни в интеллектуальной интуиции, ни в мистическом видении. Рефлексивная философия противоположна философии непосредственного. Первая истина — я есть, я мыслю — остается достаточно абстрактной и пустой до тех пор, пока не принимаются за ее опровержение; ее следует «опосредовать» представлениями, действиями, произведениями, институтами, памятниками культуры, которые ее объективируют; именно в своих объектах, в самом широком смысле этого слова, ego должно потерять себя и обрести вновь. Мы можем сказать, что философия рефлексии не является философией сознания, если под сознанием мы понимаем непосредственное осознание собственного «я». Сознание — это задача, говорили мы выше, но оно является задачей только потому, что оно не есть нечто данное. Разумеется, я имею апперцепцию относительно себя самого и моих актов и эта апперцепция относится к сфере очевидности; Декарта нельзя лишить этого бесспорного высказывания: я не могу сомневаться относительно самого себя, не замечая того, что я сомневаюсь. Но на что указывает эта апперцепция? Конечно же, на достоверность, но достоверность, лишенную истины; Мальбранш, вопреки Декарту, прекрасно видел, что это непосредственное постижение есть всего лишь чувство, а не мысль. Если мысль — это свет и видение, то не существует ни видения ego9 ни света восприятия; я ощущаю только, что я существую и мыслю; я ощущаю, что пробудился, — таково мое восприятие. Если говорить на языке Канта, то восприятие ego может сопровождать все мои представления, но оно не является самопознанием «я», оно не может быть преобразовано в интуицию, направленную на субстанциальную душу; в конечном итоге
рефлексия, благодаря решительно» критике Канта любой «рациональной психологии», была отделена от какого бы то ни было самопознания «Я».
Второй тезис, согласно которому рефлексия не является интуицией, дает возможность предположить, какое место занимает интерпретация в самопознании: на нее указывает пустое пространство, образованное различием между рефлексией и интуицией.
Еще один шаг приблизит нас к цели: вопреки Декарту и в полном согласии с Кантом я противопоставил рефлексию интуиции, стремясь тем самым отличить задачу рефлексии от простой критики познания; однако этот новый шаг удаляет нас от Канта и приближает к Фихте. Существенная ограниченность критической философии коренится в ее чрезвычайной озабоченности эпистемологическими проблемами; рефлексия сводится к уникальной характеристике: единственными признанными операциями мышления являются те, которые обосновывают «объективность» наших представлений. Этот предписанный эпистемологии приоритет объясняет, почему у Канта, вопреки видимости, практическая "философия подчинена философии теоретической: вторая Критика Канта на деле заимствует все свои структуры у первой Критики; критическая философия направлена на решение единственного вопроса: что такое a priori и что такое эмпирическое в познании? Это различение является ключом к теории объективности; она просто переносится во вторую Критику; объективность максим воли основывается на различии между значением долга, который априорен, и содержанием эмпирических желаний.
Именно вопреки этому сведению рефлексии к простой критике я, вслед за Фихте и его французским последователем Жаном Набером, подчеркиваю, что рефлексия является не столько подтверждением науки и долга, сколько повторным присвоением нашего усилия существовать; эпистемология — это всего лишь часть более широкой задачи: нам предстоит раскрыть акт существования, позицию «я» во всей толще его творений. И почему же именно теперь нам необходимо охарактеризовать это раскрытие как присвоение и даже повторное присвоение? Я должен вернуться к одной вещи, которая поначалу была утрачена; я «присваиваю», «делаю своим» то, что перестало принадлежать мне. Я делаю «своим» то, что отделил от себя с помощью пространства или времени, по рассеянности или предаваясь «развлечению», в память о забытой обиде; присвоение означает, что изначальная ситуация, из которой исходит рефлексия, «забылась»; я затерялся, «заблудился» среди вещей, отделился от центра моего существования, а также от других, став врагом для всех. В чем бы ни заключалась первоначальная тайна этой diaspora (рассеяние), этого отделения, она означает, что я не владею тем, что я есть; истина, которую Фихте называет «тетическим суждением», полагает себя при полном отсутствии «я»; вот почему рефлексия — это задача (Aufgabe), задача, заключающаяся в том, чтобы привести мой конкретный опыт в соответствие с позицией «я есть». Таков конечный пункт нашего исходного предположения: рефлексия — это не интуиция; теперь мы скажем: позиция «я» не есть данность, она — задача; она не gegeben (дана), a aufgegeben (задана).
Можно спросить себя: не слишком ли мы акцентируем практическую и нравственную сторону рефлексии? Не идет ли речь о новом ограничении, сходным с ограничением эпистемологического аспекта кантовской философии? Более того, не уходим ли мы слишком далеко от нашей проблемы интерпретации? Я так не думаю; нравственный акцент, сделанный на рефлексии, не вводит никакого ограничения, если мы возьмем понятие нравственности в его широком смысле, в том, какой придавал ему Спиноза, сводя философию в целом к этике.
Философия — это этика в той мере, в какой она ведет от отчуждения к свободе и блаженству; у Спинозы такое обращение достигается тогда, когда самопознание уравнивается с познанием единой Субстанции; однако этот умозрительный процесс имеет нравственное значение, поскольку отчужденный индивид преобразует себя с помощью познания целого. Философия — это этика, но этика не является дисциплиной сугубо нравственной. Если проследить за тем, как Спиноза употребляет слово «этика», то придется признать, что рефлексия, прежде чем стать критикой нравственности, уже есть этика. Цель ее заключается в том, чтобы постичь ego в его усилии быть, в его желании быть. Здесь, как представляется, рефлексивная философия вновь обретает, а возможно, и спасает одновременно и платоновскую идею, согласно которой источником познания является сам Eros, желание, любовь, и спинозистскую идею, согласно которой источник познания — это со-natus, усилие. Это усилие есть желание, поскольку оно никогда не реализуется; но это желание есть усилие, поскольку оно есть утвердительная позиция единичного бытия, а не просто нехватка бытия. Усилие и желание — это два аспекта позиции «Я» в первой истине: я есмь.
Теперь мы можем дополнить наше негативное предложение — рефлексия не является интуицией — предложением позитивным: рефлексия есть присвоение нашего усилия быть и нашего желания быть с помощью творений, которые свидетельствуют об этом усилии и этом желании; вот почему рефлексия — нечто большее, чем простая критика морального суждения; предшествуя любой критике суждения, она рефлексирует по поводу этого акта существования, которое мы обнаруживаем в усилии и желании.
Этот третий шаг вплотную подвел нас к проблеме интерпретации. Мы полагаем теперь, что позиция, исходящая из усилия или желания, не только лишена какой бы то ни было интуиции, но и характеризуется деяниями, значение которых остается исключительно неопределенным и непостоянным. Именно здесь рефлексия прибегает к интерпретации в своей попытке стать герменевтикой. Таков глубинный исток нашей проблемы: он коренится в изначальной связи между актом существования и знаками, которые мы обнаруживаем в своих деяниях; рефлексия должна стать интерпретацией, поскольку я могу схватить акт существования не иначе как в знаках, рассеянных в мире. Вот почему рефлексивная философия должна включить в себя результаты методологических поисков и предположений всех наук, которые стремятся расшифровать и интерпретировать человеческие знаки.
4. ОБОСНОВАНИЕ КОНФЛИКТА ГЕРМЕНЕВТИК
Остается одна непомерная трудность; мы понимаем, что рефлексия должна прокладывать свой путь среди символов, которые образуют непроницаемый язык, которые при-
надлежат отдельным своеобразным культурам и отсылают к подлежащим замене интерпретациям; но почему эти знаки должны интерпретироваться либо как символы Священного, либо как симптомы бессознательного? Разумеется, на первый взгляд, ни реализм бессознательного, если следовать психоанализу, ни трансценденция Священного, если следовать феноменологии религии, не соответствуют рефлексивному методу. Разве рефлексия не является методом имманентного? Разве не должна она сопротивляться трансценденции, воздействующей как сверху, так и снизу? Как может она включить в себя эту двойственную транс-ценденцию?
Два типа интерпретаций, которые мы попытались соединить друг с другом, имеют, по меньшей мере, одну общую черту: обе они уничижают сознание и смещают центр, откуда проистекают значения; одна только философия рефлексии может не только понять это смещение центра, но и потребовать его. Проблема получит решение, если мы поймем, почему рефлексия включает в себя археологию и эсхатологию сознания.
Рассмотрим последовательно два аспекта этого вопроса.
Рефлексия требует редукционистской и деструктивной интерпретации, поскольку сознание сначала предстает как ложное сознание, как «претензия на самопознание». Сразу же возникает связь между задачей становления человека сознательным существом и своего рода демистификацией ложного сознания, чем занимается психоанализ. К тому же понимание этой демистификации обретает свое йолное значение, когда мы ставим Фрейда рядом с великими властителями «подозрения» — от Ларошфуко[237] до Ницше и Маркса. Близость между Фрейдом и Ницше, вероятно, наиболее разительна; для каждого из них изначально дано не сознание как таковое, а ложное сознание, предрассудок, иллюзия. Вот почему сознание должно подвергнуться интерпретации. Ницше был первым, кто связал подозрение с интерпретацией; он заимствовал у немецкой филологии понятие Deutung, понятие экзегезы, или толкования, и применил его к философскому пониманию «воли к власти». Не случайно, что это же понятие Deutung появилось и у Фрейда в его знаменитой книге «Толкование сновидений»; и в том и в другом случае проблема заключа-
лась в том, чтобы противопоставить коварству воли к власти, или libido, коварство разгадывания загадки и великое искусство подозрения. «Самосознание» должно было стать «самопознанием», то есть познанием косвенным, опосредованным и подозрительным для самого «я». Таким образом, рефлексия отделяется от непосредственного сознания; последнее требует расшифровки в качестве чистого симптома и интерпретации со стороны внешнего свидетеля. Если сознание изначально выступает как ложное сознание, рефлексия должна согласиться с такой его децен-тровкой, оно должно, если воспользоваться словами из Св. Писания, потерять себя, чтобы обрести вновь.
Рассмотрим теперь другую интерпретацию — интерпретацию феноменологии религии. Теперь мы понимаем, почему она должна быть восстановлением Священного. Мы только что, в противоположность порядку бессознательного, охарактеризовали порядок духа; мы сказали, что он есть прогрессивное и синтетическое движение образов, в соответствии с которым истина настоящего коренится в истине следующего момента, как об этом проникновенно писал Гегель; вот почему, добавляли мы, сознание — это задача и ее решение не обеспечивается целью, какой бы она ни представлялась. Дух — это сфера наивысшего, бессознательное — сфера изначального. Таким образом, значение сознания сосредоточено не в нем самом, а в духе, то есть в последовательном движении образов, устремляющее дух вперед.
Именно здесь в нашем рассуждении дает о себе знать определенная двойственность: мы ощутили, что развертывание образов, которое мы назвали «духом», не достигает уровня феноменологии религии. Между образами духа и символами Священного существует колоссальное расхождение. Я этого не отрицаю. Я вижу связь, имеющую место между феноменологией религии с ее символами Священного и феноменологией духа с ее образами, принадлежащим различным культурам; именно здесь Гегель потерпел крушение. Как известно, согласно Гегелю, у этого развертывания образов существует цель, и эта цель — абсолютное знание. Можем ли мы сказать, что целью является не абсолютное знание, не завершение всех опосредо-
ваний в целом, в тотальности, а всего лишь обещание, обещание того, что заложено в символах Священного? Для меня Священное занимает место абсолютного знания, и тем не менее не замещает его; его значение остается эсхатологическим и его никогда не преобразовать в познание и в знание. Я хочу показать, что это утверждение не является произвольным.
Я не думаю, что абсолютное знание возможно, и одной из причин этого является как раз проблема зла, которая послужила исходной точкой в наших рассуждениях и которая еще недавно казалась не более чем простым предлогом для того, чтобы поставить вопрос о символах и герменевтике. В конце нашего исследования мы обнаруживаем, что великие символы, касающиеся природы, истока и цели зла являются не заурядными символами среди других, а символами особыми. Недостаточно сказать, как мы это сделали, имея в виду расширение проблемы символа, что зло противоположно спасению, что символы зла в целом противоположны символу спасения. Эти символы учат нас чему-то важному там, где речь идет о переходе от феноменологии духа к феноменологии Священного. Эти символы действительно сопротивляются всякой редукции к рациональному познанию; поражение всех теодицей, всех систем, касающихся зла, свидетельствует о поражении абсолютного знания в гегелевском его понимании. Все эти символы дают пищу мысли, однако символы зла в каждом отдельном случае показывают, что содержание наших мифов и символов значительно богаче содержания нашей философии и что философская интерпретация символов никогда не станет абсолютным знанием. Символы зла, в которых мы прочитываем поражение нашего существования, свидетельствуют также и о поражении всех систем мышления, которые хотели бы растворить символы в абсолютном знании. Такова одна из причин, и, может быть, самая главная, в силу которой нет абсолютного знания, а есть лишь символы Священного — по ту сторону образов духа. Я сказал бы, что эти образы вызваны Священным с помощью знаков. Знаки же этого призыва существуют внутри истории, но призыв означает и нечто иное, отличное от истории. Вероятно, мы могли бы сказать, что эти символы
являются провозвестием сознания; они говорят о зависимости «Я» от абсолютного истока опыта и значений, об escha-ton[238], о вершине, к которой устремлены образы духа.
Отсюда следует вывод: мы сможем в полной мере оценить герменевтическую проблему, если сумеем постичь двойственную зависимость «я» от бессознательного и от Священного, поскольку эта двойственная зависимость выражена исключительно символическим образом. Чтобы выявить эту двойственную зависимость, рефлексия должна низложить сознание и интерпретировать его с помощью символических значений, приходящих к нам как из прошлого, так и из будущего, с низин и с верховий. Короче говоря, рефлексия должна включить в себя археологию и эсхатологию.
Поставленные на такую философскую почву, эти две противоположные интерпретации религии, которым мы сами причастны, предстают перед нами уже не как случайные явления современной культуры, а как необходимые оппозиции, которые постигает наша рефлексия. Как говорили Бергсон и его последователи, существуют два источника Морали и Религии; с одной стороны, религия — это идолопоклонничество, ложный культ, выдумка, иллюзия: это, как говорится в античной поэзии, страх, породивший богов. Мы понимаем, беря слово «понимать» в его самом широком значении, что религия зависит от археологии сознания в той мере, в какой она является проекцией архаической судьбы, одновременно атавистической и инфантильной; вот почему интерпретация религии прежде всего означает ее демистификацию. Фрейд, как мы уже отмечали, говорит не о Боге, а о человеческих богах. И мы все еще не расстались с этими богами. Однако я понимаю такую демистификацию как оборотную сторону восстановления знаков Священного, которое является провозвестием сознания. Это провозвестие сознания всегда остается двойственным и противоречивым; мы вовсе не уверены в том, что так понимаемый символ Священного не является «возвращением вытесненного»; или, скорее, вполне очевидно, что каждый символ Священного есть одновременно и возвращение вытесненного, и восстановление инфантильного и архаического символа. Здесь две символики взаимно переплетаются: именно на пути архаического мифа к нему
прививаются и начинают действовать самые что ни на есть провозвестные значения Священного. Прогрессивный порядок символов не является внешним по отношению к регрессивному порядку фантазмов; погруженные в архаическую мифологию бессознательного, знаки Священного по-новому заявляют о себе. Эсхатология сознания — это всегда творческое повторение его археологии.
И разве не Фрейд сказал: Wo es war, soll ich werden. — Там, где было «Оно», должно стать «Я»?
ДЕМИФИЗАЦИЯ ОБВИНЕНИЯ
Если ранее я подходил к вопросу о зле со стороны признания, то есть со стороны осужденного сознания, то теперь я хотел бы рассмотреть его со стороны обвинения, то есть со стороны сознания осуждающего.
Этот новый подход позволит мне обратиться к вопросу о виновности, на котором я остановился в конце «Символики зла», и ввести сюда новые моменты, которые открылись мне в ходе недавнего чтения Фрейда.
На деле, как мне представляется, вопрос об обвинении — точнее, об инстанции обвинения, — направлен на выявление двойственной функции демифизации. С одной стороны, демифизировать значит признать миф мифом, чтобы отказаться от него; в этом смысле следует говорить о демистификации; результатом такого отказа является обретение неотчужденного мышления и неотчужденной воли; положительным моментом этой деструкции является представление о человеке как субъекте собственного человеческого существования; это — антропогенез. С другой стороны, демифизировать значит признать миф мифом, но с той целью, чтобы выявить его символическую основу; в таком случае следует говорить о демифологизации; то, что здесь подвергает деструкции, так это не столько миф, сколько последующая его рационализация, которая довлеет над мифом, то есть псевдологос мифа. Результат такого действия — обретение способности к разоблачению, которую миф скрывает под маской объективации; положительный момент этой деструкции заключается в обосновании чело-
веческого существования исходя из его истока, которым оно не располагает, но о котором ему символически сообщено основополагающим словом.
Я предлагаю дополнить эту гипотезу о двойственной де-мифизации инстанцией обвинения.
Однако философ не может удовлетвориться заурядным противопоставлением двух модальностей демифизации; он должен воспроизвести их соотношение. Следовательно, ему необходимо определить проблематику, на основе которой можно систематически артикулировать демистификацию и демифологизацию, отречение от мифа и овладение его символической основой.
Какова собственно философская проблематика, которой должна руководствоваться наша мыслительная деятельность? По-моему, это вовсе не то, что идущая от Канта традиция называет моральным долгом в его двойственном аспекте — формализма и обязательства. Это двойное устранение желания как чуждого чистой форме долженствования и вместе с тем не подчиняющегося побуждению и есть, как мне представляется, основное заблуждение кантовской морали. Я хотел бы соединить это двойственное движение демифизации — отречение от вымысла и восстановление символа — и включить его в работу рефлексии, нацеленную на выявление изначальной проблемы этики. Эта работа рефлексии будет одновременно учитывать оба движения демифизации.
В первую очередь я занялся бы поиском собственно философского определения деструктивной герменевтики, связанной с темой обвинения, чтобы показать, что то, что может и должно быть демистифицировано, — это ложная трансценденция императива; таким образом будет расчищен горизонт для более глубинного и более фундаментального вопрошания, которое раскрыло бы сущность этики в нашем желании быть, в нашем усилии существовать.
Во вторую очередь я занялся бы поиском собственно философского значения позитивной герменевтики и показал бы, что то, что философ может постичь в керигме спасения, относится не столько к подавляющему нас побуждению,
сколько к конституирующему нас желанию. Этика желания, следовательно, предоставит в наше распоряжение сочленение, узловой момент и философскую почву для двойственного процесса демифизации.
Только тогда, в третью очередь, мы сможем поставить перед собой вопрос о том, чем стало признание в совершённом зле, когда инстанция обвинения прошла через кризис демистификации и проблема этики была рассмотрена в свете керигмы, которая не осуждает жизнь, а провозглашает ее.
1. ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ОБВИНЕНИЯ
Вслед за гегелевской критикой морального видения мира сложилось то, что можно было бы назвать осуждением осуждения. Развитие этой темы можно наблюдать у Фейербаха, Маркса, Ницше и Фрейда.
Учитывая мои предшествующие разработки, я ограничусь критикой Фрейда; я поступаю так вовсе не для того, чтобы поставить точку в этом исследовании или задержаться на нем, а для того, чтобы приступить к критике кан-товского долженствования. Урок, который я извлек из объемных фрейдовских произведений, начиная, в частности с «Тотем и табу» и кончая «Недовольством культурой», — это косвенное влияние психоаналитической концепции Сверх-Я на критику долженствования. Я буду исходить из методологического расхождения между Фрейдом и Кантом.
Главным достижением психоанализа я считаю открытие того, что, казалось, невозможно было бы открыть: я имею в виду генеалогию так называемого принципа моральности. Там, где с помощью кантовского метода мы находим изначальную, ни к чему несводимую структуру, с помощью другого метода мы находим производную, вторичную инстанцию. То, что является первичным — а именно на это указывает само слово «принцип»[239] — для регрессивного анализа формальных условий доброй воли, для анализа иного типа не является таковым. Этот другой метод, который также выступает в качестве анализа, — не ре-
флексия по поводу условий возможности, а интерпретация, герменевтика, нацеленная на образы, в которые включена инстанция осуждающего сознания.
Рассмотрим внимательнее этот момент; когда я говорю «обвинение», то имею в виду то, о чем умалчивает обязательство и что оно подразумевает; эти умолчание и подразумевание не поддаются никакому прямому анализу; здесь имеет место интерпретация, герменевтическое высказывание; оно предполагает, что мы заменяем формальный метод, заимствованный у аксиоматики наук о природе, методом дешифровки, заимствованным у филологии и экзегезы. Кантианство исходит из категориального анализа, фрейдизм — из анализа филологического. Вот почему, то, что для первого метода является изначальным, для второго может быть производным, а то, что для первого метода является принципом, для второго может быть генеалогией. Нам не удастся отделить фрейдовскую генеалогию — и тем более служащую ей моделью ницшевскую генеалогию — от герменевтического метода, который порождает структуру двойного смысла там, где аксиоматика волевой интенции находит лишь простую форму, форму моральности во-обще.
Эта противоположность между генеалогическим методом и методом формальным все более и более углубляется: обращение к филологии является вместе с тем и обращением к сомнению, переносящему явный смысл в иной контекст, который первый контекст утаивает. Введение утаивания в сферу чистой совести является решающим моментом. Осуждающее сознание становится сознанием осужденным; суд подчиняется критике второго уровня, которая перемещает осуждающее сознание в сферу желания, от которой формальный кантовский анализ попытался удалиться. Обязательство, интерпретированное как обвинение, становится функцией желания и страха.
Что следует из этого противостояния методов для интерпретации обвинения? В ходе анализа я остановлюсь на четырех моментах, в изучении которых буду идти от сугубо внешних вещей к вещам глубинным.
Демистификация обвинения сначала достигалась путем соединения нескольких клинических аналогий: между осознанным страхом и страхом, вызванным запретом (tabou);
между совестливостью и навязчивым неврозом; между моральной бдительностью и психозом человека, находящегося под врачебным наблюдением; между угрызениями совести и меланхолией; между моральной строгостью и мазохизмом. Эта сеть, сотканная из аналогий, обозначает то, что можно было бы назвать патологией обязательства, в то время как Кант видел здесь лишь патологию желания. Согласно этой новой патологии, человек является существом, страдающим сублимацией.
Это дескриптивное родство становится генетическим наследованием, если рассматривать историю единичного индивида или рода; однако фрейдовский генетизм отличается от любого другого тем, что он вырабатывается на уровне фантазма игрой фигуральных замещений; Фрейд, таким образом, восстанавливает связь между императивным и фигуративным, помещая инстанцию обязательства в означивающие структуры речи. В центре этой символической системы — образ отца — составная часть Эдипова комплекса; Фрейд часто называет его комплексом отца; институт закона сразу же оказывается сдвоенным с фигуративной системой, скажем даже — с «первосценой» умерщвления отца, — которая, в глазах Канта, могла возникнуть только как эмпирическое конституирование человека; именно это случайное конституирование обнаруживает основообразующую структуру экзегетического метода и, в конечном итоге, неустранимую судьбу, как об этом свидетельствует трагедия Софокла.
Там, где Кант говорит «закон», Фрейд говорит «отец». Различие между формализмом и экзегезой здесь буквально бросается в глаза. Для герменевтики осуждения формальный закон является вторичной рационализацией, в конечном итоге — абстрактным замещением, за которым стоит конкретная драма, акцентированная с помощью нескольких, вполне достаточных для этого случая, ключевых означающих: рождение, отец, мать, фаллос, смерть…
Третья черта: от дескриптивного отцовства, путем генетического наследования, надо идти к экономическому перемещению инстанции обвинения, которой мы будем теперь обозначать «сверх-я», чтобы подчеркнуть дифференциацию во внутреннем мире человека: «сверх-я», любит повторять Фрейд, значительно ближе к темному миру влечений, чем «я», которое благодаря функции сознания, этой по существу своему поверхностной функции, воспроизводит внешний мир. Всем известен анализ, предпринятый Фрейдом в работе «Я и Оно»; гипотеза об экономическом распределении либидинозной энергии между «оно» и «сверх-я» имеет глубокое значение: именно из подавления наших желаний возникают запреты; аналогия между моральным сознанием и структурой меланхолии в этом отношении весьма показательна: она позволяет, с точки зрения экономической, приблизиться к моральной инстанции утраченного архаического объекта, обосновавшегося внутри «я».
Последняя черта: в сверхдетерминированном и амбивалентном образе отца перекрещиваются две функции — функция наказания и функция утешения. Один и тот же образ и угрожает, и защищает; с одним и тем же образом связаны страх наказания и жажда утешения. Именно так, через вереницу замещений и эквивалентов, мог родиться космический образ бога, который дарует утешение человеку, сохранившему свою инфантильность и испытывающему тяготы жизни. Вот почему «отречение от отца» будет вместе с тем и «отказом от утешения». И этот отказ вовсе не пустяк, поскольку мы предпочитаем моральное осуждение тревогам, обрушивающимся на безутешное, лишенное покровительства существование.
Все эти черты — и особенно последняя — делают демистификацию обвинения похожей на скорбное расставание.
Фрейдовская критика обвинения имеет философское значение, к которому теперь следует перейти; я выразил бы его в такой формулировке: подняться от морали обязательства к этике желания или к усилию существовать.
Однако это философское значение не вытекает из фрейдовской критики; напротив, этика желания определяет смысл критики; на деле, в критике ничто не получает разрешения; здесь как раз все только начинается. Что означает аналогия между моральным сознанием и различными патологическими структурами, являющими собой клинические эквиваленты? Что означает генетическая наследственность, если источник моральности остается чуждым
желанию, каковым в Эдиповом фантазме является отец? Что означает идентификация с этим отцом, если правда, что в данном случае имеют место две идентификации: животное желание обладать, владеть и желание «быть как», «походить на…»? Следует признать, что генеалогии достаточно для того, чтобы развенчать абсолютную претенциозность обязательства, но исток, на который она указывает, не является изначальным.
Это задача философии — связать демистификацию обвинения с проблематикой изначальной этики, горизонт которой был только расчищен путем деструкции ложных транс-цен денций.
Что касается меня, то я искал бы эту изначальную этику на пути рефлексивной философии, родственной философской концепции Жана Набера. Разумеется, рефлексивная философия — это философия субъекта, которая не является с необходимостью философией сознания; это — философия, в центре которой находится проблема субъекта; это — философия, где вопрос: «Кто говорит?» является истоком, к которому мы поднимаемся. Я руководствуюсь следующей рабочей гипотезой: только рефлексивная философия может взяться за проблему двух способов демифиза-ции, не отделяя один от другого: разрушение мифа как ложной трансценденции обязательства и высвобождения потенциального символизма керигмы.
Изначальная этика, следовательно, находиится в точке пересечения этих двух движений мысли — деструкции мифа и постижения символа.
В том, что обязательство не является изначальной структурой этики, можно убедиться, обратившись к работе Спинозы «Этика». Этика — это наше усилие, направленное на то, чтобы существовать во всей полноте, при том что существование понимается как движение от рабства к блаженству. И первоначально именно рефлексия относительно обязательства скрывает это. Она маскирует собственные характеристики человеческой деятельности с помощью формальных категорий, выведенных из структур объективности в ходе критики познания. Необоснованное разведение двух кантовских «Критик» приводит к разделению a priori и a posteriori, чуждому внутренней структуре деятельности. Принцип моральности, таким образом, отделяется от спо-
собности желать. Это вынесение за скобки способности желать, взятой во всем ее объеме, ведет к отказу от счастья, низложенного в качестве «материального» принципа детерминации желания, и к абстрактной изоляции «формального» принципа обязательства. Демистификация обвинения имеет своим философским следствием оспаривание привилегии формализма как первого шага этики. Формализм — я уже говорил об этом — возникает как последующая рационализация, достигнутая, в практическом плане, простым смещением критики познания и различением трансцендентального и эмпирического; это смещение полностью игнорирует специфику деятельности по отношению к познанию. Таким образом, необходимо отказаться от любой оппозиции типа форма — материя, содержащейся в конститутивных операциях истины, и следовать диалектике деятельности, центральной темой которой явилось бы отношение действия к его результату, желания быть — к его осуществлению.
Я говорю «усилие», но также и «желание», чтобы поставить в начало этической рефлексии идентичность усилия, в смысле спинозистского conatus, и eros, скорее в платоновском, нежели во фрейдовском его понимании.
Под усилием я понимаю, как это делал Спиноза в своей «Этике», полагание существования — ponit sed non tollit[240], — утверждение бытия, включающее в себя бесконечное время, длительность, которая есть не что иное, как длительность самого существования; именно этот позитивный момент существования лежит в основании более изначального утверждения «Я есмь», которое Фихте называл тетиче-ским суждением. Именно это утверждение конституирует нас и именно его мы так или иначе утратили; именно это утверждение необходимо вновь и вновь завоевывать, хотя по сути своей оно изначально, неотъемлемо, неотчуждаемо.
Однако усилие это наряду с тем, что оно является утверждением, является вместе с тем и отречением «я» от себя и связано с чувством нехватки, желанием другого. Здесь важно понять, что conatus — это одновременно и eros; любовь, говорит Платон в «Пире», — это любовь к чему-то, к чему-то такому, чего у него нет, чего мы лишены, чего нам не хватает. Утверждение бытия в нехватке бытия — вот
на что направлено усилие в самой что ни на есть его изначальной структуре.
В каком отношении это изначальное отношение обосновывает этику?
В том, что «Я есмь» является для него его собственным требованием: оно должно быть тем, что есть изначально. Долг есть всего лишь перипетия требования и стремления. Набер утверждает: «Позиции «быть» сознание обязано тем отношением, которое его желание поддерживает с первичной достоверностью, чьим законом является образ. Порядок долженствования требует обнаружения в «я» желания быть, углубление которого совпадает с самой этикой»*.
2. КЕРИГМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО ЭТИКИ
Новое понимание этики, исходящее из желания быть, а не из чистого долженствования, позволяет нам в новых терминах осмыслить вопрос о религиозном ядре этики.
Можем ли мы быть уверены в том, что переступаем грань между этикой и религией, когда соотносим моральное требование с историческим проявлением божественной воли? Становится ли мораль религиозной, когда всеобщее долга становится уникальным semel jussit semper paret, ажх£ Xeyô-p,£vov[241], началом требования? Именно это я хотел бы здесь серьезнейшим образом опровергнуть; демистификация обвинения доводит сомнение до такой точки, где запрет са-крализуется.
Итак, восстановление этического основания нашего желания быть позволяет нам поставить проблему в совершенно других терминах: оно дает возможность предвидеть новую грань между событием Евангелия и нашей моральностью. Послушаем св. Павла, когда он выстраивает свою моральную теологию вокруг конфликта между законом и состраданием, послушаем автора «Послания к Евреям», когда он пересматривает большинство положений Ветхого Завета, ориентируясь на веру, а не на закон: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел
* Nähert J. Eléments pour une éthique. P. 141.
получить в наследие… Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака…».
Считать религиозным ядром этики повеление, имеющее свое начало в божественном событии, — это, вероятно, и есть миф о моральной религии, миф, который должен быть демистифицирован; и, вероятно, только опираясь на эту демистификацию, можно отыскать событие, чистое событие керигмы, и его отношение к истоку нашего желания быть.
Что касается меня, я оставил бы за этикой ее антропологическое звучание, я соединил бы понятие ценности с диалектикой принципа безграничности, связанного с желанием быть, и с принципом ограничения, связанным с творениями, институтами, структурами экономической, политической и культурной жизни. Я не проецировал бы в небо Ценность, идола Ценности. Если существует событие, начало, историческое таинство, о который заявляется и возвещается в стихии свидетелъствования, то это стихия керигмы, которая помещает человека — человека и его закон, человека и его этику — в историю спасения, то есть в историю, где все может быть утрачено и где все может быть спасено; или, скорее, в историю, где, начиная с события, которое случается постоянно, с грехопадения, все уже утрачено, и в историю, где, начиная с события, которое постоянно воскрешается в памяти и обретает значение, со смерти Праведника, все уже спасено. Именно такое вхождение в положение человека и в его человеческую этику в связи с евангелическим требованием и составляет керигматиче-ский момент этики.
Теперь мне кажется, что задача моральной теологии заключается в том, чтобы понять — так глубоко, как это возможно, — отношение керигмы прежде всего не к повиновению, а к желанию, для которого повиновение является вторичной функцией. Я вовсе не хочу сказать, что мы не сталкиваемся с чем-то таким, что было бы «повиновением» — Авраам дважды повинуется: зову уйти и зову принести в жертву Исаака, — но здесь речь идет совсем не о сакрализации морального обязательства; как считал Кьер-кегор, речь здесь идет о повиновении по ту сторону этики, об «абсурдном» повиновении, если иметь в виду своеобразие зова и требования, которое делает верующего челове-
ка странствующим чужестранцем на земле и, следовательно, открывает широкий простор для его желания: то, что автор «Послания к Евреям» на квазигностическом языке называет «призванием идти к земле обетованной». Именно в истоке, в пустоте и под воздействием желания и должен быть найден керигматический момент этики. Именно потому, что керигма имеет отношение к своеобразию «исхода» и «жертвоприношения», как об этом напоминает история Авраама, а вовсе не к всеобщности закона, — именно потому, что керигма есть своеобразное отношение своеобразного события к историчности нашего желания, — она доступна одному лишь свидетелъствованию.
Но если дело обстоит так, что может сказать по этому поводу философия религии и веры? По моему мнению, разделение между философией и теологией происходит следующим образом: теология нацелена на интеллигибельные отношения в стихии свидетельствования; она есть логика христологической интерпретации событий спасения; говоря так, я выступаю как последователь Ансельма и Барта[36]: теология — это intellectusfidei[242]. Философия веры и религии совсем другое дело: то, что теология относит на счет христологического ядра свидетельствования, философия религии относит на счет человеческого желания быть. И здесь я без колебаний скажу, что вновь обращаюсь к исследованиям Канта, предпринятым им в труде «Религия в пределах только разума», и обращаюсь к ним в той мере, в какой они расходятся с формализмом.
Я дважды буду следовать Канту: сначала в определении этической функции религии, затем в определении репрезентативного содержания религии.
Во-первых, для Канта религия обладает этической функцией, несводимой к критике практического разума; несводимой, но вовсе не чуждой ей; темой религии является «целостный объект воли»; она отличается от «принципа моральности», который делает своим предметом простая аналитика. Именно с диалектикой соединяется проблематика религии, поскольку диалектика касается требований разума в практической сфере, то есть «необусловленной целостности объекта чистого практического разума». Именно в противоречивую сферу этого анализа необходимо поместить религию, а вслед за ней и зло. Нас интересует не
столько то, что Кант понимал этот целостный объект воли как синтез добродетели и счастья, а скорее его требование целостности, которое переносит нас в сферу, подчиненную вопросу, несводимому ни к какому другому; на языке Канта, вопрос: «На что я могу надеяться?» имеет иную природу, нежели вопрос: «Что я должен делать?» В той мере, в какой в этом вопросе присутствует религия, она не является в нем простым двойником морали, каким она могла бы быть, если бы ограничилась провозглашением долга в качестве божественного порядка; в этом своем качестве она была бы всего лишь педагогикой, педагогикой «как если бы»: повинуйся, как если бы тебе повелевал Сам Бог; однако повеление переносится в новую проблематику, если оно становится моментом надежды — надежды на участие в царствии Божием, на вхождение в лоно Церкви.
У самого Канта включение долга, являющегося темой аналитики, в движение надежды, находящейся в ведении диалектики, знаменует переход от морали к религии. Таким образом, специфика религиозного объекта вырисовывается даже в кантовской критике практического разума. Кант придерживается мысли о непосредственном характере синтеза, который он осуществляет между добродетелью и счастьем; это — новый объект по сравнению с Faktum[244] нравственного закона, сохраняющий специфическую экстериорность по отношению к синтезу, который он осуществляет.
Как раз именно поэтому существует специфика религиозного отчуждения и именно поэтому кантовское учение о радикальном зле получает свое завершение лишь в учении о религии, в теории церкви и культа, излагаемой в III и IV частях «Религии в пределах только разума». И если в действительности надежда присоединяется к долгу, несмотря на то, что вопрос: «На что я могу надеяться?» отличен от вопроса: «Что я должен делать?», осуществление, являющееся объектом обетования, обладает характером дарения, вплетенного в человеческую деятельность и в человеческую нравственность; в таком случае религиозное отчуждение есть отчуждение, свойственное обетованию: то, что Кант разоблачает как Schwärmerei и Pfaffentum — мистицизм и фанатизм священников, — касается проблематики тотализации и осуществления, которая сама спе-
цифична для религии. Этот момент до сих пор недостаточно подчеркивался: проблема зла у Канта имеет отношение не только к Аналитике, то есть к регрессивному доказательству формального принципа моральности, но и к Диалектике, то есть к согласию и примирению разума и природы; подлинно человеческое зло имеет отношение к преждевременным синтезам, к синтезам насильственным, к короткому замыканию в тотальности; зло скапливается в сфере сублимации, вместе с «самодовольством» теодицей, всяческие суррогаты которых нам предлагает современная политика. Но это возможно как раз потому, что видение тотальности является ни к чему не сводимым видением, потому что оно открывает сферу Диалектики тотальной воли, несводимой к простой Аналитике доброй воли. Существует большое количество порочных синтезов, потому что существует подлинный вопрос о синтезе, о тотальности, то, что Кант называет целостным объектом воли.
Во-вторых, я буду следовать Канту в его определении репрезентативного содержания религии; задаваясь вопросом: «На что я могу надеяться», — мы определили только самую общую возможность религии. «Постулирование» Бога не создает еще реальной религии; религия рождается вместе с «репрезентацией» «доброго принципа» в «архетипе». Именно здесь христология, которую теолог считает собственной сферой интеллигибельности, соединяется в философии религии с волей. Центральный вопрос философии религии звучит так: каким образом воля, ее самое глубинное желание становится жертвой представления этой модели, этого архетипа человечества, милого сердцу Богу, которого верующий называет Сыном Божьим? Вопрос о религии — и Кант здесь предвосхищает Гегеля — ставится на уровне схематизма желания тотальности; по существу, он говорит о проблематике представления в его отношении к диалектике Практического разума; он касается схематизации доброго принципа в архетипе.
Известно, что христология Канта перекликается с хри-стологией Спинозы; в этом отношении она, как мне представляется, удовлетворяет требованиям философии религии. Кант, как и Спиноза, считает, что человек не в состоянии произвести из себя идею страдающего праведника, жертвующего собственной жизнью ради всего человечест-
ва. Разумеется, теолог не согласится со сведением к идее того, что может быть только событием; и мы с уверенностью можем сказать, что такая редукция подчиняется формализму и всей абстрактной направленности кантовского мышления, философии, которая игнорирует свидетельствова-ние в той мере, в какой она, в более широком плане, игнорирует историчность; так что только в качестве квазисобытия философ может себе представить проникновение идеи Сына Божьего в человеческую волю. Однако, если теология не может разделить этой слабости кантианства, философию религии она вполне способна удовлетворить; ее проблема — проникновение в человеческую волю этого архетипа, в котором схематизируется добрый принцип. В этом отношении кантианство обладает абсолютной ясностью: эта идея, говорит Кант, «занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, каким образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отношению к ней…» Таким образом, Христос Канта соприкасается с нашим мышлением ровно в той мере, в какой Он является не героем долга, а символом свершения. Он не является примером исполнения долга, он — образ высшего блага. Пользуясь собственной терминологией, я сказал бы так: для философа Христос — это план надежды; он восходит к мифопоэтическому воображению и свя?ан с воплощением желания быть.
Этого недостаточно теологу, который задается вопросом, каким образом этот план надежды укореняется в историческом свидетельствовании об Израиле и как поколение апостолов смогло распознать его в высказывании «Глагол творит плоть». Однако этого достаточно философу, получающему теперь основу, на которой можно разрабатывать ке-ригматическую концепцию этики, и она теперь, в принципе, не будет более сакрализацией запрета. Религия — или, скорее, то в религии, что есть вера, — не является по самой своей сути осуждением, она — «благая весть»; свидетельствующая о христическом событии, она предлагает философской рефлексии и созерцанию analogon высшего блага, план тотальности. Короче говоря, вера дает философу возможность размышлять о предмете, отличном от долга, она предлагает ему представление об обетовании. Тем самым она дает начало своеобразной проблематике: отношению
между продуктивным воображением такого рода планов и порывом нашего желания. Место абстрактной проблематики формализма занимает конкретная проблематика генезиса желания; этот генезис желания, эту поэтику воли вера предлагает прочитать в символе нового человека и во всех последующих символах, в символах возрождения, которые теперь следует постигать в их основополагающей мощи вне всякого морализирующего аллегоризма.
3. ЗЛО КАК КЕРИГМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В ходе критического исследования нам удается демистифицировать обвинение, и мы сможем полностью осмыслить керигматическое измерение этики, если переместим центр тяжести обвинения — виновность — в сферу кериг-мы, рассмотрим его с точки зрения обетования.
В той мере, в какой религия есть не что иное, как двойник обвинения, в той мере, в какой религия ограничивается тем, что сакрализует запрет, зло само по себе является непослушанием, нарушением божественного установления. Демистификацию обвинения следует довести до демистификации нарушения. Религиозное измерение зла заключается не в этом; по поводу его еще св. Павел сказал следующее: грех — это не нарушение закона, но единство закона и желания, из которого рождается преступление; грешить — значит оставаться в рамках изжившей себя структуры закона, где предписание влечет за собой притязание. Противоположностью греха является не нравственность, а вера.
Следовательно, необходимо проследить за тем, как в корне меняется сама проблематика: зло является тем, что нам надо понять не в первую, а в последнюю очередь; зло является не первым пунктом Символа веры, а последним; предшествующее размышление об истоке зла не было религиозным, поскольку искало радикальное зло позади максим зла; оно не было религиозным также и потому, что выделяло непостижимое, о котором можно говорить только мифологически; квалифицировать это размышление в качестве религиозного позволяет то, что оно радикальным образом изменяет интерпретацию понятий зла и виновно-
сти, опираясь на керигму. Именно поэтому я говорю о ке-ригматической интерпретации зла.
Будем, однако, придерживаться этой интерпретации зла, я хочу сказать, этой возвратной интерпретации зла, которая опирается на евангелическую керигму; и поскольку это возвратное движение эсхатологии к генезису не должно свидетельствовать о постыдном возвращении назад, ему надлежит удовлетворять трем фундаментальным требованиям:
1) прежде всего, оно должно постоянно опираться на демистификацию обвинения;
2) далее, эта демистификация обвинения, в свою очередь, должна идти в паре с демистификацией утешения;
3) и, наконец, необходимо, чтобы демистификация исходила из керигматического ядра веры, то есть из благой вести, сообщающей о том, что Бог — это любовь.
Рассмотрим внимательнее эти три пункта, 1. Что означает это ощущение зла как подвергшегося демистификации обвинения? Этот первый вопрос касается того, что можно было бы назвать эпигенезом чувства виновности. Этот вопрос отнюдь не прост. К нему нельзя подходить с позиций психологии. Было бы также наивно полагать, что этим вопросом можно дополнить психологию или психоанализ в том, что касается Сверх-я; речь не идет о том, чтобы дополнить Фрейда; этого эпигенеза чувства виновности можно достичь только косвенными средствами экзегезы, в том смысле, какое этому слову придавал Диль-тей, — экзегезы текстов покаяния. Именно там конституируется образцовая история виновности. Человек получает доступ к достигшей зрелого состояния виновности, когда понимает самого себя с помощью образов этой образцовой истории. Эпигенеза чувства виновности нельзя достичь непосредственно; здесь необходимо пройти через эпигенез представления, что свидетельствовало бы о трансформации воображаемого в символическое, или, если пользоваться другим языком, остаточного фантазма первосцены — в повествование об истоке. Первое преступление, в котором Фрейд видит начальное проявление коллективного комплекса Эдипа, может стать основополагающим представлением, если будет прочитано с точки зрения подлинного созидания смысла.
Тогда вопрос, поставленный в ходе демифизации зла, будет звучать так: может ли фантазм «первосцены» стать переинтерпретацией символа истока в ходе демистификации обвинения? В более технических терминах это можно выразить следующим образом: может ли этот фантазм послужить отправным смыслом для воображения истоков, если его постепенно освобождать от функции инфантильного или квазиневротического повторения и делать все более и более пригодным для понимания основополагающих значений человеческой судьбы?
Это культурное творчество на основе фантазма есть то, что я называю символической функцией. Я вижу в ней повторение фантазма первосцены, превращенного в инструмент раскрытия и постижения истоков.
Благодаря этим «обнаруживающим» представлениям человек сообщает о становлении своей человечности. Таким образом, повествования о борьбе в вавилонской литературе и в эпосе Гесиода, а также об изначальном зле и исходе в древнееврейской литературе могут трактоваться в качестве своего рода коллективного онейризма, как это делает Отто Ранк; однако этот онейризм не является воспоминанием о предыстории; в нем, скорее, благодаря своей остаточной функции, символ указывает на деятельность воображения, нацеленного на истоки, так что можно сказать, что оно, будучи историчным (geschichtlich), поскольку сообщает о пришествии, о приходе бытия, не является историческим (historisch) в строгом смысле слова, поскольку не имеет никакого хронологического значения. Прибегнув к гуссерлевской терминологии, я могу сказать, что используемые Фрейдом фантазмы образуют материю этого мифо-поэтического воображения. Эта новая интенциональность, благодаря которой фантазм получает символическую интерпретацию, порождена характером самого этого фантазма, поскольку он сообщает об утраченном истоке, утраченных архаических объектах, о нехватке, включенной в желание; бесконечное движение интерпретации вызывает не избыточность воспоминания, а пустота в нем, зияние. Этнология, сравнительная мифология, библейская экзегеза подтверждают это: всякий миф — это перетолкование предшествующего повествования; интерпретации интерпретаций способны успешно оперировать с фантазмами, которые мо-
гут быть определены через либидо в зависимости от различных возрастных групп и различных стадий. Но главное здесь не столько эта «внушительная материя», сколько движение интерпретации, включенное в движение смысла и образующее в нем интенциональную новизну. Следовательно, миф может получать теологическое значение, как это видно из библейских повествований об истоке, становящихся, благодаря бесконечной корректировке, конкретными, а затем и систематизированными.
Таким образом, мне представляется, что мы должны соединить два метода: один, более близкий психоанализу, выявляющий условия переинтерпретации фантазма в символ; другой, более близкий эгзегезе текста, показывающий движение смысла в произведении на примере великих мифических текстов. Взятые в отдельности, эти два метода оказываются бездейственными: ведь движение от фантазма к символу может быть признано лишь при посредстве документов культуры, точнее, текстов, которые являются непосредственным предметом герменевтики, как об этом говорил Дильтей. Ошибкой Фрейда в его работе «Моисей и монотеизм» было следующее: он намеревался построить структуру библейской экзегезы, то есть текстов, в которых библейский человек создал свою веру, опираясь непосредственно на психологический генезис религиозных представлений и ограничиваясь при этом некоторыми примерами, почерпнутыми из клинической практики. Не сумев, однако, соединить психоанализ символов с экзегезой великих текстов, в которых конституировалась тематика веры, он в конце своего анализа пришел к тому, с чего начинал: к личному богу, который, если воспользоваться словами из «Леонардо», есть не что иное, как претерпевший изменение отец.
В результате экзегеза текста повисает в воздухе, не имея для нас никакого значения, поскольку комментируемое им «фигуративное» не включено в динамику чувств и представлений; задача здесь заключается в том, чтобы показать, каким образом продукты культуры, с одной стороны, продолжают утраченные архаические предметы, а с другой стороны, изменяют функцию возвращения вытесненного. Профетия сознания не является внешней по отношению к его археологии. Символ — это фантазм, разобла-
ченный и преодоленный, но не упраздненный. Символические значения, подвергшиеся рефлексивной интерпретации, всегда накладываются на некий след архаического мифа.
В конечном итоге именно в стихии говорения происходит движение смысла вперед: преобразование фантазма и аффекта является всего лишь тенью преобразования смысла, упавшей на плоскость воображения и импульса. Если эпигенез чувства и образа возможен, то это потому, что слово является инструментом той hermeneia, той интерпретации, которая в нем самом является символом по отношению к фантазму.
Из этой косвенной, несводимой ни к какой прямой интроспекции, экзегезы следует, что виновность эволюционирует, переступая один за другим два порога. Первый — это порог между несправедливостью — в смысле платоновской ccÔiKioc и «праведностью» еврейских проповедников; страх быть несправедливым, угрызения совести по поводу совершенных несправедливых деяний уже не являются угрызениями совести и страхом перед табу; нарушение межличностных связей, ущерб, нанесенный личности другого, значат больше, чем боязнь кастрации; осознание несправедливости является первым созиданием смысла, если сравнивать его с боязнью мести, наказания. Второй — это порог, разделяющий грех и праведность, зло и собственно справедливость; в этой презумпции человеческого достоинства проницательное сознание обнаруживает радикальное зло; к этому второму циклу имеют отношение самые утонченные формы зла, которые Кант связывал с претензией эмпирического сознания говорить от имени тотальности, навязывать другим собственную точку зрения.
Итак, оказывается, что сексуальное не стоит в центре этой экзегезы действительной виновности; сама сексуальная виновность должна быть переинтерпретирована: все, что сохраняет след осуждения жизни, должно быть устранено с помощью интерпретации, которой надлежит полностью сориентировать себя на отношение к другому.
Сексуальное не находится больше в центре именно потому, что место, из которого исходит осуждение, не является более инстанцией родства, инстанцией, производной от образа отца, какой бы она ни была; это — образ нропо-
ведника, образ человека вне семейных связей, находящегося вне семьи, вне политики, вне культуры, образ по самой своей сути — эсхатологический.
2. Однако виновность может быть умалена только при условии, если утешение проходит через радикальное подвижничество. Моральный бог, на деле, является также и богом, ниспосланным провидением, как об этом свидетельствует древний закон — закон воздаяния, о котором спорили уже вавилонские мудрецы. Моральный бог — это бог, который управляет физическим ходом вещей в соответствии с нравственными интересами человечества. Необходимо достичь такой точки, где аскеза утешения, отказываясь от наказания и вознаграждения, принимает вид аскезы виновности.
И действительно, путь этой аскезе уже проложен литературой: литературой, посвященной «мудрости»; в своих архаических формах «мудрость» представляет собой подробнейшие раздумья о счастье людей злокозненных и о страданиях праведников. Эта назидательная литература, усвоенная и преобразованная рефлексивным мышлением, играет существенную роль в вынесении обвинения. Вместе с тем она тоже несет убытки, выдвигая встречное обвинение. Отклоняя это встречное обвинение, критика обвинения может достичь своей наивысшей остроты. На деле, именно она вызывает к жизни осуждающее сознание как сознание нечистое. В ходе обвинения осуждающего сознания разоблачается возможность злопамятства, которое является одновременно и глубоко запрятанной ненавистью, и весьма изощренным гедонизмом.
Эта критика осуждающего сознания, в свою очередь, ведет к новой форме внутреннего конфликта между верой и религией. Такова вера Иова, противостоящая религии его друзей. Именно вера теперь идет путем иконоборчества, вместо того, чтобы самой подвергаться нападкам. Становясь критикой осуждающего сознания, вера берет на себя и критику обвинения. Именно вера решает задачу, которую Фрейд обозначил как «убийство отца»; смысл страдания Иова не получает никакого объяснения: его вера со-
вместима с любым моральным видением мира. Взамен этому доказывается величие всего, целого, однако конечная направленность его желания от этого не получает конкретного смысла. Таким образом, путь остается открытым: это — путь не нарциссического примирения; я отказываюсь от собственной точки зрения; я люблю все, люблю его таким, какое оно есть.
3. Третьим условием для керигматического перетолкования зла является следующее: символический образ Бога сохраняет от теологии гнева только то, что может быть принято теологией любви.
Что это значит? Я вовсе не считаю, что вся строгость должна исчезнуть. «Добренький боженька» более смехотворен, чем Бог, избегающий гнева. Эпигенез гнева Божьего также существует. Что значит гнев любви? Это, вероятно, то, что св. Павел называет оскорблением Духа. Опеча-ленность любовью перенести труднее, чем гнев идеализированного отца. Теперь речь идет не о боязни наказания — на языке Фрейда, боязни кастрации, — а о боязни не любить в полную меру, не любить непосредственно. Это — высший предел страха, страх Божий. В то же время — это подтверждение слов Ницше: «Отвергнут лишь Бог морали».
Я не скрываю проблематичности этой третьей темы; в моем изложении она представлена слабо, хотя должна бы звучать во весь голос. Слабость заключается в том, что она возникает в точке, где сходятся два вида сублимации: сублимации обвинения и сублимация утешения. Эти два вида сублимаций выносят за скобки этику, понимаемую в двух казалось бы несовместимых друг с другом смыслах. Первый — это смысл, придаваемый этике Кьеркегором, в центре которой находится обвинение, второй — смысл, придаваемый этике Спинозой, в центре которой находится утешение. Теология любви ставит своей задачей доказать их идентичность. Вот почему я говорю, что тема Бога любви должна быть ведущей в этой диалектике; теология любви, не сосредоточиваясь на излияниях любви и не ограничиваясь ими, должна говорить о глубинном единстве двух отмеченных модальностей этики, верховного Ты и Deus sive
natura[244]. Вероятно, именно здесь образ отца, разоблаченный и преодоленный в качестве фантазма, утраченный в качестве идола, воскрешается в качестве символа. Но в таком случае он есть не что иное, как приращение смысла, о котором речь идет в V кн. «Этики» Спинозы: «Познавательная любовь души к Богу составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит самого себя» — quo Deus seip-sum amat.
Последняя стадия образа отца — это спинозистское seip-swn. Символ отца не является более символом отца, которого я мог бы иметь; с этой точки зрения отец — это и не отец; он — подобие отца, подобие, в соответствии с которым отказ от желания есть не смерть, а любовь, в том ее смысле, какой вытекает из учения Спинозы: «Любовь Бога к людям и познавательная любовь души к Богу — это одно и то же».
Каким образом две ипостаси этики — этика обвинения и этика утешения — совпадают друг с другом? Понять это и является задачей познавательной любви. Мой тезис звучит следующим образом: такого рода понимание остается постижением веры в бесконечной расшифровке символов. Постижением, коль скоро ему постоянно приходится вести борьбу с антиномичностью; веры — и еще больше любви, — поскольку то, о чем умалчивает это понимание, есть безостановочный труд очищения желания и страха.
Только в свете духовной любви к Богу человек может быть и справедливо обвинен и по-настоящему утешен.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА О НАКАЗАНИИ
Миф о наказании, по причине его тематической запутанности, требует свободной аналитической трактовки. Вот почему я хотел бы сначала перечислить трудные места и парадоксы самого понятия наказания, чтобы определить рациональное зерно закона о наказании; затем я хотел бы посмотреть, нет ли более действенного закона о наказании, опираясь на который можно было бы разоблачить миф о наказании.
1. ТРУДНОСТИ И ПАРАДОКСЫ
Основным парадоксом является, конечно же, представление понятия наказания в качестве категории мифа. Однако мы можем уяснить, каким образом миф, так сказать, действует внутри понятия наказания, лишь рассмотрев предшествующий ему парадокс, который, как мне думается, увлекает нас в другом направлении, чем миф.
Эту первую апорию я назвал бы апорией разумности наказания. На деле, ничто не является более разумным или, по меньшей мере, претендующим на разумность, чем понятие наказания. Преступление требует соответствующего наказания, говорит обыденное сознание, и Апостол подтверждает это: плата за грех — смерть. Парадокс заключается в том, что эта предполагаемая, эта допускаемая разумность, которую можно было бы назвать логикой наказания, есть неуловимая рациональность. Она устанавливает необходимую связь между явно разнородными моментами, которые мы обнаруживаем соединенными в определении, почерпнутом мною у Литтре[40]: «Наказание — это то, что заставляют испытывать за деяние, признанное предосудительным или преступным». Присмотримся внимательнее к отдельным моментам этого определения.
Во-первых, наказание прежде всего включает в себя страдание, которое относится к сфере чувств и, следовательно, к телесной сфере; физическое зло, причиняемое этим первым элементом наказания, прибавляется к моральному злу. Однако, во-вторых, эта пассивность, это болезненное чувство, эта скорбь приходят не как случайности жизни и истории; они вызваны волей, которая таким образом воздействует на другую волю; это — «заставить испытать» (faire subir), где акцент сделан на «испытать» (subir); говорят: «наложить наказание», «подвергнуть наказанию»; этот второй элемент конституирует наказание, делая акцент на его мучительности (pénible). В-третьих, смысл наказания, как связи между «испытывать» и «заставлять испытывать», коренится в предполагаемой равноценности, с одной стороны, зла причиненного, испытываемого, а с другой стороны, зла совершенного, по крайней мере такого зла, которое подпадает под юрисдикцию судебной инстанции. Эта равноценность образует рациональный момент наказания,
вокруг которого будет вращаться все наше рассуждение; разумеется, с точки зрения уголовной юрисдикции, наказание должно соответствовать преступлению; именно об этом говорит наше определение: «то, что заставляют испытать за…»; это «за» говорит о значении, которое иногда выражается на языке цены; говорят: заставить заплатить за работу. Наказание — это цена за совершенное преступление. В-четвертых, виновный — это субъект воли, в равной мере предрасположенный и к преступлению, и к наказанию; он считается одним и тем же, если иметь в виду совершенное зло и зло, причиненное наказанием; именно в нем исчерпывается, заглаживается наказание, нейтрализуется проступок.
Таковы моменты анализа зла.
Загадка коренится в рациональном, которое мы назвали ценой или стоимостью; для разумения это рациональное наказания не тождественно самому себе. По двум причинам: прежде всего, что общего между страданием от наказания и совершением проступка? Каким образом физическое зло может уравновесить зло моральное, компенсировать и устранить его? Преступление и наказание занимают два различных места — там, где испытывают страдание, и там, где совершают деятельность; их надо было бы мыслить вместе, принадлежащими одной и той же воле, виновной воле. Кроме того, «испытывать» (subir) и «заставлять испытывать» (faire subir) принадлежат двумя различными волям — воле обвиняемой и воле, выносящей обвинение; даже если предположить, что «причинять» (commettre) и «испытывать» (subir) принадлежат одному и тому же субъекту — но мы уже увидели, что и в этом случае они находятся не в одном и том же месте, — «заставлять испытывать» и «испытывать» принадлежат двум различным субъектам: осуждающему сознанию и сознанию осуждаемому; необходимо было бы мыслить как одну волю — и волю, выносящую осуждение, и волю виновную.
Таким образом, рациональное наказания в одной и той же воле оказывается расколотым на деятельность (Г agir) и испытание деятельностью (le pâtir), a в разных волях — на претерпевание (le subir) и причинение (le faire subir); оно обретает себя в месте этого излома с помощью мышления о равноценности — равноценности преступления и наказания.
Эта равноценность, как предполагается, коренится в самом виновном субъекте, и то, что было совершено преступлением, должно быть устранено с помощью наказания. Таков смысл наказания; оно возникает только в двойственности, доступной разумению: в двойственности совершенного преступления и понесенного наказания, в двойственности сознания осуждающего и сознания осуждаемого. Короче говоря, идентичность разума скрывается за этой двойственностью разумения.
Именно здесь в дело вступает вторая апория, а вместе с ней встает и вопрос о мифе. То, что разумение разделяет, миф в Священном мыслит как единое.
В самом деле, рассмотрим отношение запятнанности и очищения в универсуме священного. Запятнанность есть некое посягательство на порядок, определяемое через ряд запретов. Очищение возникает как поступок, нацеленный на ее устранение; очищение представляет собой совокупность актов, закодированных с помощью ритуала и призванных воздействовать на поведение, вызвавшее запят-нанность, чтобы устранить ее как таковую. Наказание есть момент этого поведения устранения; этот аспект наказания называют искуплением, в ходе которого может быть устранена запятнанность и ее последствия в сфере священного. Искупление в универсуме священного, следовательно, занимает место рационального, которое первый анализ тщетно искал на уровне разумения. * В чем состоит апористичность искупления? В том, что миф и разум присутствуют в нем одновременно. Поистине курьезная апория. На деле миф присутствует не в форме повествования, а в качестве закона. Разумеется, мы всегда находим в нем повествования об установлениях, сообщающие о'том, каким образом закон изначально был дан людям, каким образом тот или иной ритуал был впервые создан, почему тому или иному наказанию удается стереть пятно позора, почему то или иное жертвоприношение означает наказание и очищение. Этими институциональными повествованиями миф о наказании, с литературной точки зрения, — я хочу сказать, как повествовательная форма, — становится похожим на другие мифы: на мифы о зарождении космоса, о возведении на царский престол, о создании гражданского общества, об возникновении того или иного
культа и т. д. Однако повествовательная форма является здесь внешней по отношению к форме внутренней, каковой предстает закон. Конечно же, миф о наказании выглядит странным, поскольку миф в данном случае и есть разум. Миф о наказании имеет, наряду с другими, то преимущество, что выявляет закон, который находится в центре любого повествования о началах, закон, который укореняет историческое время во времени изначальном. Но странным выглядит и разум, обосновывающий в законе разделяющее разумение, которое выявляет не логику идей, а логику силы; при наказании сила запятнанности отменяется силой очищения.
Такова вторая апория: идентичность основания, которую мы искали в истоке дуализма преступления и наказания, для разумения предстает сначала как миф о законе, о пути, об Hodos, о Дао. Именно это мифическое основание делает возможным искупление. Таким образом, наказание ставит нас лицом к лицу с мифологикой, с неделимым блоком мифологии и рациональности.
Теперь я буду развивать эту апорию в двух направлениях: в направлении уголовного права и в направлении религии, поскольку именно в этих двух сферах культуры ставится вопрос о наказании. Но как раз в сближении этих двух направлений находит свое выражение предшествующая апория: идентичность мифа и логического основания наказания получает свое в высшей степени культурное выражение в родстве священного и правового. В самом деле, Священное бесконечно освящает правовое: это и есть наша третья апория. С другой стороны, право (le juridique) постоянно вносит правовой элемент (juridise) в Священное; это — наша четвертая апория.
Священное освящает феномен правового — это со всей очевидностью следует из того, что юридическая деятельность пользуется уважением со стороны религии даже в самых что ни на есть светских обществах. И это не должно вызывать удивления; действительно, именно в сфере уголовного права рациональность действует с наибольшим рвением; определить меру наказания, соответствующую проступку, максимально точно сопоставить тяжесть вины и тяжесть наказания — все это сфера деятельности разумения; разумение определяет меру и делает это, размыш-
ляя о соответствии следующим образом: наказание А относится к наказанию В так же, как преступление At относится к преступлению Вг Без конца оттачивать мысль о соответствии — таков, в целом, правовой опыт в его уголовной форме. Его совершеннейшая форма — мышление о наказании в понятиях права виновного: виновный обязан понести наказание, соответствующее его преступлению. Однако — и это наша третья апория — по мере того, как прогрессирует эта рациональность — рациональность разумения, приводящая в соответствие наказание и преступление, — обнаруживается также мифическая рациональность, на которой держится все здание; если приведение в соответствие преступления и наказания разумно, то оно осуществляется при условии «внутренней идентичности во внешнем существовании, понимаемом как равенство» (эту цитату из Гегеля я здесь привожу в туманной форме, свое разъяснение она получит во второй части настоящего исследования). Мы заняты тем, что приближаем наши мысли к закону о наказании, который направлен на то, чтобы уравнять наказание и преступление, чтобы причиненное зло было сглажено злом наказания: «…если не видеть необходимой связи между преступлением и актом его снятия…то можно дойти до того, что мы увидим в подлинном наказании лишь произвольную связь зла с недозволенным деянием». Таким образом, прогресс в понимании справедливости в уголовном судопроизводстве свидетельствует о Проблематичном характере принципа наказания. Непризнание преступления — это нарушение права, а непризнание наказания — это сокрытие нарушения права. Именно с этой апорией сталкивались все теории наказания. С какой стати приводить в соответствие меру наказания с тяжестью преступления, если мы не признаем функции наказания? Конечно, необходимо, чтобы социальная защита одерживала верх над мстительностью, устрашение — над наказанием, угроза — над исполнением, исправление — над подавлением. Но если мы исключаем у субъекта правонарушения намерение избежать нарушения права, то упраздняется сама идея нарушения. Преступление и преступник в таком случае — это проявления вреда, и, вероятно, «можно считать неразумным хотеть зла лишь потому, что уже существует другое зло» (Гегель)[245]. Такова апо-
рия уголовного права: рационализировать наказание, следуя доводам разума и устраняя миф об искуплении, значит, вместе с тем, лишить его своего основания. Или, если выразить эту апорию с помощью парадокса: то, что в наказании является наиболее рациональным (соответствие тяжести преступления), в то же время и наиболее иррационально: наказание сглаживает тяжесть преступления.
И если теперь — четвертая апория — мы обратимся к собственно религиозной сфере, апория наказания станет особенно затруднительной. Речь уже идет не о сакрализации права, а о «юридизации» Священного. Близость Священного и юридического, следствия которого в уголовной сфере мы только что рассмотрели, в теологическом плане имеет место в прямо противоположном смысле и определяет то, что я назвал бы теологией уголовного. Точнее — благодаря смерти этой теологии уголовного в христианском наставлении и во всей нашей культуре. Современный человек уже не понимает того, о чем говорят, когда определяют первородный грех как юридически вменяемое преступление, в котором человечество замешано массово; принадлежать massa perdita*[211], виновной и подлежащей наказанию, если следовать юридической терминологии преступления, быть осужденным на смерть в соответствии с юридическим законом о наказании — вот чего мы уже не можем понять. Эта теология уголовного кажется неотделимой от христианства, по крайней мере при первом, ее чтении. Христология полностью вписана в рамки теологии уголовного — своими идеями искупления и оправдания. Эти два теологических «пункта» традиционно связаны с наказанием, причем прочнейшими рациональными узами. Смерть Праведника была воспринята как сакрализация жертвы, приносимой ради других, — в соответствии с законом о наказании. «Он пострадал за нас» означает: он заплатил за наше прежнее преступление. Дальше я покажу, что такая сугубо уголовная интерпретация не способна объять полностью таинства Креста и что теория сатисфакции есть всего лишь рационализация второго уровня таинства, сердцевиной которого является не наказание, а дарение. Нужно только, чтобы новая интерпретация этого таинства в иных терминах — в терминах теологии уголовного — стала бы весьма затруднительной по той причине,
что она, как представляется, опирается на тему «оправдания» в соответствии с трактовкой св. Павла. Как известно, св. Павел выразил таинство нового жизнеустроения на языке, заимствованном у юриспруденции. Оправдание (Ôi%ocio-cr6vT) соотносится с процессом, в котором человек фигурирует в качестве обвиняемого (xocTocxpiveiv) и подлежит осуждению (%атахрфхх). Помилование в этом юридическом контексте выражается в терминах оправдательного приговора: быть оправданным — значит получить освобождение от наказания, которое уже было вменено. Оправданный человек — это тот, чья вера считается ХоугСеоЭса истинной. Известно, что эти положения вызвали ожесточенные споры между протестантами и католиками. Но меня в данном случае интересует не то, что стало предметом дебатов, — участь человека, получившего оправдание; эти положения интересуют меня по гораздо "более серьезным причинам; в них, как представляется, на деле подтверждается актуальность закона о наказании даже тогда, когда закон уже перестал действовать; в них говорится о том, что мы можем мыслить милосердие, прощение и сострадание только в их связи с законом о наказании, который, таким образом, оказывается в равной мере и отложенным, и зарезервированным: разве оправдание все еще не соотносится с законом о наказании? Разве помилование не остается все еще судебным помилованием, разве не основано оно на судебном обжаловании? Разве неожиданность не остается судебной неожиданностью в той мере, в какой она вызвана вердиктом, даже если этот вердикт — оправдательный, говорящий о невиновности, о невменении в вину? Такова наиболее значимая апория: то, что кажется более всего противоречащим логике наказания, то есть необоснованность помилования, является ее самым радикальным подтверждением.
2. ДЕКОНСТРУКЦИЯ МИФА
Благодаря этой наиболее значимой апории мы и принялись за работу. Миф о наказании имеет настолько своеобразный характер, что к нему следует подходить весьма специфически, пересмотрев заново всю программу демифологизации.
Что значит демифологизировать наказание?
Прежде всего это значит, как и в любом другом случае, произвести деконструкцию мифа. Однако что такое деконструкция логичного на первый взгляд мифа? Я думаю, что по существу это означает вновь обратить логику наказания к сфере законности и тем самым лишить наказание его онто-теологического значения. И этот первый этап я нахожу полностью проработанным в «Философии права» Гегеля*. Гегель показал (по моему убеждению, в высшей степени наглядно), что закон о наказании имеет свое значение только в ограниченной сфере, называемой им абстрактным правом. Оправдать наказание в данной сфере и отвергнуть его за пределами этой сферы — это одна и та же задача, решение которой, в целом, направлено на деконструкцию мифа о наказании.
Гегель продумал проблему наказания. Именно его наиболее серьезными формулировками я воспользуюсь, анализируя проблему наказания. Речь идет о том, чтобы вести размышление, пользуясь понятием внутренней идентичности между преступлением и наказанием, которого рассудок достигает исключительно во внешнем существовании, в виде синтетической связи между тем, кто действует, и тем, кто испытывает действие, между судьей и обвиняемым. Что это за «внутреннее тождество», которое «отражается для рассудка во внешнем существовании как равенство?»**. Ответ: проанализируем сначала идею «философского понятия права», а для этого определим его область как сферу «свободной воли» или «реализованной свободы» (Гегель говорит еще так: «мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа»***. Следовательно, только на вполне определенном пути, который ведет от «свободы пустоты****, можно столкнуться с подобной логикой. Только когда свобода вступает в сферу порядка, когда она отказывается от того, чтобы быть для себя всего лишь представлением и реализовывать себя в качестве «фанатизма разрушения»*****, короче говоря, только когда она связы-
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. P. 90–99. ** Ibid. P. 96. *** Ibid. Introduction. § 4. ****Ibid.§ 5.
вает себя с объективной определенностью, воспринимает себя как продуманное обособление, она может ступить на путь диалектического взаимодействия преступления и наказания. Эта диалектика завершает первый, и самый ближайший, этап, который проходит в своем развитии идея свободной воли в себе и для себя; это — этап абстрактного и формального права. Почему абстрактного и формального? Потому что реальность еще не включена в определение свободной воли и только осознанное отношение бессодержательности «я» полагает свободу как свободу субъекта, как свободу личности. Существует один лишь субъект права, и соответствующий ему правовой императив звучит так: «будь лицом и уважай других в качестве лиц»*.
Может ли диалектика преступления и наказания вписываться в эти формальные рамки? Да, может, но при двух условиях. Прежде всего необходимо, чтобы юридическое лицо путем присвоения распространило свое право на вещь: отныне «Я» на основе внешнего права обладает некой вещью, само же «Я» существует во внутреннем мире; благодаря этому первому условию становится понятным, что закон о наказании сам может проявлять себя вовне. Далее необходимо, чтобы по поводу присвоенных вещей путем договора завязывалось отношение между несколькими волями. Исключение другого, что соответствует присвоению вещей одной частной волей, проторяет путь для закона обмена и вообще отношения взаимности между ближайшими независимыми лицами. При этом двойном условии — существование свободы во внешней вещи и договорное отношение между внешними по отношению друг к другу волями — возможно возникновение чего-то вроде несправедливости: нарушение права на этом абстрактном и формальном уровне есть не что иное, как «насилие над наличным бытием моей свободы во внешней вещи»**.
В таком случае становится возможным трактовать наказание исходя из самой несправедливости. В самом деле, насилие, совершаемое против воли, — это насилие, или принуждение, которое «непосредственно само разрушает себя в своем понятии»***, поскольку «снимает изъявление или
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. P. 36. ** Ibid. § 94. ***Ibid.§ 92.
наличное бытие воли»*; однако это явное противоречие, поскольку воля как идея или как реальная свобода существуют лишь в той мере, в какой она изъявляет себя вовне. Теперь все вертится вокруг этого внутреннего противоречия несправедливости. Право принуждения вторично по отношению к этому внутреннему противоречию, которым чреват акт несправедливости. Именно отсюда вытекает § 97 «Философии права», в котором резюмируется вся логика наказания. Я привожу этот параграф: «Совершенное нарушение права как права есть, правда, позитивное внешнее существование, но такое, которое ничтожно в себе. Проявление этой его ничтожности есть также вступающее в существование уничтожение этого нарушения — действительность права как его опосредующая себя собой через снятие своего нарушения необходимость».
Наконец мы имеем понятие наказания; оно вытекает из ничтожения как преступления. Понятие наказания есть не что, иное как необходимая связь, «которая заключается в том, что преступление как в себе ничтожная воля тем самым содержит в себе свое уничтожение, являющее себя как наказание. Именно это внутреннее тождество отражается для рассудка во внешнем существовании как равенство»**.
Более того, мы понимаем теперь, почему именно сам преступник должен подвергнуться наказанию: его воля ест^ существование, несущее в себе преступление, и его надлежит устранить. «Это существование и есть подлинное зло, которое необходимо устранить, и существенный пункт — выяснить, в чем оно состоит…»***. Но надо идти дальше: «Наказание, карающее преступника, не только справедливо в себе… оно есть также право, положенное в самом преступнике, то есть в его налично сущей воле, в его поступке»****. На деле, наказывая преступника, я признаю его разумным существом, которое, нарушая закон, тем самым полагает его; я подчиняю его его же собственному праву. Гегель говорит даже: «В том, что наказание рассматривается как содержащее его (единичного человека — И. В.)
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. § 92. ** Ibid. § 101. *** Ibid. § 99. **** Ibid. § 100.
собственное право, преступник почитается как разумное существо»*.
Вот разгадка вопроса о наказании. Но мы имеем ответ на него, если только логика наказания остается в рамках проблематики, в которой он получает свое развитие, то есть в рамках философии права. Соберем вместе эти действительные условия: 1) философия воли, то есть философия осуществления свободы; 2) уровень абстрактного права, то есть воли, еще не получившей отражения в субъективности; 3) идея детерминации, которую воля относит к вещам, точнее, к вещам присвоенным, находящимся во владении; 4) ссылка на договорное право, связывающее между собой внешние воления. Если таковы условия возможности наказания, то следует считать, что уголовное право возникло одновременно с вещным и договорным правом. Ведь это право предшествует — логически, если и не хронологически — субъективной моральности (вторая часть «Философии права») и, a fortiori, объективной моральности, которая управляет семьей, гражданским обществом и, наконец, Государством (третья часть «Философии права»).
На такой основе демифизация может быть разумно постигнута; она, по крайней мере в своей негативной фазе, означает не что иное, как возвращение наказания в абстрактное право. Этот возврат сам есть просто-напросто оборотная сторона критического осмысления абстрактного права, соответствующего своему понятию.
Что это значит? А то, что мы не можем ни морализировать по поводу наказания, ни обожествлять его.
Мы не можем морализировать по поводу наказания, поскольку первым проявлением осознающей себя субъективной воли при наказании выступает отмщение. Как только я начинаю рассматривать вменение наказания в качестве деятельности субъективной воли, сразу же бросается в глаза особенность и случайность этой воли. Для поборника справедливости возмездие — это случайная справедливость. Для него наказание есть прежде всего что-то нечистое; наказание — это прежде всего не что иное, как способ навечно включить насилие в бесконечную цепь пре-
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. § 100.
ступлений; «бесконечное зло» возвращается на сцену и порочит справедливость; несомненно, Гегель думал об Эсхиле и «Орестее»[247], когда писал: «Будучи позитивным деянием особенной воли, месть становится новым нарушением; в качестве такого противоречия она оказывается внутри продвижения, уходящего в бесконечность, и передается по наследству из поколения к поколению»*.
Снятие вины ведет, таким образом, к новому противоречию — между справедливостью и поборником справедливости, между законом и случайностью силы. Чтобы наказание не стало возмездием, необходимо, чтобы воля «в качестве особенной, субъективной воли во ли л а всеобщее как таковое»**. Размышлять над субъектом этой случайности, чтобы данное бесконечное было бы не только в себе, но и для себя, — задача субъективной моральности.
Ставя эту новую задачу, мы, отмечает Гегель, расстаемся с античностью и переходим к христианству и Новому времени: «Право особенности субъекта получить удовлетворение, или, что то же самое, право субъективной свободы, составляет поворотный и центральный пункт в различии между античностью и Новым временем. Это право в его бесконечности высказано в христианстве и сделано всеобщим действенным принципом новой формы мира»***.
И тем не менее это начинание — морализирование по поводу наказания, победа над духом возмездия в плане моральной субъективности — должно потерпеть поражение и привести на позиции объективной моральности, то есть на позиции исторически-конкретных сообществ (семья, гражданское общество, Государство). Почему речь идет о поражении и о невозможности оставаться на точке зрения субъективной моральности? Потому, говорится в «Философии права», что «абстрактная рефлексия фиксирует этот момент в его отличии от всеобщего и в противоположности ему и создает таким образом воззрение на моральность, согласно которому она существует лишь во враждебности и в борьбе с удовлетворением человеком собственных потребностей..» ****.
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. § 102. **Ibid. § 103 *** Ibid. § 124. **** Ibid.
Очевидно, что философия права не может внедрить понятие моральной совести — Gewissen — в учение о субъективной нравственности, минуя все свои антиномии, о которых речь идет в IV гл. «Феноменологии духа»*. «Феноменология духа» показала, что нельзя выводить логику наказания за рамки абстрактного права и переносить ее в сферу морали намерения, не касаясь проблематики зла; желать искоренения зла не как нарушения права, а как нечистого намерения значит вступать в смертельный конфликт между осуждающим сознанием и сознанием осужденным. Вспомним к тому же, что этот конфликт получает свое разрешение не в теории наказания, а в теории примирения, называемого «прощением». Следуя логике идентичности, Gewissen может, стало быть, вести от преступления не к наказанию, а к душевной боли. Именно тогда осуждающее сознание должно взять на себя инициативу и прекратить муки наказания; оно должно обнаружить себя лицемерным и жестоким: лицемерным, поскольку отстраняется от активности и какой бы то ни было деятельности; жестоким, поскольку вместе с действенным сознанием отбрасывает и равенство; ему остается один выход: не наказание с точки зрения осуждающего сознания, а прощение как отказ осуждающего сознания от "особенности и односторонности своего осуждения: «Прощение, которое оно дарует первому, есть отречение от себя, от своей недействительной сущности, так как оно уподобляет ее первому сознанию, которое было действительным поведением. Оно признает его добрым, между тем как по определению, полученному поведением в мысли, оно было названо злым, вернее, оно отбрасывает это различие определенного мышления и свое, существующее для себя, определяющее суждение, подобно тому, как другое, то есть первое сознание, уничтожает существующее для себя определение поступка. Слово примирения есть налично существующий дух, созерцающий чистое знание себя как всеобщей сущности в своей противоположности, то есть в чистом знании себя как абсолютно внутри себя существующей единичности, другими словами, оно есть взаимное признание, являющееся абсолютным духом»**.
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit (tr. Hyppolite. T. II. P. 190–200). ** Ibid. P. 198.
Момент примирения, о котором говорит «Феноменология», обращаясь к теории культуры и к теории религии, для нас полон смысла. Если соотнести это размышление с соответствующим ему текстом «Философии права»*, то мы поймем, что проблема наказания не находит больше себе места в сфере субъективной моральности**. Логика преступления и наказания сохраняет только юридический смысл, а отнюдь не моральный; когда говорят о зле, а не о преступлении, о моральном зле, а не о нарушении права, вступают в область антиномий бесконечной субъективности: осознание зла, коль скоро оно уже не опирается на абстрактное право, но еще не опирается и на объективную моральность, то есть на конкретное сообщество, слишком «субъективно», чтобы развивать объективную логику. В этом отношении § 139 «Философии права», посвященный моральному злу, не получает своего отражения в «Феноменологии духа»: логика несправедливости и наказания, служившая нам путеводной нитью при рассмотрении абстрактного права, не может быть экстраполирована в сферу субъективного сознания, поскольку рефлексия и зло имеют один и тот же исток, то есть разделение между субъективностью и всеобщностью; вот почему, говорит Гегель, моральная убежденность «постоянно готова перейти в зло»***. Поистине, странный парадокс: рефлексия осуждена находиться в той точке, где осознание зла и сознание как зло становятся неразличимыми; причина этой нерешительно
* «Философия права» непосредственно отсылает к «Феноменологии духа», к концу § 135 и § 140.
** Гегель в одном месте говорит о преступлении, чтобы предупредить, что нельзя ссылаться на психологию преступления при вменении обвинения: «Что преступник в момент, когда он действует, должен был бы ясно представлять себе неправомерность и наказуемость своего поступка, чтобы этот поступок мог быть вменен ему в качестве преступления, — это требование, которое как будто сохраняет за ним право его моральной субъективности, на самом деле отказывает ему в пребывающей в нем разумной природе…» (ibid, § 132). Таким образом, субъективность не должна ретроспективно проецироваться в сферу абстрактного права. Гегель добавляет: «Сфера, в которой вышеуказанные обстоятельства принимаются во внимание в качестве оснований для смягчения наказания, — уже сфера не права, а милости» (ibid.). Разве не правомерно сближать это замечание с диалектикой зла и прощения в «Феноменологии духа»? Единственно возможная проекция субъективной моральности в сферу абстрактного права заключается не в морализировании по поводу наказания, а в самом прощении; однако здесь мы сразу же выходим за рамки чистого права. *** Ibid.
сти — «для себя сущая, для себя знающая и решающая самодостоверность»*. Из этого можно вслед за св. Павлом, Лютером и Кантом заключить, что зло необходимо, что «человек зол как в себе, или по природе, так и посредством своей рефлексии в себе»**. Однако никакая логика наказания не может вытекать из зла, которое не имеет более объективной меры в праве. Здесь контрадикция бесплодна. Вот почему осознание зла выливается не в наказание, равное преступлению, а в решимость не держаться за этот «этап распада»; с точки зрения субъективности, преодоление коренится не в наказании, а в прощении.
В то время как «Феноменология духа», благодаря диалектике сознания осуждающего и сознания судимого, выходит на проблематику прощения, «Философия права» выбирается из трясины субъективной убежденности на почву объективной моральности, то есть к теории Государства. Однако глубинный смысл и здесь и там один и тот же: наказание освящает дистанцию между сознанием осуждающим и сознанием судимым; по ту сторону наказания речь идет о легализации двух типов сознания — примирении, которое на языке религии называют «покаянием», и «общности», если говорить на языке объективной моральности, то есть в конечном счете на языке политики***.
В конце этой второй части, где мы идем следом за Гегелем, задача демифологизации наказания кажется простой и ясной; в той мере, в какой миф о наказании является ми-фологикой преступления и наказания, демифологизация
* Hegel. Les Principes de la philosophie du droit. § 132. ** Ibid.
*** Именно на основе этого сравнения * Философия права» включает в себя анализы, предпринятые в «Феноменологии духа»: «В какой мере это абсолютное самодовольство не остается одиноким богослужением самому себе, но может образовать и общину, связующими узами и субстанцией которой являются взаимные уверения в добросовестности, добрых намерениях, радость по поводу этой взаимной чистоты, преимущественно же любование великолепием этого знания и высказывания себя, великолепием его культивирования, — в какой мере то, что называют прекрасной душой, — это более благородная субъективность, тлеющая в сознании тщеты всякой объективности, а тем самым и недействительности самой себя, — а равно и другие образования представляют собой нечто родственное рассматриваемой ступени, я разработал в «Феноменологии духа», целый раздел которой под названием «Совесть» (Das Gewissen) можно сравнить особенно с тем, что сказано здесь о переходе на другую, правда, там иначе определенную, более высокую ступень» (в конце § 140).
наказания означает перенесение логики наказания в ту особую сферу, где она является логикой без мифа. Эта особая сфера — абстрактное право, одним из аспектов которого является уголовное право. Здесь основание наказания лишено мифа, поскольку оно строится на понятии разумной воли. Следовательно, мы можем сказать, что логика наказания является логикой без мифа в той мере, в какой она может быть сведена к логике воли, то есть к логике исторических детерминаций свободы.
Миф рождается, когда моральное сознание стремится перенести в сферу интериорности логику наказания, имеющую исключительно юридический смысл и основывающуюся на двойном предположении — о перемещении свободы в вещь и о внешней связи волений в договоре. Таков рациональный момент наказания. Но и противоположная сторона не менее неукоснительна: всякая попытка морализировать по поводу наказания погрязает в антиномиях сознания осуждающего и сознания судимого. По более веской причине мы не можем обожествлять наказание, не возвращаясь к «несчастному сознанию», которое увековечивает отделение, дистанцию: это — мир религии как террора, мир кафкианского «Процесса» и неоплаченного долга.
Таким образом, логика без мифа о наказании, возвращаясь к абстрактному праву, открывает обширную область мифа об искуплении. Что это — безрассудный миф, соответствующий разуму без мифа? Иными словами, исчерпывается ли демифологизация наказания деконструкцией мифа? Лично я так не считаю. Не все непостижимо в идее о не-юридическом, сверх-юридическом наказании. Однако в таком случае следует придать новый смысл демифологизации, соединить перетолкование с деконструкцией.
Это будет предметом рассмотрения в третьей части.
3. ОТ СУДЕБНОГО «ФИГУРАТИВНОГО» К «ПАМЯТИ» О НАКАЗАНИИ
Что значит перетолковать наказание? Задавая этот последний вопрос, мы сталкиваемся с крайними затруднениями, в частности с теми, которые мы рассмотрели, когда говорили о четвертой апории, имея в виду «юридизацию» Священного. К тому же мы дали бы неполный ответ на эту апорию, если бы ограничились тем, что перешли от буквального смысла наказания в уголовном праве к его аналогическому или символическому смыслу в сфере Священного. Разумеется, такую работу необходимо проделать. Однако миф о наказании в силу своей рациональной структуры требует особой трактовки как в плане перетолкования, так и в плане деконструкции. Мы так и останемся на уровне образа или представления, если будем претендовать на устранение логики закона о наказании с помощью какого-нибудь немыслимого символа. Только новая логика способна вытеснить логику устаревшую. Все содержание мышления, одним из моментов которого является наказание, должно быть преодолено в новом содержании в соответствии с поступательным интеллигибельным движением. Вот почему аналогическая трактовка наказания будет лишь первым моментом этой другой логики; эту другую логику — отличную от логики равнозначности — я и попытаюсь вывести из учения св. Павла о наказании; это новое прочтение будет недиалектическим — а именно о таком прочтении речь шла в нашей четвертой апории. Эта новая логика, логика «абсурдная», если следовать Кьеркегору, найдет свое выражение в законе преизобилования, который один только и способен упразднить как обветшалые представления о наказании и логику равнозначности. Только тогда можно будет предложить достойное использование мифа о наказании; единственно мыслимый статус мифа о наказании — это статус упраздненного, разрушенного мифа, о котором мы всегда должны помнить. Именно к этой идее — памяти о наказании — мы и будем направлять наше размышление. «Фигуративность» наказания и его «памятность», «логика» преизобилования — таковы три момента нашего дальнейшего размышления.
Вот что я понимаю под «фигуративностью» наказания.
Наказание — это некая совокупность представлений, соседствующая с такими выражениями, как «судебное разбирательство», «осуждение», «вынесение приговора», «оправдание»; совокупность эта образует план представления, на который проецируются отношения совсем другого свойства.
То, что юридический язык кодифицирует в точном смысле этого слова, так это, по существу, онтологические отношения, которые можно представить по аналогии с отношениями одной личности к другой. Гегель как раз и показал, что в логике воли наказание возникает одновременно с конституированием права отдельных личностей. Именно это отношение личности к личности мы, в аналогическом смысле, находим в том, что станет поэтикой воли, а не только логикой воли. Вместе с этим отношением личности к личности приходят и все другие отношения того же уровня: долг, расплата, искупление.
О том, что эта поэтика воли не исчерпывается аналогией с правовыми отношениями, говорят другие аналогии, которые ее уравновешивают и уточняют. Я сошлюсь лишь на две из них — противоположные друг другу и вместе с тем противостоящие юридической метафоре. Первая, «брачная», метафора принадлежит лирическому порядку; вторая, метафора «гнева Божьего», принадлежит порядку трагическому. Взятые вместе, они позволяют «де-юридизиро-вать» само личное отношение, которое древний Израиль выразил более глубоким понятием, чем любое правовое понятие, — понятием Завета.
Разумеется, и тема Завета поддается юридическому прочтению. Включение в юридическую «фигуративность» стало возможным благодаря в высшей степени этическому характеру религии Яхве; точнее, переход между гипер-юри-дическим соглашением о Завете и его юридическим analo-gon был обеспечен понятием Тора, в широком смысле означающим наставление в жизни, однако его латинский эквивалент — lex — через Nomos Септаугинты[248] в латинском христианстве без труда был нагружен коннотациями римского права. В этом отношении юриспруденция раввинского права и вся связанная с ним понятийная сфера в значительной мере облегчили юридизацию совокупности отношений, сосредоточенных в теме Союза.
Однако юридическая концептуализация никогда не могла исчерпать смысл Завета. Завет всегда означал жизненный союз, общность судеб, связь творения, превосходящие любые правовые отношения. Вот почему этот смысл — «Союз» — мог проникнуть в другие «фигурации», такие как брачная метафора Осии и Исайи[249]; именно здесь выражено преизобилование смысла, который не укладывается в юридический образ. Брачная метафора более, чем какой другой юридический образ, укрепляет отношение конкретной верности, связи творения, любовного союза, короче говоря дарения, которого никакой код не может ни захватить в свои сети, ни институциализировать. Можно даже с риском для себя утверждать, что этот порядок дарения относится к порядку закона так же, как порядок сердца к порядку ума в знаменитом учении Паскаля о Трех порядках[250].
Именно в контекст дарения — свойственного поэтике воли — должен быть перенесен миф о наказании. Речь идет о поэтике, которая в состоянии выразить грех и наказание? Лишенный юридического содержания, грех означает не первоначальное нарушение права, закона, а отделение, отсоединение.
Здесь — иная символика, о чем мы говорили выше, символика, еще раз подтверждающая, что в этом опыте отделения юридический аспект является вторичным, производным — символика «гнева Божьего». Эта символика, имеющая трагический акцент, сначала возникает как несовместимая с брачной символикой, с лирическим акцентом: своей ночной стороной она, как представляется, даже тяготеет к ужасу и примыкает к логике наказания. Однако она коренным образом отличается от этой логики своим теофаническим характером. В отличие от анонимного закона о наказании, от безличного требования водворения порядка символ «гнев Божий» ставит человека перед лицом живого Бога, что помещает этот символ в один ряд с брачным символом, с поэтикой воли. Порядок дарения, вопреки видимости, не ведет к нежным излияниям; в него вступают через врата «ужаса». Трагичность «гнева», лиризм «брачной» связи — встречи с живым Богом имеют как бы свою ночную и дневную стороны. Трагизм и лиризм устремляют человека, каждого по-своему, к этической стороне таких понятий, как «закон», «религиозная заповедь», «преступление», «наказание».
Я прекрасно понимаю, что в древнем Израиле сама тема гнева Божьего подверглась значительному морализированию при сопоставлении с законом и религиозными заповедями. Но ее иррациональная сторона дала о себе снова знать, когда «мудрость» Вавилона и Израиля столкнулась с иной проблемой, отличной от проблемы нарушения закона, с проблемой поражения теодицеи. Если ход истории и отдельных судеб не подчиняется закону воздаяния, моральное видение мира рушится; необходимо принять — в смирении, доверии и поклонении — порядок, который не может быть описан в терминах морали. Трагический Бог возрождается из руин воздаяния по мере того, как моральный Бог получает юридическую окраску в ходе укрепления закона и многочисленных религиозных предписаний. Вот почему возврат к теме гнева Божьего составляет часть де-юридизации Священного, к которой мы идем сразу несколькими путями. Символика «гнева» и символика «брачной» связи действуют здесь в одном направлении: если на самом деле Союз больше, чем договор, если он выступает символом творческого отношения и если грех больше, чем просто нарушение, и является выражением онтологического отделения, то гнев Божий может быть другим символом того же отделения, переживаемого как угроза и активное разрушение.
Если таков гипер-юридический смысл греха, то следует сказать, что наказание есть не что иное, как сам грех; грех — это не зло, которое присовокупляется к другому злу, это не то, что карающая воля хочет причинить по отношению к воле мятежной. Это юридическое отношение одной воли к другой есть всего лишь образ более значимой ситуации, где наказание за грех само является грехом как таковым, то есть отделением. В этом смысле я рискнул бы сказать, что в одинаковой мере необходимо де-юридизи-ровать грех и де-сакрализовать юридический феномен. Необходимо отыскать то радикальное измерение, в котором прегрешение и наказание действовали бы солидарно в смысле нанесения ущерба сообществу творения. Обе эти операции слиты воедино: необходимо одновременно ввести наказание в сферу абстрактного права и углубить его неюридический смысл, пока он не окажется тождественным основополагающему злу отделения.
Такова «фигуративность» наказания. Теперь мы изучим его производный характер и в то же время его содержательное богатство и привлекательные черты. Именно миф второго уровня, то есть рационализация, замещает более простые символы, носящие лирический или трагический характер; в этом отношении вся символика закона подлежит перемещению на тот же уровень, что и мифологии кос-
мологического характера. Однако она имеет преимущество перед артифициалистскими и анимистическими мифами, которые легко поддаются объяснению: сначала миф о законе, который включает в себя миф о наказании, выражает персонализирующую интенцикг творческой связи, основываясь на «личностных» аспектах абстрактного права, в то время как артифициалистский или анимистический миф выражают внеличностные, космические аспекты этой связи. Более того, в отличие от других метафор иудео-христианского креационизма юридическая метафора связывает такие черты человеческого опыта, которые более всего поддаются рационализации, поскольку нет ничего более ясного, строгого и исторически постоянного, чем юридический опыт, существующий в двух формах — договора и наказания; юридическая мифология имеет именно это преимущество перед любым иным «мифологическим» бытием. Наконец, так же как рациональность права соединяет в мифе истоки гнева в той точке, где Священное означает абсолютную угрозу, соединение Разума и Опасности делает эту «мифологию» самой замкнутой, самой обманчивой из всех других, следовательно, самой трудной для деконструкции и, главное, более других мифологий сопротивляющейся новому истолкованию.
Итак, трактуя наказание как простую «фигуративность», смогли ли мы выполнить требования перетолкования, соответствующие этой «мифологии»? Должны ли мы удовлетвориться действием, которое ограничивается тем, что выводит на свет метафору и сталкивает ее с противоположными ей метафорами? Очевидно, что игра эта ведется в рамках представления и не переводит закон о наказании в понятийный план. Вот почему аналогия должна лишь подвести к новой логике, которая первоначально заявляет о себе как противо-логика или «абсурдная» логика. Таков путь парадокса в знаменитых текстах св. Павла об оправдании, на которые мы уже ссылались, следуя, однако, логике наказания. Теперь речь идет о том, чтобы взорвать изнутри миф о наказании с помощью своего рода превращения «за» в «против», оставаясь, однако, в рамках закона и пользуясь ресурсами самого юридического языка. Я
попробую представить иное прочтение оправдания св. Павла, которое слово в слово повторит буквальное прочтение, приведенное в начале работы.
С первых слов великого текста «Послания к Римлянам» (1, 16; 5, 21) становится ясным, что то, что Павел называет правдой Божией — OiKjioowq Geoft сверх-юридич-но в самом своем понятии; вот как совершается это знаменитое развитие: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Рим. 1, 16, 17). Примечательно, что все комментаторы спотыкаются, наталкиваясь на эту сложную тему, заставляющую их выявлять и противопоставлять друг другу разнородные элементы: юридическое правосудие и помилование, наказание и верность обетованию, искупление и прощение. Но может ли собственно юридический момент просто сосуществовать с моментом прощения, не претерпевая изменений, которые способны разрушть его в качестве юридического момента? Каким образом дающее силы живое правосудие может оставаться юридическим, не изменяя себе?
Последуем за посланием.
Как мы уже отметили в нашем первом прочтении, св. Павел входит в проблематику оправдания через врата Гнева: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 18). Так животворная справедливость встает на тот же путь, что и справедливость осуждающая; так сказать, логика наказания оказывается целиком внедренной в развитие: «…ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия — жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев» (Рим. 2, 5–8). Как это закрытое устроение суда, которое отделяет праведных и неправедных, не обращаясь к Евангелию, может сосуществовать с чем-то другим внутри более широкого устроения, о принципах которого мы сейчас расскажем? Каким образом фрагмент юридического правосудия может суще-
ствовать внутри правосудия самой жизни? Останется ли это «до-евангелическое» в качестве островка, не превращающегося в евангелие помилования?
Мне представляется, что логика св. Павла настолько парадоксальна, что мы не можем представить ее присутствующей в юридической ментальности, которая, как показал Гегель, есть логика идентичности.
Св. Павел является подлинным творцом этого преобразования «за» в «против», которое Лютер, Паскаль и Кьер-кегор возвели в ранг логики веры.
Необходимо, считает св. Павел, сначала идти до конца в осуждении, чтобы затем так же до конца идти в прощении: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). Эта, по словам Кьеркегора, абсурдная логика ведет к тому, что. логика закона взрывается в силу внутренних противоречий: закон претендовал на то, чтобы дать жизнь, а дал одну лишь смерть. Абсурдная логика, рождающая лишь то, что противоположно ей. То, что является нам как логика идентичности — «возмездие за грех есть смерть», — превращается в жизненное противоречие, взрывающее здание закона; благодаря этой «абсурдной» логике понятие закона само себя разрушает, а вместе с ним рушится и вся цепочка вытекающих из него понятий: «приговор», «осуждение», «наказание»; вся постройка в целом предстает под знаком смерти.
Логика наказания служит контрастом, противоречием, контрапунктом по отношению к воззванию, провозвестию, каковым является Евангелие: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия…» (Рим. 3, 21). Это правда, но правда животворная: «…человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3, 28) — и она ставит перед мышлением необычную проблему: то ли это оправдание, и соответствует ли оно логике наказания через искупление Христа, как мы говорили об этом вначале? Конечно, поддерживая оправдание, можно оставаться в сугубо юридических рамках, где оно получает свое выражение, и утверждать, что решение суда подтверждено оправдательным приговором, который, если следовать букве закона, все еще остается судебным актом. Но не являемся ли мы пленниками слов, образов и, осмелюсь сказать, мизансцены? В учении об оправдании судебный процесс играет роль грандиозного, внушающего ужас и сравнимого с древними «сценами», спектакля, который обнаруживают археологи бессознательного. По аналогии можно говорить об «эсхатологической сцене»: обвиняемого притаскивают на суд; общественный обвинитель убеждает его в том, что он совершил преступление; он заслуживает смерти; и вот вам сюрприз: объявляют, что обвиняемый невиновен. Кто-то другой сумел возместить понесенные убытки; ему вменена невиновность этого другого. Но как можно принять за действительность это представление? Что это за суд, где обвиняемый, уличенный в совершении преступления, объявляется невиновным? Может быть, это не-суд? А решение о невиновности есть не-решение? Вмененность — не-вмененность?
Следовательно, мы не можем трактовать логику наказания как самодостаточную логику: она исчерпывается в ходе абсурдной демонстрации того, что противоположно ей; она не имеет никакого собственного обоснования, и мы знаем о гневе, приговоре, смерти только одно: в Иисусе Христе мы свободны от них. Это только ретроспективно мы видим в помиловании, от чего мы были избавлены.
Именно на такое истолкование нацелена аргументация св. Павла, когда абсурдная логика следующим своим шагом превосходит себя, превращаясь в то, что можно было бы назвать логикой «преизобилования». Известна часто приводимая параллель между Адамом и Иисусом Христом, отмеченная в гл. 5 «Послания к Римлянам»: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5,18–19). Эта параллель — всего лишь риторическое обрамление, в которое внедряется другая логика: с притворным пренебрежением св. Павел начинает проводить параллель, затем приостанавливает ее и вдруг неожиданно прерывает; за словами: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили…» — следует вереница вводных предложений: «Ибо и до закона…», «Однако же смерть…», и вдруг разрыв в построении и его разрушение: «Но дар благодати не как преступление…» (Рим. 5, 12–15). Другое устроение словесно выражается этим разрывом в синтаксисе: «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более (тгоААф jiccAAov) благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд'за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление — к осуждению; а дар благодати — к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более (тгоМф jiàAAov) приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 5, 15–17). «Тем более…», «тем более…» Можно ли называть логикой эту перемену мест «за» и «против», взрывающую правило сопоставления? «Закон же пришел позже, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала пре-изобиловать благодать…» (Рим. 5, 20–21). Логика наказания — это логика равнозначного (возмездие за грех — смерть); логика благодати — это логика преизобилования и преизбыточествования. Логика благодати есть не что иное, как безумие Креста.
Выводы из всего сказанного в высшей степени важны: разве не преодолено как недиалектическое, как чуждое логике преизобилования представление об осуждении, делящее всех на праведных и неправедных, посылающее одних в ад, а других в рай? Наиболее парадоксальным, я думаю, является двойственное предназначение каждого из нас: оправдание всех в некотором смысле предполагает осуждение всех — под покровительством своего рода преизбытка в самой сердцевине истории. Среди «множества» людей устроение преизобилования в ней перемешано с делом смерти. Кто поймет «тем более» суда Божьего и «пре-изобилование» благодати Божией, тот тем самым положит конец мифу о наказании и его видимой логичности.
Но что значит положить конец мифу о наказании? Значит ли это поместить его в хранилище, где покоятся утраченные иллюзии? Я хотел бы предложить такое решение всех наших апорий, которое соответствовало бы сразу и гегелевской демифологизации, и абсурдной логике св. Павла: логика наказания, как мне представляется, существует на манер разоблаченного, разрушенного мифа внутри новой логики, которая вместе с тем является безумием, безумием Креста. В таком случае статус мифа — это статус того, что живет в памяти. Благодаря памяти я вижу в этом парадоксальном статусе устроение, о котором можно говорить как о канувшей в лету эпохе. Для св. Павла наказание составляет часть целостного устроения, которое он называет nomos, то есть законом, имеющим собственную внутреннюю логику: закон связан с притязанием, носящим имя нарушения, включающим в себя осуждение и смерть. Это устроение целиком и полностью — в прошлом, если принять во внимание слова «но ныне»: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия…» (Рим. 3, 21).
Таким образом, память — это преодоленное прошлое; ему нельзя придать статус иллюзии, от которой можно было бы окончательно освободиться, идя по пути от демифологизации к структуре нашего мышления; его нельзя также воспринимать как вечный закон истины, находящий в искуплении Праведника свое безусловное подтверждение. Наказание больше, чем идол, которого следует уничтожить, но меньше, чем закон, который надо обожествить. Наказание — это «эпохальная практика», сохраняемая проповедью в память о Евангелии. Если гнев Божий не имеет для меня никакого смысла, то тем более мне не понять, что означает прощение и благодать; однако если логика наказания имела собственный смысл, если она была самодостаточна, то как закон бытия ее никогда не преодолеть; искупление Христа должно вписаться в эту логику, что будет ее самой большой победой, как это бывает в теологи-ях «священнического удовлетворения», являющихся тео-логиями наказания, а не дарения и благодати.
Можем ли мы теперь осмыслить эту память о наказании? Это, вероятно, последняя апория, которую мы постараемся здесь рассмотреть; апория эта касается эпохального характера разрушенного устроения, несколько превосходящего человеческое представление или иллюзию, от которой надо освободиться, и уступающего вечному закону. В состоянии ли мы помыслить переход от одного устрое-
ния к другому как событие внутри божественного, как пришествие в сферу Священного? Философы, вероятно, еще не владеют логикой, соответствующей такому осмыслению, в отличие от поэтов, которые, к примеру, всегда располагали языком, позволяющим выразить эти эпохи бытия. Эсхил в «Орестее» (1073–1075) задает вопрос:
А сегодня и третий, спасительный, вихрь Нас овеял. Иль это конец роковой? Что несет, где умрет, успокоившись, гнев, Страшный гнев родового проклятья?*
Амос отвечает Эсхилу: «Гнев Божий на мгновение, верность его, hesed, на всю жизнь».
* Перевод С. Апта (И. В.).
V Религия и вера
Предисловие к бультману
Чтобы сегодня представить французской публике два значительных труда Рудольфа Бультмана: книгу «Иисус» (1926), и лекции на тему «Иисус Христос и мифология» (1951), нет необходимости кратко излагать их содержание — тексты говорят сами за себя. Более неотложной задачей, возможно, является другая: побудить читателя открыть для себя область исследования, центром которой является герменевтическая проблема в христианстве. Следующим шагом, вероятно, мог бы стать отказ от нескольких ложных идей относительно субъекта мифа и демифологизации, которые встают на пути читателя и мешают правильному пониманию Бультмана. Наконец, было бы, как кажется, небесполезно сопоставить эти очерки с другими работами по современной герменевтике, способными пролить свет на деятельность Бультмана с иной стороны и помочь читателю лучше понять его намерение. И здесь свою роль могло бы сыграть введение, если бы в нем удалось наилучшим образом сформулировать перед читателем исследуемый вопрос и если бы оно помогло ему яснее воспринять и осмыслить то, что ему предстоит прочесть.
1. Проблема герменевтики
В христианстве герменевтическая проблема существовала всегда, и тем не менее вопрос о герменевтике нам и сегодня кажется новым. О чем свидетельствует такое положение дел и почему оно с самого начала представляется парадоксальным?
В христианстве герменевтическая проблема существовала всегда, и она берет начало из провозвестия, из исходной проповеди, согласно которой через Иисуса Христа царство Божие приближено к нам решительнейшим образом. Вместе с тем эта исходная проповедь, это слово идет к нам через то, что написано, через письменные источники, и их необходимо без конца восстанавливать в качестве живой речи, чтобы оставалось всегда актуальным древнее слово, свидетельствующее о фундаментальном, основополагающем событии.
Если, по утверждению Дильтея, герменевтика как таковая является интерпретацией выражений жизни, фиксированных с помощью письма, то собственно христианская герменевтика касается того единственного отношения между Писанием и «керигмой» (провозвестием), к которому она отсылает.
Данное отношение письма к слову и слова к событию и его смыслу лежит в центре герменевтической проблемы. Однако само это отношение возникает не иначе, как в цепи интерпретаций, которые и образуют историю герменевтической проблемы, то есть — и это можно утверждать вполне определенно — историю христианства как такового, — в той мере, в какой оно зависит от сменяющих друг друга поколений людей, читающих Писание и способных превращать его в живое, слово.
Некоторые черты того, что можно было бы назвать герменевтической ситуацией христианства, подмечены лишь в наши дни; именно эти черты и делают современной проблему герменевтики.
Попытаемся — скорее с точки зрения систематической, нежели исторической — раскрыть эту герменевтическую ситуацию. Здесь можно выделить три последовательно проясненных момента, хотя они и принадлежат одному и тому же отрезку времени.
Проблема герменевтики родилась как следствие того, что поколение первых христиан задалось вопросом, который оставался нерешенным вплоть до Реформации; это — вопрос об отношении друг к другу двух Заветов, или двух Союзов. Тогда-то, собственно, и возникла проблема иносказания в ее христианском понимании. В самом деле, явление Христа находится в герменевтическом отношении со всей совокупностью иудаистского писания, с тем, как оно его интерпретирует. Таким образом, прежде чем под-
вергнуться интерпретации — а в этом как раз и состоит суть герменевтической проблемы, — оно само явилось интерпретацией предшествующего писания.
Вдумаемся хорошенько в следующее: прежде всего, не существует, собственно говоря, двух Заветов, двух писаний, а есть одно писание и одно событие; именно это событие и привело к тому, что еврейское жизнестроение стало выглядеть как явление, полностью устаревшее, как ветхое письмо. Но здесь возникает герменевтическая проблема: новое не просто заменяет старое, но находится с ним в двойственном отношении; оно отменяет его и в то же время завершает, оно изменяет письмо, превращая его в духовное явление; так вода превращается в вино. Стало быть, христианство само себя осознает, производя изменение смысла внутри прежнего писания. Данное изменение и легло в основу первой христианской герменевтики; она как раз укладывается в это отношение между письмом, историей (данные слова являются синонимами) прежнего Союза и тем духовным смыслом, который неожиданно обнаруживает Евангелие. Отныне это отношение может быть удачно выражено в терминах иносказания в духе стоического[251] и особенно филоновского аллегоризма[252] или с помощью квазиплатоновского языка, с его противоположностью между плотью и духом, истинной реальностью и ее тенью; однако на этот раз речь идет совершенно о другом: о типологической ценности событий, вещей, персонажей, институтов прежнего жизнестроительства по отношению к тем же явлениям нового жизнестроительства. Св. Павел является творцом этого христианского иносказания. Любому из нас известна интерпретация, относящаяся к двум женам Авраама — Агари и Сарры — и их потомству[253]. В Послании к Га латам говорится на этот счет: «В этом есть иносказание»[254]. Слово «иносказание» здесь лишь в одном отношении буквально совпадает с «аллегорией» грамматиков[255], и, как говорит Цицерон[256], это «совпадение заключается в том, что говорится одно, а понимается другое». Но в то время как языческая аллегория служила тому, чтобы привести мифы в соответствие с философией и, следовательно, умалить их значение как мифов, иносказание св. Павла, как и иносказания Тертуллиана и Оригена[257], от него зависящие, неотделимы от таинства Христова; стоицизм и платонизм привнесут лишь свой язык, иными словами, дополнительную нагрузку — ненужную и сбивающую с толку.
Такова суть герменевтики, имеющей место в христианстве, поскольку керигма есть не что иное, как перепрочтение древнего писания. Знаменательно, что ортодоксия всеми силами противилась тем течениям, от Маркиона[258] до гностиков, которые стремились прервать герменевтическую связь между Евангелием и Ветхим Заветом. Почему? Не проще было бы говорить об указанном событии как об единичном явлении и таким образом избавиться от много-смысленности при интерпретации Ветхого Завета? Почему христианская проповедь предпочла быть герменевтикой, связав себя с перепрочтением Ветхого Завета? Главным образом потому, чтобы высветить само это событие — причем не как вторжение иррационального, но как осуществление предшествующего смысла, остававшегося в подвешенном состоянии. Указанное событие обретает свою временую плотность, вписываясь в отношение значения, существующее между «обетованием» и «реализацией». Погружаясь, таким образом, в исторический контекст, это событие тем самым вступает в интеллигибельную связь; между двумя Заветами устанавливается отношение противоположности, которое одновременно является гармоническим отношением, достигаемым с помощью трансфера. Это отношение значения удостоверяет, что таким обходным маневром, таким перетолкованием древнего Писания керигма входит в сферу интеллигибельности. Событие становится пришествием: обретая время, оно вместе с тем обретает и смысл. Понимая себя косвенным образом, перемещаясь от древности к новизне, событие вступает в отношения интеллигибельности; Иисус Христос как истолкование Писания и его истолкователь обнаруживает разумную основу Писания и сам выявляет себя в качестве Логоса.
Такова первоначальная герменевтика христианства. Она соответствует духовной разумности Ветхого Завета. Естественно, духовный смысл — это Новый Завет, но благодаря такой обходной расшифровке Ветхого Завета вера перестает быть безотчетным криком и становится разумной.
Другой исток герменевтической проблемы также связан со св. Павлом, хотя, как считают, и получает свое целостное значение гораздо позже, благодаря современным мыслителям, в частности, Бультману. Это — идея о том, что интерпретация Книги и интерпретация жизни соответствуют друг другу и, если так можно сказать, прилаживаются друг к другу. Тому же св. Павлу принадлежит авторство этой, второй, модели христианской герменевтики, когда он предлагает слушающему слово расшифровать движение его экзистенции в свете Страстей Христовых и Воскрешения Христова; таким образом, смерть древнего человека и рождение человека нового взаимопроникают друг друга под знаком Пасхи и триумфа, о чем говорил Паскаль, но их герменевтическое отношение имеет двойной смысл: смерть и воскрешение получают новое истолкование, будучи перенесенными на существование человека. Здесь уже перед нами «герменевтический круг» — между христиче-ским смыслом и смыслом экзистенциальным, которые взаимно раскрывают друг друга.
Благодаря превосходному труду о. Любака[259] о «четырех смыслах» Писания — историческом, аллегорическом, моральном, мистическом — мы смогли понять все значение этого взаимного истолкования Писания и существования. Оставляя в стороне простое перетолкование древнего Союза и типологическую соотнесенность между двумя Заветами, средневековая герменевтика добилась — в lectio divi-па[260] — совпадения между содержанием веры и содержанием реальности в целом — божественной и человеческой, исторической и физической. Отныне задачей герменевтики становится расширение понимания текста под углом церковной доктрины и практики, а также мистических откровений и — как следствие — уравнивание содержания смысла и целостной интерпретации существования и реальности в их христианском истолковании. Короче говоря, понимаемая таким образом герменевтика стала коэк-стенсивной по отношению к целостному жизнеустройству христианского существования. Писание здесь выступает в качестве неисчерпаемой сокровищницы, дающей возможность мыслить обо всем на свете и содержащей в себе целостную интерпретацию мира. Речь идет именно об интерпретации, потому что в основе ее лежит послание и инструментом ее является экзегеза, а также и потому, что все другие смыслы соотносятся с первичным смыслом, как явленное соотносится с сокрытым. Вот почему содержание Писания в некотором плане вбирает в себя весь инструментарий культуры, литературы, риторики, философии и мистики. Интерпретировать Писание — значит расширять его смысл как смысл священный и одновременно включать в его содержание всю остальную мирскую культуру — только такой ценой Писание перестает быть фрагментарным объектом культуры: объяснение текстов и раскрытие таинств здесь совпадают друг с другом. Цель герменевтики, если иметь в виду рассматриваемый нами второй смысл, заключается в следующем: сделать так, чтобы глобальный смысл таинства совпал с отдельным, явно выраженным смыслом, уравнять multiplex intellectus и intellec-tus de mystherio Christi[261].
Итак, среди отмеченных «четырех смыслов» Средневековье специально выделяет «моральный смысл», который указывает на то, что иносказательный смысл может быть отнесен к нам и нашим обычаям. «Моральный смысл» означает, что герменевтика шире, чем экзегеза, если последнюю брать в узком понимании; герменевтика — это расшифровка жизни сквозь призму текста. Иносказание имеет своей целью обнаружение новизны Евангелия на фоне устаревшего письма, однако новизна эта исчезает, если она не есть новизна повседневности, новизна hic et nunc. Ведь функция морального смысла заключается не в том, чтобы выводить моральные предписания из Евангелия и подчинять им историю, а в том, чтобы обеспечить соответствие между христическим событием и внутренним содержанием человека. Речь идет о том, чтобы актуализировать духовный смысл, интериоризировать его и, как говорил св. Бернар[262], показать, что он простирается «отныне до нас», hodie usque ad nos. Вот почему моральный смысл располагается непосредственно за иносказанием. Такое соответствие между аллегорическим смыслом и нашим существованием прекрасно выражается с помощью образа зеркала. Речь как раз идет о расшифровке нашего существования в его соотнесенности с Христом. Мы можем говорить также об интерпретации, потому что, с одной стороны, таинство, содержащееся в послании, проявляется и подтверждает свою актуальность в нашем опыте, а с другой — мы понимаем самих себя через призму слова. Отношение между текстом и зеркалом — liber et speculum — является основным нервом герменевтики.
Таково второе измерение христианской герменевтики.
Третий исток герменевтической проблемы христианства был полностью признан и осознан только современными мыслителями — после того, как удалось применить к Библии в целом критические методы, заимствованные у светских — исторических и филологических — наук. И здесь мы снова возвращаемся к первоначальному вопросу: почему герменевтическая проблема столь стара и вместе с тем столь современна? Действительно, третий исток нашей проблемы имеет отношение к тому, что можно было бы назвать герменевтической проблемой самого христианства, — я имею в виду изначальное конституирование христианской керигмы. В самом деле, обратимся к отличительным чертам свидетельствования в Евангелии. Прежде всего, ке-ригма — это не интерпретация текста, но сообщение о некоей личности; и в этом смысле словом Божиим является не Библия, а Иисус Христос. Однако проблема возникает вновь и вновь благодаря тому факту, что сама керигма выражена в свидетельствовании, в повествованиях, прежде всего — в текстах, содержащих древнейшее вероисповедание сообщества и, стало быть, представляющих собой первичный слой интерпретации. Мы уже не являемся более непосредственными свидетелями; мы — слушатели, внимающие свидетельствам: fides ex auditu[263]. Отныне мы можем верить, лишь слушая и интерпретируя текст, который сам уже является интерпретацией: короче говоря, мы пребываем в герменевтическом отношении не только с Ветхим, но и с Новым Заветом.
Эта герменевтическая ситуация столь же изначальна, как и две другие, в том смысле, что Евангелие уже во втором поколении предстает в качестве писания, в качестве нового послания, нового письменно фиксированного документа, примыкающего к древнему в форме собрания записанных текстов, которые однажды будут оформлены и представлены в виде канона — «канонического Писания». Таков исток современной герменевтической проблемы: керигма — это также и некий Завет, разумеется, Новый За-
вет, как мы об этом уже говорили; и тем не менее — это Завет, то есть новое Писание. В таком случае Новый Завет также предназначен для интерпретации. Он не только выступает интерпретатором Ветхого Завета, жизни и всей реальности — Новый Завет сам является текстом, подлежащим интерпретации.
Однако этот третий исток герменевтической проблемы, который, собственно, и определяет герменевтическую ситуацию, был в христианстве некоторым образом замаскирован с помощью двух других функций герменевтики; поскольку Новый Завет служил делу расшифровки Ветхого Завета, он принимался за абсолютную норму и оставался этой абсолютной нормой, так как его буквальный смысл служил бесспорной основой, на которой возводились все другие этажи иносказательного, морального и мистического смыслов. Но теперь сам буквальный смысл выступает как подлежащий пониманию текст, как требующее интерпретации послание.
Поразмыслим над этим открытием. На первый взгляд кажется, что оно является продуктом нашей современности, я хочу сказать, что оно является чем-то, что могло стать открытием только спустя некоторое время. И это действительно так, если иметь в виду доводы, к которым мы вскоре обратимся. Но сами эти доводы отсылают нас к первичной структуре, которая, чтобы впоследследствии быть обнаруженной, изначально не должна была быть таковой. Данное открытие принадлежит нашей современности в том смысле, что оно свидетельствует о столкновении критических, филологических и исторических дисциплин со священными текстами. Как только Библию начинают трактовать так, как трактуют «Илиаду» или тексты досократи-ков[264], то слово ее десакрализуется и предстает в качестве человеческого слова; одновременно с этим отношение «человеческое слово — слово Божие» полагает себя не только как отношение между Новым Заветом и Библией в целом, не только как отношение между Новым Заветом и остальной культурой, но и как отношение внутри самого Нового Завета. Новый Завет для верующего сам содержит в себе подлежащее расшифровке отношение между тем, что может быть понято как слово Божие, и тем, что воспринимается как человеческое слово.
Это — плод научного духа и в этом смысле недавнее приобретение; но рефлексия подводит нас — если иметь в виду первоначальную герменевтическую ситуацию Евангелия — к признанию того, что это запоздалое открытие могло быть совершено и в прошлом. Данная ситуация, как мы уже отмечали, заключается в том, что само Евангелие стало текстом, посланием; как текст оно свидетельствует о том, что между ним и событием, о котором оно сообщает, существует некое отличие, некое расстояние, как бы незначительно оно ни было; это расстояние, со временем постоянно увеличивающееся, мгновенно отделяет первого свидетеля от всех тех, кто будет внимать этому свидетельст-вованию; современность характеризует то, что эта дис^ан-ция между местом, какое я занимаю в культуре, и местом первого свидетельствования значительна; данное расстояние, разумеется, существует не только в пространстве^ но — что особенно важно — и во времени; к тому же это расстояние дано нам изначально: оно — самая первая дистанция, разделяющая слушающего повествование о событии и свидетеля события.
Отныне эта дистанция, в некотором роде случайная для человека XX века, существующего в иной культуре — научной и исторической, является свидетельством наличия изначальной дистанции, пребывающей в скрытом состоянии, поскольку она — короткая дистанция, но уже ведущая к созданию первоначальной веры. Это расстояние становится более заметным, начиная, в частности, с работ исторической школы, изучающей формы; данная школа заставила нас осознать тот факт, что свидетельства, собранные в Новом Завете, не являются только свидетельствами индивидуальными, вольными, если так можно сказать, но они — уже свидетельства, существующие в сообществе определенной конфессии с ее культом, проповедями и способами выражения собственной веры. Расшифровывать Писание — значит расшифровывать свидетельство об апостольском сообществе; мы имеем дело с объектом его веры, преломленным сквозь призму исповедания. Стало быть, воспринимая свидетельствование, я получаю доступ к тому, что в этом свидетельствовании является сообщением, ке-ригмой, «благой вестью».
В ходе своего рассуждения я, надеюсь, сумел показать, что для нас, моих современников, герменевтика имеет такой смысл, какой она не имела ни для греческих, ни для римских Отцов Церкви, ни для Средневековья, ни даже для Реформации, что у герменевтики есть «современный» смысл, о чем свидетельствует судьба самого слова «герменевтика»; в современном смысле герменевтика есть не что иное, как раскрытие, выявление герменевтической ситуации, которая сложилась одновременно с Евангелием и лишь до поры до времени была сокрыта; и нет ничего парадоксального в утверждении о том, что две предшествующие формы герменевтики, которые мы описали, потребовали выявления наиболее радикального момента герменевтической ситуации, сложившейся в христианстве. Именно желание раскрыть смысл и назначение нашей современности, имея в виду расстояние, отделяющее нашу культуру от культуры античной, и было с самого начала единственной специфической чертой этой герменевтической ситуации.
2. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ
Мне представляется, что герменевтический вопрос, если говорить о его третьей форме, содержит в себе принцип того, что Бультман называет демифологизацией, или деми-физацией. Но правильно понимать герменевтический вопрос ни в коей мере не означает, что можно разделять эти две проблемы, поставленные Бультманом, и было бы грубой ошибкой трактовать их по отдельности, поскольку одна, в некотором плане, представляет собой оборотную сторону другой. Первая — это проблема демифологизации, вторая — это то, что принято называть герменевтическим кругом.
Демифологизация на первый взгляд является делом сугубо негативным: она состоит в сознательном разоблачении мифа, в котором заключено утверждение, что «царство Божие решительнейшем образом приблизилось через Иисуса Христа»; но смогли ли мы внять тому факту, что данное «пришествие» выразилось в мифологическом изображении Вселенной, у которой есть верх и низ, небо и
земля, небесные существа, спускающиеся сверху вниз и возвращающиеся наверх? Отбросить эту мифологическую оболочку означает просто-напросто обнаружить расстояние, отделяющее нашу культуру с ее понятийным аппаратом от той культуры, в которой нашла свое выражение «благая весть». В этом смысле демифологизация задевает само существо послания. Она заключается в новом использовании герменевтики, которая не является более созиданием, построением духовного смысла на основе смысла'буквального, а есть нечто вроде бурения скважины под буквальным смыслом, де-струкция, то есть де-конструкция самого послания. Данная работа имеет нечто общее с процессом демистификации, о чем я буду говорить в дальнейшем, и она принадлежит современности в том смысле, что совершается в посткритическое для веры время.
Но данная демифологизация отличается от демистификации тем, что она является преобразованием тексту, нацеленным на более углубленное его познание, то есть на осуществление интенции текста, которая имеет в виду событие, а не сам текст. В этом смысле демифологизация противостоит не керигматической интерпретации, а самому первому ее применению. Демифологизация свидетельствует о возвращении к изначальной ситуации, когда Евангелие было не новым писанием, подлежащим комментированию, а противостоянием чему-то иному, поскольку оно говорило о чем-то таком, что было подлинным словом Божиим. Отныне демифологизация становится исключительно оборотной стороной постижения керигмы. Или, если хотите, демифологизация — это желание современного человека покончить с ложным кризисом, вызванным абсурдностью мифологического изображения мира, и выявить подлинный кризис, помрачение разума, связанное с явлением Бога в лице Иисуса Христа, которое является кризисным моментом для всех людей, в какое бы время они ни жили.
В этом пункте вопрос о демифологизации отсылает к другому вопросу — к тому, что я назвал герменевтическим кругом. На первых порах герменевтический круг можно представить следующим образом: чтобы понимать, надо верить, а чтобы верить, надо понимать. Но такое толкование еще весьма психологично; вере предшествует объект веры; пониманию предшествует экзегеза, а ее метод — наивному
прочтению текста. Так что подлинный герменевтический круг имеет не психологическое, а методологическое основание; круг этот образован объектом, обосновывающим и веру и метод, которым руководствуется познание. Круг существует потому, что экзегет не является хозяином самого себя; он хочет познать только то, что говорит текст; задача понимания диктуется тем, о чем идет речь в самом тексте. Христианская герменевтика руководствуется вестью, содержащейся в тексте; понимать значит подчиняться тому, чего желает объект и что он хочет сказать. Здесь Бультман вступает в противоречие с Дильтеем, для которого понять текст означает постичь его жизненное проявление; так что экзегет должен суметь понять автора текста лучше, чем тот понимает самого себя. Нет, возражает Бультман: вовсе не жизнь автора управляет пониманием, а сущность смысла, получающая свое выражение в тексте. Здесь Бультман полностью согласен с Карлом Бартом, утверждающим в комментарии к «Посланию к Римлянам», что понимание подчинено объекту веры. Но Бультмана от Барта отличает то, что он абсолютно уверен в следующем: примат объекта, примат смысла над пониманием существует только в самом понимании, в самой экзегетической деятельности. Стало быть, необходимо войти в герменевтический круг. На деле я не познаю объект никаким иным способом, как только через понимание текста. Вера в то, о чем идет речь в тексте, должна быть расшифрована в рамках текста, который сообщает об этом, и опираясь на вероисповедание изначальной церкви, которое выражается в тексте. Именно поэтому и существует круг: чтобы понять текст, надо верить в то, о чем он сообщает; но то, о чем сообщает текст, мне не дано никаким иным способом, кроме того, как оно дано в тексте; вот почему, чтобы верить, надо понять текст.
Эти два размышления, одно — о демифологизации, другое — о герменевтическом круге, неотделимы друг от друга. Действительно, углубляясь в текст и снимая одно за другим его мифологические одеяния, я обнаруживаю послание, которое является первичным смыслом текста. Отделять керигму от мифа — такова позитивная функция демифологизации. Но керигма становится положительным результатом демифологизации только в ходе интерпретации. Вот почему она не может быть зафиксирована никаким объективным образом, что вывело бы ее за пределы интерпретации.
Теперь мы в состоянии подвергнуть критике заблуждения и упущения, которые, согласно Бультману, сопутствуют демифологизации. По-моему, все они проистекают из' того, что мы оказались неготовыми к тому, что демифологизация осуществляется одновременно на нескольких стратегически различных уровнях.
Я предлагаю выделить способ, используемый Бультма-ном и соответствующий уровням демифологизации, £ также последовательные определения мифа, соответствующие этим уровням.
На первом уровне, самом внешнем и самом поверхностном и потому самом очевидном, находится современный человек, осуществляющий демифологизацию; то, что он демифологизирует, — это космологическая форма первоначального пророчества; действительно, представление о мире, расположенном между небом, землей и адом и населенном сверхъестественными существами, спустившимися сверху, просто-напросто отбрасывается современной наукой и техникой как устаревшее и не соответствующее пониманию о человеке, обладающем моральной и политической ответственностью. Все, что вытекает из этого видения мира, опирающегося на фундаментальное представление о спасении, признается отныне потерявшим значение; и Бультман прав, когда утверждает, что на этом уровне демифологизация должна идти до конца, не останавливаясь и не перескакивая с одного на другое. Соответствующее этому уровню определение мифа говорит о донаучном объяснении космологического и эсхатологического порядка, в который современный человек уже не верит. Именно в этом отношении миф является своего рода кризисным явлением, добавляющимся к более существенному кризису, связанному с «безумием креста».
Однако миф — это нечто иное, нежели объяснение мира, истории предназначения; он выражает, если использовать мирские термины, видение сверхмира, или иного мира, представление о том, что человек, чье существование имеет собственные основы и ограничения, черпает из него. Демифологизировать означает в таком случае подвергнуть миф интерпретации, то есть соотнести объективные представления о мифе с тем самопониманием человека, которое он и выявляет и прячет одновременно. Это также означает, что мы сами демифологизируем, но только при условии, если следуем интенции мифа, который нацелен на что-то иное, чем то, о чем он сообщает. В таком случае миф не может признаваться противостоящим науке; сутью его является обмирщение того, что существует по ту сторону осязаемой и познаваемой реальности; с помощью объективно существующего языка он выражает смысл, который обретает человек перед лицом собственной зависимости от того, что считается истоком и пределом его мира. Это определение Бультмана прямо противоположно тому, что говорит Фейербах; миф не является проекцией человеческих возможностей в выдуманную запредельную сферу, а скорее выражает овладение человеком — с помощью объективации и воплощения — своим истоком и своими целями. Если миф и является проекцией (речь идет о человеческих представлениях), то только потому, что он первоначально предстает как редукция потустороннего к посюстороннему; воображаемая проекция — лишь средство и этап этого воплощения потустороннего в посюстороннем.
На втором уровне демифологизация перестает быть исключительной деятельностью современного духа. Восстановление интенции мифа, имеющей иную направленность, нежели его объективация, требует обращения к экзистенциальной интерпретации, подобной той, о которой говорил Хайдеггер в «Бытии и времени»; в этой экзистенциальной интерпретации, далекой от того, чтобы выражать требование научности, речь идет о намерении — философском, но не научном — выявить смысл реальности с помощью науки и техники. Учение Хайдеггера создает лишь философ-ские^предпосылки для критики мифа, центр гравитации которой лежит в сфере объективации.
Однако второй уровень не является последним; особенно это относится к герменевтике христианства. Экзистенциальная интерпретация может по праву применяться к любому мифу; так, Ханс Йонас первым — в работе «Гносис и дух поздней античности», опубликованной в 1930 году с
серьезным предисловием Рудольфа Бультмана, — применил ее не к Евангелию, а к гностицизму. На первом уровне миф не имеет ничего собственно христианского; это же можно сказать и о втором уровне. Все начинание Бультмана вертится вокруг идеи о том, что керигма сама требует демифологизации. Речь отныне идет не о современном человеке, обладающем научными знаниями, и не о философе с его экзистенциальной интерпретацией мифов, а о ке-ригматическом ядре изначальной проповеди, которая не только требует демифологизации, но и сама кладет начало процессу демифологизации и приводит его в действие. Уже в Ветхом Завете повествования о творении вытекают из очевидной демифологизации священной космологии вавилонян; еще более разлагающее воздействие на все пред-ставления о божественном оказывает проповедь Яхве о Ваале и его идолах. Новый Завет, вопреки новому требованию, предъявляемому к мифологическим представлениям, главным образом иудейской эсхатологии, а также представлениям о культе и таинстве, подвергает редукции образы веры, служащие ему в качестве посредников; описание человека вне веры приводит к интерпретации, которую уже можно назвать антропологической — она касается понятий, почерпнутых из космической мифологии: «мир», «плоть», «грех». Именно св. Павел кладет начало этому движению демифологизации. Если говорить о собственно эсхатологических представлениях, то Иоанн пойдет еще дальше в деле демифологизации; будущее началось с Иисуса Христа, новая эпоха берет начало во времени жизни Христа; отныне демифологизация исходит из самой природы христианской надежды и из того отношения, какое божественное будущее поддерживает с настоящим.
Эта иерархия уровней, существующая в демифологизации и в самом мифе, мне представляется ключом к правильному пониманию Бультмана. Если не различать эти уровни, мы шаг за шагом удалимся от такого понимания или совершим насилие над текстами: с одной стороны, мы будем упрекать Бультмана в том, что он, заявив о намерении осуществлять демифологизацию до конца, занят спасением останков керигмы; другие же будут упрекать его в том, что он приписывает текстам чуждые им задачи, касающиеся либо современного человека, этого наследника научного мышления, либо экзистенциальной философии в хайдеггеровском ее истолковании. Но за человеком науки, за экзистенциальным философом, за слушателем сказания стоит сам Бультман. Находясь в этом круге, он выступает как проповедник. Да, он проповедует, он заставляет вслушиваться в Евангелие. Так, наследуя идеи св. Павла и Лютера, он противопоставляет оправдание верой спасению через созидание: человек своими делами оправдывает и прославляет себя, то есть по своему усмотрению распоряжается смыслом собственного существования; в вере же он вновь постигает себя в своем желании владеть собой. В таком случае только проповедник и может дать определение мифа как деятельности, с помощью которой человек распоряжается Богом вместо того, чтобы получать от Него свое оправдание. Проповедник в данном случае выступает против мифолога, против человека науки и против самого философа. Если последний своим описанием подлинного существования действительно стремится найти что-то иное, нежели пустая и формальная дефиниция, некую возможность, о реальности которой заявляет Новый Завет, тогда он терпит поражение. Когда философ утверждает, что знает, каким образом подлинное существование становится реальностью, он тем самым претендует на то, чтобы распоряжаться своим бытием. В этом — предел экзистенциальной и вообще философской интерпретации. Этот предел очевиден: он свидетельствует о переходе от второй интерпретации керигмы к третьей, то есть к интерпретации, исходящей из самой керигмы, точнее, из теологического оправдания верой, как это имеет место в традиции, идущей от св. Павла и Лютера.
Если Бультман пытается говорить о событиях, связанных с Христом, и божественных актах в немифологических понятиях, то это потому, что человеку веры он приписывает зависимость от акта, который им распоряжается. Такое решение относительно веры становится тогда центром, исходя из которого могут быть поняты предшествующие определения мифа и демифологизации. Стало быть, Бультман основывается на взаимодействии между всеми формами демифологизации: научной демифологизации, философской демифологизации и демифологизации, вытекающей из веры. Шаг за шагом в игру вступает сначала
современный человек, затем экзистенциальный философ и, наконец, верующий. Вся экзегетическая и теологическая деятельность Рудольфа Бультмана сосредоточена на том, чтобы привести в движении огромный круг, в котором экзегетическая наука, экзистенциальная интерпретация и проповедь в традиции, идущей от св. Павла и Лютера, меняются своими ролями.
3. ЗАДАЧА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Бультмана еще предстоит осмыслять и осмыслять, иногда следуя ему, иногда вопреки ему. Что еще недостаточно проанализировано у Бультмана, так это его представление о собственно немифологическом ядре библейских и теологических содержаний, а также — по контрасту — и самих мифологических содержаний.
Рудольф Бультман утверждает, что «значение» «мифологических содержаний» уже не является мифологическим: ведь о конечности мира и человека перед лицом трансцендентного могущества Бога можно говорить и не обращаясь к мифологическим терминам; в этом, по его мнению, и состоит значение эсхатологических мифов. Понятия «божественный акт», «Бог как акт», согласно Бультману, являются немифологическими; таковыми же являются и выражения «слово Божие», «обращение к слову Божию»; слово Бо-жие, говорит он, адресовано человеку и запрещает ему обожествлять самого себя, оно взывает к подлинному «Я» в человеке. Короче говоря, деятельность Бога, точнее, его воздействие на нас, если говорить о нашем обращении и решимости, является немифологическим моментом мифологии, ее немифологическим значением.
Как мыслим мы это значение?
Можно первоначально утверждать, пользуясь языком кантовской философии, что трансцендирующий, абсолютно иной — это тот, о котором мы «мыслим» в высшей степени, но которого «представляем» себе с помощью объективных и мирских терминов. Второе определение мифа следует этому значению: обмирщение запредельного, его заземление заключается в объективации того, что должно было бы оставаться пределом и основанием. Вообще говоря, то, что Бультман противопоставляет Фейербаху — и я вполне определенно утверждаю, что это противопоставление имеет универсальный характер, — сближает Бультма-на с Кантом; у первого миф занимает такое же место, какое у второго принадлежит «трансцендентальной иллюзии»; данная интерпретация подтверждается постоянным употреблением слова Vorstellung («представление») для обозначения «образов мира», с помощью которых мы иллюзорно представляем нашу мысль о трансцендентном; разве Бультман не говорит также, что непостижимость Бога не связана с теоретическим мышлением, что причина его в личностном существовании, то есть в нашей жажде идолопоклонничества и нашей строптивости?
Но подобная интерпретация немифологических элементов, опирающаяся на идею о пределе, противоречит значительно более важным аспектам творчества Бультмана; так, представляется, что понятия «божественный акт», «слово Божие», «божественное будущее» полностью принадлежат вере и обнаруживают свой смысл, когда наша воля отступает, когда она не в состоянии владеть собой; только в этот момент я испытываю то, что означает «божественный акт» — одновременно порядок и дар, повеление и указание (поскольку «вас ведет дух» означает «действовать в соответствии с духом»). Для Бультмана, как и для его учителя Вильгельма Херманна, объект веры и ее обоснование — это одно и то же: то, во что я верю, это то, с помощью чего я верю, то, что дает мне веру. В конечном итоге немифологическое ядро образовано сообщением об оправдании верой, которое существует как бы Евангелие в Евангелии. В этом смысле Рудольф Бультман — от начала и до конца принадлежит Лютеру, Кьеркегору и Барту. Но тем самым мы оставляем в стороне вопрос о смысле таких выражений, как «абсолютно другой», «трансцендентный», «запредельный», а также терминов «акт», «слово», «событие». Удивительно и то, что Бультман не выдвигает никаких требований по отношению к языку веры, в то время как он обнаруживает крайнюю озабоченность, когда речь заходит о языке мифа. Как только язык перестает «объективировать», как только он начинает избегать мирских «представлений» и «представлений» обмирщения, любое вопро-шание, касающееся смысла этого Das s (события встречи),
следующего за Was, то есть вытекающего из общих формулировок и объективирующих представлений, становится излишним.
Если дело обстоит таким образом, то потому, что Бульт-ман размышляет не о языке вообще, а только об «объективации». Тем самым, как представляется, Бультмана не так-то уж интересует тот факт, что в мифе действует другой язык и, стало быть, здесь необходима новая интерпретация; например, он с легкостью признает, что язык веры может воспроизводить миф в качестве символа или образа; он признает также, что язык веры помимо символов и образов использует и аналогии (такое имеет место, когда речь идет о «личностных» выражениях «встречи»), что Бог обращается ко мне как к личности, встречает меня «как друга, руководит мною как отец '— не с помощью символов или образов, а с помощью аналогий. Протестантская теология сумела принять за основу «личностные» отношения типа «Я» — «Ты» и на этой основе разработать теоцентри-ческий персонализм, чтобы избежать трудностей, испытываемых католической «теологией природы», взятой в качестве ипостаси космологии. Но разве возможно в этом соотнесении человеческого «Я» с божественным «Ты» обойтись без критической рефлексии относительно употребления аналогии? Какое отношение существует между аналогией и использованием символа в мифе, а также предельным понятием о «совершенно ином»? Бультман, думается, считает, что язык, если он не «объективирует», неполноценен. Но что в таком случае язык? И что он обозначает?
Могут сказать, что этот вопрос уже не стоит, что он находится в ведении объективирующего мышления, которое ищет обеспечения Was с помощью «общих высказываний» и не спешит заниматься необеспеченностью Dass, то есть решимостью верить. В таком случае следовало бы вообще отбросить вопрос о «значении» мифологических представлений, даже если за ним стоит целое направление в исследовании. Тогда надо будет сказать, что немифологическое значение мифа принадлежит к сфере значений только вместе с верой, и нам уже не о чем ни мыслить, ни говорить. Sacrificium intellectuslb, которому вместе с мифом было отказано в существовании, теперь идет рука об руку с верой. Более того, керигма не может более быть источником демифологизации, коль скоро она не побуждает к мышлению, не ведет к осмыслению веры; как могла бы она это делать, не являясь одновременно событием и смыслом, то есть не являясь «объективной» в ином значении этого слова, чем то, которое было устранено вместе с мифологическими представлениями?
Данный вопрос находится в центре постбультмановской герменевтики. Противоположность между объяснением и пониманием, о которой первым заговорил Дильтей, как и противоположность между объективным и экзистенциальным, вытекающая из сугубо антропологического прочтения Хайдеггера, сыграла важную роль в первой фазе изучения данной проблемы, однако она обнаружила свой разрушительный характер, как только встал вопрос о совокупном постижении проблемы разумности веры и соответствующего ей языка. Сегодня, несомненно, следует приписывать меньшую значимость Verstehen — «пониманию», относящемуся исключительно к экзистенциальной решимости, и приступить к широкому рассмотрению проблемы языка и интерпретации.
Я формулирую эти вопросы отнюдь не в пику Бультма-ну, а с целью прояснения того, что осталось у него непроясненным. И делаю это по двум причинам.
Прежде всего, его деятельность по истолкованию Нового Завета не находит в его герменевтической философии адекватного обоснования. Бультман — а об этом во Франции явно не ведают — является в первую очередь автором объемного и солидного труда «Теология Нового Завета» и восхитительных комментариев к «Евангелию от Иоанна» (и здесь возникает потребность в работе, которая вступила бы в спор с данным толкованием Бультмана, учитывая все то, что содержится в его теоретических исследованиях). Экзегеза Бультмана, как мне представляется, скорее противоречит Дильтею, чем собственной герменевтике; экзегеза Бультмана расходится с Дильтеем в одном существенном пункте: задача интерпретации текста состоит не в том, чтобы «понять автора лучше, чем он сам себя понимает» (здесь чувствуется влияние Шлейермахера), а в том, чтобы прислушаться к тому, что говорит текст, к тому, что он хочет сказать. Подобная независимость, самодостаточность и объективность текста предполагают концепцию смыела, берущего начало скорее у Гуссерля, чем у Дильтея. Даже если и верно, что текст завершает свой смысл тогда, когда подвергается личностному присвоению, в «историческом» решении — ив этом я вслед за Бультманом, в отличие от всех современных философов, говорящих о дискурсе, лишенном субъекта, абсолютно уверен, — это присвоение остается всего лишь последним этапом, последним порогом, переступить через который необходимо мышлению, изначально питавшемуся другим смыслом. Экзегеза начинается не с экзистенциальной решимости, а с вопроса о «смысле», который, как об этом говорили Фреге и Гуссерль, является моментом объективным и даже «идеальным» (поскольку смысл существует не в реальности как таковой и даже не в психической реальности); в этом случае следует различать два порога понимания: порог «смысла», о котором мы только что говорили, и порог «значения», являющийся моментом овладения смыслом со стороны читателя, его осуществления в существовании. Понимание движется в направлении от идеального смысла к экзистенциальному значению. Теория интерпретации, исходящая непосредственно из решимости, делает слишком уж поспешные выводы. Она перескакивает через момент смысла как объективный этап (последний понимается как не принадлежащий миру). Не может быть экзегезы без того, кто «обладает» смыслом — смыслом, зависящим от текста, а не от его автора.
Вовсе не считая, что объективное и экзистенциальное противоречат друг другу (это имеет место тогда, когда принимают во внимание одно лишь противостояние мифа и керигмы), мы тем не менее должны были бы сказать, что смысл текста тесно связан с этими двумя моментами; именно объективность текста, понимаемая как содержание смысла и его требование, дает начало экзистенциальному движению присвоения смысла. Без такой концепции смысла, без его объективности и, если хотите, идеальности никакой анализ текста невозможен. Необходимо, стало быть, чтобы в герменевтике, стремящейся отдать должное одновременно и объективности смысла, и историчности личного решения, семантический момент, то есть момент объективного смысла, предшествовал экзистенциальному, то есть личному, решению. С этой точки зрения поставленная Бультманом задача прямо противоположна той цели, которую преследуют современные структуралистские теории[266]. Последние держат сторону «языка», Бультман — сторону «слова». Итак, теперь нам необходим такой инструмент мышления, который был бы в состоянии постичь связь языка и слова, преобразование системы в событие. Экзегетика, более чем какая-либо другая дисциплина занятая трактовкой «знаков», нуждается в такого рода инструменте: текст не говорит ни о чем ином, кроме как об объективном смысле; без экзистенциального же присвоения того, что он говорит, невозможно существование живого слова. И задачей теории интерпретации является выражение этих двух моментов понимания как единого процесса.
Отсюда следует и другой вывод: Бультман — не только как экзегет, но и как теолог — требует, чтобы как можно тщательнее была продумана связь смысла текста с экзистенциальной решимостью. На деле один только «идеальный смысл» текста — я не имею в виду его физический или психологический смысл — может сообщить нам о явлении слова (или, если воспользоваться выражением Бульт-мана, об имеющем решающее значение божественном акте, воплотившемся в — Иисусе Христе). Я не утверждаю, что именно этот божественный акт, это слово Божие обретают в объективности смысла свое достаточное основание. Но они обретают в нем необходимое условие своего существования. Для божественного акта объективность смысла, о котором он нас оповещает, является его первичной транс-цен денцией. Сама идея оповещения, провозглашения, ке-ригмы предполагает, смею думать, инициативу, исходящую от смысла, что ставит слово лицом к лицу с экзистенциальной решимостью; если смысл текста не предстоит перед читателем, то можно ли акт, о котором он возвещает, сводить к простому символу внутреннего обращения, перехода от старого человека к человеку новому? Конечно, ничто не побуждает нас утверждать, будто для самого Бульт-мана Бог был всегда лишь другим названием подлинного существования; как представляется, ничто у Бультмана не говорит в пользу некоего «христианского атеизма», где Христос лишь символ существования, посвященного другому существованию; для Бультмана, как и для Лютера, вера в качестве обоснования связана с Другим, отличным от меня, дающим мне то, что начинает распоряжаться мною; в противном случае подлинность вновь станет «делом», благодаря которому я один смогу распоряжаться своим существованием.
То, что «распоряжается» человеком, приходит к нему, а не исходит из него.
Само намерение Бультмана не вызывает сомнений, чего нельзя сказать о средствах, с помощью которых можно было бы мыслить этот другой источник. Не грозит ли его предприятие обернуться фидеизмом[267], если отсутствует смысл, который, предстоя передо мной, мог бы заявлять о своем другом источнике? Здесь гуссерлевской теории смысла явно недостаточно; требование (Anspruch), содержащееся в слове Божием и адресованное нашему существованию,[251] если его надлежит осмысливать, предполагает не только то, что смысл текста конституирован как предстоящий перед моим существованием, но и то, что само слово принадлежит бытию, адресованному моему существованию. Таков вытекающий отсюда вывод о слове и о требовании, предъявляемом к слову бытием; такова онтология языка, если выражение «слово Божие» воспринимать трезво, или, как говорит Бультман, если оно имеет немифологическое значение. Однако последнее еще предстоит осмыслить. С этой точки зрения обращение Бультмана к Хайдеггеру не может нас удовлетворить ни в каких отношениях; Бультман возлагает надежду главным образом на хайдеггеровскую философскую антропологию, способную дать ему «надлежащую концептуальность», когда он приступает к анализу библейской антропологии и к толкованию в понятиях человеческого существования космологических и мифологических содержаний Библии. Обращением к Хайдеггеру и к проповедуемому им «пред-пониманию» в принципе, я думаю, не стоит пренебрегать; и то, что говорит Бультман о невозможности беспредпосылочной интерпретации, мне также представляется приемлемым. Я упрекнул бы Бультмана скорее в том, что он не всегда последователен в своей опоре на Хайдеггера и часто выбирает кратчайший путь, когда осмысливает его «экзистенциалы»[268] вместо того, чтобы идти окольной дорогой к вопросу о бытии, без чего такие «экзистенциалы», как удел, проект, покинутость, забота, бытие к смерти и др., выступают лишь в качестве абстракций живого смысла, я бы сказал, в качестве формализованного экзистенциального опыта. Не следует забывать, что и у Хайдеггера экзистенциальное описание совершается по отношению не к человеку, а к месту — «тут-бытию», о котором речь идет в вопрошании о бытии; подобное видение изначально не является антропологическим, гуманистическим, персоналистским. А коль скоро оно не является таковым, то его одного достаточно, чтобы мыслить и обосновывать рассудочные содержания относительно человека и личности и, a fortiori, аналогий, касающихся Бога как личности. Исследование бытия, включенного в то бытие, каковым мы являемся, и делающего нас «тут-бытием», осуществлено Бультманом слишком поспешно. Тяжкий труд мышления ему чужд.
С нелегким трудом мышления, который составляет его экономику, связаны две важные вещи, касающиеся и предпринятого Бультманом анализа.
Прежде всего, в определенном смысле речь идет о подтверждении смерти метафизики, в которой забвению предается вопрос о бытии. Это подтверждение, распространяющееся также на метафизику отношения «Я» — «Ты», сегодня органическим образом связано с движением к «основам самой метафизики». Все, что мы выше говорили о границах и основаниях, размышляя о мифе, имеет определенное отношение к этому движению к основам и связанному с ним кризисом метафизики. Другой момент напряженного осмысления, предложенного Хайдеггером, касается языка и, следовательно, нашего усилия, нацеленного на понимание выражения «слово Божие». Если мы поспешно отворачиваемся от фундаментальной антропологии Хайдеггера и если мы не задаемся вопросом о бытии, с которыми связана эта антропология, то нам не приходит на ум и решение о радикальном пересмотре вопроса о языке, требуемом этой антропологией. Задача теолога непосредственно связана с попыткой «ввести язык в язык», иными словами, ввести язык, на котором мы говорим, в язык, который является говорением о бытии, то есть перейти от бытия к языку.
Я вовсе не утверждаю, что теология должна пройти через Хайдеггера. Я только отмечаю, каким путем она должна идти и до какого порога, если она проходит через Хайдеггера. Это — самая длинная дорога, дорога долготерпения, и здесь противопоказаны поспешность и торопливость. Теолог, идущий этим путем, не должен спешить, задаваясь вопросом о том, является ли хайдеггеровское бытие Богом, о котором говорит Библия. Только временно отвлекаясь от данного вопроса, теолог может надеяться, что в дальнейшем он сумеет по-новому осмыслить то, что называет «божественным актом», «действием Бога в слове Бо-жием». Мыслить «слово Божие» — значит добровольно ступать на путь, который может привести в никуда. Вот что говорит сам Хайдеггер: «Лишь исходя из истины бытия можно помыслить о сути Священного. Лишь исходя из существа Священного можно помыслить существо божественности. Лишь в свете существа божественности можно помыслить то, что должно называться словом «Бог»» («Письмо о гуманизме»).
Все это предстоит осмыслить. Нет коротких путей для соединения нейтральной экзистенциальной антропологии, как ее понимает философия, с экзистенциальной решимостью перед лицом Бога, о которой говорит Библия. Существует лишь один — долгий путь, ведущий к решению вопроса о бытии и принадлежности говорения к бытию. Только на этом пути можно уразуметь следующее: идеальность смысла текста, если ее понимать в духе Гуссерля, все еще остается «метафизической» абстракцией; это, конечно же, необходимая абстракция перед лицом психологических и экзистенциальных редукций, касающихся смысла текста, но она тем не менее всего лишь абстракция, если иметь в виду изначальное требование, какое бытие предъявляет к говорению.
Да, все это еще предстоит осмыслить, и осмыслить не вопреки Бультману, не где-то рядом с его творчеством, и не за его пределами, а как бы поднявшись над ним.
СВОБОДА И НАДЕЖДА
К понятию религиозной свободы можно подходить по-разному и трактовать его на разных уровнях. Что касается меня, я различаю три уровня и три подхода. Можно прежде
всего задаться вопросом о свободе акта веры; в таком случае мы помещаем эту проблему в область по существу своему психологическую или антропологическую; но здесь за верой не признается ее теологическая специфика, она трактуется как род верования, а свобода акта веры предстает частным случаем общей способности выбора, или, как иногда говорят, способности составить мнение.
На втором уровне можно задаться вопросом — в духе политической науки — о правомочности исповедания той или иной конкретной религии; речь не идет лишь о субъективной убежденности, но и о публичном выражении мнения; религиозная свобода в таком случае является частным случаем всеобщего права на обладание мнением, независимо от давления общества. Это право входит составной частью в некое политическое соглашение, благодаря которому право одного субъекта не попирает право другого. В конечном итоге основание такой свободы лежит не в психологической способности выбора, а во взаимном признании свободных волеизъявлений в рамках политически организованного сообщества. В такой политической структуре религия фигурирует как культурная инстанция, как всем известная общественная сила, и требуемая для нее свобода тем законнее, чем менее исключительным явлением выступает религия.
На третьем уровне, на том самом, на какой я намереваюсь подняться, религиозная свобода означает качественное состояние свободы, присущее религиозному феномену как таковому. От этой свободы и рождается герменевтика в той мере, в какой сам религиозный феномен существует лишь в историческом движении интерпретации и перетолкования породившего его слова. Таким образом, я понимаю герменевтику религиозной свободы как выявление значений свободы, сопровождающих выявление лежащего в ее основе слова или, как принято говорить, оглашения керигмы.
Этот третий способ постановки проблемы не исключает двух предшествующих; я намереваюсь показать, что качество свободы, выявленное с помощью провозвестия и интерпретации, резюмирует предшествующие его значения в той мере, в какой оно затрагивает то, что я отныне буду
называть пришествием Дискурса Свободы. Эта способность резюмирования и будет постоянно в центре моего внимания. Действительно, задача философа, как мне представляется, отличается здесь от задачи теолога, и вот в чем: функция библейской теологии состоит в том, чтобы разворачивать керигму в соответствии с собственным понятийным аппаратом; она занята тем, чтобы подвергнуть критике проповедь, одновременно противопоставив ее собственному истоку и соединив в цепочку, обладающую силой означивания, обратив в особый дискурс, соответствующий внутренней связности самой керигмы. Философ, даже если он исповедует христианство, имеет совсем другую задачу; я вовсе не собираюсь утверждать, будто он выносит за скобки то, на что направляет свои мысли, и то, во что верит; в таком случае, как мог бы он философствовать по поводу сущности, сам пребывая в отвлеченном состоянии? Тем более я не могу утверждать, что ему необходимо подчинять свою философию теологии, делать ее служанкой теологии. Между уклонением и капитуляцией есть свой путь, который я обозначил бы как философский подход.
Я беру слово «подход» в самом его приблизительном значении. Под этим словом я понимаю нескончаемую работу философского дискурса, нацеленную на установление непосредственно близкого отношения между керигматиче-ским и теологическим дискурсами. Такая работа начинается с вслушивания и протекает как работа автономного и ответственного мышления. Это — нескончаемое преобразование мышления, однако в пределах обычного разума; «обращение» философа — это обращение на пути к философии и внутри философии, соответствующее ее внутренним требованиям. Если существует только один логос, то логос Христа не требует от меня, философа, ничего другого, как приведения в работу разума — работу более целостную и более совершенную; ничего иного, кроме разума, но разума во всей его целостности. Повторим еще раз: разума во всей его целостности; речь идет о проблеме целостности мышления, которая оказывается узловым моментом любой проблематики.
Вот, стало быть, с чего мы начнем. Прежде всего я хотел бы обозначить то, что я понимаю под керигмой свободы, этой слушательницей Слова. Затем я попытаюсь определить — и это будет главной темой моего сообщения, — какой дискурс о свободе надлежит прояснить философии, и только ей (в отличие от психологии и политики), дискурс, который вместе с тем был бы достоин называться дискурсом о религиозной свободе. Таковым дискурсом будет дискурс религии в рамках обычного разума.
1. КЕРИГМА СВОБОДЫ
Первое, о чем сообщает мне Евангелие, вовсе не является свободой; оно говорит мне о свободе лишь потому, что говорит о чем-то совсем другом: «истина сделает вас свободными» — вот слова Иоанна.
Из чего же тогда, если не из свободы, следует исходить? Я был в высшей степени удивлен, можно сказать, поражен эсхатологической интерпретацией Юргена Мольт-мана[269] христианской керигмы, содержащейся в его труде «Теология надежды». Известно, что Йоханнес Вайс и Альберт Швейцер[270] стоят у истоков перетолкования Нового Завета, исходящего из учения о Царстве Божием и представлении о конечных временах и порывающего с учением либеральных экзегетов о Христе-моралисте. Однако если первоначальные сведения об Иисусе и Церкви берут начало в эсхатологических представлениях, то следует привести всю теологию в соответствие с эсхатологической нормой и перестать делать из дискурса о конечных временах нечто вроде более или менее необязательного приложения к теологии Откровения, руководствующейся понятиями логоса и богоявления, которые никак не связаны с надеждой на грядущие времена.
Такой пересмотр теологических понятий, опирающийся на толкование Нового Завета и нацеленный на проповедь грядущего Царства Божия, подкрепляется одновременным пересмотром теологии Ветхого Завета, предпринятым Мартином Бубером[271], который настаивает на существовании принципиального расхождения между Богом — носителем обетования — Богом-пустынножителем, Богом-странником — и богами «эпифанических» религий. Приведенное в систему, это противопоставление заводит нас
слишком далеко. Религия «имени» противопоставляется религии «идола», как религия Бога, который приидет, религии Бога, который существует уже сегодня. Первая дает начало истории, вторая освящает природу, наполненную богами. Что касается истории, то она является скорее напряженным ожиданием завершения, нежели опытом изменения всего на свете; история сама становится надеждой на историю, поскольку каждое свершение воспринимается как подтверждение, как залог обетования и его подкрепление; последнее предполагает прирост, «шаг вперед», поддерживающие ход истории*.
Именно это временное конституирование «обетования» должно отныне сопровождать нас в интерпретации Нового Завета. На первый взгляд можно предположить, будто воскресение, составляющее ядро христианской керигмы, исчерпывает значение категории обетования и подменяет его.
* Я рассмотрел экзегетические толкования Ветхого Завета только с точки зрения обетования, которое порождает историческое видение. В этой общей схеме обетования следовало бы отличать профетию и ее внеистори-ческую надежду от следующих за ней эсхатологических представлений, и в частности, от собственно апокалипсических представлений, которые выходят за пределы конечной истории, то есть за пределы любого спасения и любого ожидания. Но даже если эти различия и противопоставления — в частности, между мирскими и трансцендентными эсхатологиями — и являются существенными для теологии Ветхого Завета, то с точки зрения имплицитного философского смысла они не так уж и важны: речь идет о структуре горизонта самой истории. Горизонт — это одновременно то, что ограничивает ожидание, и то, что перемещается вместе с путешественником. Для воображения различие между надеждой в рамках истории и надеждой, выводящей за пределы истории, фундаментально. Ведь не случайно Герхард фон Рад в «Теологии традиций» предлагает провести четкое разграничение между профетией и эсхатологией. Послания пророков следует считать эсхатологическими, коль скоро они рассматривают древние исторические основы спасения в качестве недействительных, пустых. Мы не будем, однако, называть эсхатологическими какие бы то ни было проявления веры в будущее, даже если речь идет о будущем священных институтов; профетическое сознание может называться эсхатологическим, если только пророки не видят в Израиле гаранта безопасности, связанного с древнейшими спасительными действиями, и сразу же начинают говорить о спасении, основанном на будущих действиях Бога (Von Rad G. Théologie des Alten Testaments. S. 118). Это противопоставление еще не носит окончательного характера, поскольку признанные новыми освободительные акты все еще представляются по аналогии с прежними спасительными действиями: новая Земля, новый Давид, новый Синай, новый исход, новый союз.
Что мне кажется наиболее интересным в христологии Мольтмана, так это его твердое намерение рассматривать центральную проповедь о воскресении в эсхатологической перспективе. Этот момент является существеннейшим для всего того, что мы сейчас могли бы говорить о соотношении свободы и надежды. Воскресение, как можно было бы предположить, является по сути своей событием прошлого. Здесь на ум приходит гегелевская интерпретация пустой гробницы как хранительницы тоски по родине. А мы хотели бы перевести воскресение в категорию настоящего, соотнеся его с нами самими, с новым человеком, как это характерно для экзистенциальной интерпретации, принадлежащей Рудольфу Бультману.
Так как же интерпретировать воскресение в терминах надежды, обетования, будущего? Мольтман пытается делать это в рамках иудейской теологии обетования и вне эллинистических схем, говорящих о богоявленности вечности. Воскресение, интерпретированное в рамках теологии обетования, не является событием, ограничивающим и заменяющим собой предсказание; оно — событие открывающее, поскольку усиливает обетование и подтверждает его. Воскресение — это знак того, что отныне обетование относится ко всем; смысл воскресения в его будущем, оно — смерть, попранная смертью, воскресение всех умерших. Заявляющий о себе Бог не тот, кто есть, а тот, кто при-идет. «Уже» его воскресения заостряет вопрос о «еще не», относящийся к конечному суждению о нем. Однако мы часто маскируем этот смысл с помощью греческих христо-логических учений, превративших Воплощение во временное проявление вечного бытия, в его вечное настоящее, утаивая тем самым принципиально важное значение, заключающееся в том, что Бог обетования, Бог Авраама, Исаака и Иова стал единым Богом и явил себя как Тот, кто при-идет для всех. Замаскированное с помощью эпифаниче-ской религии воскресение превратилось в свидетельство всеприсутствия — культового или мистического — божественного в наличном мире; задача герменевтики воскресения заключается в восстановлении потенциала надежды, в провозглашении того, что воскресение принадлежит будущему. Значение «воскресения» остается в подвешенном состоянии, если оно не переходит в новое творение, в
новую тотальность бытия. Познать воскресение Иисуса Христа значит приобщиться к надежде на воскресение мертвых, значит ожидать нового творения ex nihilo[272], то есть творения по ту сторону смерти.
Если таков смысл надежды, трактуемой на уровне ее собственного дискурса, то есть в соответствии с герменевтикой воскресения, то каков в этом случае смысл свободы, коль скоро она также должна быть сопряжена с надеждой? Что такое свобода в ее соотнесении с надеждой? Я отвечу на этот вопрос кратко: это — смысл моего существования, взятого в свете воскресения, то есть вовлеченного в движение, которое мы назвали будущим воскресением Христа. В этом смысле герменевтика религиозной свободы является интерпретацией свободы, соответствующей интерпретации воскресения в терминах обетования и надежды.
Что это значит?
Приведенная нами формулировка не означает, что здесь отсутствуют психологические, этические либо политические аспекты, но они не являются подлинными, поскольку не являются первичными. Герменевтика заключается в том, чтобы расшифровать первичные черты в их психоло^ гическом, этическом и политическом выражении, затем подняться от этих выражений к сути (которую я назвал бы керигматической) свободы в ее соотнесенности с надеждой.
Действительно, мы можем говорить о выборе между жизнью и смертью, об этой радикальной альтернативе, в психологических терминах; во Второзаконии, например, мы находим тексты, которые заставляют нас задуматься о философском содержании свободы выбора: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему» (Втор. 30, 19–20). Предсказание Иоанна Крестителя, и еще с большим основанием предсказание Иисуса — это призыв, ведущий к решимости, и решимость эта предполагает альтернативу: или — или. Известно, какое распространение получила тема экзистенциальной решимости у мыслителей, начиная с Кьеркегора и кончая Бультманом. Но экзистенци-
альная интерпретация Библии не слишком подчеркивала специфику этого выбора; может быть, она свидетельствовала даже об отступлении от эсхатологического измерения и о возвращении в философию вечного настоящего. Во всяком случае, существует большой риск свести богатое содержание эсхатологии к своего рода мгновенному решению, к утрате временных, исторических, общностных, космических содержаний, когда речь идет о надежде на воскресение. Если мы хотим выразить с помощью соответствующих психологических терминов свободу в ее соотнесенности с надеждой, то нам придется — вместе с Кьерке-гором — говорить о жажде возможного, удерживающей в своей формулировке указание на будущее, которым обетование метит свободу. На деле, размышляя о свободе, следует извлечь все следствия, вытекающие из мольтманов-ского противопоставления религии обетования и религии настоящего, и продолжить спор с теофаническими религиями Востока, равно как и с эллинизмом, поскольку последний исходит из парменидовского восхваления «ОН ЕСТЬ». Не только Имя следует противопоставить идолу; «Он приидет» Писания необходимо противопоставить «ОН ЕСТЬ», провозглашаемому в поэме Парменида[273]. Эта демаркационная линия будет теперь разделять две концепции времени и, соответственно, две концепции свободы. Пар-менидовское «ОН ЕСТЬ» на деле апеллирует к этике вечного настоящего; последняя же держится исключительно на неразрешимом противоречии между, с одной стороны, отречением, отказом от преходящих вещей и дистанцированием, отделением от вечности и, с другой стороны, согласием со всеобщим порядком. Стоицизм, несомненно, является совершеннейшим выражением этой этики настоящего; настоящее с точки зрения стоицизма является единственным временем призвания; прошлое и будущее одинаково лишены доверия; надежда, как и опасение, страх, как тревога, проистекающая из неустойчивого мнения относительно неминуемости зла или неизбежности добра, была отброшена одним махом. Necspe — necmetu[274], скажет впоследствии спинозистская мудрость. И может быть, сегодня именно спинозистские идеи, сохраняющиеся в современной философии, ведут нас к этой мудрости настоящего вопреки сомнению, разочарованию, развенчанию мифов и иллюзий.
Ницше требовал любви к судьбе и постоянно говорил «да» существованию; Фрейд возвел в принцип реальности трагическую Ананке. Ну и что ж! Надежда как жажда возможного диаметрально противоположна подобному приоритету необходимости. Она тесно связана с воображением, поскольку воображение есть опора возможного и в его распоряжении находится радикально новое бытие. Свобода, в ее соотнесенности с надеждой, выраженная в психологических терминах, есть не что иное, как творческое воображение возможного.
Но о свободе можно говорить и. в этических терминах, подчеркивая ее характер некоего послушания, подчинения. Это — свобода «идти за…» (Folgen). В древнем Израиле Закон был путем, ведущим от обетования к свершению. Союз, Закон, Свобода, понимаемые как способность повиноваться или не повиноваться, были различными аспектами, вытекающими из обетования. Закон вменяет в обязанность (gebietet) то, что обетование предлагает добровольно (bietet). Заповедь есть, таким образом, этический облик обетования. Разумеется, благодаря св. Павлу повиновение не было выражено в терминах закона; повиновение закону было уже не признаком осуществимости обетования, а признаком воскресения.
Тем не менее новая этика отмечена связью свободы с надеждой — это то, что Мольтман называет этикой послания (Sendung); promissio включает в себя missio[276]; в послании обязательство, которое содержит в себе настоящее, проистекает из обетования, открывая будущее. Но, если говорить точнее, послание означает нечто другое, нежели этика обязательства; точно так же жажда возможного означает нечто другое, нежели посредничество. Практическое познание «миссии» неотделимо от расшифровки знаков нового творения, тенденциозного характера воскресения, как говорит Мольтман.
Такова этика, свойственная надежде: послание как жажда возможного является ее психологическим эквивалентом.
Эта вторая черта свободы в ее соотнесенности с надеждой еще больше, чем первая, удаляет нас от экзистенциальной интерпретации, которая слишком связана с решимостью в настоящем; этика послания содержит в себе компоненты общностные, политические и даже космические, которые экзистенциальная решимость, связанная с личностной интериорностью, стремится замаскировать. Свобода, открытая творчеству нового, на деле менее связана с субъективностью, с личной подлинностью, чем с социальной и политической справедливостью; она зовет к примирению, которое само стремится распространиться на все вокруг.
Но эти два аспекта (психологический и этико-полити-ческий) свободы в ее соотнесенности с надеждой — вторичные выражения смыслового ядра, которое, собственно говоря, является керигматическим центром свободы; именно к нему мы и попытаемся теперь подойти с точки зрения философской.
Я скажу следующее: «христианская свобода» — это выражение принадлежит Лютеру — означает экзистенциальную принадлежность порядку воскресения. Таков ее специфический аспект. Он может выражаться с помощью двух слов, о которых я неоднократно размышлял, беря их на вооружение, и которые недвусмысленно связывают свободу с надеждой; слова эти — «вопреки…» и «сверх того…». Они противоположны друг другу так же, как противоположны у Лютера «свобода от…» и «свобода для…».
«Вопреки…» — это «свобода от…», если иметь в виду надежду; «сверх того…» — это «свобода для…», но также в ее связи с надеждой.
Вопреки чему? Если воскресение — это воскресение из мертвых, то любая надежда и любая свобода существуют вопреки смерти. Именно здесь наблюдается зияние, в результате чего творчество нового обнаруживает себя как creatio ex nihilo[276]. Это зияние приоткрывает такие глубины, что вопрос об идентичности воскресшего Христа и распятого Иисуса становится важнейшей проблемой Нового Завета. Эта идентичность не доказана; ее подтверждают не явления, а одни только слова Воскресшего: «Это я». Ке-ригма возвещает об этом как о доброй вести: «Господь, живущий в церкви, это и есть Иисус на кресте». Тот же вопрос об идентичности звучит и у синоптиков[277]: каким образом рассказать о воскресении? Увы, о нем не рассказывают; скачок в повествовании такой же, что и в проповеди; в повествовании также существует разрыв между крестом и явлениями Воскресшего: пустая гробница свидетельствует об этом разрыве.
Что все это значит для свободы? Всякая надежда отныне будет отмечена знаком прерывности между тем, что погибает, и тем, что отвергает смерть. Именно поэтому надежда противоречит актуальности, настоящему моменту. Надежда как надежда на воскресение является живым противоречием тому, из чего сама проистекает, тому, что существует под знаком креста и смерти. Согласно замечательному выражению реформаторов, Царство Божие сокрыто в том, что противоположно ему, Б кресте. Если связь между крестом и воскресением носит парадоксальный характер и не поддается логическому опосредованию, то свобода в ее соотнесенности с надеждой является уже не только не свободой возможного, но — еще в большей степени — свободой отрицания смерти, свободой расшифровки знаков воскресения в противоположном ему явлении смерти.
Но вызов смерти, в свою очередь, это оборотная сторона жажды жизни, перспективы возрастания, что стремится выразить св. Павел в своем «преизбыточествует». Я присоединю сюда мои предыдущие рассуждения об интерпретации мифа о наказании; тогда я противопоставлял логике равнозначности, которая, по существу, является логикой наказания, логику избыточности: «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбы-точествует для многих… Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа… Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать…» (Рим. 5, 15; 17; 20). Логика избыточности, излишества есть вместе с тем и безрассудство распятия, и мудрость воскресения. Эта мудрость выражается в порядке избыточности, которую следует распознать в повседневной жизни, в труде и досуге, в политике и во всеобщей истории. Быть свободным значит ощущать себя и познавать себя принадлежащим этому порядку, быть в нем, как «у себя дома». «Вопреки…», благодаря которому мы всегда готовы изобличать, это всего лишь оборотная сторона, изнанка светоносного «преизбыточествует», позволяющего свободе ощущать и познавать себя, вступать в союз с творческим вдохновением, свойственным искуплению.
Эта третья черта еще более углубляет расхождение между эсхатологической и экзистенциальной интерпретациями свободы; экзистенциальная интерпретация суживает последнюю до внутренне субъективного опыта решимости. Свобода в ее соотнесенности с надеждой на воскресение, конечно, имеет личностное содержание, но, сверх того, еще и общностное, историческое и политическое содержание, поскольку живет ожиданием универсального воскресения.
Таково керигматическое ядро надежды и свободы, которое теперь надлежит отыскать с помощью философской аргументации.
2. ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К СВОБОДЕ В ЕЕ СООТНЕСЕННОСТИ С НАДЕЖДОЙ
Касаясь собственно философской задачи, я хотел бы напомнить то, что говорил во введении относительно философского подхода при изучении дискурса керигмы надежды. Такой подход, как я отмечал, является одновременно послушанием и самостоятельным выбором, мышлением «в соответствии с…» и свободным мышлением.
Как это возможно?
Мне представляется, что в керигме надежды содержатся одновременно требование обновления смысла и требование интеллигибельности, что очерчивает границы подхода и определяет его задачи.
Мольтман подчеркивает обновление смысла, противопоставляя обетование греческому логосу; надежда рождается как «а-логический» феномен. Она свидетельствует о том, что привычный порядок дает трещину и начинается движение существования и истории. Жажда возможного, начало пути и исход, отвержение реальной смерти, ответ
избыточностью смысла на море разливанное того, что не имеет смысла, — таковы знаки творчества, новизна которого прямо-таки берет нас врасплох. Бьющая ключом надежда «апоретична» не потому, что ей недостает смысла, а потому, что в ней его избыточно много. Воскресение поражает нас своей сверхизбыточностью по отношению к покинутой Богом реальности.
Однако если бы новизна не заставляла нас мыслить, надежда, как и вера, была бы лишь криком, яркой вспышкой молнии, за которой так и не последовало удара грома; сама эсхатология как учение о последних временах не существовала бы, если бы новизна нового не прояснялась в бесконечном обдумывании знаков, не верифицировалась в «содержании» интерпретации, которая постоянно отделяет надежду от утопии. К тому же истолкование надежды с помощью свободы, которое мы только лишь описали, уже являет собой способ мышления, опирающегося на надежду. В интерпретации, в расшифровке, где только они возможны, жажда возможного должна витать над реальностью и ее тенденциями, приключение — звать за пределы совершающейся на наших глазах истории, избыточность — брать верх над обновлением. Необходимо также, чтобы воскресение обнаруживало собственную логику, которая разбивала бы в пух и прах логику повторения.
Однако мы не можем, вопреки диалектике, противопоставлять обетование греческому логосу; мы не должны этого делать, поскольку в противном случае мы не сможем сказать вместе с теологом: spero ut intelligam[278].
О каком рассудке идет речь?
В конце Введения я указал на возможное направление исследования, говоря, что дискурсом философа относительно свободы, который сближался бы с керигмой, соответствовал бы ей, является дискурс религии, существующей в пределах обычного разума.
Конечно, в этой фразе слышится Кант; она «заявляет об оттенке». Но кантианство, которое я теперь намереваюсь обсуждать, обладает таким свойством, что его невозможно просто повторить; это что-то вроде постгегелевского кантианства, если воспользоваться выражением Эрика Вей-ля[279], которое, кстати, можно применить и к его собственной позиции.
Я отдаю себе отчет в том, что речь идет о парадоксе, имеющем одновременно философское и теологическое содержание.
Сначала рассмотрим философские доводы: хронологически Гегель идет вслед за Кантом; но мы, запоздалые читатели, рассматриваем их вместе, одного рядом с другим; что-то существующее в нас от Гегеля берет верх над тем, что мы взяли у Канта; но и Кант в чем-то превосходит Гегеля, поскольку мы в той же мере постгегельянцы, что и посткантианцы. Я думаю, что такое взаимодействие, взаимопереплетение все еще структурирует современный философский дискурс. Вот почему нашей задачей является мыслить их все время вместе, противопоставляя одного другому и изучая одного через другого; даже если мы начнем мыслить иначе, все равно «мыслить Канта и Гегеля лучшим образом» будет означать «мыслить иначе, чем мыслили Кант и Гегель».
Эти «эпохальные» философские рассуждения соединяются с другим способом рефлексии, касающейся того, что я назвал приближением, обнаружением близости. Соседство с керигматическим мышлением ведет, как мне кажется, к появлению «смысловой деятельности» на уровне самого философского дискурса, которая зачастую выступает в качестве силы, дробящей и преобразующей системы. Тема надежды, в самом деле, обладает разрушительным свойством по отношению к закрытым системам и выступает реорганизующей силой по отношению к смыслу; по этой причине ей свойственны превращения и перемещения, о которых я только что говорил.
Мне представляется, что спонтанное переструктурирование нашей философской памяти, связанное с шоком, вызванным возвратом керигмы надежды в область философских идей и в структуры их дискурса, лежит в русле постгегелевского кантианства. Путь, который я предлагаю использовать, намечен значительнейшим разделением в кан-товской философии между рассудком и разумом. Это разделение несет в себе возможность смысла, соответствие которого intellectus fidei el spei[280] я намереваюсь показать. Каким образом? По существу, с помощью функции горизонта, которую разум вовлекает в конституирование познания и воли. Это означает, что я непосредственно следую диалектике, пронизывающей обе кантовские «Критики»: диалектике теоретического разума и диалектике практического разума. Философия границ, являющаяся в то же время практическим требованием тотализации, — таков, я думаю, философский вывод, следующий из керигмы надежды, и самый общий философский подход к проблеме свободы в ее соотнесенности с надеждой. Диалектика в кантовском смысле — а это, как я считаю, составная часть кантианства, — не только сохраняется в гегелевской критике, но и празднует победу над гегельянством в целом.
Я без сожаления оставляю в стороне гегелевскую критику этики долженствования; как мне представляется, она определялась самим Гегелем как абстрактное мышление, как мышление о разумении. Исходя из «Энциклопедий» и «Философии права», я без колебаний признаю, что формальная духовность всего лишь отрезок на более долгом пути — пути реализации свободы*. Определенная в этих — скорее гегелевских, нежели кантовских — терминах, философия воли не начинается и не завершается идеей долженствования; она начинается с противопоставления одной воли другой, имея в виду вещи, которые могут быть присвоены; ее первое завоевание не долженствование, а контракт, короче говоря, абстрактное право. Момент духовности — это всего лишь рефлексивный момент, момент интериорности, ведущий к нравственной субъективности. Однако смысл этой субъективности заключается не в абстрагировании от той или иной отдельной формы, а в конституировании конкретных сообществ: семьи, экономического коллектива, политического сообщества. В «Энциклопедии» и «Философии права» мы наблюдаем движение абстрактного права к субъективной и абстрактной нравственности, а затем — к нравственности объективной и конкретной. Такая философия воли, пронизывающая все уровни: объективации, универсализации и реализации, — является в моих глазах вполне определенной философией воли, более достойной своего названия, чем тощее кантов-ское определение Wille через императивную форму. Ее значение заключается в том, что она изучает и разрешает большое количество разнообразных проблем: связь желания и
* Hegel. Principes de la philosophie du droit. Préface, § 4.
культуры, психологического и политического, субъективного и всеобщего. Все философии воли, от Аристотеля до Канта, усвоены и обобщены ею. Эта грандиозная философия воли является для меня неисчерпаемым источником раздумий и уточнений. Мы не использовали еще всех ее возможностей. Теология надежды не может не встуйить с ней в диалог, поскольку ей чрезвычайно близка проблема осуществления свободы.
И тем не менее значение Канта сохраняется; более того, в некоторых отношениях Кант стоит выше Гегеля, если иметь в виду точку зрения, существенную для нашего диалога между теологией надежды и философией разума. Обвиняемый мною Гегель является ретроспективным философом, который, изучая диалектику духа, всю рациональность последнего растворяет в уже достигнутом смысле. Расхождение между intellectus fidei et spei и Гегелем мне представляется очевидным, когда я перечитываю известный текст, завершающий Предисловие к «Философии права»: «Что же касается поучения, каким мир должен быть, то к сказанному выше можно добавить, что для этого философия всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь после того, как действительность закончила процесс своего формирования и достигла своего завершения. То, чему нас учит понятие, необходимо показывает и история, — что лишь в пору зрелости действительности идеальное выступает наряду с реальным и строит для себя в образе интеллектуального царства тот же мир, постигнутый в своей субстанции. Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек».
«Философия всегда приходит слишком поздно»; что касается философии, то так оно и есть. А как обстоит дело с разумом?
Именно этот вопрос ведет меня от Гегеля к Канту, к тому Канту, который не погряз в своей императивной этике, но который, в свою очередь, несет в себе идеи Гегеля. Я уже говорил об этом: это — Кант-диалектик, Кант — автор двух Диалектик.
И та и другая диалектика завершают одно и то же движение, углубляют один и тот же разрыв, создавая напряженность, делающую из кантианства философию границ, а не философию систем. Этот разрыв можно видеть, начиная с первого и решительного различения между Denken, то есть необусловленным мышлением, и Erkennen, то есть мышлением с помощью объектов, идущих от одной обусловленности к другой. Обе Диалектики выражают этот изначальный разрыв между Denken и Erkennen; так рождается вопрос, приводящий в движение философию религии: на что я могу надеяться? Теперь следует заняться изучением следующей последовательности: Диалектика чистого разума — Диалектика практического разума — Философия религии.
Первая из этих диалектик необходима для двух последующих, поскольку она, даже если речь идет о необусловленном мышлении, требует критики трансцендентальной иллюзии, критики, неотделимой от intellectus spei. Область надежды в точном смысле слова коэкстенсивна области трансцендентальной иллюзии.
Я надеюсь, что заблуждаюсь, когда образую абсолютные объекты: «Я», свобода, Бог. В этом отношении было бы недостаточно просто подчеркнуть, что критика паралогизма субъективности столь же важна, что и критика антиномии свободы и, разумеется, критика доказательств бытия Бо-жия. Ложные заключения относительно субстанциальности «Я» обретают сегодня особое значение, когда речь заходит о ницшевской и фрейдовской критике субъекта; было бы небесполезно в поисках корней этой критики и ее философского значения обратиться к кантовской диалектике; последняя с самого начала осудила любую попытку догматизировать личностное существование, личность; личность выявляется в практическом акте, в ее понимании себя как цели, а не только как средства. Кантовское понятие трансцендентальной иллюзии, примененное главным образом к религиозному объекту, обладает неисчерпаемым философским значением; оно лежит в основе критики, радикально отличной от той, что вели Фейербах или Ницше: трансцендентальная иллюзия возможна только потому, что на законных правах существует необусловленное мышление; трансцендентальная иллюзия возникает не благодаря про-
екции человеческого в божественную сферу, а благодаря избыточности мышления о необусловленном, существующем на тех же правах, что и эмпирический объект; именно поэтому Кант мог утверждать: не опыт ограничивает разум, а разум ограничивает претензию чувств распространить наше познание — эмпирическое, феноменальное, пространственно-временное — на ноуменальную сферу.
Такое движение (необусловленное мышление — трансцендентальная иллюзия — критика абсолютных объектов) существенно для постижения надежды. Оно является условием, в рамках которого могут быть предприняты описание и критика постгегелевского периода; благодаря этому демаршу кантовская философия обогащает свои ресурсы; но если кантовское учение о трансцендентальной иллюзии берет на вооружение атеизм, оно лишается другой своей иллюзии — антропологической.
Что нового дает нам Диалектика практического разума? Главным образом возможность перенести на волю то, что можно было бы назвать конечной структурой чистого разума. Этот второй этап непосредственно соотносится с нашими рассуждениями о смысле надежды. В самом деле, Диалектика практического разума ничего не прибавляет к принципу моральности, предположительно определяемому через формальный императив; она тем более ничего не прибавляет к познанию нашего долга, как и Диалектика чистого разума ничего не прибавляет к познанию мира. Нашей же воле она, по существу, сообщает намерение — die Absicht aufs höchste Gut[281]. Это намерение является выражением долженствования, потребности, требования (Verlangen), образующих чистый разум в его спекулятивном и практическом применении; разум «требует абсолютной целостности условий для данной обусловленности» (начало Диалектики в Критике практического разума). Тем самым философия воли обретает свое подлинное значение: она не ограничивается более отношением максимы к закону и произвольного к волевому; здесь возникает третье измерение: непроизвольное — закономерность — устремленность к тотальности. То, что таким образом требует воля, Кант называет «целостным объектом чистого практического разума». Еще он говорит так: «…безусловная целостность предмета чистого практического разума, то есть чистой воли»;
употребляемое им в данном случае старое наименование «суверенное благо» не может скрыть от нас новизны его подхода: понятие «суверенное благо» очищено от всяческих спекуляций благодаря критике трансцендентальной иллюзии и в то же время полностью определяется проблематикой практического разума, то есть волей. Именно с помощью этого понятия мыслится свершение воли. В нем находит свое место гегелевское абсолютное знание. В нем, как станет ясно в последующем, речь идет не о знании, а о требовании чего-то такого, что имеет отношение к надежде. Это уже предчувствовалось благодаря той роли, какую играет идея тотальности; суверенное означает не только нечто высшее (автономное), но и целостное, завершенное (ganz und vollendete). Стало быть, эта тотальность не дана изначально, но выступает в качестве неотложного требования; она и не может быть дана изначально — не только потому, что ее постоянно преследует критика трансцендентальной иллюзии, но и потому, что практический разум, подверженный собственной диалектике, образует новую антиномию; то, что он на деле требует, так это союза с нравственностью счастья; таким образом, он требует, чтобы к объекту — в целях обретения им целостности — присоединилось видение разума, но разум именно это, чтобы быть чистым, исключил из своего принципа.
Вот почему его преследует новая иллюзия — не теоретическая, а практическая иллюзия, свойственная утонченному гедонизму, которая под предлогом достижения счастья вводит в моральность интерес. В этой идее анти-номичности практического разума я вижу еще одну, вторую, структуру, соответствующую критике религии, более применимую к ее импульсным аспектам, как об этом писал Фрейд; Кант дал нам средство для понимания критики «гедонизма» в религии (компенсация, утешение), сконцентрированное в диалектике, в которой сталкиваются удовольствие, наслаждение, удовлетворение, довольство, блаженство. Теперь связь — Zusammenhang — нравственности и счастья должна оставаться трансцендентным синтезом, единством разнообразных, «специфически отличных» друг от друга вещей. Таким образом, философский подход к смыслу Блаженства осуществляется исключительно с помощью идеи о неаналитической связи между
человеческим творчеством и удовлетворением, способным исполнять желание, конституировать существование человека. Для философа такая связь не является бессмысленной, даже если она не может быть образована в соответствии с его волей; он даже может высокомерно изречь: «я priori (морально) необходимо создавать высшее благо через свободу воли, следовательно, и условие возможности его должно быть основано исключительно на принципах априорного познания»*.
Таков второй рациональный подход к проблеме надежды: он состоит в Zusammenhang, в необходимой связи между нравственностью и счастьем; связь эта не дана изначально, просто-напросто ее испрашивают, ее ждут. Ничто не говорит в пользу трансцендентного характера данной связи, как это имеет место у Канта, — это идет в разрез с греческой философией, которую он лоб в лоб сталкивает с эпикуреизмом и стоицизмом: счастье не является делом наших рук, оно надстраивается над ним, завершая его.
Третий рациональный подход к проблеме надежды — это подход самой религии, взятой в границах обычного разума. Кант недвусмысленно сближается с религией, задавая свой вопрос: «На что я могу надеяться?» Я не знаю иного философа, который определял бы религию исключительно через этот вопрос. Этот вопрос рождается одновременно внутри критики и за ее пределами.
Внутри критики — благодаря известным «постулатам»; вне критики — благодаря нацеленности рефлексии на радикальное зло. Проанализируем это новое отношение. Оно до такой степени непроизвольно, что одно только включает в себя конечное указание на свободу в ее соотнесенности с надеждой — указание, на котором, по существу, и строится наше рассуждение в первой его части.
Прежде всего рассмотрим постулаты. Они, как известно, представляют собой верования теоретического характера, предметом которых являются существования и которые с необходимостью зависят от практического разума. Это положение могло бы показаться неприемлемым, если бы мы предварительно не сказали то же самое относительно практического разума, его диалектики. Теоретический
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique. Tr. fï. P. 122.
разум как таковой — это постулирование завершенности, целостного осуществления. Постулаты, стало быть, участвуют в процессе тотализации, они приводятся в движение волей с ее конечными требованиями; они свидетельствуют о будущем порядке вещей, к которому мы сумеем приспособиться; каждый из них означает один момент образования, или, лучше сказать, утверждения этой тотальности, которой как таковой предстоит осуществиться. Мы не поймем подлинной природы этого процесса, если будем видеть в нем скрытое возвращение к трансцендентным объектам, иллюзорный характер которых был изобличен в «Критике чистого разума»; постулаты, разумеется, являются теоретическими детерминациями; они, однако, соответствуют практическому постулированию, которое в качестве требования тотальности конституирует чистый разум; само слово «постулат» не должно вводить в заблуждение; оно выражает — в собственно эпистемологическом плане (и на, языке модальности) — «гипотетический» характер экзистенциальной веры, сопряженной с требованием завершенности, тотальности, образующим практический разум в его сущностной чистоте. При таком понимании соответствующие постулаты гарантируются от возврата к «фанатизму» и «религиозному безумию» (Schwärmerei) путем критики трансцендентальной иллюзии; последняя по отношению к ним играет ту же роль, что в сфере умозрения играет «смерть Бога». Постулаты по-своему говорят о Боге, «воскресшем из мертвых». Но они действуют так, как функционирует религия в пределах только разума, они свидетельствуют о минимальных экзистенциальных вкраплениях в практическую цель, Absicht, которая не может превратиться в интеллектуальную интуицию. Выражаемые ими «расширение» (Erweiterung), «возрастание» (Zuwachs) относятся не к знанию и познанию, а к «открытости» (Eröffnung)*; эта открытость является философским эквивалентом надежды. Такой свойственный «постулатам» характер выявляется, если их рассматривать, опираясь на идею свободы, а не на идею имморальности или идею бытия Божия. Свобода действительно является подлинной опорой учения о постулатах; две другие идеи лишь некоторым образом до-
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 144.
полняют или поясняют его. Можно только удивляться тому, что свобода постулируется с помощью диалектики, в то время как она уже предполагалась идеей долженствования и была сформулирована в качестве самостоятельной проблемы в рамках Аналитики Практического разума. Но постулируемая таким образом свобода — совсем не то же самое, что свобода, доказанная аналитически с помощью долженствования. Постулируемая свобода — это свобода, которую мы здесь исследуем; она теснейшим образом связана с надеждой, как мы вскоре увидим. Что говорит Кант о свободе как объекте постулата практического разума? Он называет ее «положительно рассмотренной свободой»* (как причину некоего существа, принадлежащего к умопостигаемому миру). Для свободы, постулируемой таким образом, характерны две особенности. Прежде всего это действенность свободы, это свобода, которая «может», свобода, соответствующая «совершенному желанию разумного бытия, которое в то же время обладает всемогуществом». Свобода, которая может стать доброй волей. Но эта же свобода обладает «объективной реальностью»; в то время как теоретический разум обладает лишь идеей свободы, практический разум постулирует ее существование как реальной причинности. Мы сейчас же увидим, каким образом в этой точке проблема зла буквально обретает реальную эффективность. Более того, это — свобода, принадлежащая к… являющаяся членом… участником… Мы не ошибемся, если сблизим этот второй аспект постулируемой свободы с третьим ее аспектом, который в «Основоположениях метафизики нравов» формулируется в качестве категорического императива, говоря о «возможном господстве целей». Кант отмечал, что эта формулировка, принадлежащая третьему уровню, венчает последовательное шествие мышления, идущего от основополагающего единства, то есть единого закона универсализации, к плюрализму своих объектов, то есть к личностям, признанным в качестве цели, — и выходящего «за пределы этого, к тотальной, или интегрированной, системе»**. Как раз способность существовать, принадлежащая системе свобод, и постулируется в данном слу-
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 142. ** Ibid. P. 164.
чае; благодаря этому конкретизируется «перспектива» (Aussicht)9 провозглашенная в начале Диалектики, перспектива, говорящая о «высшем и неизменном порядке вещей», при котором «мы находимся уже теперь, а определенные предписания могут нам указать, как продолжать при нем наше существование сообразно с высшим назначением разума»*.
Если говорить по большому счету, то именно к этому мы и стремимся; однако в качестве постулата может выступать только то, на что мы способны, поскольку мы этого хотим и существуем в соответствии с этим высшим желанием. Постулированная свобода есть способ свободного существования в условиях свободы.
Именно о том, что такая постулированная свобода является свободой, соотнесенной с надеждой, и свидетельствуют, как мне представляется, два других постулата, которые включают в себя первый постулат (этот вывод следует из порядка трех частей Диалектики чистого разума: рациональная психология — рациональная космология — рациональная теология). Два других постулата, скажу я, только эксплицируют потенциал надежды, содержащийся в постулате об экзистенциальной свободе. Постулированная имморальность не содержит в себе никакого субстан-циалистского или дуалистического тезиса относительно души и ее обособленного существования; этот постулат расширяет временные характеристики свободы, о чем свидетельствует цитированный выше текст, говорящий о порядке, в соответствии с которым мы в состоянии «продолжать наше существование…» Кантовский имморализм, стало быть, является одним из аспектов нашего требования относительно осуществления первоначального блага в реальности; эта временность, это «последовательное продвижение к конечной цели» не в нашей власти; мы не в состоянии себе его обеспечить; мы можем только «повстречаться» с ним (antreffen)**. Именно в этом смысле постулат об имморальности выражает ту часть постулата о свободе, где речь идет о надежде: теоретическое предположение о длительном и устойчивом существовании является фило-
* Kant, Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 116. ** Ibid. P. 131, 133.
еофским эквивалентом надежды на воскресение. Не случайно Кант называет это верование ожиданием (Erwartung); разум, как практическая деятельность, требует полноты; но он верит, чутко внимая, в ожидание, в надежду, в существование, в которых эта полнота может быть достигнута. Таким образом, керигматическая надежда с помощью движения, ведущего практическое требование к теоретическому постулату, направляется от требования к ожиданию. Это же движение заставляет нас переходить от этики к религии.
Итак, данный постулат ничем не отличается от предыдущего: «надежда на участие в суверенном благе» есть сама свобода, свобода конкретная, свобода сама по себе. Второй постулат лишь развертывает в экзистенциально-временном аспекте постулат о свободе; я сказал бы так: это — свобода, взятая в качестве надежды. Свобода относится к области целей и участвует в суверенном благе постольку, поскольку она «надеется на дальнейшее беспрерывное, шаг за шагом, движение вперед, которое длится так долго, как длится ее существование, или даже еще дольше»*. В этом отношении знаменательно, что и Кант признавал данное практически-временное измерение, поскольку его философия, если следовать его Трансцендентальной эстетике, не предусматривала никакой другой концепции времени, кроме времени представления, то есть времени мира.
Что касается третьего постулата, постулата о существовании Бога, то его можно считать таковым, то есть теоретическим предположением, зависящим от практического требования, если мы его тесно связываем с первым постулатом, опираясь на второй постулат: если постулат о бессмертии расширяет экзистенциально-временное измерение свободы, то постулат о существовании Бога выявляет экзистенциальную свободу как философский эквивалент дара. У Канта нет термина «дар», который является категорией священного. Но у него есть термин для обозначения истока синтеза, который находится вне нашей власти; Бог — это «причина, адекватная подобному действу, проявляющемуся в нашей воле как целостный объект, то есть как суверенное благо». Здесь постулируется Zusammenhang — связь,
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 133.
существующая в бытии и заключающая в себе принцип согласия между двумя составляющими высшего блага. Но этот постулат касается основ нашего воления лишь в той мере, в какой мы сами хотим, чтобы высшее благо осуществилось. Ожидание в данном случае все еще связано с потребностью. «Теоретическое» ожидание связано с «практической» потребностью. Этот узел соединяет практическое и религиозное, обязательность и верование, моральную необходимость и экзистенциальное предположение. Здесь Кант уже не грек, а христианин; греческие школы, говорил он, не дали решения проблемы практической возможности первоначального блага: их сторонники верили в то, что мудрость мудрого состоит в том, чтобы жить праведно и счастливо. Трансцендентный синтез первоначального блага есть, напротив, наиболее общий философский подход к проблеме Царства Божия в соответствии с Евангелиями. Кант использует одно слово, которое созвучно тому, что говорит Мольтман о надежде, когда называет ее «абсолютно новой»: мораль, «так как она устанавливает свою заповедь (как это и должно быть) чисто и строго, отнимает у человека надежду быть полностью адекватным, по крайней мере в этой жизни, но этим же и утешает его: если мы поступаем столь хорошо, сколь это в наших силах, мы можем надеяться, что то, что не в наших силах, пригодится в другом месте, хотя, быть может, мы и не будем знать, каким образом. Аристотель и Платон расходятся между собой только в вопросе о происхождении наших нравственных понятий»*. Таков первый исток вопроса «на что я должен надеяться?» Он все еще находится внутри моральной философии, которая сама порождена вопросом «что я должен делать?» Моральная философия ведет к философии религии, если она, следуя обязательству, стремится включить в себя надежду на завершение: «…моральный закон повелевает мне делать конечной целью всякого поведения высшее благо, возможное в мире. Но я могу надеяться на осуществление этого блага только благодаря соответствию моей воли с волей святого и благого творца мира… Вот почему и мораль, собственно говоря, есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 137.
стать достойными счастья. Только в том случае, если к ней присоединяется религия, появляется надежда когда-нибудь достигнуть счастья в той мере, в какой мы заботились о том, чтобы не быть недостойными его»*.
Почему же философское значение религии должно во второй раз конституироваться внутри этики? Ответ на этот вопрос вынуждает нас сейчас сделать еще один, последний, шаг в том направлении, которое мы назвали философским подходом к проблеме надежды и проблеме свободы в ее соотнесенности с надеждой.
В самом деле, обсуждение проблемы зла препятствовало этому новому подходу; однако вместе с обсуждением проблемы зла как раз и вставал вопрос о свободе, о реальной свободе, о которой речь идет в Постулатах Практического разума; проблематика зла запрещала нам более тесно связывать действенную реальность свободы с ее постоянным порождением, являющимся содержанием надежды.
То, чему нас на деле учит очерк «Об изначально злом» относительно свободы, заключается в следующем: способность, какую нам предписывает долг, в реальности является одновременно и неспособностью; «склонность ко злу» становится «злой природой», хотя зло и выступает всего лишь способом бытия свободы, порождаемым самой свободой. Свобода навсегда остается злым выбором. Радикальное зло означает, что возможность максимы зла по необходимости является выражением злой природы, свойственной свободе. Эта субъективная необходимость зла есть в то же время основание надежды. Мы в состоянии совершенствовать наши максимы, поскольку обязаны это делать; возрождать же нашу природу, природу нашей свободы не в наших силах. Такое скатывание в пропасть, как прекрасно показал Карл Ясперс, выражает прежде всего наивысшую точку мышления о пределах, которое теперь переходит от вопроса о познании к проблеме возможности. Неспособность, о которой свидетельствует радикальное зло, обнаруживается там, где берут начало наши способности. Таким образом, в радикальнейших терминах ставится вопрос о реальной причине нашей свободы, в том числе и о
* Kant. Critique de la raison pratique. Dialectique, tr. fr. P. 139.
той свободе, которую Практический разум постулирует в соответствии со своей Диалектикой.
«Постулат» о свободе должен теперь не только пройти сквозь ночь познания с его трансцендентальной иллюзией, но и сквозь ночь возможности с ее радикальным злом. Реальная свобода может стать надеждой по ту сторону Святой Пятницы — умозрительной и практической. Никогда мы не соприкасались так тесно с христианской керигмой: надежда — это надежда на воскресение, на воскресение из мертвых.
Мне понятна неприязненность философов, от Гёте до Гегеля, по отношению к кантовскому учению об изначальном зле. Но разве мы сумели постичь его в его подлинном отношении к этике? Я имею в виду не только Аналитику, концепцию долженствования, но и Диалектику] концепцию суверенного блага. Мы можем найти здесь темы злокозненного сознания, ригоризма, пуританства. Действительно, это так. Постгегелевская интерпретация Канта должна учитывать это решительное неприятие. Но в теории радикального зла есть и другая сторона дела, которую можно высветить, если учесть наше предшествующее прочтение Диалектики: радикальное зло имеет отношение к свободе как в процессе ее тотализации, так и в ее изначальной детерминированности. Вот почему критика морализма Канта вовсе не отменяет его философии зла, а, напротив, скорее выявляет ее подлинное значение.
Это значение обнаруживается в работе «Религия в пределах только разума». В самом деле, мы еще недостаточно осознали то, что учение о зле не завершается в очерке «Об изначально злом», закладывающем основы философии религии, а идет рядом с ней. Подлинное зло, зло самого зла — это не нарушение запрета, не ниспровержение закона, не неповиновение, а подлог в деле тотализации. В этом смысле подлинное зло может возникать в той же сфере, где зарождается религия, то есть в сфере, где действуют противоречия и конфликты, определенные, с одной стороны, требованием тотализации, образующей как теоретический, так и практический разум, и, с другой стороны, иллюзией, вводящей разум в заблуждение утонченным гедонизмом, искажающим моральную мотивацию, наконец,
злым умыслом, компрометирующим великие начинания человечества в деле тотализации. Требование целостного объекта воли составляет его антиномичную основу. Зло зла зарождается в недрах этой антиномичности.
Вместе с тем зло и надежда до такой степени взаимосвязаны, что нам трудно это представить; если зло зла возникает на пути тотализации, то оно проявляется только как искажение надежды, как извращение проблематики завершения и тотализации. Короче говоря, подлинный злой умысел человека возникает только в Государстве и в Церкви, то есть в условиях стадного единения, сплочения, тотализации.
Такое понимание изначального зла может привести к новым формам отчуждения, отличным от умозрительной иллюзии и даже от стремления к утешению, — к отчуждению, существующему благодаря таким культурным образованиям, как Церковь и Государство; именно подобные структуры могут стать искаженным выражением синтеза; когда Кант говорит о «раболепной вере», о «ложном культе», «ложной Церкви», он тем самым ставит точку в своей теории изначального зла. Последнее, если так можно сказать, завершается не в трансгрессии, а в неудавшихся политических и религиозных синтезах. Вот почему подлинная религия постоянно ведет спор с ложной религией, то есть, говоря словами Канта, с уставной религией.
Отныне возрождение свободы неотделимо от движения, с помощью которого образы надежды* освобождаются от общепринятых призраков площади, как говорил Бэкон[282].
* Исторический анализ «Религии в пределах только разума» должен был показать, в каком направлении мог бы идти философ, исследующий истоки постоянного порождения. Кантовский схематизм является здесь последней опорой. То, что мы можем абстрактно принимать в качестве «доброго принципа», который вступает в борьбу со «злым принципом», мы могли бы также представить в образе богоугодного человека, который, двигаясь в направлении к универсальному благу, принимает страдание. Разумеется, Кант ни в коей мере не задается вопросом об историчности Христа: «…единственный угодный Богу человек» — это Идея. Разве этот Первообраз не является идеей, которую я могу принять по собственному усмотрению? Как событие, связанное со спасением, данный Первообраз может быть сведен к моральному влечению, в качестве же идеи — не может: «она создана не нами» (Kant. Religion dans les limites de la simple raison. P. 85). Эта идея «занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, каким образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отноше-
17 — 2256
Этот процесс в целом порождает философию религии в пределах только разума. Этот процесс как раз образует философский analogon керигмы воскресения. Этот же процесс лежит в основании приключений свободы и дает право на формулирование выражения «религиозная свобода».
ВИНОВНОСТЬ, ЭТИКА И РЕЛИГИЯ
Теперь я попытаюсь определить, что отделяет дискурс этики от дискурса религии, когда речь идет о виновности.
Но прежде чем приступить к последовательному изучению этих двух дискурсов, чтобы различить и понять их взаимоотношение, я разъясню смысл тех значений, которыми буду пользоваться. Позвольте мне предложить предварительный семантический анализ термина «виновность».
1. ВИНОВНОСТЬ: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Прежде всего я предлагаю изучать этот термин не так, как это делает психология, психиатрия или психоанализ, а в рамках текстов, в которых конституируется и фиксиру-
нию к ней…» (Ibid.). Такая вот непостижимость: «непостижимость соединения Доброго Принципа с чувственной природой человека в моральных задатках» (Ibid. Р. 11—112). Итак, эта Идея полностью соответствует требуемому разумом синтезу или, точнее, трансцендентному объекту, обусловливающему этот синтез. Перед нами не только образец долга, в котором он не превосходит Аналитику, но и идеальный образец изначального блага, с помощью которого эта идея иллюстрирует действительность Диалектики. Христос — это Первообраз долженствования, поскольку он символизирует собой завершение. Он — образ Высшей цели. Такое высказывание о Добром Принципе рассчитано не на то, чтобы «расширить наше познание за пределы чувственного мира, но лишь на то… чтобы сделать понятие о непостижимом для нас наглядным для практического применения» (Ibid. Р. 84). «Это, — говорит Кант, — схематизм аналогии (для объяснения), без которого мы не можем обойтись» (Ibid. Р. 90, note 1). Таким образом, философия, строго ограниченная узкими рамками учения о схематизме и аналогии, то есть трансцендентальным воображением, исследует не только значение надежды, но и сам образ Христа, в котором это значение концентрируется.
ется его значение. Такими текстами станет литература о покаянии, в которой те или иные сообщества верующих свидетельствовали о зле; язык этих текстов своеобразен и в самых общих чертах его можно было бы назвать «исповеданием в грехах», хотя с этим выражением и не связаны ни сугубо конфессиональные коннотации, ни специфически иудейские или христианские значения. Проф. Пет-таццони[283] (Рим) написал цикл работ, посвященных сравнительному анализу религий и объединенных под общим названием «Исповедание в грехах». Меня вовсе не интересуют компаративистские проблемы; в качестве исходной точки исследования я беру феноменологию исповедания, или признания. В данном случае я называю феноменологией описание значении, присутствующих в опыте вообще, идет ли речь об опыте относительно вещей, ценностей, личностей и т. п. Феноменология исповедания — это, стало быть, описание значений и интенций означения, присутствующих в определенной языковой практике, носящей имя исповедь. В рамках такой феноменологии нашей задачей будет воспроизведение (reenacting) во внутреннем опыте исповедания во зле с целью выявления его намерений. Философ выбирает мотивации и намерения исповедального сознания в соответствии со своими склонностями и воображением. Он не «ощущает», а, нейтрализуя и представляя с точки зрения «как если бы», «несет в себе следы» того, что было прожито исповедальным сознанием.
Но какие выражения здесь следует брать за исходные? Разумеется, не те, что уже самым тщательным образом разработаны, рационализированы, как, например, религиозное понятие (или квазипонятие) о первородном грехе, с которым философия зачастую соперничает. Напротив, философскому разуму надлежит обращаться к наименее разработанным, наименее артикулированным выражениям исповедания во зле.
Нас не должен смущать тот факт, что за рационализированными и умозрительными выражениями нам открываются мифы, то есть традиционные повествования, рассказывающие о событиях, имевших место в начале времен и представляющих ритуальные действа в качестве основания языка; сегодня мифы уже не служат объяснением реальности; но в той мере, в какой они теряют свое объясняющее значение, они приобретают значение исследовательское; мифы свидетельствуют о существовании символической функции, то есть о возможности косвенного обозначения связи между человеком и тем, что он полагает в качестве Священного. Как бы парадоксально ни выглядел миф, подвергшийся демифологизации под воздействием фцзи-ки, космологии, научной истории, он остается составной частью современного мышления. Миф отсылает нас к более фундаментальным слоям выражения, чем любое другое повествование или умозрение; так, повествование о грехопадении в Библии черпает свое значение в тех проявлениях греха, которые укоренены в жизни человеческого общества: именно культовая деятельность и профетический призыв к «справедливости» и «милосердию» наделяют миф субструктурой значений.
Следует обратить внимание именно на это выражение и его язык или, точнее, на это выражение, как оно существует в языке, потому что как раз язык исповеди высвечивает дискурс опыта, в котором наличествует волнение, страх, тревога. Литература о покаянии свидетельствует о лингвистической изобретательности, расставляющей вехи на пути экзистенциальных проявлений осознания чувства вины.
Исследуем этот язык.
Его первейшим отличительным признаком является то, что он более не представляет собой изначальное выражение, в отличие от символических выражений, отсылающих к мифу. Язык исповеди символичен.*Йод символом я понимаю язык, который обозначает какую-либо вещь косвенно, через другую вещь, воспринимаемую непосредственно; это свидетельствует о том, что я говорю символически: возвышенные мысли, низменные чувства, благородные идеи, свет разума, царство небесное и т. п. Исследовательская работа, связанная с выражениями зла, будет, таким образом, по существу состоять в объяснении, растолковании различных слоев значений — прямых или косвенных, — заключенных в одном и том же символе. Об этом я уже говорил в другом месте*. Наиболее архаический сим-
*См. в наст, изд., с. 360–369.
волизм, из которого можно было бы исходить, это символизм зла, понятого как запятнанность, то есть как нанесенное извне пятно; в более развитых литературах, например вавилонской и особенно в древнееврейской, грех выражен с помощью разнообразных символов, таких как «оступиться», «идти по кривой дороге», «бунтовать», «быть твердолобым», «прелюбодействовать», «быть глухим», «потеряться», «заблуждаться», «быть пустым местом», «быть неосязаемым, как прах».
Такая лингвистическая ситуация вызывает удивление: самосознание, столь обостренное при восприятии зла, не обладало изначально своим абстрактным языком: его язык был вполне конкретным и по поводу его осуществлялась спонтанная деятельность интерпретации.
Второй отличительный признак этого языка заключается в том, что он осознает свою символичность и прежде всякой философии и всякой теологии встает на путь ее эксплицирования; как я уже отмечал, символ ведет к размышлению; mythos устремляется к logos. Все это справедливо и по отношению к архаической идее запятнанности; мысль о чем-то квазиматериальном, о том, что оказывает влияние извне и незаметно очерняет, обладает символическим богатством, то есть потенциальной возможностью символизации, характеризующейся возрождением символа во все более и более аллегорических формах; еще и сегодня, говоря о зараженности духом наживы, расизмом, употребляют слово «зараженность» в его немедицинском значении; нам никогда не избавиться от символики «чистого» и «нечистого». Это происходит потому, что квазиматериальное представление о запятнанности символизирует собой нечто другое, и это нечто изначально обладает способностью к символизации. Запятнанность никогда не означала наличия пятна в буквальном смысле слова, нечистое никогда не было признаком грязи; оно находится где-то между светом и тенью, между квазифизической зараженностью и квазиморальной несостоятельностью. Это хорошо видно в ритуалах очищения, которые никогда не были простым омовением; омовение и наведение чистоты уже являются фиктивными, частными действиями, означающими, если речь идет о теле, общее действо, адресуемое личности в ее значении неделимого целого.
Символика греха, какой мы ее находим в вавилонской и древнееврейской литературах или в греческих трагедиях, у орфиков, несомненно, более богата, чем символика запят-нанности, от которой она заметно отличается. Соприкосновению с нечистым она противопоставляет подвергшееся оскорблению отношение между Богом и человеком, между человеком и человеком, а также отношение человека к самому себе; это отношение, которое как таковое бурет осмыслено только философом, уже было символически обозначено с помощью всех доступных драматических средств, какие находились в распоряжении повседневного опыта. Так, мысль о грехе не сводится к плоской идее о разрыве какого-либо отношения; она привносит сюда еще и представление о некой силе, во власти которой находится человек, сохраняя благодаря ей определенную связь с символикой запятнанности; но данная сила является также и признаком опустошенности и тщетности усилий человека, обозначаемых с помощью сравнения с крушением, крахом. Таким образом, символика греха постепенно складывается из негативных символов (разрыв, удаление, отсутствие, тщета) и символов позитивных (могущество, обладание, покорение, укрощение).
Именно на этой символической основе, в этих переплетениях образов и их интерпретаций и следует рассматривать выражение чувство вины.
Если следовать собственным значениям слов, то термин «виновность» не распространяется на всю семантическую область «исповедания». Мысль о виновности представляет собой высшую форму интериоризации, которую мы обнаружили, переходя от «запятнанности» к «греху»; запятнанность говорит о воздействии извне, грех свидетельствует о разрыве отношений; но этот разрыв может существовать, если даже я о нем ничего не знаю; грех — это реальное условие, объективное положение, я мог бы даже сказать, онтологическое измерение существования.
Виновность, напротив, имеет сугубо субъективный оттенок, ее символика отмечена большей интериорностью, она говорит о сознании, над которым довлеет воздействующая на него сила; она свидетельствует также об угрызениях совести, которые действуют изнутри, постоянно находясь во власти чувства вины; эти две метафоры силы и поражения
говорят о том, чего можно ожидать, когда речь идет о существовании. Но наиболее значительным оказывается тот символ виновности, который связан с судом; суд — это гражданское образование; метафизически перенесенный в глубины души, он становится тем, что мы называем «моральным сознанием»; испытывая чувство вины, мы тем самым предстаем перед невидимым судом, определяющим степень прегрешения, выносящим приговор и налагающим наказание; глубинное моральное сознание превращается в надзирающее, выносящее приговор и карающее око; чувство виновности становится осознанным, подотчетным и подсудным внутреннему суду; в конечном итоге оно выступает как предвосхищение наказания; короче говоря, вина (culpa) — это самоанализ, самоощущение и самонаказание с помощью сознания-двойника.
Интериоризация виновности приводит к следующим результатам. С одной стороны, осознание виновности свидетельствует об определенном прогрессе в отношении к тому, что мы описали как «грех». В то время как грех является коллективным явлением, в котором соучаствует все сообщество, виновность стремится индивидуализироваться. В древнем Израиле проповедники изгнанничества были борцами за этот прогресс (Исх. 31, 34); их проповедь была освободительным деянием; одновременно с этим коллективное возвращение из изгнанничества, каким был исход из Египта, оказывалось невозможным — перед каждым открывался путь личного обращения. В Древней Греции у поэтов-трагиков на смену преступлению, связанному с нарушением наследственного права, приходит чувство вины индивидуального героя, оказывающегося один на один перед лицом собственной судьбы. Более того, индивидуализируясь, виновность обретает свои сравнительные качества, уравненному опыту греха противостоит градуированный опыт виновности: человек от начала до конца греховен, виновен же он лишь в той или иной степени. Это свидетельствует о прогрессе в области уголовного права Греции и Рима, которое в данном случае опирается на моральное сознание; уголовное право в целом — это, собственно, фиксация усилий, направленных на установление и измерение наказания в зависимости от меры нарушения. В свою очередь, мысль о параллельных ступенях преступления и гре-
ховности интериоризуется в соответствии с метафорой суда; моральное сознание само становится градуированным осознанием виновности.
Подобная индивидуализация и градуирование виновности с очевидностью свидетельствуют о прогрессе в отношении к коллективному и равному для всех опыту греха. Мы не можем сказать то же самое о других результатах этого движения: вместе с виновностью рождается и своеобразная потребность, которую можно было бы обозначить как совестливость, имеющую весьма противоречивый характер; совестливое сознание — это сознание деликатное, утонченное, постоянно стремящееся к самосовершенствованию; это сознание, захватывающее человеческое существо полностью, без остатка, стремится блюсти все заповеди, быть соразмерным всему на свете, не считаясь ни с какими внешними препятствиями, даже с царскими предписаниями, придавая равное значение как большим, так и малым вещам. Но вместе с тем совестливость свидетельствует и о том, что моральное сознание становится способным само себя искажать: совестливые люди запутываются в лабиринте предписаний, из которого нет никакого выхода, обязательность для них приобретает сложный, многозначный характер, что находится в явном противоречии с простотой и скромностью заповеди о любви к Богу и всем людям; совестливое сознание не перестает изобретать все новые и новые обязательства; подобное дробление закона заставляет человека постоянно сомневаться в правильности собственных поступков, превращая его повседневную жизнь в цепь ритуалов; совестливый человек никогда не перестает подчиняться всем предписаниям вместе и каждому в отдельности. Одновременно с этим извращается и само понятие повиновения; выполнение взятых на себя обязательств, поскольку они понуждают к чему-то, становится более важным, чем любовь к ближнему или даже любовь к Богу; подобную пунктуальность в отношении правил и предписаний мы называем правоверностью. Вместе с ней мы вступаем в ад виновности, который св. Павел описал следующим образом: «…когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер…» (Рим. 7, 9—10). Закон и грех постоянно порождают друг друга, увлекая нас к смертельному исходу.
Виновность обнаруживает, таким образом, проклятие, тяготеющее над жизнью в виде закона. В итоге, когда вера и индивидуальная привязанность приходят в столкновение друг с другом, о чем свидетельствуют метафоры о супружеской жизни, принадлежащие пророку Осии, виновность становится обвинением без обвинителя, судом без судей, анонимным приговором. Виновность превращается в описанное Кафкой нескончаемое несчастье: приговор становится проклятием.
Из данного семантического анализа следует, что виновность не объемлет собой всего человеческого опыта, касающегося зла; исследование символических выражений позволило выделить лишь частный и наиболее противоречивый аспект этого опыта. С одной стороны, эти выражения свидетельствуют об интериоризации опыта зла и, следовательно, об эволюции морально ответственного субъекта; с другой стороны, они говорят о своего рода аномалии, начальной точкой которой выступает совестливость.
Отсюда вытекает следующая проблема: как соотносятся этика и философия религии с этим многосмысленным опытом и с самим символическим языком, с помощью которого этот опыт выражается?
2. ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В каком смысле проблема зла является этической проблемой? Я думаю, в двух смыслах, или, скорее, в двух отношениях — с одной стороны, она связана с вопросом о свободе, с другой стороны, с вопросом о долге. Зло, свобода, долг вместе образуют тесное переплетение, и мы попытаемся распутать его и подвергнуть некоторые его моменты осмыслению. Я начал бы это предприятие со свободы и кончил бы ею, поскольку свобода здесь выступает ключевым моментом.
До этого я говорил: утверждать свободу значит считать самого себя источником зла. В соответствии с этим я предполагаю, что между злом и свободой существует столь тес-
нал связь, что два эти термина взаимно проникают друг в друга; зло имеет значение постольку, поскольку оно является делом рук свободы; я — виновник зла. Тем самым я добровольно отрекаюсь от утверждения, что зло существует в качестве субстанции, или природы, что оно обладает статусом вещей, обозреваемых сторонним наблюдателем; подтверждение этого тезиса, который я отвергаю в полемическом запале, следует искать не только в фантастических метафизических построениях, с которыми сражался св. Августин (манихейство и разного рода онтологические концепции зла); он вполне определенно проступает в позитивных, даже научных, представлениях в форме психологического или социологического детерминизма; присвоить себе происхождение зла значит отрицать как ложное утверждение, что зло есть нечто, что оно является определенным результатом в мире наблюдаемых вещей, будь то физические, психические или социальные реальности. Я говорю: я породил зло… Ego sum qui fecit[284]. Зло не является злым бытием. Оно — мною порожденное — зло. Взять зло на себя — это акт языка, способного к движению вперед в том смысле, что именно язык может что-то порождать; он вменяет этот акт мне.
Выше я говорил о взаимоотношении. В самом деле, если свобода определяет зло как «действие», тогда и зло является обнаружением свободы. Этим я хочу подчеркнуть: злу принадлежит своя роль в осознании свободы. Что означает вменить мне в вину мои собственные действия? Если иметь в виду будущее, это означает взять на себя ответственность за них; одновременно это означает: тот, кто совершил некое деяние, должен взять на себя вину за его последствия, и именно ему надлежит восполнить нанесенный ущерб; иными словами, я являюсь носителем санкций, добровольно вступаю на путь, где царят диалектические отношения между хвалой как воздаянием должного и наказанием. Но, беря на себя заранее последствия моих действий, я перемещаюсь назад, до этих действий, как тот, кто не только их совершил, но и не мог не совершить. Эта убежденность в свободном выборе не является простой констатацией факта; это еще только первая проба; я провозглашаю постфактум, что мог бы поступить иначе; этот пост-
фактум является ответом на то, что я беру на себя все последствия. Тот, кто берет на себя последствия, объявляет себя свободным и видит эту свободу в том действии, которое ему приписывается. В таком случае я могу сказать, что совершил ошибку. Подобное возвратное движение ответственности весьма существенно: оно конституирует идентичность морального субъекта, осмысляющего прошлое с позиций будущего. Тот, кто завтра окажется виновным, сегодня берет на себя ответственность за действие и совершает его. Я говорю об идентичности, имея в виду того, кто добровольно опережает последствия, совершая то или иное действие; два измерения — будущее и прошлое — сцепляются друг с другом в настоящем; будущее одобрение и совершенный в прошлом акт объединяются в настоящем в признании.
Таков первый момент рефлексии в опыте зла: взаимное конституирование значений свободы и зла, складывающееся в специфическом деянии — признании. Второй момент рефлексии касается отношения между злом и долгом.
Я вовсе не собираюсь обсуждать здесь значение такого выражения, как «ты должен», ни его отношение к предикатам «хороший» или «плохой». Эта проблема широко дискутируется в английской философии. Я буду исходить из того, что может сообщить данной проблеме рефлексия по поводу зла.
Возьмем за исходное опыт и его выражение, заключенное в словах: «Я мог бы поступить иначе». Как мы уже видели, речь идет об акте, с помощью которого я вменяю себе ответственность за прошлое деяние. Мысль о том, что я мог бы поступить иначе, тесно связана с мыслью о том, что я должен был поступить иначе. Только признавая за собой обязательства, я могу признавать и возможности; существо, обладающее чувством долга, допускает также, что оно способно совершить то, к чему его призывает долг. Известна кантовская трактовка этого утверждения: ты должен, значит ты можешь. Разумеется, это не является достаточно убедительным аргументом, как если бы я выводил возможность из долженствования. Я скорее сказал бы,
что долг выступает здесь в роли своеобразного детектора; если я чувствую себя обязанным, либо верю в то, что я обязан, либо твердо знаю, что я обязан, значит я являюсь существом, способным действовать не только под давлением влечений или противоречия, существующего между желанием и страхом, но и под воздействием закона, о котором я имею представление. Кант прав в этом отношении: действовать в соответствии с представлением о каком-либо законе совсем не то же самое, что действовать в соответствии с законами. Эта способность действовать в соответствии с представлением о каком-либо законе и есть воля.
Данное открытие имеет далеко идущие последствия: вместе со способностью следовать определенному закону (или тому, что я называю законом для меня) я также с ужасом открываю в себе возможность действовать вопреки. В самом деле, опыт угрызений совести, говорящий об отношении свободы и долга, является двойственным: с одной стороны, я признаю за собой долг, то есть способность соответствовать долгу, но, с другой стороны, я признаю, что могу действовать и вопреки закону, который продолжает мне представляться в качестве обязательства. Этот опыт принято называть опытом нарушения закона. Свобода есть способность действовать в соответствии с представлением о каком-либо законе и, сверх того, в соответствии с обязательством. Вот то, что я должен был и, стало быть, мог бы делать, а вот то, что я сделал. Вменение в вину за действие, следовательно, имеет моральное основание, так как опирается на отношение к долгу и возможности.
Вместе с тем новые определения зла и свободы зарождаются одновременно, присоединяясь к взаимозависимым формам, которые были описаны выше; новое определение зла может быть выражено в кантовских терминах — как переворачивание отношений между движущей причиной и внутренним законом максимы, определяющей мое деяние. Это определение следует понимать таким образом: если я называю максимой практическое содержание того, что намереваюсь сделать, то зло — будь это зло в себе, зло, принадлежащее природе или сознанию, — есть не что иное, как перевернутое отношение; заметим — отношение, а не вещь: перевернутое отношение означает внимание к выбо-
ру и подчинение обязательству. Утверждая это, мы перестаем «лишать реальности» зло: зло не только полагается актом самоосознания, принятием на себя ответственности — то, что характеризует его с точки зрения моральной, есть порядок, в котором действующий субъект обладает собственными максимами; речь идет о предпочтении, которого будто бы и не должно быть, — именно это мы называем перевернутым отношением.
Одновременно с этим возникает новое определение свободы: я уже говорил об ужасе, связанном с возможностью действовать вопреки. На деле, как раз имея в виду зло, я открываю способность к разрушению воли; назовем это по собственному усмотрению (нем. Willkür), что одновременно означает «свободный выбор», то есть способность к прямо противоположным действиям, которую мы увидели в осознании возможности поступать вопреки, и способность не подчиняться обязательству, которую я считаю вполне законной.
Итак, все ли значения зла, если иметь в виду этику, мы рассмотрели? Нет, я так не думаю. В очерке «О изначально злом», открывающем «Религию в пределах только разума», Кант ставит проблему общего истока всех негативных максим. Мы не так далеко ушли от рефлексии о зле, в соответствии с которой отдельно рассматривается сначала одно негативное намерение, затем другое, далее третье; Кант говорит: «…дабы назвать человека злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из одного-единственного сознательно злого поступка, a priori сделать вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы — о заложенном в каждом субъекте основании всех отдельно морально злых максим, которое само, в свою очередь, есть максима»*.
Подобное движение вглубь — от злых максим к их злому же обоснованию — является философским переходом от греховных деяний к греху (в ед. числе), о котором мы говорили в первой части исследования, когда речь шла о сим-
* Kant. Religion dans les limites de la simple raison. P. 38–39.
волических выражениях, в частности, о мифе; миф об Адаме, между прочим, означает, что все греховные деяния связаны с единым истоком, который в определенном смысле предшествует каждому отдельному выражению зла; миф только потому и может быть рассказан, что поддерживающее его сообщество было воспитано на признании единого зла; только потому, что сообщество признало фундаментальную виновность, миф как однажды свершившееся событие свидетельствует об уникальности возникновения зла. Кантовское учение о радикальном зле претендует на то, чтобы стать философским истолкованием этого опыта и этого мифа.
Что дает основание говорить о философском характере такого истолкования? Главным образом, трактовка изначального зла как обоснования множества негативных максим. Именно на это понятие об обосновании критика должна направить свои усилия.
Итак, что же может в данном случае обозначать обоснование злых максим? Мы можем назвать его априорным условием, чтобы подчеркнуть, что то, что мы можем констатировать, вовсе не является фактом, как не является временным истоком то, что мы в состоянии представить в качестве такового. Это — не эмпирический факт, а изначальная позиция свободы, которую необходимо вообразить, чтобы затем рассуждать об универсальном видении человеческой злобности; это тем более нельзя считать временным истоком, если мы не хотим вернуться к идее о естественной причинности. Зло перестало бы быть злом, если бы оно перестало быть «способом существования свободы, если бы оно не проистекало из свободы». Зло, таким образом, не имеет истока, если под последним понимать предшествующую причину: «…каждый злой поступок, если ищут его происхождение в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности»*. Все дело в этом «если бы», являющемся философским эквивалентом мифа о грехопадении; речь идет о рациональном мифе, сообщающем о возникновении греховности, о постоянном переходе от невинности к гре-
* Kant. Religion dans les limites de la simple raison. P. 62.
ховности: мы, как и Адам (скорее, в Адаме), начинаем со зла.
Но что значит это уникальное возникновение, содержащее в себе все негативные максимы? Его следует просто признать — у нас нет понятия, с помощью которого мы могли бы мыслить о злой воле.
Возникновение, о котором идет речь, вовсе не является актом моей самоуправной воли, который я могу или не могу совершить; тайна этого основания заключается в том, что рефлексия находит его как уже свершившийся факт. Отныне свобода сопряжена с выбором зла. Это зло уже есть. Именно в этом смысле оно радикально, то есть изначально, как если бы оно было вне времени — в каждом злобном намерении, в каждом злом деле.
Но эта неудача рефлексии ненапрасна — она приводит к тому, что философия границ обретает свои характеристики, в корне отличаясь от философии систем, каковой является философия Гегеля.
Граница имеет двойной смысл: граница моего знания и граница моих возможностей. С одной стороны, я не знаю об истоке моей злой свободы; такое незнание истока существенно для самого признания того, что я сам делаю собственную свободу изначально злой; незнание является составной частью действенного признания, или, говоря иначе, моего самопризнания и самообретения. С другой стороны, я обнаруживаю неспособность моей свободы. Странная эта неспособность: я признаю себя ответственным и не могу быть им. Данная не-способность прямо противоположна утверждению другой странности. Я признаю, что моя свобода уже стала несвободной. Это признание является самым значительным парадоксом этики. Как представляется, оно противоречит нашей исходной посылке; мы начали с утверждения: зло — это то, что я мог бы не делать; и это действительно так; но в то же время я признаю: зло является той предшествующей неволей, которая не дает мне возможности не совершать зла. Это противоречие свойственно свободе, оно говорит о не-возможности, о несвободе свободы.
Ведет ли это с необходимостью к отчаянию? Вовсе нет: это признание, напротив, является исходным моментом, откуда проистекают всякого рода начинания. Возвраще-
ние к истоку и есть возвращение к той точке, где свобода раскрывает свою способность к собственному освобождению, короче говоря, где свобода может надеяться на собственное освобождение.
3. РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Я только что попытался с помощью кантовской философии охарактеризовать проблему зла в качестве этической проблемы. Как раз двойственное отношение зла к долгу и к свободе я считаю существенным для его определения.
Если теперь я задамся вопросом, что же такое, собственно, религиозный дискурс о зле, я, не колеблясь ни минуты, отвечу: это — дискурс надежды. Данный тезис требует разъяснения. Оставляя на время вопрос о зле (к нему я вернусь позже), попытаюсь обосновать положение о том, что надежда занимает центральное место в теологии*. Надежда не так часто выступает в ней в качестве основного понятия. И тем не менее пророчество Иисуса говорит главным образом о Царствии Божием; Царствие Божие близко, оно приблизилось к вам, оно среди вас. Если пророчество Иисуса и изначальной церкви имеет своим истоком эсхатологическое начало, то следует переосмыслить всю теологию с эсхатологической точки зрения. Бог, который приидет, это имя; Бог, обнаруживающий себя, это идол; Бог обетования дает начало истории; Бог в естественных своих проявлениях одушевляет природу.
Какой вывод относительно свободы и зла вытекает из того, что этическое сознание берет их в единстве? Я начну со свободы и в дальнейшем покажу, что меня побуждает к этому. Мне представляется, что религия отличается от морали тем, что требует мыслить свободу с точки зрения надежды.
Если использовать собственно евангелические термины, я сказал бы так: мыслить свободу в ее соотнесенности с надеждой — значит включать мое существование в движение, которое вслед за Юргеном Мольтманом можно было
* См. главу «Свобода и надежда», где речь идет об экзегетических основаниях эсхатологической интерпретации библейской теологии, как она представлена в Ветхом и Новом Завете.
бы назвать будущим воскресением Христа. Такая «кериг-матическая» формулировка в современном языке может получить несколько толковании*. Прежде всего, вместе с Кьеркегором мы можем говорить о свободе, соотнесенной с надеждой, о страстной тоске по возможному; в этой формулировке, вопреки мудрому отношению к настоящему и смирению перед необходимостью, подчеркивается, что на свободе лежит печать обетования; свобода, дарованная Богу, который приидет, способна к радикальной новизне; она — творческое воображение возможного.
Но если посмотреть на вещи пристальнее, то окажется, что свобода, взятая в ее соотнесенности с надеждой и полагающая себя вопреки смерти и вопреки всем указаниям на смерть, ставит целью отвергнуть ее.
В свою очередь, слова «несмотря на…» прямо противоположны утверждению о жизненном порыве, о перспективе возрастания, которое нашло отражение в знаменитом «преизбыточествует» св. Павла. Эта формулировка более фундаментальна, чем «несмотря на…»; она выражает то, что можно было бы назвать логикой избыточности, которая является логикой надежды.
Присутствие этой логики излишества и избыточности может быть обнаружено в повседневной жизни, в труде, в досуге, в политике, во всеобщей истории. «Несмотря на…», держащее нас в готовности отрицать, является всего лишь оборотной стороной, изнанкой светоносного «сверх того…», с помощью которого свобода ощущает себя, познает себя и стремится присоединиться к избыточности.
Понятие избыточности позволяет нам вернуться к проблеме зла. Именно исходя из нее и благодаря ей возможен религиозный, или теологический, дискурс зла. Этика, говоря о зле, отмечает: зло есть 1) творение свободы; 2) переворачивание отношения максимы к закону; 3) непостижимое обладание свободой, делающее свободу недоступной самой себе.
Религия придерживается иного дискурса о зле. Этот дискурс полностью находится внутри поля, очерченного обетованием и отмеченного надеждой. Этот дискурс преж-
* См. там же (с. 493–497 наст, изд.), где говорится о «страстном стремлении к возможному», о «несмотря на…», о «сверх того…».
де всего говорит о зле в его предстоянии перед Богом. Я грешен перед Тобою и только перед Тобою; зло, которое я совершаю, оскорбляет Тебя. Молитва, превращающая моральное признание в исповедание в грехе, поначалу предстает перед сознанием как отягчение вины. В этом и состоит иллюзия морализирующего христианства: зло, предстоящее перед Богом, включается в движение обетования; обращение с мольбой кладет начало восстановлению, воссозданию связи. «Страсти по возможному» теперь уже касаются признания во зле; раскаяние, устремленное главным образом к будущему, вновь распадается, превращаясь в воспоминание о прошлом.
Вслед за этим религиозный дискурс глубинным образом меняет само осознание зла. В моральном сознании зло выступает, по существу, как нарушение, то есть как подрыв закона — именно в этом большинство набожных людей видят грех. Однако зло, представшее перед Богом, качественно меняется; оно уже является не столько нарушением закона, сколько притязанием человека, намеревающегося стать хозяином собственной жизни; желание жить в соответствии с законом становится в таком случае выражением зла, и чем оно скрытнее, тем губительнее; хуже того, неправедность становится признаком праведности; этическое сознание не знает этого, религиозное сознание — знает. И это второе открытие также может быть выражено в терминах обетования и надежды.
Воля на самом деле определяется не отношением, существующим между волей и законом, как мы склонны полагать, оставаясь в рамках этического анализа (используя кантовские термины, следует сказать: отношением между Willkür, или самоуправной волей, и Wille, или волей, руководствующейся законами разума). Воля фундаментальнейшим образом конституирована стремлением к осуществлению или к завершению. Я уже говорил об этом: Кант сам в Диалектике («Критика практического разума»)* признавал эту нацеленность на тотальность; именно она порождает Диалектику, как отношение к закону порождает Аналитику. Однако, согласно Канту, эта устремленность к тотализации требует примирения двух строго разделенных
* См. главу «Свобода и надежда». С. 499 и след.
моментов: добродетели, то есть повиновения закону, и счастья, то есть удовлетворения желания. Это примирение, по Канту, и есть надежда.
Такая трактовка философии воли влечет за собой и новое понимание философии зла. Признавая устремленность к тотализации сутью воли, мы оказываемся не в состоянии дойти до основ проблематики зла, поскольку она остается в рамках рефлексии об отношении между волей и законом. Подлинное зло, зло как таковое проявляет себя с помощью ложных синтезов, то есть с помощью фальсификации усилий, направленных на тотализацию культурного опыта со стороны политических и церковных институтов. Только так зло выявляет свою собственную сущность; зло как таковое — это ложь, которую" несут в себе скороспелые синтезы, насильственная тотализация.
Подобное углубление в проблему зла является еще одной победой на пути к надежде: человек нацелен на тотальность, он жаждет завершенности и потому отдается в объятья тоталитаризмов, которые являются искажением надежды; демоны, говорит древняя пословица, появляются там, откуда ушли боги. Одновременно с этим мы чувствуем, что само зло является составной частью экономики избыточности. Перефразируя св. Павла, я бы сказал: «Там, где «иссякает» зло, «изобилует» надежда». Следует, однако, обладать мужеством, чтобы связать зло с эпопеей надежды; более того, зло неизвестным для нас образом содействует пришествию Царствия Божия. Таково отношение веры ко злу.
Эта точка зрения противоположна точке зрения моралиста; моралист противопоставляет предикат «злой» предикату «добродетельный»; он осуждает зло, он лишает зло свободы и в итоге останавливается перед непостижимым; нам не дано знать, как может случиться, чтобы свобода превратилась в служанку. Вера идет в другом направлении; вопрос об истоке зла — не ее проблема; ее интересует исчезновение зла; пророки видят конец зла в обетовании, Иисус — в проповеди о Боге, который приидет, св. Павел — в действии закона избыточности. Вот почему отношение веры к событиям и людям по существу своему благосклонно. В конечном итоге вера выступает в пользу не пуританина, а человека Просвещения (Aufklärung), для которо-
го зло — в великом шествии культуры — является составной частью воспитания рода человеческого; пуританину никогда не переступить порога, отделяющего осуждение от милосердия; ему, знающему одно только этическое измерение, никогда не встать на точку зрения, говорящую в пользу грядущего Царствия Божия.
РЕЛИГИЯ, АТЕИЗМ, ВЕРА
ВВЕДЕНИЕ
Эта тема вынуждает меня принять брошенный мне радикальный вызов и уточнить, в какой мере я, с моим мышлением, могу разделить критику религии, вытекающую из атеизма таких мыслителей, как Ницше или Фрейд, и как далеко я могу идти в этом направлении, чтобы оставаться христианином. Фраза «религиозное значение атеизма» не лишена смысла, она говорит о том, что атеизм, как бы он ни отвергал и ни громил религию, не теряет своего значения, что он расчищает место для чего-то нового, то есть для веры, которую по большому счету можно было бы назвать пост-религиозной верой, верой пост-религиозной эпохи.
Такова моя гипотеза, которую я буду пытаться доказывать и, если потребуется, защищать.
Я предлагаю такой заголовок данной работе, который больше всего соответствует моим целям: «Религия, атеизм, вера». Слово «атеизм» занимает здесь срединное положение и говорит одновременно о связи между религией и верой и об их расхождении; это — взгляд назад, на то, что атеизм отвергает, а также и взгляд вперед, на то, что он открывает. Я не умаляю всех трудностей, ожидающих меня на избранном пути, — он одновременно весьма прост и весьма сложен. Прост, если считать, что разделение между религией и верой достигнуто, или если использовать атеизм в качестве подходящего инструмента для апологии, для «спасения веры»; хуже, если его используют в качестве уд об-
ного, но неподходящего инструмента, если левой рукой делают то, что сподручнее делать правой; такое различение должно проводиться с чувством ответственности; оно не лежит на поверхности; провести его — трудная задача, стоящая перед мышлением. Я предполагаю идти на риск в другом отношении — пренебречь целью, дабы вернуться на потерянную во время пути дорогу. В каком-то смысле именно это и произойдет в двух последующих очерках, которые кладут начало чему-то такому, что не получает своего завершения, которые устремляются к чему-то, но не показывают это «что-то», и в данном отношении наше предприятие представляется в высшей степени трудным.
Но я считаю, что такова неизбежная участь философа, когда он вторгается в сферу диалектических отношений, существующих между религией, атеизмом и верой. Философ — не проповедник, он может слушать проповедь, как это часто случается делать мне; но будучи профессиональным мыслителем, обладающим чувством ответственности, он всегда остается новичком в своем деле, а его дискурс — подготовительным дискурсом. Вероятно, не стоит сожалеть об этом. Наше смутное время, когда смерть религии несет с собой, быть может, нечто существенное, является также временем подготовительным — долгим, вялотекущим, прерывистым.
Не имея возможности затронуть все отмеченные вопросы, я выбрал две темы — тему обвинения и тему утешения. И выбрал их потому, что они представляют собой две господствующие проблемы религии: запрет и спасение. Эти две фундаментальные идеи определяют два полюса религиозного чувства, по меньшей мере в его самой наивной и архаической форме: страх наказания и жажда покровительства. Более того, один и тот же образ Бога одновременно и угрожает и утешает. Стало быть, я беру религию как архаическую жизненную структуру, которая должна постоянно преодолеваться верой и которая зиждется на страхе наказания и на жажде утешения. Обвинение и утешение, следовательно, являются, так сказать, «болезненными точками религии» в том смысле, в каком Карл Маркс называл религию загниванием философии. Именно здесь атеизм находит почву для своего существования и, как представля-
ется, обнаруживает свое двойственное значение — как разрушителя и как освободителя. Именно здесь атеизм расчищает путь вере, лежащей по ту сторону и обвинения, и утешения. Такова диалектика, которую я намереваюсь использовать в двух последующих очерках. В первом речь пойдет об обвинении, во втором — об утешении.
1. ОБ ОБВИНЕНИИ
I. Атеизм, который я имею в виду, принадлежит Ницше и Фрейду. Чем обоснован такой выбор? Было бы недостаточно сказать, что оба мыслителя являются самыми яркими сторонниками критики религии как запрета, обвинения, наказания, осуждения. Вопрос скорее заключается в том, чтобы понять, почему им удалась атака на религию на ее собственной территории; случилось это потому, что они смогли создать своего рода герменевтику, в корне отличную от критики религии, основанной на традициях британского эмпиризма или французского позитивизма. Проблема отнюдь не заключается в так называемом доказательстве бытия Бога. Тем более они не говорят о понятии Бога как лишенном значения. Они создали новый тип критики, критики культурных представлений, взятых в качестве замаскированных символов желания и страха.
Для них культурное измерение человеческого существования, к которому принадлежат этика и религия, имеет скрытое значение, требующее специфического способа расшифровки, срывания масок. Религия имеет значение, о котором верующий и не подозревает, поскольку свойственные ей специфические средства маскировки скрывают ее собственный исток от изучения с помощью сознания. Вот почему религия нуждается в такой технике интерпретации, которая соответствовала бы ее способу маскировки, то есть интерпретации "иллюзии, не тождественной простому заблуждению (в эпистемологическом смысле) или лжи (в обычном моральном смысле). Иллюзия сама является функцией культуры; это предполагает, что общепринятые значения нашего сознания маскируют реальные значения, которые доступны одному лишь недоверчивому, сомневающемуся взгляду критика.
Ницше и Фрейд независимо друг от друга создали своего рода редукционистскую герменевтику, являющуюся вместе с тем особым видом филологии и генеалогии. Это — филология, экзегеза, интерпретация, поскольку текст нашего сознания подобен палимпсесту, под верхним слоем которого хранятся следы другого, более древнего текста. Расшифровать этот текст и входит в задачу данной специальной экзегезы. Но подобная герменевтика является одновременно и генеалогией, поскольку искажение текста проистекает из конфликта сил, влечений и контрвлечений, исток которых должен быть обнаружен. Очевидно, что это не генеалогия в хронологическом понимании; даже если она следует историческим стадиям, генезис восходит не к временному истоку, а, скорее, к потенциальному очагу, или, если можно так сказать, к пустому месту, из которого проистекают этические и религиозные ценности. Обнаружить это пустое место и является задачей генеалогии.
То, что Ницше называет этот реальный исток волей к власти, а Фрейд — либидо, в данном случае не существенно: несмотря на различие исходных позиций, интересов и намерений, их анализы религии как источника запрета все более и более подкрепляют друг друга. Можно даже сказать, что мы лучше поймем каждый из них, если будем изучать их вместе.
Ницше, с одной стороны, в так называемом идеале обнаруживает внешнее и более высокое «место» мировой воли. Именно из этих иллюзорных «по ту сторону» и «более высокого» исходит запрет и осуждение. Но это «место» не есть «ничто». Оно появляется благодаря слабости рабской воли, которая проецирует себя на небеса. Обнаружить этот идеальный исток «ничто» — такова задача филологического и генеалогического методов. Бог, от которого исходит запрет, и есть это идеальное место, которое, однако, как таковое не существует. Это несуществующее место традиционная метафизика описывала как сверхчувственное, как абсолютное благо, как трансцендентный и невидимый источник ценностей; но поскольку это место, будучи идеалом, пусто, разрушение метафизики в наше время с необходимостью принимает форму нигилизма. Не Ницше изобрел нигилизм, и уж тем более нигилизм, порождающий «ничто»; нигилизм — это исторический процесс, и Ницше яв-
ляется лишь его свидетелем, и для него есть только историческое проявление небытия, которое принадлежит иллюзорному истоку. Вот почему небытие не возникает из нигилизма, а Ницше не является изобретателем нигилизма. Нигилизм — сама душа метафизики в той мере, в какой метафизика полагает идеал и сверхъестественный источник, которые не выражают ничего иного, кроме презрения к жизни, к почве, ненависти к силе инстинктов, злопамятства слабых по отношению к сильным. Христианство руководствуется этой редукционистской герменевтикой в той мере, в какой оно, ограничивая свою роль, выступает в качестве «платонизма для народа», одного из вариантов сверхнатурализма в этике. В конечном итоге, знаменитое Umwertung, «переоценка», переворачивание ценностей, есть только повторное переворачивание, восстановление истока ценностей, каковым является воля к власти.
Эта широко известная критика религии, которую мы обнаруживаем в работах «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогия морали», является прекрасным введением в тему, обозначенную Фрейдом как «Сверх-Я». «Сверх-Я» — это тоже идеальное построение, из которого исходят запрет и осуждение. Психоанализ, стало быть, также является своеобразной экзегезой, позволяющей за официальным текстом о моральном сознании увидеть драму Эдипа; он же выступает и своего рода генеалогией, связывающей энергии, инвестированные в вытесненное, с силами, почерпнутыми из «Оно», то есть из глубин жизни. Точно таким же образом «Сверх-Я», возникающее над «Я», становится судьей, «инстанцией», которая приглядывает, судит и выносит приговор. «Сверх-Я» лишено черт Абсолюта, оно заявляет о себе как об образовании производном и благоприобретенном. Разумеется, у Фрейда есть такие вещи, какие мы не найдем у Ницше: сведение морального сознания к «Све*рх-Я», проистекающее из соединения, с одной стороны, клинического опыта, связанного с навязчивым неврозом, меланхолией и моральным мазохизмом, и, с другой стороны, социологии культуры. Идя именно таким путем, Фрейд смог разработать то, что мы называем патологией долга или патологией сознания. Более того, генезис невроза послужил ему ключом к интерпретации в генетических понятиях таких явлений, как тотем и табу, кото-
рые были выявлены этнологией. Эти явления, в которых Фрейд пытался увидеть исток нашего этического и религиозного сознания, возникают в результате процесса замещения, отсылающего к скрытой фигуре отца, наследующего комплекс Эдипа; в свою очередь, Эдип как индивидуум послужил моделью для коллективного Эдипа, принадлежащего археологическим слоям человечества. Учреждение закона, таким образом, связано с изначальной драмой, с легендарным умерщвлением отца. Но мы не можем со всей определенностью утверждать, что это является психоаналитическим, «фрейдовским» мифом, либо, что Фрейд действительно докопался до истока божественного. Как бы то ни было, даже если в данном случае эта мифология принадлежит исключительно Фрейду, она выражает интуицию, близкую той, которой руководствуется Ницше в «Генеалогии морали» и суть которой состоит в следующем: добро и зло порождены проекциями слабости и зависимости. Но у Фрейда есть собственное мнение на этот счет: Umwertung, то есть переоценка, которую мы назвали переворачиванием переворачивания, не должна связываться только с состоянием тревоги, возникающим под воздействием культуры, которую Ницше обозначил нигилизмом; она должна рассматриваться и как личное отречение, о котором в «Леонардо» Фрейд пишет как об «отречении от отца»; все это можно сравнить со скорбью или, скорее, со скорбным трудом, о чем мы уже говорили. Нигилизм и скорбь в этом смысле идут параллельными путями, и на этих путях мы можем выявить подлинный источник ценностей, лежащий либо в воле к власти, либо в Эросе, пребывающем в вечном конфликте с Танатосом[285].
Если теперь мы зададимся вопросом о теологическом значении данного атеизма, мы будем вынуждены прежде всего указать, о какого рода атеизме идет речь. Всем хорошо известны знаменитые слова из «Веселой науки»: «Бог умер». Но вопрос состоит, во-первых, в том, какой бог умер? Во-вторых, кто убил его, если, конечно, верно, что смерть его была убийством. И, наконец, в-третьих, каким авторитетом обладает слово, возвещающее об этой смерти? Эти три вопроса определяют атеизм и Ницше и Фрейда, противостоящий атеизму английского эмпиризма или французского позитивизма, не являющехся ни экзегети-
ческими и ни генеалогическими в том смысле, о каком мы уже говорили.
Какой бог умер? Теперь мы можем ответить на поставленный вопрос: бог метафизики, а также бог той теологии, которая основывается на метафизике первопричины, необходимого бытия, перводвигателя, понятых в качестве источника ценностей и в качестве абсолютного блага; употребляя слова, изобретенные Хайдеггером, следующим здесь за Кантом, скажем так: это — бог онто-теологии.
Данная онто-теология получила в философии Канта свое завершенное значение, по крайней мере если иметь в виду его этическую философию. Как известно, Кант теснейшим образом связывал религию с этикой: считать предписания сознания предписаниями Бога — такова первая заповедь религии. Разумеется, у религии, согласно Канту, есть и другие функции, если иметь в виду проблему зла, осуществление свободы, объединение в этическом мире воли и природы. Однако Кант с его апелляцией к изначальной связи с Богом, понятым как высший законодатель, и закону разума все еще принадлежит эпохе метафизики, оставаясь верным основополагающей дихотомии между умопостигаемым миром и миром чувственным.
Задача ницшевской и фрейдовской критики заключалась в том, чтобы подвергнуть принцип обязательства, в основе которого лежит этический бог кантовской философии, регрессивному анализу, разоблачающему априорный характер этого принципа. Редуктивная герменевтика превращает путь к генеалогии в своею рода априорный принцип. Тогда то, что представляется в качестве требования, то есть формальный принцип обязательства, становится результатом скрытого процесса, отсылающего к акту обвинения, укорененного в воле. Конкретное обвинение превращается в таком случае в истину формального обязательства. Обвинение не может быть прерогативой рефлексивной философии, отделяющей априорное от эмпирического; одна лишь герменевтическая процедура в состоянии раскрыть обвинение в его связи с обязательством. Заменяя самый что ни на есть абстрактный метод, каким является категориальный анализ Канта, на филолого-генеалогический метод, редуктивная герменевтика обнаруживает по ту сторону практического разума действие инстинктов, выраже-
ние страха и желания: за так называемой автономной волей скрывается злопамятство практической воли, воля слабых. Благодаря такой экзегезе и такой генеалогии моральный бог — говоря словами Ницше — предстает как бог обвинения и предписания. Вот он каков, отвергнутый бог.
Мы, стало быть, подошли ко второму вопросу: кто является убийцей? Убийцей является не атеист, а своеобразное «ничто», живущее внутри идеала, недостающая абсолютность «Сверх-Я». Убийца морального бога не кто иной, как описанный Ницше культурный процесс, нигилистический процесс, или, говоря психологическими понятиями Фрейда, не что иное, как скорбь, связанная с образом отца.
Но как только мы подходим к третьему вопросу: какого рода влиянием обладает слово, возвещающее о смерти морального бога? — все сразу становится проблематичным. Мы хотим знать, каков тот бог, что умер; и отвечаем: моральный бог; мы верим, что знаем причину этой смерти: саморазрушение метафизики с помощью нигилизма. Однако все становится сомнительным, как только мы задаемся вопросом: кто это сказал? Безумец? Заратустра? Безумец в облике Заратустры? Может быть. Во всяком случае, мы можем мыслить с помощью негативных терминов — но не в этом состоит убеждающая сила мышления. «Человек со странностями» обладает авторитетом только по отношению к тому, что он провозглашает, — суверенность воли к власти. Ничто не доказывает это, кроме нового образа жизни, который способны открыть эти слова, кроме «да», сказанного Дионису, кроме преклонения перед судьбой, кроме согласия на «вечное возвращение». Так позитивная философия Ницше, которая одна только в состоянии сделать авторитетной собственную негативную герменевтику, остается погребенной под руинами, нагроможденными вокруг нее самим же Ницше. Может быть, никому не дано жить так, как живет Заратустра; сам Ницше, человек со странностями, не является сверх-человеком, которого он провозглашает: его агрессивность, направленная против христианства, проникнута чувством злопамятства; его протест не является и не может быть протестом пророка; его главное дело — это обвинение обвинения, и
осуществляется оно по сю сторону простого утверждения жизни.
Вот почему я думаю, что ничто не решено, что и после Ницше все остается открытым, и я полагаю, что единственный путь, который отныне закрыт, — это путь онто-те-ологии, кульминирующейся в моральном боге и в понятой как принцип и основание этике запрета и осуждения. Мне представляется, что отныне мы не способны учредить такую форму моральной жизни, которая была бы простым подчинением предписаниям чужой воли, даже если это — высшая воля, выступающая в качестве воли божественной. Мы должны счесть за благо критику этики и религии, принадлежащую школе подозрения: она научила нас различать, что в тех предписаниях, какие диктует нам не жизнь, а смерть, является следствием, а что проектом.
П. Теперь вопрос стоит как никогда настоятельно и оза-дачивающе: можем ли мы признать какое бы то ни было религиозное значение атеизма? Разумеется, нет, если мы берем слово «религия» в узком смысле — в смысле архаического отношения человека к грозящей опасностью воле Священного; но если верно, что «отвергнут лишь моральный Бог», то путь перед нами открыт — путь, полный сомнений и опасностей, по которому мы будем пытаться идти.
Как ступить на этот путь? Мы можем попытаться идти прямо к цели и дать название — новое и вместе с тем неновое — этой последней стадии нашего предприятия, обозначив ее словом «вера» (foi). Я взял на себя смелость утверждать это, когда во Введении, ссылаясь на атеизм, говорил о диалектическом взаимоотношении между религией и верой; но там же я отмечал, что философ не может двигаться поспешно и заходить слишком далеко: только проповедник, я хочу сказать, проповедник-пророк, обладающий силой и свободой ницшевского Заратустры, в состоянии одним махом совершить радикальный поворот в сторону истока иудео-христианской веры и сделать этот поворот событием для нашего времени; такая проповедь стала бы изначальной и пост-религиозной одновременно. Философ не является таким проповедником-пророком, более того, он подобен Кьеркегору, говорящему о себе самом, что
он * певец религиозности»; он имеет в виду проповедника-пророка, который мог бы осуществить послание, содержащееся в Книге Исхода и предшествующее любому закону: «Я Господь Бог ваш, изведший вас (из земли Египетской) из-под ига Египетского»; он рисует в своем уме образ проповедника, произнесшего всего одно слово: «освобождение» и никогда не изрекавшего слов запрета и осуждения; говорившего о распятии и воскресении Христа как о начале творческой жизни и выведшего все следствия из антиномии между Евангелием и Законом, которую подчеркивал св. Павел и которая имела бы значение для наших дней; согласно этой антиномии, сам грех возникает, скорее, не как результат нарушения запрета, а как противоречие жизни под знаком благодати; грех в таком случае означал бы жизнь в соответствии с законом, то есть способ бытия человеческой экзистенции, оказавшейся заточенной между законом и его нарушением, виновностью и бунтом. Философ не является такого рода проповедником-пророком по нескольким причинам: прежде всего потому, что он принадлежит иссушеному, испытывающему жажду времени, когда христианство как культурное образование все еще остается «платонизмом для народа», своего рода законом, как его понимал св. Павел; во-вторых, нигилизм еще не исчерпал себя: он не достиг еще собственных вершин; работа скорби, связанная со смертью богов, еще не завершилась, но именно в такое безвременье философ начинает усиленно предаваться размышлению. В-третьих, философ, будучи ответственным мыслителем, держится на расстоянии и от атеизма и от веры, поскольку не может довольствоваться тем, что находится бок о бок с редукционистской герменевтикой, развенчивающей мертвых идолов, и герменевтикой позитивной, которой надлежит по ту сторону смерти морального бога перетолковать библейскую кериг-му, то есть керигму пророков к первоначального христианского сообщества; ответственность философа призывает его мыслить, иными словами, идти вглубь ныне существующей антиномии, чтобы достичь такого уровня вопроша-ния, на котором возможно опосредованное атеизмом взаимодействие между религией и верой. Такое опосредование должно достигаться долгим, окольным путем; порой оно может представляться как дорога, ведущая в никуда.
Хайдеггер называет такого рода попытки Holzwege, «неторными тропами», никуда не ведущими, кроме лесной чащи, где необходима работа дровосека.
Я полагаю, что мы сделали два шага по этой обходной дороге, по этому пути, и он, может быть, и есть один из тех путей Holzwege, о которых говорил Хайдеггер.
Прежде всего я хотел бы определить мое отношение к слову — слову поэта или мыслителя, то есть к любому слову, которое что-то говорит, что-то раскрывает относитель-но человеческого существа и самого бытия. Именно в отношении к слову, к любому значимому слову, существует некое обязательство, полностью лишенное какой бы то ни было этической окраски; как раз это не-этическое обязательство поможет нам выбраться из лабиринта теории ценностей, которая, может быть, является наиболее уязвимым пунктом самой философии.
Следует признать, что сегодня философия находится в тупике, если иметь в виду проблему происхождения ценностей; мы вынуждены выбирать между творческим бессилием ценностей и их интуитивным бессилием; такое теоретическое затруднение находит отражение в практической антиномии между подчинением и бунтом, которая пронизывает нашу повседневную педагогику, равно как и политику, и этику. Если на этом уровне нельзя принять какое-либо решение, то нам остается идти в обратном направлении, чтобы выбраться из тупика и попытаться поразмыслить о проблеме автономии и подчинения — на первых порах безотносительно к этике.
Единственно возможным мышлением в рамках этики является мышление, безотносительное к этике. Чтобы достичь этой цели, нам необходимо прежде определить то место, где автономия нашей воли укоренена, пребывая в зависимости и повиновении, которые уже не были бы связаны с обвинением, запретом и осуждением. Таким доэти-ческим местом было место «слушания»; так обнаруживается бытие, которое еще не является действующим и, в силу этого, избегает альтернативы подчинения и бунта. Гераклит говорил: «Не мне, а логосу внимая»[286]. Когда слово что-то говорит, когда оно раскрывает не только нечто, относящееся к смыслу человеческих существ, но и к бытию как таковому, как это бывает у поэта, тогда мы находимся
лицом к лицу с тем, что можно было бы назвать событием слова: говорится что-то такое, что идет не от меня, то, чем я не владею. Слово не находится в моем распоряжении, как рабочие инструменты или продукты и товары потребления; в событии слова я ничем не располагаю, я даже не располагаю самим собой, я не являюсь более господином, я пребываю по ту сторону всего этого, влекомый заботой, тревогой. Именно в этой ситуации негосподства коренится исток и подчинения и свободы одновременно. В «Бытии и времени» Хайдеггера мы читаем: «Наслаивание дискурса в том, что понимается, и в том, что доступно пониманию, становится очевидным, как только мы останавливаемся перед экзистенциальной возможностью, обнаруживающей сущность самого дискурса: вслушивание; мы не случайно говорим, что не понимаем, когда слышим (внимаем) что-либо неотчетливо. Вслушивание неотступно следует за дискурсом… Тут-бытие внимает потому, что оно понимает. Поскольку оно есть бытие в мире и бытие с «другим», обладающим способностью понимать, тут бытие внимает тому, кто сосуществует с ним и в нем; сосуществующие представляют собой совокупность, подчиненную закону этого внимания»*. Не случайно в большинстве языков слово «повиновение» обнаруживает семантическую близость к слову «слушание»; слушать (нем. horchen) означает возможность повиноваться (gehorchen). Между словом, слушанием и повиновением все время осуществляется циркуляция смысла: «изначальное экзистенциальное знание-слушание делает возможным акт слушания, который сам феноменально является более изначальным, чем то, что психолог обычно определяет как наличное слушание, то есть ощущение звука и восприятие шума. Это слушание надстраивается над способом вслушивания понимающего бытия»**. Понимающее вслушивание и является центром нашей проблемы.
Разумеется, ничто не может сказать о слове лучше, чем слово Божие; и хорошо, что дело обстоит таким образом; в этом отношении философ далек от того, чтобы суметь обозначить слово, которое вполне соответствовало бы назва-
* Heidegger. L'Etre et le Temps. P. 201–202. ** Ibid. P. 202.
нию слова Божия; но он в состоянии указать на такой способ бытия, который экзистенциально был бы способен на то, что есть слово Божие: «внимательное и взаимное вслушивание друг в друга, каким является «бытие с другим», осуществляется в соответствии с возможными способами повиновения («послушания») и согласия, или в соответствии с негативными способами — отказываться слушать, быть в оппозиции, бросать вызов, испытывать неприязнь»*. Таким образом, до всякого морального воспитания и любого морализирования мы прежде всего различаем в слушании основание других способов «слушания»: следовать ему и не слышать. Такое слушание (hören) включает в себя принадлежность (zugehören), образующую до-этическое повиновение, на которое я стремлюсь ориентироваться.
Но это не все. Не только слушание обладает экзистенциальным приоритетом по отношению к повиновению, но и сохранение тишины, молчание, предшествующее говорению. Стоит ли специально останавливаться на молчании? Да, если молчание не означает немоты. Хранить молчание значит одновременно и слушать, позволять вещам самим высказываться о себе. Молчание открывает перед слушающим целый мир: «Одно и то же экзистенциальное основание обладает и другой сущностной способностью к дискурсу — молчанием. Тот, кто в диалоге хранит молчание, может «заставить себя понимать» более подлинным образом, то есть больше требовать развития понимания, чем тот, кто ни на минуту не закрывает рта. Многословие по любому поводу не гарантирует того, что мы заставим понимание идти вперед; неистощимая болтовня, напротив, маскирует то, что мы надеялись понять, и ведет к обманчивой ясности, то есть к банальному непониманию… Один лишь подлинный дискурс расчищает путь для подлинного молчания. Чтобы хранить молчание, тут-бытие должно иметь что сказать, а это означает, что оно должно быть способно на подлинное самораскрытие и саморазвитие; именно в такой момент молчание обретает свой подлинный смысл и заставляет «болтовню» отступить; молчание как способ говорения столь своеобразно связано с пониманием тут-бытия, что оказывается в состоянии обосновать под-
•' Heidegger. L'Etre et le Temps. P. 202.
линное знание-слушание и бытие во всей его ясности»*. Мы подошли к такому моменту, когда молчание становится источником слушания и повиновения.
Этот анализ и «фундаментальный анализ Dasein*, к которому он принадлежит, открывает пути приближения к горизонту, связанному с отношением к Богу как к слову, которое предшествовало бы всякому запрету и всякому обвинению. Я готов признать, что не столкнулся бы с событием слова, которое само называет себя достоверным, если бы шел путем простого истолкования категорий практического разума. Искомый нами Бог не будет источником морального обязательства, автором установлений, который метил бы печатью абсолюта этический опыт человека; напротив, подобный ход размышлений не позволяет керигме затеряться в лабиринте обязательств и долга.
Теперь сделаем еще один шаг вперед. Какого рода этику можно создать на основе подобного экзистенциального отношения к слову? Если сегодня мы помним о работе скорби, как ее представляет атеизм, и говорим о не-этическом понимании, содержащемся в слушании и молчании, то мы готовы к тому, чтобы сформулировать этическую проблему в понятиях, по крайней мере на начальном этапе, которые сопрягались бы с запретом и были к тому же нейтральными по отношению к обвинению и предписанию. Попытаемся сформулировать первоначальную этическую проблему, которая соотносилась бы одновременно с разоблачением морального бога и с не-этическим предписанием, вытекающим из слова.
Эту этику, предшествующую морали обязательства, я назвал бы этикой желания быть, или этикой усилия, направленного на то, чтобы существовать. В истории философии известно одно беспрецедентное явление. Речь идет о Спинозе. Спиноза называет этикой процесс, в ходе которого человек переходит от рабства к красоте и свободе; этот процесс не управляется формальным принципом обязательства, еще менее он руководствуется интуицией относительно цели и ценностей; он находится во власти развития усилия, conatus, который полагает нас как существование, как конечный способ бытия. Мы говорим об усилии,
* Heidegger. L'Etre et le Temps. P. 203–204. 18 — 2256
но сюда следует присовокупить и желание, чтобы сразу же поставить в начальную точку этической проблематики идентичность между усилием (conatus Спинозы) и желанием (eros Платона и Фрейда); Фрейд, не колеблясь, признает: то, что он называет либидо и эросом, родственно эросу, о котором идет речь в «Пире». Под усилием я понимаю позицию в существовании, утверждающую мощь существования, включающую в себя неопределенное время, длительность, которая есть не что иное, как длительность существования; эта позиция в существовании лежит в основе начального утверждения, каким является утверждение «я есмь», Ich bin, lam. Однако это утверждение должно раскрыться, утвердиться, поскольку именно отсюда проистекает проблема зла — оно было отчуждено от благих порывов; вот почему оно должно быть вновь завоевано, воссоздано. Таким образом, вновь-присвоение нашего усилия существовать является задачей этики. Но поскольку наша возможность быть отчуждена от нас, это усилие так и остается неким желанием, а именно желанием быть; желание, как обычно, означает нехватку, потребность, требование. Это «ничто», лежащее в центре нашего существования, делает из усилия желание, уравнивая conatus Спинозы и eros Платона и Фрейда; утверждение бытия в условиях нехватки бытия — такова изначальная структура этической проблематики.
В этом радикальном смысле этика заключается в последовательном овладении нашим усилием быть.
Это радикальное измерение этической проблематики, так сказать, утаивается, если рассматривать обязательство в качестве принципа практического разума; формализм в этике скрывает диалектику человеческой деятельности, или, используя более сильное выражение, диалектику человеческого акта существования. Последний обнаруживается с помощью проблематики априорного принципа практического разума. Я называю эту проблематику производной, поскольку, как мне представляется, она вытекает из критики чистого разума, где обретает свое полное значение, беря начало в рамках регрессивного анализа, ведущего к категориальным структурам, которые делают возможным познавательную деятельность. Но может ли та же самая дихотомия между эмпирическим и априорным распространяться на внутреннюю структуру человеческой деятельности, на то, что я назвал бы диалектикой существования? Я сомневаюсь в этом. Подобный перенос в область практического разума различия, получающего свое полное значение в первой критике, является причиной кан-товского противопоставления между обязательством, рассматриваемым в качестве априори воли, и желанием, представляющим собой эмпирический элемент деятельности. Исключение желания из этической сферы имеет пагубные последствия: устремленность к счастью как материальный принцип воли исключается из рассуждений моралиста; формальный принцип обязательства, таким образом, изолируется от процесса деятельности; этический ригоризм занимает место спинозистской проблематики красоты и свободы. Герменевтика Ницше и Фрейда ставит под вопрос эту привилегию формализма как основания этики. Отныне формализм выступает в качестве рационализации второго уровня, являющейся результатом переноса в область практического разума различия, свойственного сфере теоретического разума.
Означает ли это, что проблема обязательства не имеет этического значения? Нет, я так не считаю; разумеется, здесь есть место запрету, но запрет этот не принадлежит к сфере истока, принципа; более того — он является принципом объективности нашей доброй ноли. То же можно было бы сказать и о понятии ценности: ей также здесь есть место, но она не первична; понятие ценности возникает на определенной стадии этической рефлексии, когда перед нами возникает необходимость уяснить связь наших возможностей с определенной ситуацией, институтами, структурами экономической, политической и культурной жизни; ценность возникает в точке пересечения нашего бесконечного желания быть и конечных условий его актуализации. Эта функция ценности не дает нам права на преувеличение значения высшей Ценности, как и на поклонение идолу ценности. Здесь вполне достаточно связать процесс оценки и ценность с диалектикой деятельности и с историческими условиями этического опыта человека.
Разумеется, не одна только герменевтика Ницше и Фрейда предполагает соотнесение этического формализма и процесса образования ценностей исходя из экзистенциальной
основы Hainero усилия и нашего желания. Развиваемая нами философия слова требует того же. Когда мы говорим о слове как живой и пребывающей в движении реальности, мы ссылаемся на невидимую связь между словом и активным ядром нашего существования; слово обладает способностью изменять понимание, относящееся к нам самим. Эта способность в таком случае по изначальной своей природе не принадлежит к области императива; прежде чем адресоваться желанию в качестве приказания, которое должно быть исполнено, слово адресуется тому, что я назвал нашим существованием, понятым как усилие и желание; оно изменяет нас не потому, что какая-то воля воздействует на нашу волю, а потому, что мы испытываем воздействие «понимающего слушания». Слово доходит до нас на уровне символических структур нашего существования, динамических схем, выражающих наш способ понимания собственной участи и проецирующих наши способности на нашу ситуацию. Стало быть, существует что-то такое, что предшествует воле и принципу обязательства и является, по Канту, априорной структурой воли. Это «что-то» есть само наше существование, способное изменяться под воздействием слова. Внутренняя связь между нашим желанием быть и воздействующей силой слова является следствием акта слушания, заставляющего внимать и повиноваться, о чем мы говорили выше. Эта связь, в свою очередь, делает возможным то, что мы обозначаем с помощью привычных терминов «воля», «оценка», «решение», «выбор». Такая психология воли есть всего лишь проекция на нас самих более глубокой связи, существующей между смыслом присутствия, пониманием и решимостью, если воспользоваться главными понятиями хайдеггеровского анализа Dasein. Таков второй шаг на долгом пути от атеизма к вере. В настоящем исследовании я не пойду слишком далеко. Я охотно соглашусь с тем, что оно отнюдь не достигает своей цели. Во всяком случае, последующая дискуссия по поводу утешения и смирения, вероятно, позволит нам сделать еще несколько шагов вперед в этом направлений. Но и после нового предпринятого исследования останется непреодоленной бездна, отделяющая нескончаемое изучение философских предпосылок и всесильные проповеди проповедника. Тем не менее, вопреки этому, может появиться опре-
деленное соответствие между теологией, остающейся верной своему истоку, и философским анализом, который вознамерится критиковать религию с помощью атеизма. Я выскажу свои суждения по поводу этого соответствия в следующем очерке.
2. ОБ УТЕШЕНИИ
I. Связь между обвинением и утешением является, может быть, самой поразительной чертой религии. Бог и угрожает и покровительствует. Существует наивысшая опасность, но и наивысшее покровительство. В самых примитивных теологиях, следы которых мы можем обнаружить в Ветхом Завете, эти два лика божества связывались в одну рациональную фигуру, в закон воздаяния. Бог, оказывающий покровительство, — это моральный Бог: он смягчает очевидный диссонанс в распределении судеб, связывая страдание со злобностью, счастье — со справедливостью. В угоду этому закону воздаяния бог, который угрожает, и бог, который покровительствует, — это один и тот же бог: моральный бог. Подобная архаическая рационализация делает из религии не только абсолютное основание морали, но и Weltanschauung, то есть моральное видение мира, включенное в спекулятивную космологию. Будучи провидением (pronoia — греч.9 providentia — ла/n.), моральный бог является распорядителем в мире, подчиненном закону воздаяния. Такова, может быть, всеобъемлющая и самая архаичная структура религии. Но подобное религиозное видение мира никогда не исчерпывало собой все возможные отношения человека к Богу, и во все времена существовали люди веры, отбрасывавшие его как от начала и до конца кощунственное. Уже в вавилонской и библейской литературах (и более всего — в Книге Иова), в текстах, известных как назидательные, подлинная вера в Бога с невероятной силой противостояла этому закону воздаяния; впоследствии эта вера будет определена как вера трагическая, пребывающая по ту сторону любого покровительства и защиты.
Отсюда вытекает моя рабочая гипотеза: атеизм по меньшей мере означает отмену морального бога не только в качестве глубинного истока наказания, но и в качестве глубинного истока покровительства и провидения.
Однако если атеизм должен иметь определенное религиозное значение, то смерть провиденциального бога может направить к новой вере — вере трагической, которая в классической метафизике будет тем же, чем в архаическом законе воздаяния была вера Иова, проповедуемая его самыми благоговейными почитателями. Под «метафизикой» я понимаю здесь сплав философии и теологии, принявший форму теодицеи и имеющий целью защиту и оправдание добродетели и всемогущества бога перед лицом зла. Теодицея Лейбница является моделью всех начинаний, предпринятых для постижения провиденциального закона мира, то есть закона, выражающего подчинение физических законов этическим, отмеченным божественной справедливостью.
Я не имею намерения критиковать теодицею, опираясь на ее собственную аргументацию, то есть на эпистемологическое основание, как это делал Кант в своих знаменитых работах, направленных против лейбницевских и постлейб-ницевских теодицей. Эта критика, как известно, была обращена главным образом против телеологических понятий вообще и против понятия о конечной причине в частности; она, безусловно, заслуживает того, чтобы рассмотреть ее со всей тщательностью. Имея в виду предшествующие исследования, я все же предпочту остановиться на атеизме Фрейда и Ницше, и вот почему: прежде всего потому, что критика морального бога находит свое завершение в критике религии как убежища и как протеста; далее, критика Фрейда и Ницше идет значительно дальше эпистемологической критики: углубляя свою аргументацию, она вместе с тем раскрывает и более глубокие слои мотивации, относящиеся к теодицее. Такое замещение эпистемологии герменевтикой касается не только теодицеи в ее лейбни-цевском истолковании, но и всех философий, претендующих на преодоление теодицеи и вместе с тем стремящихся достичь рационального согласия между законами природы и человеческим предназначением. Так, Кант, прежде чем подвергнуть критике Лейбница, пытается с помощью знаменитых постулатов практического разума примирить свободу и природу, опираясь на морального бога. Точно так же Гегель критикует Канта и его моральное видение мира, создавая рациональную систему, где примиряются все противоречия: идеальное не противостоит более реальному, оно превращается в имманентную закономерность; в глазах Ницше философия Гегеля реализует существо любой моральной философии. Разумеется, подобная насильственная редукция к морали столь различных философий, как философия Лейбница, Канта и Гегеля, неприемлема с точки зрения историка философии, который должен поддерживать своеобразную рациональную структуру каждой из них и не допускать смешения всех философий классического периода под эгидой морали; однако с помощью того же самого насилия, сокращающего и уничтожающего самые очевидные различия, Ницше расчищает путь для герменевтики, которая обнаруживает за самыми что ни на есть противоположными философскими подходами общий для всех них мотив. Смысл этой герменевтики коренится в своего рода воле, выражающей себя в стремлении к рациональному примирению, идет ли речь о теодицее Лейбница, кантовских постулатах практического разума или об абсолютном знании Гегеля. Для Ницше воля, которая скрывается за этими рационализациями, непременно отличается слабостью; слабость ее состоит как раз в обращении к видению мира, где этический принцип, называемый Ницше идеалом, господствует над реальными процессами. Цель и смысл такого демарша в следующем: любая эпистемологическая критика телеологии переносится в герменевтику воли к власти, соотносящую предшествовавшие ей доктрины с тем, насколько слаба или сильна в них воля, с ее негативным или позитивным предрасположением, с ее инертным или активным импульсом.
В первом очерке мы прервали наше рассуждение о ниц-шевской герменевтике в том месте, где она выступает в качестве «обвинения обвинения»; в этом отношении она справедлива тогда, когда речь идет о запрете; более того, свойственный Ницше способ философствования заставляет обратить особое внимание на критическую сторону его деятельности: последняя, по существу, заключается в обвинении обвинения и связана со своего рода злопамятством, в котором сама же упрекает моралистов.
Теперь нам надо продвинуться еще немного вперед. Наша критика метафизики и ее стремления к рациональному примирению должна привести к позитивной онтологии по ту сторону злопамятства и обвинения. Такого рода позитивная онтология заключается в абсолютно неэтическом видении, которое Ницше описал как «невинность необхо* димого» (die Unschuld des Werdens)[287]. Таково другое название того, что он понимает под выражением «по ту сторону добра и зла». Разумеется, подобная онтология не может быть догматической, если не хочет стать объектом собственной критики; она должна оставаться интерпретацией, неотделимой от интерпретации всех интерпретаций; и нет никакой уверенности в том, что такая философия сможет избежать саморазрушения. Более того, такая онтология с неизбежностью будет находиться в русле мифологии — будь то мифология, как ее понимали греки (дионисийская мифология), или мифология, выраженная на языке современной космологии (например, миф о вечном возвращении), либо мифология, о которой говорит философия истории (миф о сверхчеловеке), либо, наконец, мифология, существующая по ту сторону противостояния отмеченных трех мифологий (миф о мире как игре). Все они говорят об одном и том же — об отсутствии вины, о том, что этического измерения бытия не существует вовсе.
Противостоя этой крайней позиции, я не имею намерения ни доказывать, ни отвергать ее правоту, и еще менее я хотел бы использовать ее в целях утонченной апологетики религиозной веры или превращения ее в религиозную веру. Я оставляю ее в покое, там, где она существует один на один сама с собой и где она, быть может, является недосягаемой и недоступной для любого повторения. И там она будет служить наилучшим опровержением радикальности, той радикальности, какой мне необходимо мерить самого себя; я говорю себе: о чем бы я ни думал, во что бы я ни верил, я должен быть достоин ее.
Но прежде чем вернуться на дорогу, ведущую от атеизма к вере, о которой я говорил выше, я хотел бы, опираясь на Фрейда, разъяснить некоторые моменты ницшевской критики религии. Мифология, представленная ницшевской идеей о невинности необходимого, имеет свой прозаический эквивалент в том, что Фрейд называл принципом реальности. И вовсе не случайно, что Фрейд, имея в виду этот принцип, дает ему порой другое название, что заставляет вспомнить ницшевскую любовь к року — Ананке, то есть необходимость, почерпнутую из греческой трагедии и напоминающую, по мысли Ницше, любовь к року. Известно, что Фрейд постоянно противопоставляет принцип реальности принципу удовольствия и всем мыслительным образованиям, находящимся под его влиянием, то есть всем видам иллюзии.
Именно отсюда вытекает соответствующая критика религии, свойственная работам Фрейда. Я уже неоднократно подчеркивал: для Фрейда религия ни в коей мере не является инстанцией абсолютного одобрения по отношению к требованиям морального сознания; религия — это компенсация за тяготы жизни, и в этом смысле религия — наивысшая функция культуры; ее задача — поддерживать человека в его противостоянии превосходящей его природе и возмещать импульсные потери, которые он несет, пребывая в обществе. Новый лик религии, который она обращает к человеку, отмечен чертами не запрета, а покровительства. Тем самым религия апеллирует скорее к желанию, а не к страху.
Данный регрессивно-редуктивный анализ вновь приводит нас к понятию о коллективном образе отца; однако образ отца теперь представляется более противоречивым, более амбивалентным; теперь это образ не только наказывающий, но и оберегающий; он не соответствует более одному нашему страху наказания, он отвечает нашему желанию получить покровительство и утешение; имя этого желания — ностальгия по отцу. Религия, стало быть, исходит из принципа удовольствия, становясь одним из самых его изощренных и самых замаскированных образов. Отныне принцип реальности включает в себя преодоление этой ностальгии по отцу не только на уровне страха, но и на уровне желания. Непредвзятое видение образа отца — вот какую цену приходится платить за подобное возвеличение желания.
Именно в этом пункте Фрейд сближается с Ницше; фрейдовское преобразование принципа удовольствия в принцип реальности имеет то же значение, что и ницшевское преобразование морального видения мира в невинность необходимого и в понимание мира как «игры». Фрейд менее лиричен, чем Ницше; он гораздо ближе к смирению, чем к ликованию; Фрейд слишком хорошо знаком с людскими нуждами, чтобы предполагать что-то иное, кроме простого согласия с неумолимым ходом истории, и он слишком сильно зависит от холодно-научного видения мира, чтобы отдаться во власть безотчетной лирики. Тем не менее в последних работах Фрейда тема Ананке смягчена и уравновешена другой темой, сближающей его с Ницше: я имею в виду тему Эроса, возвращающую Фрейда к фаустовскому мотиву его молодости, к которому привели его научные изыскания. Философские наклонности Фрейда определены, вероятно, подспудной борьбой между позитивистски трактуемым смыслом реальности и романтически понимаемым смыслом жизни. Когда Фрейдом овладевает вторая тема, то нам так и слышится голос Ницше: «Теперь мы можем ожидать, что одна из двух небесных возможностей — вечный Эрос утвердит себя в борьбе против своего не менее бессмертного ниспровергателя»; этим ниспровергателем является смерть. Величественная драматургия Эроса и Танато-са, лежащая в основании неумолимых законов природы, — таков отголосок Ницше в творчестве Фрейда. Сдержанная мифология Фрейда, умеряющая пыл ученого, никогда не имела одновременно лирической и философской силы, какой обладала мифология Ницше; но в определенном смысле она приближает Ницше к нам: благодаря Фрейду кое-что из сурового воспитания Sils-Maria[288] доходит и до нас.
П. Какого рода вера может устоять под натиском критики Фрейда и Ницше?
В первом очерке я уже говорил о профетической проповеди, которая в состоянии вернуть нас к истокам иудео-христианской веры и вместе с тем стать исходной точкой для современности. Если иметь в виду проблему обвинения, то значение этой проповеди заключается уже в том, что в ней было произнесено слово «освобождение», из которого можно вывести все следствия, соответствующие современности, где господствует антиномия между Евангелием и За-
коном, о чем говорил св. Павел. Что касается проблемы утешения, эта профетическая проповедь явилась наследницей трагической веры Иова; она заняла ту же позицию по отношению к телеологическим метафизикам западной философии, какую Иов занял по отношению к благоговейным речам своих друзей относительно бога воздаяния. Эта вера будет прокладывать себе путь в темноте, в новых «потемках разумения», если воспользоваться словами мистиков, перед лицом Бога, лишенного провидческих атрибутов, Бога, который перестанет мне покровительствовать и направит меня по полному опасностей пути, достойному названия «человеческая жизнь», Разве это — не Распятый Бог, не Бог, чья слабость единственно в состоянии мне помочь, как говорит Бонхёффер?[289] То, что для разумения погружено в потемки, погружено в потемки прежде всего и для желания, как и для страха, как и для мечты об отце-покровителе. Только по ту сторону этой тьмы может быть раскрыто подлинное значение Бога утешения, Бога воскресения, римско-византийского Пантократора.
Попробуем представить себе этого проповедника-пророка; порой, кажется, я слышу его слова, но повторяю еще раз: философ не является таким проповедником-пророком. Его мышление разворачивается где-то в промежутке между нигилизмом и чистой верой; но задача его, как никого другого, не заключается в том, чтобы с помощью зыбкой эклектики примирить герменевтику, разрушающую старых идолов, и герменевтику, воссоздающую керигму. Мыслить — значит идти вглубь, пробиваться к тем пластам, где при посредничестве атеизма возможно взаимодействие между религией и верой; такое взаимодействие возможно на долгом обходном пути, если не на потерянной дороге. Мы, может быть, сделаем несколько шагов в этом направлении, так как освобождение от страха наказания и от жажды покровительства представляет собой один и тот же процесс — выход за пределы того, что Ницше называл «духом мести».
Первый шаг: вспомним, что в нашем отношении к слову — к слову поэта и мыслителя, как, впрочем, и к любому другому слову, раскрывающему что-то относительно на-
шей участи в целостном бытии, — мы обрели исходную точку, исток и модель «повиновения бытию» вне всякого страха перед наказанием, по ту сторону любого запрета и принуждения. Вероятно, в этом повиновении мы сможем найти также и источник утешения, которое будет столь же далеко от детского желания покровительства, как повиновение от страха наказания. Мое изначальное отношение к слову, когда я получаю его исполненным значения, не только не нейтрализует любое обвинение и, стало быть, любой страх, но и выносит за скобки мое желание покровительства; оно, так сказать, оказывается вне нарциссизма моего желания. Я вступаю в царство значений, где вопрос стоит уже не обо мне самом, но о бытии как таковом. Целостность бытия проявляется в забвении моих желаний и моих целей.
Такое раскрытие бытия без личной озабоченности, с помощью полновесного слова уже было осуществлено в откровении, которым завершается Книга Иова: «Господь отвечал Иову из бури и сказал…»[290] Что же он сказал? Ничего такого, что можно было бы воспринять как ответ на проблему оправдания Бога в теодицее; напротив того, он говорил так, как несвойственно говорить человеку, и о том, что никак не соотносится с человеком: «Где был ты, когда Я полагал основания Земли?»[291] Путь теодицеи закрыт; даже образы Бегемота и Левиафана[292], в которых воскресение достигает своего наивысшего значения, не имеют никакого отношения к личной проблеме Иова; никакая телеология не рождается из бури, как не возникает из бури и никакая интеллигибельная связь между физическим и этическим порядками; остается одно только слово — из него и развивается полнота всего; остается одна лишь возможность согласия, которое было первой ступенью утешения по ту сторону желания покровительства.
Я называю эту ступень смирением.
В каком смысле смирение, не имеющее этического содержания, образует первую ступень утешения? В том смысле, что это неэтическое содержание не противоречит слову, — вопреки тому факту, что оно чуждо моим нарцисси-ческим интересам. Бытие может быть сведено к слову.
Для Иова откровение с самого начала было не видением, но голосом. Господь говорит — вот в чем суть. Он говорит не об Иове. Он говорит Иову, и этого достаточно. Событие слова само по себе создает связь; ситуация диалога в нем является способом утешения. Событие слова — это глагол-обязательство бытия; слушание слова делает возможным видение мира как некоего порядка: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя»[293]. Но в таком случае вопрошание Иова о себе самом не получает ответа, оно утрачивает смысл вследствие смещения центра, которое происходит под воздействием слова.
Здесь мы вернемся от Иова к досократикам. Досокра-тические мыслители также заметили смещение центра, осуществленное благодаря слову: «Быть и быть мыслимым значит одно и то же». В этом — фундаментальная возможность утешения; единство бытия и логоса делает возможной принадлежность человека целому, каковым является говорящее бытие. Поскольку мое слово принадлежит слову как таковому, поскольку говорение, свойственное моему языку, принадлежит говорению бытия, я не требую более того, чтобы мое желание примирилось с природным порядком; в подобного рода принадлежности коренится исток не только повиновения, лежащего по ту сторону страха, но и согласия за пределами желания.
Рассмотрим подробнее понятие согласие. Это будет нашим вторым шагом. Мы не станем обсуждать его в психологических терминах: философ не терапевт, он избавлен от желаний, поскольку превращает их в идеи. Вот почему, чтобы перейти от желания покровительства к согласию, следует избрать трудный путь критики, направленной на своего рода метафизику, имплицитно присутствующую в желании заступничества.
Метафизика, о которой здесь идет речь, и есть метафизика, стремящаяся связать ценность и факт внутри системы, которую мы любим называть смыслом Вселенной, или смыслом жизни. В такого рода системе естественный и этический порядки объединены в тотальность более высокого уровня. Вопрос заключается в том, чтобы узнать, не проистекает ли данное стремление из забвения того единства, которое имели в виду сократики[294], говоря об идентичности бытия и логоса. Как известно, именно этот вопрос Хайдеггер поставил перед метафизикой. Сами понятия ценности и факта, между которыми мы располагаем царство реальности, уже свидетельствуют об утрате изначального единства, в котором нет еще ни ценности, ни факта, ни этики, ни физики. Если дело обстоит таким образом, то мы не должны удивляться своей неспособности соединить вместе распавшиеся фрагменты потерянного единства. Что касается меня, то я весьма серьезно воспринимаю этот вопрос Хайдеггера. Может статься, все построения классической метафизики, где речь идет о подчинении причинных законов законам конечным, представляют собой отчаянную попытку воссоздать единство на таком уровне, который сам был бы результатом кардинального забвения вопроса о бытии. В работе, названной «Время картины мира», Хайдеггер характеризует эпоху метафизики как эпоху, в которую сущее «становится предметом объясняющего представления»: «впервые сущее определяется как предметность представления, а истина — как достоверность представления в метафизике Декарта»*. В то же время мир превращается в картину мира: «где мир становится картиной (Bild), там к сущему в целом приступают как к тому, на что человек нацелен и что он поэтому хочет соответственно преподнести себе, иметь перед собой и тем самым в решительном смысле представить пред собой»**. Репрезентативный характер сущего является коррелятом возникновения человека в качестве субъекта. Человек ставит себя в центр картины; отныне сущее предстает перед человеком как предметно-наличное. Позже, благодаря Канту, Фихте, а за ними и самому Ницше, человек-субъект превратится в человека-волю. Воля становится истоком ценностей, в то время как мир отступает на второй план в качестве простого факта, лишенного ценности. Отсюда рукой подать до нигилизма. Между субъектом, предстоящим самому себе в качестве истока ценностей, и миром, развертывающимся как совокупность картин, лишенных ценностей, пролегает непреодолимая пропасть. До тех пор, пока мы будем рассматривать мир в качестве объекта представлений, а человеческую
* Heidegger. Chemins qui ne mènent nulle part. P. 79. ** Ibid. P. 81.
волю — в качестве ценностной позиции, примирение и объединение здесь невозможны. Нигилизм есть историческое подтверждение этой невозможности. В частности, нигилизм высвечивает поражение метафизического Бога в деле примирения, поражение всех попыток дополнить каузальность телеологией. Поскольку проблема Бога ставится в этих терминах и на данном уровне, сам вопрос о Боге проистекает из забвения, породившего понятие мира как объекта представлений и понятие человека как полагающего ценности субъекта.
Вот почему нам необходимо вернуться назад, к тому пункту, где еще не было дихотомического деления на субъект и объект, если мы хотим преодолеть вытекающие из него антиномии — ценности и факта, телеологии и причинности, человека и мира. Это попятное движение приведет нас не к мрачной философии идентичности, а к обнаружению бытия как логоса, объединяющего все вещи.
Если дело пойдет таким образом, то ответ на вопрос, поставленный Ницше, будет исходить скорее из размышлений об объединяющем логосе, нежели из возникновения воли к власти, которая, может быть, все еще принадлежит эпохе метафизики, где человек определялся как воля. Для Хайдеггера логос является аспектом, или измерением, нашего языка, связанного с вопросом о бытии. С помощью логоса вопрос о бытии переносится в сферу языка; благодаря логосу человек предстает не только как воля к власти, но и как бытие, вопрошающее о бытии.
Таков радикальный путь мышления, открывающий горизонты перед новым смыслом утешения, что могло бы превратить атеизм в реального посредника между религией и верой. Если человек фундаментально полагается как человек только тогда, когда он «объединен» логосом, который сам «соединяет все вещи», то утешение становится возможным, и оно будет не чем иным, как счастьем принадлежать логосу и бытию в качестве логоса. Это счастье возникает в первую очередь в «начальной поэтизации» (Urdich-tung), затем — в мышлении. Хайдеггер говорит в одном месте, что поэт видит священное, а мыслитель — бытие; пусть поэт и мыслитель пребывают на разных вершинах, но голоса их дополняют друг друга.
Сделаем еще один шаг в направлении к логосу, обладающему функцией утешения.
У Хайдеггера есть и другие выражения, имеющие ту же направленность; он говорит, что логос досократиков это то же самое, что physis*[255], но это не природа, противостоящая согласию, истории или духу. Physis — это нечто такое, что, объединяя, подчиняет себе; это то, что «превосходит» (das Überwältigende). Еще раз сошлемся на связь между Иовом и досократиками. В Книге Иова мы уже обнаружили нечто о «превосхождении» и об опыте присоединения к тому, что превосходит. Однако последний совершается не физически, не духовно, не мистически, а только в ясном «говорении» (Sagen). Логос не только означает являющее себя и объединяющее могущество, но также связывает поэта с этим собиранием под знаком превосходящего. Способность собирать вещи с помощью языка не принадлежит нам, говорящим субъектам, изначально. «Собирать» и «раскрывать» принадлежит в первую очередь тому, что превосходит и господствует, что древними греками было символически выражено словом physis. Язык менее всего был творением человека; способность говорить — это не то, чем мы располагаем, а то, что располагает нами; именно поэтому мы являемся хозяевами нашего языка, если только мы в состоянии быть «собраны», то есть способны присоединиться к тому, кто собирает. Следовательно, наш язык становится чем-то большим, нежели простейшее практическое средство общения с другими людьми и господства над природой; когда «говорение» становится «оказыванием» или, скорее, когда «оказывание» живет в «говорении» нашего языка, мы используем язык как дар, а мышление — как свидетельство признания этого дара. Мышление благодарит за дарованный язык и возрождается в форме утешения. Человек находит утешение, когда он с помощью языка дает вещам возможность быть или проявлять себя, поскольку Иов понимает язык как то, что объединяет и видит мир объединенным.
Кьеркегор называет это утешение «повторением»; в Книге Иова он находит это повторение, выраженное в мифической форме возвращения: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Итак, если «повторение», по Кьеркегору, не только иное название закона воздаяния, который Иов отверг, и окончательное оправдание бедных друзей Иова, которых Господь осудил, то оно может означать только одно — усвоение услышанного в том, что видишь. Понятие «повторение» в таком случае может стать эквивалентом темы досократиков; оно в существенных чертах напоминает досократическое понимание логоса как того, что объединяет, и physis как того, что превосходит и господствует. Скажу еще раз: Книга Иова и фрагменты Гераклита говорят об одном и том же.
Чтобы это понять, обратимся в последний раз к Ницше. Ницше также назвал «утешением» (Trost) неодолимое желание, «высшую надежду»: человек может быть преодолен. Почему он сослался на дающую утешение надежду? Потому что она несет в себе избавление от мести (Rache): «…да будет человек избавлен от мести — вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после долгих гроз»*. Избавление от мести лежит в центре наших рассуждений об утешении, поскольку месть означает, что «там, где было страдание, должно стать наказание». Хайдеггер комментирует это следующим образом: месть — это позорное преследование, само себе противодействующее, однозначно и по существу не имеющее морального смысла; критика мести сама по себе не является критикой моральной. Дух возмездия направлен против времени и против того, что проходит. Заратустра говорит: «Это и только это есть само мщение, отвращение воли ко времени и к его «было»»**. Месть есть противоволие воли (des Willens Widerwille) и в этом смысле — злопамятство по отношению ко времени; время проходит — вот что заставляет волю страдать, и она прибегает к отмщению, клевеща на то, что проходит, потому что оно проходит. Преодолеть месть — значит преодолеть «нет», присутствующее в «да».
Разве «возвращение» Заратустры не стоит близко к «повторению» Кьеркегора, почерпнутому им из Книги Иова, и к «собиранию», о котором Хайдеггер прочитал в трудах досократиков? Нельзя отрицать существующее здесь родство; но сходство было бы еще более впечатляющим, если
* Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra. Impartie, les Tarentules. ** Ibid. IIIe partie, la Grande Nostalgie.
бы Ницше сам не разделял духа возмездия в той мере, в какой оно остается «обвинением обвинения». В последних строках «Ессе Homo» мы читаем: «Поняли ли меня? Дионис против Распятого…»[296]. В этом заключается ограниченность Ницше. Почему же он не встал вровень с призывом Зарату-стры преодолеть месть? Не потому ли, что для Ницше сотворение сверхчеловека, способного победить месть, зависит от воли, а не от слова? Не остается ли по этой причине ницшевская воля к власти одновременно и согласием, и мщением? Одна только Gelassenheit[297], свидетельствующая о подчинении индивидуального языка дискурсу, является преодолением мести. Согласие должно соединиться с поэзией.
Хайдеггер так комментирует поэму Гёльдерлина, содержащую следующую строку: «dichterisch wohnt der Mensch» («…поэтически живет человек на этой земле»); в той мере, в какой поэтический акт является не простым заблуждением, а — благодаря акту сознания — началом конца блуждания, поэзия дает возможность человеку жить на земле. Так случается, когда мое отношение к языку переворачивается, когда язык говорит сам. Тогда человек отвечает языку, вслушиваясь в то, что он ему говорит; одновременно обитание становится для нас, смертных, «поэтическим». «Обитание» — это другое название кьеркегоровского «повторения», оно противоположно бегству. На самом деле Гёльдерлин говорит следующее: «Всезаслуженно и все же поэтично человек обитает на этой земле». В поэме Гёльдерлина внушается мысль о том, что человек обитает на этой земле в той мере, в какой между его устремленностью к небу, к богам, с одной стороны, и укорененностью его существования на земле, с другой, существует напряженная связь. Эта напряженность определяет меру акта обитания и его место. Поэзия, в соответствии со своей всеобщей распространенностью и радикальным пониманием, является тем, что укореняет обитание, располагая его между небом и землей, под небом, но на земле, там, где властвует слово.
Поэзия — это нечто большее, чем искусство создания поэм, она — poiesis, творчество в самом широком смысле слова; именно в этом своем статусе поэзия тождественна изначальному обитанию: человек живет только тогда, когда существуют поэты.
Философский анализ религиозного значения атеизма привел нас от смирения к согласию и от согласия к способу обитания на земле, руководствующемуся поэзией и мышлением. Этот способ бытия не является более «любовью к судьбе», он есть любовь к творчеству, включающему в себя определенный момент движения от атеизма к вере.
Любовь к творчеству есть форма утешения, не зависящего ни от какого внешнего вознаграждения и избегающего какого бы то ни было отмщения. Эта любовь в себе самой находит вознаграждение, она сама есть утешение.
Таким образом вырисовывается определенное соответствие между данным философским анализом и истолкованием керигмы, которая, оставаясь верной истокам иудео-христианской веры, будет усвоена современностью. Библейская вера представляет Бога, Бога пророков и Бога христианской Троицы, в качестве отца; атеизм учит нас тому, как отступиться от образа отца. Образ отца, изжитый в качестве идола, может быть восстановлен в качестве символа. Этот символ послужит основанием учения о любви; в теологии любви он станет эквивалентом последовательного восхождения, ведущего нас от простого смирения к поэтической жизни. Таково, как я понимаю, религиозное значение атеизма. Чтобы символ бытия обрел речь, необходимо освободиться от идола.
ОТЦОВСТВО: ОТ ФАНТАЗМА К СИМВОЛУ
Прежде всего я хотел бы кратко представить мою рабочую гипотезу и подвергнуть ее испытанию. Эту гипотезу можно сформулировать в трех пунктах.
1. Образ отца вовсе не является достаточно изученным, а его значение — неизменным, так что довольно трудно проследить за всеми его превращениями — исчезновением и возвращением под различными масками; образ этот — проблематичен, незавершен, и вопрос о нем остается в под-
вешенном состоянии; его обозначение соответствует различным семантическим уровням, начиная с фантазма грозящего кастрацией отца, которого необходимо убить, и кончая символом отца, который умирает из сострадания.
2. Чтобы понять эти символические превращения, необходимо поместить образ отца внутрь других парадигм межчеловеческих отношений; согласно моей гипотезе, внутренняя эволюция символа отца выражает в некотором смысле внешнее притяжение, испытываемое другими образами, которые лишают его примитивных значений; образ отца своим включением в игру родственных отношений обязан изначальному ограничению, инерции, даже сопротивлению по отношению к символизации, которые преодолеваются только своего рода обходной деятельностью, осуществляемой другими образами; это — неродственные фигуры, и они разбивают оковы буквальности образа отца и высвобождают символ отцовства и родственных уз.
3. Однако если символизм отцовства должен пройти путь определенной редукции к изначальному образу, который может предстать как путь отречения, даже как путь крушения, то конечные выражения символизма останутся связанными с его начальными формами, воспроизводящими последние, если так можно сказать, на более высоком уровне.
Подобное возвращение к изначальному образу через смерть является, по моему убеждению, центральной проблемой символизма, порожденного образом отца. Этот возврат, поскольку он подвержен влиянию с разных сторон, открывает возможность и для нескольких интерпретаций, которые, в свою очередь, принадлежат обозначению отца.
Такова моя рабочая гипотеза, выраженная с известной долей схематизма. В ней отцовство выступает скорее в качестве процесса, нежели в качестве структуры, и представляет собой динамическое и диалектическое образование.
А вот и доказательства, которые я обещал привести в пользу данной гипотезы; я последовательно рассмотрю три регистра, три «поля», где процесс отцовства будет представлен аналогичным образом.
— Первое поле обозначено психоанализом, развивающим концепцию «экономики желания».
— Во втором поле — поле феноменологии духа — речь идет об истории, осмысленной с позиции основополагающих образов культуры.
— Третье поле — это философия религии, в которой подвергаются интерпретации «божественные имена» и представления о Боге.
Я ничего не говорю здесь по поводу взаимосвязанности этих трех полей; ограничусь лишь тем, что скажу следующее: в каждом из них используется своя методология, каждому из них соответствует своя специфическая концепция и в каждом из них применяются свои специфические процедуры. Оставляя в стороне вопрос о радикальном обосновании права на существование нескольких аспектов и нескольких типов осмысления реальности, я хотел бы извлечь выгоду из этого разнообразия подходов, чтобы показать основательность моей рабочей гипотезы. Если в трех различных регистрах мы можем выделить одно и то же содержание идеи отцовства, одну и ту же ритмическую струк-ТУРУ> одно и то же возвращение к изначальному образу через другие образы, то нам представится возможность обнаружить, что аналогичность, или, точнее, гомологичность, образования выявляет одну-единственную схему отцовства.
1. ОБРАЗ ОТЦА В ЭКОНОМИКЕ ЖЕЛАНИЯ
Воспользовавшись выражением самого Фрейда, я определил первое поле как судьбу влечений, что открывает возможность для приоритета экономического объяснения по отношению к любому другому объяснению. У меня нет желания здесь доказывать это; я считаю, что это — самое фундаментальное и в то же время самое очевидное намерение фрейдизма; для философа это также и самое интересное объяснение, поскольку оно свидетельствует о сдвиге, происшедшем в сфере сознания. Я утверждаю, что область компетентности психоанализа определяется наличием и действием импульсов жизни и смерти и зависящих от их превратностей образов.
Мне кажется, что в произведениях Фрейда, где речь идет об образе отца, можно выделить три темы, соответствующие трем моментам моей рабочей гипотезы: именно эти темы помогут нам начертать определенную схему отцовства после того, как мы изучим отдельные аспекты образа отца. Я называю эти три темы:
— ситуация Эдипа,
— разрушение Эдипа,
— постоянство Эдипа.
Начнем с ситуации Эдипа как необходимого исходного момента. Фрейд утверждает, постоянно повторяя: психоанализ устоит или падет вместе с Эдипом. Данное положение можно принимать или не принимать. Эдип — это в некотором роде вопрос о доверии, который психоанализ адресует своей аудитории. В этой связи я могу предположить, что сущность теории Эдипова комплекса всем известна; в целях дальнейшего анализа я подчеркну следующее: критическим моментом в теории Эдипа является стремление отыскать в изначальном образовании желания, в его мании величия всемогущество инфантилизма. Именно отсюда вытекает фантазм отца, обладающего привилегиями, которые сын, чтобы стать самостоятельным, должен присвоить себе. Этот фантазм существа, обладающего властью и отказывающегося передать ее сыну, и есть, как известно, основа комплекса кастрации, с которым связано желание умерщвления. Не менее важно также понять, не вытекает ли из этой же самой мании величия прославление умерщвленного отца, стремление к примирению с интериоризо-ванным образом отца и к искуплению вины перед ним, что в конечном итоге лежит в основании чувства виновности. Смерть отца и наказание сына, стало быть, принимаются за начало истории, которая оказывается реальной, если исходить из влечения, и ирреальной, если исходить из представления.
Ситуация Эдипа, а вслед за ней — разрушение Эдипа.
Фрейд показал, что существует несколько способов выйти за пределы ситуации Эдипа; самым значительным вопросом для истории психики, а стало быть, и для истории культуры в целом, стал вопрос не только о том, как попадают в ситуацию Эдипа, но и о том, как из нее выходят. В одной, относительно поздней работе — «Угасание комп-
лекса Эдипа» (1924) — Фрейд вводит понятие разрешения, или уничтожения, комплекса Эдипа, и мы тотчас же укажем на определенные параллели, возникающие в двух других регистрах. В фрейдизме — это экономическое понятие, идет ли речь о вытеснении, идентификации, сублимации, десексуализации. Оно говорит о судьбе влечений, о глубинном перераспределении их энергии.
Однако рассмотрим внимательнее вопрос о разрешении. Эдип разрешает себя как комплекс в той мере, в какой он структурирует психическое. Можно следующим образом представить отношение между разрешением (комплекса) и структурированием (психического): разрешение комплекса Эдипа — это имеющая дважды смертельный исход замена идентификации с отцом, поскольку она преступным образом умерщвляет сначала отца, а затем — вследствие угрызений совести — и сына; но это такая идентификация, в которой признаются и отец и сын, в которой отличие совпадает со сходством.
Признание отца — такова здесь ставка; и в двух регистрах, которые мы рассмотрим в дальнейшем, никакой другой ставки не будет. Такой будет, в частности, задача истории посредничающих образов — обладания, власти, ценности, знания, — которая цементирует это структурирующее разрушение. Но задача психоанализа состоит не в этом. Его задача в том, чтобы наметить путь таких посредничеств в импульсах перестройки, на уровне теории желания и удовольствия. В преуспевшем Эдипе, если так можно сказать, желание очищено. Оно выступает в своем глубинном всемогуществе и бессмертии; разрушена же здесь экономика, лежащая в основе всего или ничего. Доказательство этой точки зрения, по существу, будет заключаться в том, чтобы суметь признать отца смертным, то есть в конечном итоге согласиться со смертью отца; его же бессмертие является всего лишь фантастической проекцией всемогущества желания. Именно с признанием смертности может быть связано представление об определенном родстве как биологическом рождении, а не с почитанием личности отца. Рождение принадлежит природе, родство — его обозначению. Необходимо, чтобы кровные узы ослабли — пусть даже это будет связано со смертью, — чтобы родство утвердилось подлинным образом; тогда отец
будет отцом, потому что он обозначен как отец, назван отцом.
Посредничающее признание, взаимное обозначение: вместе с этой темой мы затрагиваем вопрос о границе, пролегающей между психоанализом и теорией культуры; мы вступаем в область психоанализа, обосновавшегося на грани между биологией и психологией, вооружившись понятием влечения; выходим же мы из нее с помощью других пограничных понятий, существующих на грани между психологией и социологией культуры. К такого рода понятиям принадлежит понятие идентификации, и Фрейд, употребляя его, неоднократно повторял, что данную проблему нельзя решить без этого понятия. Чтобы решить данную проблему, надо изменить область анализа.
Но прежде чем менять область анализа, крайне необходимо рассмотреть третью тему, которая, смею заверить, придала тон, то есть психоаналитическое звучание, всему предшествующему анализу. Эта третья тема такова: Эдип в определенном смысле непреодолим. В «определенном смысле» означает скорее в «некоторых смыслах».
Прежде всего в смысле повторения: психоанализ весьма чувствителен к регрессиям, к новым перипетиям Эдипова комплекса, к возрождению архаических комплексов, которые обеспечивают новый «выбор объектов». Фрейду приходилось неоднократно писать о том, что новый выбор сексуальных объектов неизбежно основывается на модели первичных установок. Во фрейдизме, когда речь идет о способности к сублимации, все получает пессимистическую окраску, как если бы комплекс Эдипа обрекал психическую жизнь на своего рода топтание на месте, бесконечно отбрасывая ее к началу. В этом смысле Эдипово наследие и есть судьба. Несомненно, главное значение фрейдовского учения следует искать в этом направлении; именно с понятием повторения связаны понятия скрытой возможности и возврата вытесненного, которым, как известно, принадлежит решающая, если не исключительная, роль в интерпретации религиозных феноменов; Фрейд непреклонен в своем движении от «Тотема и табу» к «Моисею и монотеистической религии».
Но если бы Эдип оставался непревзойденным только в этом смысле, то для понимания религии, как и других фак-
тов культуры, в которых получает выражение та или иная сублимация, был бы всего один выбор: либо, принимая во внимание лишь возвращение вытесненного, отказаться от их познания, либо попытаться вписать их в некоторую сферу, свободную от либидо и от конфликтов, то есть от комплекса Эдипа. На самом деле, то, что мы говорили выше о структурирующей функции Эдипа, позволяет предположить существование другого типа непреодолимости, иного смысла повторения, согласно которому, испытывая воздействие того же самого Эроса, тех же самых глубинных влечений, мы устремляемся к новым объектам и новым импульсным образованиям. В таком случае психоанализ нам говорит о следующем: мы не в состоянии отвергнуть наши влечения, мы можем лишь признать их существование и демаскировать их: Агапе[298] — это не что иное, как Эрос. Мы испытываем одну и ту же любовь — и к архаическим объектам, и к тем объектам, которые обнаруживаются при изучении желания. Существует одна только экономика желания, и ее главным законом является закон повторения. И только в рамках этой единственной экономики повторения следует мыслить желания — либо идентичными, либо отличающимися друг от друга невротическими и не-невро-тическими образованиями; перевоплощение образа отца в культуре и религии — это то же самое, что и возвращение вытесненного; однако и не то же самое: то же самое — поскольку все продолжает существовать в поле Эдипа, и не то же самое — поскольку наше желание, отрекаясь от своего всемогущества, следует представлению об отце, подверженном смерти, так что нет более нужды убивать его — его надо лишь признать.
Если Эдипову комплексу уготовано такое будущее, то отсюда следует, что вся психическая жизнь может рассматриваться в зависимости от Эдипа и что, как настоятельно утверждает о. Пойер, невозможно было бы «говорить о религии вне сферы, структурированной с помощью Эдипова комплекса».
Точно такую же диалектику повторения мы обнаруживаем и в области феноменологии духа. Но прежде чем распроститься с психоанализом, подчеркнем еще раз, что мы будем исследовать ту же самую реальность, но с иной точки зрения; покидая пределы психоанализа, мы вовсе не
хотим тем самым сказать, будто он не имеет никакого отношения к половине или двум третям человеческой реальности; мы вполне верим в то, что ничто человеческое ему не чуждо и что он в самом деле схватывает определенную целостность, но делает это под углом зрения, ограниченным его теорией и его методом, и исходя из самой аналитической ситуации. О психоанализе можно сказать то же, что Лейбниц говорил по поводу видения монад: он судит обо всем, но исключительно с одной-единственной точки зрения. Вот почему одни и те же элементы, одни и те же структуры, и особенно одни и те же процессы присутствуют в двух других сферах, но иным образом.
2. ОБРАЗ ОТЦА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА
Второе поле, которое нам предстоит исследовать, это то, где действует метод, сам определяющий это поле и названный нами конкретной рефлексией. Это — рефлексивный метод, поскольку он нацелен на изучение актов, операций, процессов, в которых осуществляется самопонимание человечества; но это и конкретная рефлексия, поскольку она достигает субъективности обходным путем — через изучение знаков, порождаемых самой субъективностью в произведениях культуры. История культуры еще более, чем индивидуальное сознание, является матрицей этих знаков. Однако философия не ограничивается установлением времени их производства, она стремится также упорядочить их, включив в интеллигибельные среды, способные очертить маршрут сознания, путь, на котором самосознание делает свои первые шаги. Это предприятие не является ни психологическим, ни историческим; оно соединяет слишком узкое психологическое сознание с текстами культуры, в которых себя проявляет «Я», оно же направляет перечисляющую события историчность к созиданию смысла, являющемуся подлинной работой понятия; именно работа смысла сообщает философии характер рефлексии и интерпретации, в которую эта рефлексия включается.
Этих кратких замечаний относительно метода достаточно для того, чтобы установить различие между конкрет-
ной рефлексией и экономикой желания. Но более значительным, чем различие методов, является схожесть имеющих здесь место структур и процессов.
Именно это мы покажем на имеющем исключительное значение примере отца. Итак, отправимся в наше «второе плавание», как говаривал Платон.
Пусть не удивляются тому, что в качестве лоцмана я буду использовать философию духа Гегеля, как я уже делал в работе «Об интерпретации»; но я надеюсь, что смогу пойти дальше собственно феноменологии, недостаточность которой Гегель показал в своей «Энциклопедии»; я буду искать в «Феноменологии духа» лишь первый импульс, первый толчок. Если идти в этом направлении, то движение, ведущее от сознания к самосознанию через бесконечный и полный тревог жизненный опыт, будет происходить так, как об этом говорит Фрейд: как и у Фрейда, самосознание окажется укорененным в жизни и желании. История самосознания предстанет историей воспитания желания. Как и у Фрейда, желание первоначально бесконечно и сумасбродно; «вместе с тем самосознание обладает собственной достоверностью только посредством снятия этого другого, представляющегося ему самостоятельной жизнью; оно и есть желание. Уверенное в ничтожности этого другого, оно утверждает эту ничтожность для себя в качестве своей истины, уничтожает самостоятельный предмет и придает этим достоверность самому себе как истинную достоверность…»*. Можно также вполне в терминах Эдипа истолковать и первые шаги удвоенной рефлексии, или удвоение самосознания. Отец и сын — разве это не история удвоения сознания? Разве это не борьба не на жизнь, а на смерть? Да, но только до определенного момента. Поскольку важно то, что диалектика воспитания, по Гегелю, это не диалектика отца и сына, а диалектика господина и раба. Именно ей принадлежит будущее и, заметим тотчас же, именно она дает будущее сексуальности. Мне представляется существенным то, что движение признания зарождается в иной области, чем родство и родственные узы. Да, если хотите, отцовство и родственные узы входят в движение признания, но только в свете отношения господин —
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit. Tr. Hyppolite. T. 1. P. 151.
раб. Именно это я имел в виду, говоря во Введении, что образ отца получает свою динамику и способность к символизации от других образов, присутствующих в сфере культуры.
Почему такая привилегия принадлежит отношению господин — раб? Прежде всего потому, что это отношение первым включает в себя возможность обмена ролями: операция, осуществляемая по отношению к одной из них, «является также и операцией, осуществляемой по отношению к другой»*; как бы противоположны друг другу ни были роли, они, тем не менее, взаимосвязаны.
Ведь обретение господства сопровождается риском для собственной жизни: ставя на карту свою жизнь, хозяин таким образом заявляет о себе как о чем-то ином, нежели жизнь: «…только рискуя жизнью, можно сохранить свободу». Если прибегнуть к ретроспективному анализу, то окажется, что цикл воспроизводства и смерти, которому принадлежит отцовство и естественные родственные отношения— порождать и быть порожденным, — замыкается в самом себе: взросление детей — это смерть их родителей. В этом смысле отцовство и естественные родственные узы остаются включенными в непосредственную жизнь, в то, что Гегель в йенский период[299] называл «родовой жизнью, которая еще не осознает себя». Для этой жизни «небытие как таковое не существует». Именно это, рискуя собственной жизнью, и открывает для себя господин. Мы же, вслед за Фрейдом, говорим, что отвержение бессмертия жизненного желания, признание смертности отца и смертности человека вообще явилось крупным завоеванием. Именно это и делает господин: обретение независимости духа над непосредственностью жизни Гегель и называл величайшим испытанием через смерть. То, что Гегель описывает здесь, буквально совпадает с тем, что Фрейд называет сублимацией и десексуализацией.
Наконец, и это главное — теперь мы переходим на сторону раба — диалектика господина и раба сталкивается с категорией труда: если господин возвышается над жизнью, рискуя ею, то раб возвышается над бесформенным желанием с помощью суровой школы жизни, преподанной ему
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit. Tr. Hyppolite. T. 1. P. 156.
миром вещей, говоря на языке Фрейда, благодаря принципу реальности. В то время как сумасбродное желание подавляет вещь, раб вырывается из объятий реальности: он «относится к вещи отрицательно и снимает ее; но она вместе с тем и самостоятельна для него, и он поэтому не может уничтожить ее своим отрицанием, то есть он ее только обрабатывает»*. Bildung — это запускать движение; «формируя» (bilden) вещь, индивид формирует и самого себя. «Труд, — говорит Гегель, — это обузданное желание, запоздалое исчезновение: труд формирует»**.
Таким образом, в «Феноменологии духа» представлена диалектика желания и труда; Фрейд, говоря о разложении комплекса Эдипа, лишь едва коснулся ее. Эта диалектика позволяет ввести отцовство в процессе признания, но признание отца и сына опосредуется дважды — господством над людьми и вещами и покорением природы с помощью труда. Вот почему «Феноменология духа» не соотносится более ни с психоанализом, ни с образом отца и сына, когда жизнь совершает поворот в сторону самосознания. «Феноменология духа» разворачивается теперь в интервале, в промежутке между двумя событиями: разложение Эдипова комплекса и окончательное возвращение вытесненного в высшие слои культуры; если говорить об экономике желания, этот интервал есть время ее подспудного существования, латентное время. Для феноменологии духа это время заполнено множеством других образов, не имеющих отношения к образу отца и создающих человеческую культуру. Нам необходимо всеми средствами расширять этот, имеющий важное значение, интервал и умножать работающие в нем инстанции. Я говорил лишь о первичной инстанции — о жестокой борьбе за признание. Теперь я скажу еще об одной, гораздо более поздней инстанции — по крайней мере, если речь идет о зарождении смысла, — инстанции, посредством которой две воли, ведущие борьбу за обладание, приходят в итоге к взаимной договоренности. Я специально подчеркиваю этот момент, которого нет в «Феноменологии духа», но с которого начинается «Философия права», поскольку он образует фундаментальное не-
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit. Tr. Hyppolite. T. 1. P. 162. ** Ibid. P. 165.
родственное отношение, исходя из которого может быть переосмыслена проблема отцовства.
В договоренности повторяется диалектика господина и раба, но происходит это на ином уровне; желание здесь все еще входит, как момент, в обладание; самоуправная воля в нем столь же сумасбродна, как и жизненное желание; здесь действительно нет ничего такого, чего она, в принципе, не могла бы присвоить, сделать своим: «право человека на присвоение всех вещей»*. Моя воля, противостоя другой самоуправной воле, должна заключить с ней договор. И знаменательно, что вместе с заключением договора другая воля начинает осуществлять посредничество между моей волей и вещью, а вещь становится посредником между двумя волями. В результате совершенного между двумя волями обмена рождается как юридическое отношение к вещам, то есть собственность, так и юридическое отношение между людьми, то есть договор. Момент, об установлении которого мы только что бегло напомнили, и определяет юридическую личность, субъект права.
Итак, можно с полным основанием утверждать, что ни отцовство, ни родственные узы не способны обрести устойчивости за пределами простого, естественного факта рождения, если они не закрепляются один по отношению к другому не только в качестве двух самосознаний, как это имеет место в диалектике господина и раба, но и двух волений, объективированных посредством их отношения к вещам и договорных отношений. Я специально говорю о двух волях. Слово «воля» должно привлечь наше особое внимание, поскольку оно не употреблялось Фрейдом. И понятно почему: воля не принадлежит к числу категорий, которыми оперировал Фрейд, — она не имеет отношения к экономике желания; ее не только нельзя найти во фрейдизме, но даже и не стоит искать, если мы не хотим употребить category mistake, выразив тем самым недоверие к законам, действующим в рассматриваемой нами сфере. Воля — это категория философии духа. Она обретает плоть исключительно в сфере права, понимаемого Гегелем в широком смысле слова, она выходит далеко за пределы юридической сферы, поскольку осуществляет переход от абстрактного права к
[281] Hegel. Principes de la philosophie du droit, tr. fr. Gallimard, 1949. § 44.
моральному сознанию и политической жизни. До формального права не было ни личности, ни уважения личности; и это абстрактное право необходимо принимать таким, каково оно есть, соотнося его не только с идеализмом договора, но и с реализмом собственности. Не существует Personenrecht[300], которое не было бы в то же время и Sachenrecht[301]. Как и в диалектике господина и раба, вещи выступают посредниками по отношению друг к другу. Так принцип реальности продолжает руководить принципом удовольствия. Гегель без колебания говорит, что мое тело принадлежит мне, что я владею им только постериорно по отношению к праву, то есть по отношению к договору и собственности: «…в качестве личности я имею вместе с тем мою жизнь и мое тело, как и другие вещи, лишь постольку, поскольку на это есть моя воля»; но тут же добавляет: «Я обладаю этими членами, этой жизнью, поскольку я проявляю всю свою волю; животное не может само себя изувечить или лишить жизни, а человек может»*; в той мере, в какой я хочу обладать моей жизнью, она принадлежит мне. В таком случае тело оказывается во владении (in Besitzgenommen) духа.
Отсюда тотчас вытекает вывод: если личность постери-орна по отношению к договору и собственности, если даже отношение к телу как предмету обладания постериорно, то и взаимное признание друг друга — отца сыном и сына отцом — постериорно по отношению к нему; они могут теперь противостоять друг другу только как свободные воли. Переход от исключительной идентификации к идентификации дифференциальной (неразрешимая загадка диалектики желания) совершается в диалектике воли**.
Остановимся, однако, на минуту. То, к чему мы подошли, Гегель называет независимостью: независимостью по отношению к желаниям и жизни, независимостью по отношению к другому человеку; независимость по отношению к желаниям Гегель называет самосознанием, независимость по отношению к другому человеку — личностью. Как представляется, именно в этом пункте и происходит растворение родственных отношений в отношениях неродственных.
* Hegel. Principes de la philosophie du droit, tr. fr. Gallimard, 1949. § 47. ** Ibid. § 73–74.
Однако в действительности ничего подобного не случается.
Уже во второй раз мы видим, как вновь восстанавливаются родственные узы — по ту сторону простого продолжения рода, с помощью неродственного опосредования.
В самом деле, к какому еще уровню можно отнести собственно семейную связь? Она возникает не до, а позже, причем значительно позже, диалектики волений, которая сталкивает лицом к лицу вступивших в союз собственность, независимых субъектов права и безусловных личностей, связанных между собой всеми возможными конкретными отношениями. Гегель предупреждает нас об этом двумя краткими замечаниями. Во-первых, когда он говорит о праве личности. «В то время как у Канта, — пишет Гегель, — семейные отношения носят вещный характер личных прав»*, сам он решительным образом исключает их из сферы абстрактного права; он отмечает, что «семейные отношения имеют своей субстанциальной основой скорее отказ от личности». Второе обстоятельство: провозгласив, что двумя сторонами одного и того же договора являются «непосредственные самостоятельные личности», Гегель отмечает: «Нельзя поэтому подводить под понятие договора брак — а именно такое, надо сказать, позорное, подведение и дано у Канта»**. Приведенные два замечания вполне соответствуют друг другу, о чем свидетельствуют негативные ссылки на Канта. В самом деле, опираясь на восходящую диалектику, следует искать семейные отношения далеко за пределами абстрактного права, за гранью Moralität™, полагающей субъективную моральную волю, то есть субъекта, способного на сознательное и ответственное решение, иными словами, субъекта виновного (schuldig), несущего перед самим собой ответственность за действие, которое, как проявление воли, может быть вменено ему в качестве вины. Разумеется, необходимо пройти всю толщу опосредовании абстрактного права и моральности, чтобы пробиться к духовному и телесному царству Sittlichkeit, то есть к этической жизни. Началом этого царства, конечно же, является семья. Следует хорошенько усвоить: отец существует по-
* Hegel. Principes de la philosophie du droit, tr. fr. Gallimard, 1949. § 40. ** Ibid. § 75.
стольку, поскольку есть семья, а не наоборот. Семья же существует потому, что есть Sittlichkeit, а не наоборот. Чтобы отыскать отца, надо исходить одновременно из духовной и телесной жизни Sittlichkeit. Эту связь характеризует как раз то, что она вовлекает своих членов в отношение принадлежности, которое не определяется более свободной волей и которое в этом смысле повторяет нечто такое, что принадлежит непосредственной жизни. Это знаменитое повторение, о котором говорит Фрейд, Гегель обозначил словом «субстанция»: семейные отношения, говорили мы только что, «имеют своей субстанциальной основой отказ от личности». Соответственно семья является конкретной целостностью, напоминающей целостность органическую, но прошедшую через опосредования абстрактного права и моральности.
Семья требует «отказа от личности» — в ней инвидид обрастает новыми связями; он включается в сложную систему чувственных, рациональных, интеллигибельных детерминаций: «Субстанция, — говорит Гегель, — знает себя в этом своем действительном самосознании, и тем самым есть объект познания»*; и еще: «…живой и наличный, как Мир, дух, субстанция которого только таким образом и есть как дух»**. Sittlichkeit — это индивид, возвысившийся над конкретным сообществом, и именно поэтому семья предшествует всякому договору.
Как раз на фоне Sittlichkeit и возвращается образ отца. Ему надлежит пройти сквозь это конкретное сообщество, названное Гегелем «непосредственной субстанциальностью духа»***. Он являет себя как глава сообщества, но, разумеется, прежде всего как обычный его член. Как член… но не как «для себя личность»****. Более того, чтобы быть понятым через Sittlichkeit живого семейного сообщества, отец должен быть признан исключительно состоящим в браке, слитным с сообществом. В субстанции семейного сообщества я вижу прежде всего лежащий в его основе брак. Обратимся к Фрейду: признать отца — значит признать его совместно с матерью. Это вовсе не означает, что для того,
* Hegel. Principes de la philosophie du droit, tr. fr. Gallimard, 1949. § 146. **Ibid. § 151. *** Ibid. § 158. **** Ibid.
чтобы обладать одним из них, необходимо совершить убийство. Это означает, что отец принадлежит матери, а мать — отцу. В таком случае мы признаем существование сексуальности — сексуальности двух людей, породивших меня; но сексуальность признается также и в качестве плотского измерения некоего социального института. Такое вновь подтвержденное единство желания и духа делает возможным признание отца.
Или, скорее, — признание отцовства, поскольку в удивительных строках, посвященных семье, отец, как таковой, никогда не упоминается; речь идет о Пенатах, то есть об отцовстве, где нет ни слова об умершем отце. Дух sittlich, то есть дух конкретного сообщества, — предстает освобожденным от своих различных внешних проявлений, то есть без подпорок, какими являются индивиды и их интересы: «этот нравственный дух, поднятый как образ для представления, почитаемый в качестве Пенатов, вообще составляет то, в чем заключается религиозный характер брака и семьи, в чем заключается пиетет»*. В этом смысле семья религиозна, но религиозность здесь еще не является христианской, это — религиозность Пенатов. Итак, что же такое Пенаты? Это — умерший и воскресший в представлении отец; он входит в символ отцовства как умерший, отсутствующий. Будучи символом, он обладает двойственностью: прежде всего он означает нравственную субстанцию, затем — связь, скрепляющую определенных людей, если следовать другому смыслу слова «символ»; ведь именно перед лицом Пенатов заключаются любые новые союзы: «…вместо того, чтобы все еще сохранять возможность обратиться к случайному и произволу чувственной склонности, сознание изымает заключенный союз из сферы произвола, подчиняясь Пенатам»**.
Прервем, однако, и это наше «плавание». Чего же мы достигли? Анализ, который мы только что предприняли, подобен предшествующему. Но только подобен, и не более того, поскольку в данном случае мы имеем дело с двумя различными дискурсами. Указанный образ первый раз возникает в недрах экономики желания, второй раз — в
* Hegel. Principes de la philosophie du droit, tr. fr. Gallimard, 1949. § 169. ** Ibid. § 164, remarque.
рамках духовной истории. Вот почему отношения одной сети образов к другой не являются терминологически буквальными. Образы, отделяющие мир желаний от его повторения в конкретном сообществе, соответствуют скорее очевидному бездействию влечений, пребывающих, по Фрейду, в латентном состоянии. Но эти две сети подобны друг другу. Господствующим здесь является повторение первичного образа в образе конечном — Пенатах, повторение, осуществляемое без каких бы то ни было юридических и моральных опосредовании. Теперь мы можем сказать: от фантазма — к символу, или иными словами: от непризнанного, подверженного смерти и смертоносного по отношению к желанию отцовства к отцовству признанному, соединяющему вместе любовь и жизнь.
3. ДИАЛЕКТИКА БОЖЕСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
Третья сфера, в которой нам теперь предстоит выделить структуру отцовства, это — сфера религиозного представления.
Я беру слово «представление» в том смысле, в каком его постоянно употреблял Гегель, когда говорил о религии в «Феноменологии духа», «Энциклопедии» и в «Лекциях по философии религии». Представление — это фигуративная форма самопроявления абсолюта. Я в равной мере разделяю утверждение о том, что постижение религиозного представления не выявляет собственно феноменологии, то есть следов образов самосознания. Речь идет более не о самосознании, а о развитии в представлении, об умозрительном мышлении, о божественном как таковом.
Что касается меня, то я не стану говорить вслед за Гегелем, что царство представления может быть преодолено в философии понятия, в абсолютном знании. Абсолютное знание есть, вероятно, всего лишь никогда не подтверждаемое видение самого представления. Этот вопрос неотделим от определения религии. Моя точка зрения скорее приближается к кантовской, выраженной в его «Религии в пределах только разума», чем к гегелевской, и я мог бы без ко-
19*
лебаний определить религию, поставив следующий вопрос: что дает мне основание на надежду?
Место, которое в данном случае отводится надежде, определенным образом соотносится с представлением вообще и с представлением об отце в частности. Если представление не может исчезнуть, то только потому, что религия опирается в большей мере на надежду, чем на веру. Если вера является ущербной по сравнению с видением и, стало быть, представление является ущербным по сравнению с понятием, то надежда избыточна по отношению к познанию и деятельности. Именно благодаря ее избыточности мы уже можем говорить о ней не как о понятии, но исключительно как о представлении. Речь будет идти о том, чтобы выявить, не связан ли вопрос об отцовстве с теологией надежды. Итак, понятно, в каком направлении мы будем вести наше третье исследование.
Теперь я, как и о. Пойер, предлагаю обратиться к проблеме Бога-«Отца» в иудео-христианстве. Но мой метод будет несколько отличаться от его метода. В качестве руководства к действию я возьму не теологию, а истолкование. Почему истолкование, а не теологию? Истолкование имеет то преимущество, что всегда остается на уровне представления и сообщает самому процессу представления последовательное движение вперед. Разбирая теологию вплоть до ее начальных репрезентативных элементов, толкование вводит нас непосредственно в игру обозначений Бога, предполагая выявить их первичную интенцию и свойственную им динамику. Я люблю повторять, что философ, размышляющий о религии, должен следовать скорее экзегету, чем теологу. Другое обстоятельство, заставляющее обратиться прежде всего к толкованию, а не к теологии, заключается в том, что толкование не требует от нас отделять образы Бога от форм дискурса, в которых эти образы приходят к нам. Под формой дискурса я понимаю повествование, или «сагу», миф, проповедь, гимн, псалом, послания мудрецов и т. п. Почему я уделяю столько внимания формам дискурса? Потому что обозначение Бога всякий раз является новым: о нем говорится то в третьем лице, как о том, кто совершает великие деяния, каким, например, является исход из Египта, то в первом лице, когда пророк говорит от его имени, то во втором лице, когда верующий
обращается к Богу в литургической культовой молитве или частной мольбе. Итак, сама теология, когда она стремится стать библейской теологией, часто довольствуется тем, что выводит из всех своих текстов понятие о Боге, о человеке и их взаимоотношениях, из которых удаляются все специфические черты, имеющие форму дискурса. Мы не будем задаваться вопросом о том, что Библия с помощью теологических абстракций говорит о Боге; нас будет интересовать, каким образом Бог присутствует в различных дискурсах, структурирующих Библию.
Таков наш метод. А каково же наше наставление?
Итак, наиболее важное и, на первый взгляд, наиболее опрометчивое утверждение заключается в том, что в Ветхом Завете (оставим пока в стороне Новый Завет) обозначение Бога как отца в количественном отношении несущественно. Специалисты в области новозаветных наук сходятся в признании того, что их поначалу удивляет, — это большое число ограничений, накладываемых на употребление слова «отец» в текстах Ветхого Завета. Маршель* и Йеремиас** насчитывают не более двадцати таких случаев в Ветхом Завете.
Эти ограничения и будут интересовать нас в первую очередь. Я хотел бы сопоставить их с гипотезой, которой руководствуюсь на протяжении всей данной работы и согласно которой образ отца, прежде чем возвратиться, должен был так или иначе утратиться, и что возвратиться он мог, только претерпев перетолкование с помощью других — не-се-мейных, не-отцовских — образов. Очищение, ведущее от фантазма к символу, требует на всех рассматриваемых нами трех уровнях — уровне влечений, уровне образов культуры и уровне религиозных представлений — акта редукции к изначальному образу, осуществляемой с помощью других образов.
Изначальный образ, если иметь в виду тот уровень анализа, на котором мы сейчас находимся, хорошо известен: все народы Ближнего Востока обозначают своих богов в качестве отца и, даже взывая к богам, обращаются к ним
* Marchel W. Dieu-Père dans le Nouveau Testament, éd. du Cerf, 1966. ** Jeremias J. «Abba». Untersuchungen zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte. Göttingen, 1965.
с этим именем. Такое обращение не является исключительной чертой семитов; сравнительная история религий показывает, что данное обращение встречается и в Индии, Китае, Австралии, Африке, у греков и римлян. Все люди называли своего Бога отцом — таков изначальный факт; но это же и самая обыкновенная банальность, которая не имеет никакого значения. Здесь все происходит так, как и в случае с Эдипом в плане влечений; вхождение в Эдипа — это общий всем факт, главным же является выход из него — невротический ли он или нет; это — разрушение Эдипа и его возвращение. Здесь к тому же факт обозначения Бога в качестве отца еще ни о чем не говорит; проблемой является значение этого обозначения, скорее даже процесс означения, поскольку этот процесс заключает в себе схему отцовства.
Итак, толкование Ветхого Завета показывает, что осмотрительность древних евреев при обозначении Бога как отца является оборотной стороной, позитивного способа понимания Яхве как суверенного героя отдельной истории, отмеченной актами спасения и освобождения, которые испытал на себе народ Израиля. Сюда-то и вторгаются категории дискурса, и их влияние на обозначение Бога оказывается решающим. Первый род дискурса, с помощью которого библейские писатели попытались говорить о Боге, принадлежит сфере повествования. Об актах спасения и освобождения говорилось с помощью «саги», которая рассказывала о поступке Яхве.
В центре этого рассказа — вера в исход из Египта; это — акт избавления, который институирует израильтян как народ. Теологическая работа школы писателей, которым мы обязаны появлением Шестикнижия, состояла в том, чтобы превратить фрагментарные повествования, часто имеющие различные и не связанные друг с другом источники, в одно значительное повествование, и отыскивать его корни далеко позади, доходя до мифа о сотворении, который, таким образом, рассматривался с позиций вероисповедания древнего Израиля и получал весьма своеобразную историческую трактовку. Это соединение керигматического вероисповедания с повествовательной формой порождало теологическое видение, которое господствовало в Шести-книжии и которое Герхард фон Рад называет «теологией
исторических традиций», противопоставляя ей «теологию пророческих традиций», которую мы находим сразу же после возвращения образа отца. Именно эта теология исторических традиций является горнилом первоначальных библейских представлений о Боге. Однако в первичной структуре — структуре повествования — Яхве не занимает места отца. Если мы дополним экзегетический метод фон Рада структурным анализом повествований, принадлежащим Проппу и русским формалистам[304] и связанным во Франции с именами Греймаса и Барта[305], мы сможем утверждать, что господствующими здесь категориями являются категории деятельности и того, кто действует, то есть категории героя, определенного своей функцией в повествовании. Более тщательный и детальный анализ деятельности позволяет выявить — если следовать логике повествования — сложное взаимодействие персонажей, или действующих лиц. Вся теология традиций состоит в выявлении высшего действующего лица, Яхве, главного коллективного действующего лица, Израиля, в качестве единственного исторического персонажа, а также различных индивидуальных действующих лиц, и прежде всего Моисея, — и все это при помощи диалектики, еще не отрефлектиро-ванной, но превращенной в повествование. Именно эта диалектика деятельности и действующих лиц и является драматической опорой теологии Шестикнижия.
В этой диалектике деятельности и действующих лиц отношения отцовства и родства имеют чрезвычайное значение. Если есть отец, то это — сам Израиль: «Мой отец был Арамеец…», а Яхве — прежде всего «бог наших отцов», и только потом отец. Таким же образом развивается диалектика деятельности, когда речь идет о народе и истории. В дальнейшем отношения действующих лиц предстанут в категории отец — сын, но исключительно потому, что первоначально они представали в других категориях. В каких?
Как известно, Шестикнижие основывается на перетолковании известных повествований о деяниях Яхве и Израиля, исходя из союзнического отношения. Здесь следует тотчас же сказать: союзнические отношения не представлены изначально как отношения родства, напротив, именно союзничество дает смысл родству — до того, как оно получит собственное звучание (какое — мы еще увидим). На де-
ле стоит толковать союз не с помощью отцовства, а исходя из условий и ролевых отношений, которые он развивает и выражает; последнее не может интерпретироваться ни в категориях родства, ни в юридических категориях. В своем анализе Шестикнижия фон Рад показывает, каким образом постепенно, на основе промежуточных союзов, складывается своеобразная теология союза: союз с Иовом, союз с Авраамом, синайский союз, а на основе различных интерпретаций этих союзов — союз с одним регионом, с неравными между собой регионами, взаимные союзы; Священный текст (источник Р) связывает эту теологию с тремя темами: Израиль будет народом, Израиль обретет свою землю, Израиль установит с Богом особые отношения. Теология союза есть в то же время и теология обетования. Этот пункт со всей очевидностью является главным в проблеме отцовства, и он может быть переинтерпретирован, исходя из третьей темы союзничества: «…я буду вашим Богом».
Но прежде чем говорить об отцовстве, следует рассмотреть еще несколько моментов, и в первую очередь роль торы, наказа, закона, в этом конститутивном генезисе смысла. Если Израиль обладает особым отношением к Яхве, то потому, что Яхве — законодатель: Яхве как первое действующее лицо, Яхве как активный полюс союза, Яхве как тот, кто полагает закон. И здесь же лицом к лицу присутствует весь Израиль в качестве индивидуального и коллективного персонажа: «Слушай, Израиль, я твой извечный Бог» и т. п.
И последнее замечание, прежде чем ввести образ отца: важно, что Яхве, до того, как будет обозначен в качестве отца, называется своим именем. В некоторых психоаналитических кругах любят рассуждать об имени отца. Но здесь следует учитывать различие, даже разъединение. Имя — всегда имя собственное. Отец — это эпитет. Имя — это коннотация. Отец — это описание. Для веры Израиля существенно, что раскрытие Яхве происходит на том уровне, где имя является коннотацией, не имеющей денотации, где нет слова «отец». Перечитаем еще раз рассказ о Неопалимой Купине: «А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий («éhyéh hasher éhyéh»), и далее в тексте «я есмь» становится субъек-
том: «Ты скажи им: Господь… послал меня к вам». Вопрос о раскрытии имени является существенным для нашего анализа. Ведь раскрытие имени — это уничтожение всех антропоморфизмов, всех образов и обозначений, в том числе и образа отца. Имя против идола. Таким образом ограничивается любая неметафорическая родственная связь, любое буквальное отношение потомства. Это ограничивающее действие теологии имени долгое время скрывалось от нас с помощью греческой онтологии, как если бы «я есмь Сущий» было онтологическим предложением. Но стоит ли воспринимать следующие слова в качестве иронии: «Я есмь сущий… Господь, Бог отцов ваших… послал меня к вам. Вот имя мое навеки из рода в род».
В теологии имени эту редукцию идола, а стало быть, и образа отца не следует терять из виду, когда мы анализируем рассказы о творении. Знаменательно, что в этом случае Бог не обозначается в качестве отца и специфический глагол бара употребляется, лишь когда речь идет о творческом акте; все отголоски идеи и о зарождении тем самым уничтожаются. Творчество — мифическая тема, почерпнутая из жизни соседних народов и введенная с опозданием и крайней осторожностью — не является достоянием теологии отцовства; оно, скорее, перетолковывается исходя из теологии исторических традиций и ставится во главу истории, говорящей об актах спасения в качестве первичного акта творения. И это отнюдь не потому, что творцом является отец. Теология творчества станет ключом скорее к перетолкованию образа отца, когда он возвратится. То же самое можно сказать и об определении человека в повествовании о сотворении мира (Быт. 1–2); здесь утверждается, что человек был сотворен по образу и подобию Бо-жию. Слово «сын» более не произносится, а создателя не называют отцом. Скорее семейные отношения могут быть перетолкованы исходя из этой идеи о подобии (к тому же, несомненно, подправленной с помощью идеи о схожести, устанавливающей различие); это подобие возвышает человека над созданными вещами и утверждает его в качестве господина и властителя природы. Теология имени здесь ни в коем случае не отвергается; говорится скорее о том, что как раз имя, а не образ и не идол, выступает в качестве трансценденции человека.
Таким образом, движение образа отца к превосходящему его символу зависит от других символов, не принадлежащих области отцовства; освободитель из древнееврейской «саги», синайский законодатель, носитель имени без образа и даже создатель мифа о творении — вот сколько обозначений, существующих вне сферы родственных отношений; можно почти что парадоксальным образом утверждать: Яхве изначально не был отцом, но при этом он все-таки был отцом.
Все эти рассуждения было необходимо привести, чтобы дойти до того момента, который можно обозначить как ну-левую степень образа — образа вообще и образа отца в частности, — чтобы суметь обозначить Бога как отца. Теперь — и только теперь — мы можем говорить о возвращении образа отца, то есть толковать, опираясь на библейский текст, неопределенное, но весьма существенное обозначение Бога как отца. Данный путь представления Бога в библейском тексте соответствует тому, что в плане влечений является возвращением вытесненного, или утверждением категории семьи — после утверждения абстрактного права и морального сознания — в философии духа.
Такое повторное явление образа отца характеризует собой знаменательное движение вперед, которое можно было бы схематично представить следующим образом: сначала обозначение в качестве отца, который описывается еще в том смысле, какой дает этому слову лингвистический анализ; затем провозглашение отцом и, наконец, обращение к отцу, которое, собственно, и адресуется к Богу как отцу. Это движение имеет своим конечным пунктом молитву Иисуса, в которой возвращение образа отца и признание отца находят свое завершение.
Мы прекрасно видим, как обозначение Бога в качестве отца проистекает из других обозначений Яхве в союзе; ключом здесь является отношение избранничества. Израиль был избран из всех народов; Яхве стал Яхве таким же путем, он — момент этого избрания; именно избрание стало усыновлением. Таким образом, Израиль является сыном, но он является сыном только благодаря обозначающему его слову. Тем самым отцовство полностью отдалилось от акта порождения.
Что в таком случае представление об отцовстве прибавляет к определяющим его историческим категориям? Если мы рассмотрим немногочисленные случаи обозначения Бога отцом, то увидим, что оно появляется непременно в тот момент, когда определенное отношение, некоторым образом экстериоризованное с помощью повествования (Яхве — это Он), интериоризуется. Я беру слово «интериори-зовать» в смысле Erinnerung™, говорящим одновременно о памяти и о внутреннем состоянии — в смысле душевного покоя. Достижение Erinnerung — это одновременно и обретение чувства; однако аффективные коннотации здесь весьма сложны: от суверенного авторитета до нежности и сострадания, как если бы отец был одновременно и матерью. Таким образом, отцовство имеет весьма широкий спектр развития: «чувство зависимости, необходимости, покровительства, доверия, благодарности, непринужденности в обращении»*; неужели этот «неразумный» народ, «не имеющий смысла, твой народ, который избрал тебя и благодаря которому ты существуешь»? (Иер. 32, 6). Бог, имевший одно только имя, Бог, который был одним только именем, обретает лик; в то же время образ завершает свой путь от фантазма к символу.
Именно таким образом обозначение меняет свое направление и устремляется в сторону мольбы, но не осмеливается преступить разделяющий их порог. Ты будешь звать меня: «Ты — отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего»; это еще не мольба. Никогда раньше в Ветхом Завете Яхве не называл себя отцом; обращения Иеремии (Иер. 3, 4 и 19), которые мы рассмотрим ниже, были, как отмечает Марше ль, не мольбой, а просто словами, которыми Бог устами пророков говорил о себе самом.
Что означает этот нескончаемый путь к отцу, к тому, что я назвал провозглашением отца? Здесь, чтобы говорить в духе фон Рада, необходимо иметь в виду различие двух дискурсов, о котором я упоминал выше, — повествования и предсказания, и связанное с этим различие двух теологии: теологии исторических традиций и теологии пророческих традиций. В самом деле, если ссылаться на тексты, где Бог называется отцом, то можно предположить, будто
* Morchel W. Op. cit. P. 33.
тексты эти являются пророческими: книги пророков Осии, Иеремии, третья книга Исайи; к ним же можно присовокупить Второзаконие, берущее начало в пророческой традиции. Что означает эта связь между именем отца и пророчеством? Пророчество свидетельствует о разрыве, возникающем как в форме дискурса, так и с точки зрения теологической: в повествовании рассказывается об актах освобождения, которые были дарованы Израилю в прошлом; предсказания же сами по себе не повествуют о таинственном и успешном пути, но лишь возвещают о нем; пророк говорит от первого лица, от имени Бога. О чем же он возвещает? Он возвещает об ином, нежели то, о чем говорилось в рамках известных текстов: сначала об исчерпании именно этой истории, о ее близком крахе и, вслед за крушением, о новом союзе, о новом Сионе, новом Давиде. Теперь мы знаем, что в пророческих текстах Яхве не только обозначен в качестве отца, но и сам себя объявляет отцом*, и само это провозглашение Бога отцом неотделимо от устремленности в будущее, которое содержится в пророчестве. Трижды Иеремия произносит: Я — отец Израиля, «ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня». Если следовать мысли о том, что пророчество обращено к грядущему завершению, к эсхатологическому причастию, то нельзя ли сделать вывод о том, что образ отца сам захвачен этим движением и является не только образом истока — Бог наших отцов, предок наших предков, — но и образом нового творения?
Только такой ценой отец мог получить признание.
Отец не только ни в коей мере не является предком, но его нельзя отличить и от супруга, как если бы эти образы родственных связей раскололись и поменялись местами; когда пророк Осия перетолковывает мысль о союзе, он видит Бога скорее как супруга, а не отца. Все метафоры, говорящие о верности и неверности, о зле как прелюбодеянии, имеют истоком супружеские отношения; тот же исток имеют и чувства ревности, неразделенной любви, призывы начать все сначала. Иеремия говорит такие слова: «…ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему,
* Morchel W Op. cit. P. 41.
так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев» (Иер. 3, 19–20). Под прикрытием этого странного взаимного переплетения двух образов родства их застывшая рамка разбивается и на свет выходит символ. Отец, он же супруг, не является уже ни тем, кто дает жизнь, ни врагом своих сыновей; любовь, участливость и сострадание одерживают верх над властностью и жестокостью. О таком переворачивании в чувственных отношениях свидетельствует превосходный текст из Книги пророка Исайи: «Ты — Отец наш» (Ис. 64, 8).
Слова «Ты — Отец наш» ставят нас на порог мольбы. К этому можно прибавить и целомудрие, которое ведет к мольбе как к какому-то иносказанию, как это имеет место в Псалтыри: «Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего» (Пс. 89, 27).
С появлением Нового Завета, благодаря молитве Иисуса заканчивается возвращение образа отца, Авва; теперь, рассматривая Евангелие в целом как воззвание, нам предстоит понять его необычный, дерзновенный характер. Если обратиться к Евангелию в целом, а не к отдельным цитатам, то следовало бы признать, что Новый Завет сохраняет кое-что от Ветхого Завета, особенно когда речь идет о сдержанности и целомудрии. Так, если Иоанн использует более сотни обстоятельств для обозначения Бога как отца, то Марк — всего четыре, Лука — пятнадцать, Матфей — сорок два. Это значит, что обозначение Бога как отца сначала встречалось редко и лишь позднее получило широкое распространение, что, однако, не должно вести к забвению того, что Иисус разрешил называть Бога отцом. Но прежде всего следует признать, что отцовство не было изначальной категорией Евангелия; лейтмотив Евангелия, как об этом свидетельствует Марк, — это пришествие Царствия Божия, являющегося по существу своему эсхатологическим понятием; все происходит здесь, как в Ветхом Завете: вначале союз, а затем отцовство; точнее, грядущее царство, о котором сообщает евангелическая керигма, является наследником нового жизнеустройства, возвещенного пророками. Исходя из категории царства и следует толковать категорию отцовства. Эсхатологическое царство и отцовство неотделимы друг от друга вплоть до молитвы Господа; последняя начинается мольбой об отце и продол-
Философия, исследующая основополагающие образы культуры, вынуждает нас сделать еще один шаг в этом направлении. Подлинная родственная связь, говорили мы, изучая «Философию права» Гегеля, это такая связь, которая устанавливается в плане Sittlichkeit, в плане конкретной нравственной жизни; к тому же эта связь возвышает отцовство над случайностью индивидов и выражается в представлении о Пенатах; смерть отца входит также составной частью в представление об отцовстве, которое господствует над поколениями. Эта смерть не нуждается более в том, чтобы быть убийством: она свидетельствует разве что об исчезновении частностей, «многообразных черт»*, что включает в себя установление духовных связей. Итак, в некотором смысле существует такая смерть отца, которая не является более убийством и которая лежит в основании превращения фантазма в символ.
Моя гипотеза такова: смерть страдающего праведника ведет к возникновению определенного значения смерти Бога, которое в плане религиозных представлений будет соответствовать тому, что начало проявляться в других планах символизации. Смерть Бога получит свое продолжение в некриминальной смерти отца и завершит эволюцию символа, обретающего смысл смерти через сострадание. «Умереть за…» займет место «быть убитым…». Как известно, символ праведника, жертвующего собственной жизнью, имеет свои корни в древнееврейской пророческой традиции и находит свое патетическое и лирическое выражение в гимнах о «страдающем слуге (рабе)» из книги Исайи. Разумеется, «страдающий слуга (раб)» Исайи это не Бог; но если Фрейд был прав, рассматривая убийство пророка — прежде всего Моисея, а затем и всякого другого пророка, берущего на себя роль Моисея redivivus[308], — как повторное убийство отца, то мы имеем все основания утверждать, что смерть «страдающего слуги» принадлежит циклу смерти отца. Праведник убит: тем самым удовлетворен агрессивный импульс, направленный против отца, путем отвержения архаического образа отцовства; однако в то же время — и это весьма существенно — смысл смерти получает обратное значение: становясь «смертью за дру-
* Hegel Principes de la philosophie du droit, § 163.
того», смерть праведника завершается превращением отцовского образа в образ добродетели и милосердия. Смерть Христа стоит в конце этого движения. Послание к Филип-пийцам прославляет ее как евхаристию в своем литургическом гимне: «Он… уничижил Себя Самого… быв послушным даже до смерти…» (Флп. 2, 6–8).
На этом заканчивается преобразование смерти как убийства в смерть как жертвоприношение. Однако это значение находится в высшей степени вне пределов природного человека, и не случайно история теологии изобилует сугубо карательными и криминальными интерпретациями жертвоприношения Христа, что полностью оправдывает Фрейда: фантазм отцеубийства и наказания сына оказывается весьма стойким. Я склонен считать, что только подлинно евангелическая христология в состоянии всерьез принять слова Христа: «…никто не лишает меня жизни. Я сам ее дарую».
Не смерть ли сына в таком случае может предоставить нам, наконец, схему отцовства, поскольку сын в определенной степени тоже отец? Как известно, такое понимание, элементы которого мы обнаруживаем в Писании, в частности, в словах Матфея, приводимых нами выше, принадлежит уже эпохе великих теологических и тринитарных построений. Оно находится в компетенции экзегетического метода, каким я пользуюсь в настоящем исследовании. Тем не менее мне хотелось бы сказать пару слов по поводу Фрейда и Гегеля.
Фрейд действительно был прав, утверждая, что Иисус, «взявший на себя вину, сам стал Богом и отцом и тем самым занял его место»; но если Христос выступает здесь в качестве «страдающего слуги», то, занимая место отца, не проявляет ли он тем самым и свойства отца, который изначально был способен на смерть во имя милосердия? В этом смысле мы могли бы с полным основанием говорить о смерти Бога как о смерти отца. Такая смерть была бы одновременно и убийством, если встать на уровень фантазма и возвращения вытесненного, — и высшим отказом, отрешением от себя, если иметь в виду наиболее прогрессивный символ.
Именно это прекрасно понял Гегель. Гегель — первый современный философ, принявший формулу «Сам Бог умер» в качестве фундаментального положения философии религии. Смерть Бога для Гегеля — это гибель отдельной трансценденции. Надо утратить идею Божественного как Абсолютно Иного, чтобы обрести идею Божественного как имманентного духовному сообществу. Жестокие слова «Сам Бог умер», — говорит Гегель, — это слова не атеизма, а подлинной религии, которая, в свою очередь, принадлежит не пребывающему на небе Богу, а живущему среди нас Духу.
Однако эта фраза может существовать на двух различных уровнях и в каждом случае иметь различные значения. Даже у самого Гегеля она принадлежит двум уровням. Прежде всего это указание на «несчастное сознание», которое, стремясь достичь абсолютной и неизменной веры в себя, устремляется вперед, за собственные пределы. Гегель напоминает об этом в начале главы о религии откровения, говоря о предшествующих формах. Вот что он пишет об «утерянной тотальности»: «Мы видим, что это несчастное сознание образует противоположную сторону и завершение в себе совершенно счастливого, то есть комического сознания… Это есть сознание утраты всякой существенности в этой собственной достоверности и утраты именно этого знания о себе, то есть субстанции как самости; это есть страдание, выражаемое жестокими словами: Бог умер»*.
Однако несчастное сознание это еще и трагическое сознание; оно, как таковое, является одной из предпосылок религии и соответствует эпохе общего разложения античного мира; оно не входит в число терминов сформировавшейся религии, в которой, как говорит Гегель, дух будет стремиться познать самого себя в форме духа. Согласно ему, дух сам себя отчуждает: «…об этом духе, покинувшем форму субстанции и перешедшем в наличное бытие в форме самосознания, можно сказать — если воспользоваться отношениями, взятыми из природных условий, — что у него есть действительная мать, а отец только сущий в себе. Действительность, или самосознание, и бытие-в-себе как субстанция суть два момента духа, посредством обоюдного отречения которых каждое делается другим, а
* Hegel. Phénoménologie de l'esprit T. II. P. 260–261.
дух как их единство вступает в наличное бытие»*. Чуть ниже Гегель пишет: «Дух известен как самосознание и непосредственно открыт самосознанию, так как он и есть это самосознание. Божественная природа тождественна с человеческой, и это единство созерцается»**.
Именно в этом проявлении себя как отчуждения смерть обретает наивысшее значение — не только как смерть сына, но и как смерть отца. Сначала — смерть сына: «Смерть богочеловека как смерть есть отвлеченная отрицательность, непосредственный результат движения, заканчивающегося только природной всеобщностью… Непосредственно означая небытие этого единичного, смерть преображается во всеобщность духа, обитающего в своей общине, ежедневно в ней умирающего и воскрешающего»***.
Таким образом, сама смерть меняет свой смысл в зависимости от уровня осуществления духа; Гегель, как и Фрейд, говорит о преобразовании, но понимает его диалектически — как многократно проходящее через одну и ту же точку, но на различных этапах. Стоит ли в таком случае утверждать, что последний смысл смерти сына, который надлежало бы принять, является ключом к последнему смыслу, который, в свою очередь, могла бы обрести смерть отца через своего рода перемоделирование отцовства с помощью уловок сыновнего отношения: «Смерть посредника есть смерть не только природной стороны его или его особого бытия для себя; умирает не только отделившаяся от сущности уже мертвая оболочка, но и абстракция божественной сущности… смерть этого представления содержит в то же время смерть абстракции божественной сущности, которая не установлена как Самость. Эта смерть есть горькое чувство несчастного сознания, что сам Бог умер»****. Таким образом формулировка о несчастном сознании повторяется, только принадлежит она уже не несчастному сознанию, а — духу сообщества. То, что здесь вырисовывается, может быть названо теологией слабости Бога; именно об этом ведет речь Бонхёффер, утверждая: «Только слабый Бог может получать помощь»; если такая тео-
* Hegel Phénoménologie de l'esprit. T. II. P. 263. ** Ibid. P. 267. *** Ibid. P. 268. **** Ibid. P. 287.
логия была бы возможна, то существовала бы полная аналогия между тремя планами, о которых мы говорили, — между психоанализом, философией духа и философией религии; наиболее значимой темой для каждой из этих трех дисциплин была бы тема включения смерти отца в конечное формирование символа отцовства. И такая смерть не была бы более убийством — она стала бы решительнейшим отказом человека от самого себя.
Позвольте мне в заключение кратко подвести итог, выделив вопросы, получившие разрешение, и вопросы, которые разрешения не получили.
В вопросах, получивших разрешение, я указал бы на следующие моменты.
1. Сравнение между первым анализом, проведенным в сфере желания, и последним — в сфере религиозных символов, позволяет обнаружить определенную аналогию между импульсными основами и связностью символических образов веры; эта аналогия относится в большей мере к процессам, а не к структурам; подобное открытие, как представляется, может привести к возникновению идеи равнозначности психоанализа и религии, как это иногда полагают. Разумеется, это ни о чем не говорит; на данной стадии рефлексии все остается открытым, и даже нерешенным; по крайней мере, психоанализ сохраняет за собой право трактовать религиозные феномены: все анализы, представленные в третьей части нашего исследования, вполне вписываются в «сферу» импульсных образований; в определенном смысле история божественных имен связана с приключениями либидо; этот вывод перестанет удивлять, если внимательно отнестись к разнообразию выходов из Эдипова комплекса и к постоянно возобновляющейся связи между не-невротическими и невротическими выходами из этого кризиса. Вот почему понятие возвращения вытесненного должно оставаться открытым и проблематичным. В противном случае психоанализ не имеет права ни на редукцию значений, существующих в религиозной сфере, ни на лишение их собственного смысла, каков бы ни был в них уровень либидинозных инвестиций. В этом отношении мы вправе упрекнуть Фрейда (особенно если речь идет о «Мои-
сее и монотеистической религии») в его намерении непосредственно связать психоанализ с верующим, не принимая во внимание толкования текстов, в которых его вера документируется.
Но сегодня этот первый вывод не столь интересует меня, как последующие заключения. Прежде всего, предлагаемое перемирие в лучшем случае является дипломатической победой арбитра в столкновении различных герме-невтик. Вот почему меня более удовлетворяют второй и третий выводы.
2. Второй вывод таков: центром гравитации и осью любого постижения являются феноменология и философия духа, представленные во второй части исследования; именно здесь обнаруживается философская компетентность психоанализа; две другие части сходятся на этом центральном основании; одна, представляющая собой то, что я недавно обозначил как археологию, и другая — телеология, восходящая к теологии надежды, однако не исчерпывающая ее с необходимостью. Уничтожьте этот средний план — и психоанализ разрушится, или сам погребет себя в результате неразрешимых конфликтов; значительное число противоречий между психоанализом и религией плохо поддается обузданию и регулированию, если пренебрегать философским инструментарием и посредничеством, руководствующимися тем, что я называю конкретной рефлексией.
3. Мой третий вывод, как мне представляется, имеет еще большее значение: он касается самих результатов данного анализа, то есть схемы отцовства. Если вернуться к общему описанию, представленному мною во Введении, то станет ясным, что оно пополнилось несколькими важными чертами. В моей рабочей гипотезе я специально останавливался на переходе от фантазма к символу, на роли иных образов, отличных от образа отца, в формировании символа, наконец, на возрождении изначального фантазма в окончательно сложившемся символе. Тройственный анализ, которому был подчинен процесс символизации, высветил такие аспекты, которые требуют серьезного осмысления. Прежде всего, это скачок от физического зарождения к появлению слова, обладающего функцией обозначения; затем замена вдвойне разрушительной идентифика-
ции отца и сына их взаимным признанием; и, наконец, анализ символа отцовства, обособившегося от личности отца. Может быть, именно последнее обстоятельство наиболее значимо для мышления, поскольку вместе с ним в создание символа включается не только возможность, но и смерть. Кое-что из этого стало заметным на импульсном уровне, с трактовкой смерти отца и гибелью желания, затем — на уровне основополагающих образов культуры, гегелевской темы семейного сообщества, объединенного под знаком Пенатов; наконец, на теологическом уровне, вместе с признанием «смерти Бога». Эта связь смерти и символа до сих пор не получила адекватного осмысления.
С последним замечанием мы уже входим в область еще не разрешенных вопросов. Однако на этом я хотел бы закончить свой анализ. Фундаментальная проблема осталась в подвешенном состоянии. Что означает распределение по трем областям, которое руководило нашим анализом? Мне представляется, что эти три области отделены друг от друга тремя различными методологиями, каковыми являются экономика, феноменология и герменевтика. Но нельзя бесконечно укрываться за таким ответом, который оставляет в стороне вопрос о доверии, — какова реальность, соответствующая каждой из них? Экономика — это экономика желания, феноменология — это феноменология духа, герменевтика — это толкование религиозных образов. Как связаны друг с другом желание, дух, Бог? Иными словами, на чем основывается подобие, существующее между структурами и процессами, принадлежащими трем рассматриваемым областям? Этот вопрос требует от философа, по меньшей мере, следующего: по-новому осмыслить задачу, унаследованную Гегелем от предшествующей эпохи, то есть задачу диалектической философии, которая была бы в состоянии взять на себя постижение разнообразия, существующего в плане опыта и реальности и обладающего систематическим единством. Сегодня необходимо предпринять новые усилия в осмыслении проблемы, если верно, что, с одной стороны, бессознательное должно быть вписано в иное пространство, нежели категории рефлексивной философии, и что, с другой стороны, надежде предназначено открывать то, что система стремится закрыть. Такова эта задача. Но кто сегодня в состоянии взять на себя ее решение?
ЛИТЕРАТУРА
Существование и герменевтика
Aristote. Traité de l'interprétation. Organen II. Trad. fr. Vrin. 1946.
Augustin. De Doctrina Cristiana. Trad. fr. Bibliotèque augustinienne. T. XL
Diltey W. Origine et développement de l'herméneutique. In: Gesammelte Schriften. T. V. Trad. fr. le Monde de l'Esprit. T. 1,319–340. Aubier. 1947.
Ebeling G. Art. «Hermeneutik» in: Religion in Geschichte und Gegenwart. 3-е éd. 1959. T. III.
Eliade M. Traité d'histoire comparée des religions. Payot. 1959.
Freud S. Voir II.
Heidegger M. Voire III.
Husserl E. Voir III.
LeenhardtM. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. Gallimard. 1947.
Leuuw van der. La religion dans son essence et ses manifestations. Trad. fr. Payot. 1948.
Atoter//. Voire III.
Perm J. Mythe et allégorie, les origines grecques et les contestations judéo-crétiennes. Aubier. 1958.
Schleiermacher F. Herméneutique. Reed par Heinz Kimmerle. Abh. der Heidegger. Akademie der Wissenschaften. 1959.
Герменевтика и структурализм
Actes du I-ег Congrès international de linguistique (La Haye 1928). Leyde 1929. Bastide R., Wolff E., Benveniste E., Lévi-Strauss C. etc. Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales. La Haye, Mouton. 1962. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Gallimard. 1966.
— La Forme et le sens dans le langage. In: le Langage (Actes du XIII Congrès des sociétés de philosophie de langue française. Neuchâtel. La Baconnière. 1967.
Carroll J.-B. The study of language (sur la linguistique américaine). Cambridge (Mass.). 1955.
CassirerE. Philosophie des symbolischen Formen (1923). Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. 1964.
Chenu M.-D. La théologie au XII siècle. Vrin. 1957.
Chomsky N. Current Issues in linguistic theory. La Haye, Mouton. 1964.
— Syntactic structures. La Haye, Mouton. 1965. Trad, fr.: Structures syntaxiques. Ed. du Seuil. 1969.
— Cartesian Linguistics. Harper and Row. 1966. Trad, fr.: La linguistique cartésienne. Ed. du Seuil. 1969.
Communications. № 8. L'Analyse structurale du récit. Ed. du Seuil. 1966.
Dufrenne M. Le Poétique. P. U. F. 1963.
Frege G. Lieber Sinn und Bedeutung. Zischft f. Phil, u phil. Kritik 100 (1892). Trad, angl. in: Philosophical Writings. Oxford. Blackwell, 56–78. Trad. fr. à paraître aux éd du Seuil.
Gardiner Sir. The theory of speech and language. Oxford, Clarendon Press. 1932,1951.
Godel R. Les Sources manuscrites du cours de linguistique générale de F. de Saussure. Droz-Minard. 1957.
GreimasA.-J. Sémantique structurale. Larousse. 1966.
Guillaume G. Temps et Verbe. Champion, 1965.
— Langage et sciences du langage. Nizet. 1964. GuiraudP. La Sémantique. P. U. F. «Que sais-je?». 1962 Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen. Neske. 1959.
Hjelmslev L. Prolegomena to a theory of language. 1943. Trad. angl. The Univ. of Wisconsin Press. Madison. 1961.
— Essais linguistiques. TCLC XII. 1959.
— Le Langage. 1953. Trad, fr., éd. de Minuit. 1966.
Humboldt W. von. Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelüng des Menschengeschlechts (1836). Bonn, F. Dümmlers Verlag. 1967. Trad. fr. à paraitre aux éd. du Seuil.
Jakobson R. Essais de linguistique générale. Ed. de Minuit. 1963. Principes de phonologie historique. — In: Troubetzkoy (voir plus bas). P. 315–336.
Lévi-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. PU.F. 1949.
Anthropologie structurale. Pion. 1958
Le Totémisme aujourd'hui. P.U.F. 1962.
La Pensée sauvage. Pion. 1962.
Introduction à Oeuvre de Marcel Mauss // Mauss M. Sociologie et Anthropologie. P.U.F. 1950.
Martinet A. Eléments de linguistique générale. A. Colin. 1960.
Ogden E.-K. and Richards I.-A. The meaning of meaning. Routledge and Kegan. 1923,1946.
Orügues E. Le Discours et le symbole. Aubier. 1962.
Pierce Oi S. Collected Papers. Ed. Ch. Hartshorne et P. Weiss. Cambrige (Mass.). 5 vol. 1931–1935.
Problèmes du langage (par Emile Benveniste, Noam Chomsky, Roman Jakobson, André Martinet etc.). Coll. «Diogène». Gallimard. 1966.
Rad G. von. Theologie des Alten Testaments. Munich, chr. Kaiser Verlag. 1957.
Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Payot. 1916,1949.
Troubetskoy. Principes de Phonologie. Trad. fr. Klincksieck. 1949,1957.
Ullmann S. The principles of semantics. Oxford, Blackwell 1951,1959.
Urban W.-M. Language and reality. Londres. George Allen and Unwin. 1939,1961.
Freud S. Gesammelte Werke, 18 vol., Londres, S. Fischer Verlag. Standard edition, dir. James Strachey, 24 vol., Londres, the Hogarth Press. На французском языке:
— La Naissance de la psychanalyse. P.U.F, 1956.
— L'Interprétation des rêves. Le Club français du livre, 1963. —Trois essais sur la sexualité. Gallimard, 1949.
— Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Gallimard, 1930.
— Délires et rêves dans la «Gradiva» de Jensen. Gallimard, 1931.
— Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Gallimard, 1927.
— Totem et Tabou. Payot, 1933.
— Métapsychologie. Gallimard, 1952.
— Cinq psychanalyses. PU.F, 1955.
— Essais de psychanalyse (au-delà du principe de plaisir, le moi et le ça, etc.). Payot, 1951.
— Psychologie collective et analyse du moi. Payot, 1953.
— Essais de psychanalyse appliquée. Gallimard, 1931.
— La Technique psychanalytique. P.U.F, 1953.
— L'Avenir d'une illusion. Denoël et Steele, 1932.
— Malaise dans la civilisation. Ibid., 1934.
— Moïse et le Monothéisme. Gallimard, 1948.
HesnardA. L'Oeuvre de Freud, préface de Maurice Merleau-Ponty. Payot, 1960. Kris, Loewenstein, Hartmann. — In.: Rapaport D. Organization and Pathology of Thought. Columbia Univ. Press, 1956. Lacan J. Écrits. Éd du Seuil, 1966.
Герменевтика и феноменология
Fichte J.-G. Sämmtliche Werke. Ed. I. H. Fichte. Berlin, 1845.
La Théorie de la science, exposé de 1804. Trad. fr. Aubier. 1967.
Hegel G.-W.-F. Phénoménologie de l'esprit. Trad. fr. Aubier. 1939.
Précis de l'Encyclopédie des Sciences philosophiques. Trad. fr. Vrin. 1952.
Principes de la philosophie du droit. Trad. fr. Gallimard. 1949.
Leçons sur la philosophie de la religion. Trad fr. Vrin. 1959.
Heidegger M. L'Etre et le Temps (Sein und Zeit). Trad. fr. Gallimard. 1964.
Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege). Trad. fr. Gallimard. 1962.
Introduction à la métaphysique. Trad. fr. P.U.F., 1958; Gallimard, 1967.
Approche de Hölderlin. Trad. fr. Gallimard. 1962.
Unterwegs zur Sprache. Pfullingen. Neske. 1959.
Gelassenheit. Pfullingen. Neske. 1962. Trad. fr. («Sérénité») in: Questions III. Gallimard, 1966.
Husserl E. Recherches logique, I, II, III. Trad. fr. PU.F. 1958–1963.
Idées I. Trad. fr. Gallimard. 1950.
Méditations cartésiennes. Trad. fr. Vrin. 1947.
Logique formelle et Logique transcendantale. Trad. fr. PU.F. 1957.
L'Origine de la géométrie. Trad, fr., intr. Derrida J. P.U.F. 1962.
Krisis der europäischen Wissenschaften. Husserliana, t. VI. Nijhoff, 1954.
Hyppolite J. Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Aubier. 1946.
Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Gallimard. 1945.
Signes. Gallimard. 1960.
Le Visible et l'Invisible. Gallimard. 1961.
Naben J. L'Expérience intérieure de la liberté. P.U.F. 1923.
Eléments pour une Ethique. P.U.F. 1943 (2-е édition 1962, préface de Ricoeur P.).
Les Philosophies de la réflexion. Encyclopédie française. T. XIX.
Essai sur le mal. P.U.F. 1955.
Richardson W.-J. Heidegger, Through phenomenologiy to thought. La Haye. Nijhoff. 1963.
Символика интерпретации зла
Aristote. Ethique à Nicomaque. Trad. fr. Vrin, 1959; Béatrice — Nauwelaé'rts, 1958.
Augustin. Bibliothèque Augustinienne. Desclée de Brouwer: De libero arbitrio, t. VI; Quaestiones VII ad Simplicianum, t. X; Ecrits antimanichéens, t. XVII et XVIII; Retracta-tiones (Revisions), t. XII.
Part. Lat. (Migne): De peccatorum meritis et remissione, t. XLIV; Contra Julianum, t. XLIV
Clément d'Alexandrie. Extraits de Théodot. Texte grec et trad. fr. «Sources Chrétiennes». Ed. du Cerf.
Confession de foi de la Rochelle. Expliquée par R. Mehl. Coll. «Les Bergers et les Mages». 1959.
Dodd C. La Bible aujourd'hui. Trad. fr. Casterman, 1957.
Eliade M. Traité d'histoire des religions. Payot. 1949.
Enuma Elish. V. Pritchard.
Feuerbach L. Manifestes philosophiques. Trad. fr. P.U.F. 1960.
Jonas H. Gnosis als spätantiker Geist T. I. Göttingen. Vandenbroeck u. Ruprecht. 1934.
Kam L Critique de la raison pure. P.U.F. 1963.
Critique de la raison pratique. P.U.F. 1949.
La Religion dans les limites de la simple raison. Vrin. 1952.
Kierkegaards. Le Concept d'angoisse. Gallimard. 1935.
Crainte et tremblement. Aubier. 1935.
Traité du désespoir. Gallimard. 1932.
La Répétition. Ed. Tisseau. Bazoges-en-Pareds. 1933.
Post-scrip turn aux miettes philosophiques. Gallimard. 1938.
Nietzsche F. Le Gai-savoir. Mercure de France.
Généalogie de la morale. Ibid.
Par-delà le Bien et le Mal. Ibid.
Ainsi parlait Zarathoustra. Ibid.
La Volonté de puissance. 2 vol. Gallimard.
Pelage. Commentaire sur les XIII épitres de saint Paul. Ed. Souter. Cambridge.
Plinval G. de. Pelage, ses écrits, sa vie et sa réforme. Payot, 1943.
Plotin. Les Ennéades. Trad. fr. Ed. Budé. Coll. «Les Belles Lettres».
PritchardJ.-B. Ancien Near Eastern. Texts relating to the Old Testament. Princeton. 1950.
Puech M.-C. Der Begriff der Erlösung im Manichaeismus. Eranos Jahrbuch. 1936 (IV).
Le Manichéisme, Civilisation du Sud. S.A.E.P. 1949.
Les Nouveaux écrits gnostiques. Coptic Studies. 1950.
QuispeL La Conception de l'homme dans la gnose valentinienne. Eranos Jahrbuch. 1947 (XV).
L'Homme gnostique (la doctrine de Basilide). Eranos Jahrbuch. 1958 (XVI).
The original doctrine of Valentine. Vigiliae christianae.
Gnosis als Weltreligion. Zürich. Orego Verlag. 1951.
Rottmayer Dom O. L' Augustinisme (1908). Trad. fr. Mélanges de Sciences religieuses. 1949.
Религия и вера
Barthes R. Intriduction à l'analyse structurale des récits. — In.: Communications. № 8,1966.
Bonhoeffer D. Résistance et Soumission, tr. fr. Geneve, Labor et Fides, 1963. Bultmann /?. Jésus, mythologie et démithologisation, tr. fr. Éd. du Seuil, 1968.
— Foi et Compréhension: eschatologie et démithologisation, tr. fr. Éd. du Seuil, 1969.
— Die Theologie des Neuen Testaments. Tübingen, 1953.
— Das Evangelium des Johannes. Göttingen, 1941.
GreimasA.-J. Eléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique. — In.: Communications, № 8,1968.
Jeremias J. «ABBA», Untersuchungen zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte. Göttingen, 1965. На английском языке: The Prayers of Jesus. — In.: Studies in Biblical Theology, № 216. На французском языке: резюме в кн.: Le Message central du Nouveau Testament, chap. I. Ed du Cerf, 1966.
De Lubac M. Exégèse médiévale: Les Quatre Sens de l'Ecriture, 4 vol. Aubier, 1959–1964.
Marchell W. Dieu-Père dans le Nouveau-Testament. Éd. du Cerf., 1966.
Moltmann J. Theologie der Hoffnung. Munich, ehr. Kaiser Verlag, 1965.
PohierJ.-M. La Paternité de Dieu. — In.: Inconscient, № 5. P.U.F., 1968.
Von Rad G. Theologie des Alten Testaments, vol. I: die Theologie der geschichtlichen Ueberlieferungen Israels. Munich, ehr. Kaiser Verlag, 1957. — Gesammelte Studien zum Alten Testament. Ibid., 1958.
КОММЕНТАРИИ
Существование и герменевтика
In: Interpretation der Welt. Festschrift für Romano Guardini zum achtzigsten Geburtstag. Würzburg, Echter-Verlag, 1965. P. 32–51.
Кастпелли (Castelli-Gattinara) Энрико (p. 1900) — итальянский философ, сторонник «теологического экзистенциализма», радикальный критик солипсизма; в 1961–1966 гг. — один из организаторов научных конференций в Риме по проблемам демифологизации религии, в которых П. Рикёр принимал активное участие.
[309] Quid — зачем, к чему, для чего, с какой целью (лат.).
[310] Стоическая школа — древнегреческая философская школа, основанная Зеноном из Китиона ок. 300 г. до н. э.
[311] Галаха, Аггада — жанры талмудической литературы.
[312] Речь идет о труде немецкого философа и историка культуры, одного из основоположников философской герменевтики Вильгельма Дильтея (1833–1911) «Возникновение герменевтики» (1900).
[313] Dasein — присутствие, наличное существование (нем.).
[314] Полное название труда Эдмунда Гуссерля (1859–1938): «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936); это последнее (незаконченное) произведение философа, материалом к написанию которого послужили доклады, сделанные им в 1935 г. в Вене и Праге.
[315] Cogilo — мыслить, думать, рассуждать (лат.); Рене Декарт (1596–1650), один из родоначальников новоевропейской философии и экспериментально-математического естествознания, признавал Cogito (Со-gito ergo sum — мыслю, следовательно, существую) первым достоверным суждением науки и первым непосредственно данным сознанию объектом.
[316] Речь идет о работе П. Рикёра «Символика зла» («Symbolique du mal»), входящей в состав его труда «Философия воли» («Philosophie de la volonté. II. Finitude et culpabilité». Paris, I960):
[317] Ван дер Л eye (Leew van der) Жерар (1890–1950) — голландский пастор, ученый, специалист в области истории религий.
Леенхардт (Leenhardt) Морис (1878–1945) — протестантский пастор, этнолог, специалист в области первобытного мышления и мифологии.
Элиаде (Eliade) Мирче (1907–1986) — французский философ культуры, исследователь мифологии, религиовед, писатель.
[318] Булътман (Boultmann) Рудольф (1884–1976) — немецкий протестантский теолог, историк религии, философ, представитель «диалектической теологии»; сторонник демифологизации христианского учения, выражения его содержания в терминах человеческого существования. Автор работ: «Иисус» («Jesus», 1926), «Новый Завет и мифология» («Neues Testament und Mythologie», 1948), «Теология Нового Завета» («Theologie des Neuen Testaments», 1953); см. раздел «Предисловие к Бультману» в наст. изд.
[319] Полное название работы Э. Гуссерля: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. Общее введение в чистую феноменологию» (1913; рус. пер. А. В. Михайлова — 1999 г.).
[320] Набер (Nabert) Жан (1881–1960) — французский религиозный философ, в центре внимания которого проблемы самопознания, свободы, зла, веры. Автор работ: «Внутренний опыт свободы» («L'expérience intérieure de la liberté», 1932), «Основы этики» («Eléments pour une Ethique», 1943), «О зле» («Essai sur le mal», 1955), «Жажда Бога» («Le désir de Dieu», 1966). П. Рикёр посвятил Ж. Наберу работу «Символика зла».
[321]Culpa — вина, проступок (лат.).
[322] Герменевтический круг — особенность процесса познания, отражающая его циклический характер. Различные представления о герменевтическом круге связаны с осознанием взаимообусловленности объяснения и интерпретации, с одной стороны, и понимания, с другой: чтобы нечто понять, его надо объяснить, и наоборот. Св. Августин утверждал: для понимания Священного писания необходимо в него верить, но для веры необходимо его понимание; в герменевтике XVIII–XIX вв. герменевтический круг представлен как круг целого и части: для понимания целого необходимо понимание отдельных частей, но для понимания отдельных частей необходимо уже иметь представление о смысле целого.
[323] В связи с тем, что психоаналитическая терминология занимает в данной работе П. Рикёра значительное место, позволю себе отослать читателя, незнакомого или малознакомого с ней, к вышедшему на русском языке всемирно известному «Словарю по психоанализу» (М., 1996; пер. с фр. Н. С. Автономовой), авторами которого являются философ и врач-психоаналитик Жан Лапланш (р. 1924) и философ и литератор Жан-Бернар Понталис (р. 1924), научным редактором — Даниэль Лагаш (1903–1972), один из наиболее известных психоаналитиков, работавших в области психологии. В «Словаре» дана полная библиография трудов Фрейда.
[324] Conatus — влечение, стремление (лат.).
[325]См.: Платон. Пир 203 Ь-е.
[326] Arche — начало, принцип (греч.). Telos — цель (греч.).
I. Герменевтика и структурализм
Структура и герменевтика
Первоначальное название работы: Symbolique et temporalité. In: Ermeneutica e Tradizione (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1963). Archivio di Filosofia, direction E. Castelli. 3, 1963, 12–31. Переиздано с небольшими сокращениями: Esprit, november 1963. P. 596–627.
[327] Вероятно, Рикёр имеет в виду свой труд «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» («De l'interprétation. Essai sur Freud», 1965) и, в частности, первую главу: «О языке, символе и интерпретации».
[328] Gnose — познание (греч.: gnôsis).
[329] Гностики — представители гностицизма, религиозно-философского учения поздней античности, в котором основные факты и учение христианства разрабатывались как принадлежащие языческой (восточной и эллинской) мудрости.
[330] Экзистентное (existential) понимание — анализ человеческого существования, игнорирующий онтологическую перспективу (см.: Хай-деггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 12–13. Пер. В. В. Бибихина).
[331] «Первобытное мышление* — труд К. Леви-Строса, опубликован в 1962 г. (рус. пер. А. Б. Островского — 1994).
[332]Здесь и далее см.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
Соссюр (Saussur) Фердинанд де (1857–1913) — швейцарский лингвист, один из основателей структурной лингвистики.
[333] Фонологическое направление в лингвистике — раздел лингвистики, в котором изучаются структуры и функциональные закономерности звукового строя языка.
[334] Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) — русский лингвист, один из ярких представителей Пражского лингвистического кружка; разработал основы фонологии как особой лингвистической дисциплины; сформулировал принципы и задачи морфонологии.
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) — русский и американский лингвист, литературовед, семиотик, один из основоположников структурализма.
Мартине (Martinet) Андре (р. 1908) — французский лингвист, фонолог, последователь Н. С. Трубецкого.
[335] Здесь и далее см.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983 (пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова). В данном случае см. с. 83 и след.
[336] Мосс (Mauss) Марсель (1872–1950) — французский социолог и этнограф, ученик Э. Дюркгейма; оказал влияние на развитие структурной антропологии К. Леви-Строса.
[337] Одрикур (Haudricourt) Анри (р. 1911) — французский лингвист, исследователь языков Юго-Восточной Азии.
Гранэ (Granet) Марсель (1884–1940) — французский синолог.
[338] Боас (Boas) Франц (1858–1942) — американский антрополог, этнолог, лингвист, один из основоположников структурной лингвистики.
[339]Бриколаж (фр.: bricolage) — поделки, изготовление самоделок.
[340] Рад (Rad) Герхард фон (1901–1971) — религиовед, специалист по изучению Ветхого и Нового заветов.
[341] Амфиктиония — в Древней Греции религиозно-политический союз племен и городов с общими святилищем, казной, правилами ведения войн.
[342]Машина feed-back — машина с обратной связью (англ.).
[343] Праксис (praxis) — термин, введенный Сартром для обозначения творческого характера деятельности в отличие от подавляющей индивида инертной деятельности.
[344] Речь идет о трагедиях древнегреческого драматурга Софокла (ок. 496–406) «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне».
[345] Шеню (Chenu) Мари-Доминик (1895–1990) — французский теолог-доминиканец, автор работ по средневековой теологии и томизму.
[346] Signum — знак, клеймо (лат.).
[347] Symbolon — символ (греч.).
[348] Дионисии — по всей вероятности, Рикёр имеет в виду Дионисия Ареопагита (Псевдо-Дионисия), христианского мыслителя V или VI в., использовавшего символизм для истолкования всего сущего.
[349]Analogia — соразмерность, соответствие, подобие, сходство (греч.).
Anagoge — раскрытие внутреннего смысла (греч.).
[350]*Allegoriae — аллегория, иносказание (греч.).
Disünctiones — различение, распознавание (лат.).
[351] Гуго Сент-Викторскии (Hugo de Saint-Victor, ок. 1096–1141) — средневековый философ, представитель схоластики.
[352]Ортиг (Ortigues) Эдмон (р. 1917) — французский философ, религиовед, этнограф, лингвист.
[353] Translatio — перенос, перемещение, перевод (лат.).
Двойной смысл как герменевтическая и семантическая проблема
In: Cahiers internationaux du symbolisme, 1966, № 12. Pp. 59–71, a также: Mythes and Symbols. Studies in honor of Mircea Eliade. Ed. by Kitagawa and Ch. Long. University of Chicago Press, 1969. P. 63–81.
[354] Ульман (Ulmann) Стивен (1914–1976) — английский лингвист. Гиро (Guiraud) Пьер (p. 1912) — французский лингвист.
[355] A fortiori — тем более (лат.).
[356] Пирс (Pierce) Чарлз Сандерс (1839–1914) — американский философ, логик, математик, естествоиспытатель; родоначальник общей теории знаков — семиотики.
[357] Огден (Ogden) Чарлз Кей (1889–1957) — американский лингвист. Ричарде (Richards) Айвор Армстронг (1893–1979) — английский
лингвист.
[358]Годель (Godel) Роберт (р. 1902) — австро-швейцарский лингвист, представитель социологического направления в лингвистике.
[359]Трир (Trier) Йост (1894–1970) — немецкий лингвист, последователь Гумбольдта (см. далее комм. 41).
[360] Inpraesentia — в присутствие (лат.).
[361] In absentia — в отсутствие (лат.)
[362]Греймас (Greimas) Альгирдас (р. 1917) — французский лингвист (см. комм, к с. 452).
[363] Башляр (Bachelard) Гастон (1884–1962) — французский философ, методолог науки, эстетик; см. его книгу «Психоанализ огня». М., 1993.
3&Рюйе (Ruyer) Реймон (р. 1902) — французский философ.
Структура, слово, событие In: Esprit. «Structuralisme, idéologie et méthode», mai 1967. P. 801–821.
[364] Хомский (Chomsky) Ноам (р. 1928) — американский лингвист, основоположник генеративной лингвистики и теории формальных языков как раздела математической логики.
*°Елъмслев (Hjelmslev) Луи (1899–1965) — датский лингвист.
[365] Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм (1767–1835) — немецкий языковед, философ, эстетик, государственный деятель и дипломат; основоположник философии языка как самостоятельной дисциплины, оказавший огромное влияние на развитие языкознания в XIX–XX вв.
[366]Мейе (Meillet) Антуан (1866–1936) — французский лингвист, последователь Соссюра, глава французской социологической школы в лингвистике.
[367] Бенвенист (Benveniste) Эмиль (1902–1976) — французский лингвист, ученик А. Мейе, специалист по общему и европейскому языкознанию, а также в области семиотики.
**Фреге (Frege) Фридрих Людвиг Готлоб (1848–1918) — немецкий философ, логик и математик, основоположник современной формальной логики и логической семантики.
*ьГич (Geach) Питер — английский философ, представитель лингвистической философии.
Блэк (Black) Макс (р. 1909) — американский философ, представитель лингвистической философии.
[368]Erfüllung — выполнение, исполнение (нем.).
[369] Гийом (Guillaume) Гюстав (1883–1960) — французский философ, лингвист, последователь А. Мейе.
[370] Unterwegs zur Sprache — на пути к языку (нем.). Намек на одноименную работу — «На пути к языку» (1959) М. Хайдеггера.
[371] Дюфрен (Dufrenne) Микель (р. 1910) — французский философ и эстетик.
II. Герменевтика и психоанализ
Сознательное и бессознательное
In: Inconscient (VI-e colloque de Bonnevalé). Bibliothèque neuro-psychiatrique de langue française, sous la direction de H. Ey. Paris: Desclée de Brouwer, 1966. P. 409–422.
[372] См. раздел «Диалектика бытия и небытия» платоновского диалога «Софист», 236с—259е.
[373] Речь идет о статье «Бессознательное», включенной в сборник работ 3. Фрейда «Метапсихология» («Métapsychologie». Paris, 1952), куда вошли также статьи «Влечения и их судьбы», «Вытеснение», «Мета-психологические дополнения к учению о сновидениях», «Скорбь и меланхолия».
[374] Ноэсис и ноэма — термины платоновской и аристотелевской философии. Гуссерль использует их для раздельного описания объектов сознания и процессов их идеального построения; они связаны с центральным понятием феноменологии — интенциональностью, то есть предметной направленностью сознания. Рикёр так поясняет эти термины: поете — воспринимаемое, желаемое; noese — восприятие, желание (см. rRicoeurP. Reflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 30).
[375] Политцер (Politzer) Жорж (1903–1942) — французский мыслитель; разрабатывал проблемы философии, политэкономии, психологии с позиций диалектического материализма (См.: Политцер Ж. Избранные философские и психологические труды. М., 1980).
[376] les, PCS, Cs — принятое в психологической и философской литературе сокращенное обозначение содержаний душевной жизни, признаваемых и психоанализом: les (inconscience) — бессознательное, PCS (preconscience) — предсознательное, Cs (conscience) — сознание.
[377] Es (нем.), Id (лат.), Ça (фр.) — «Оно» — наиболее архаичная, безличная часть психики, содержащая бессознательные влечения (les), которые коренятся в телесной организации человека и стремятся к удовлетворению.
[378] Интроспективная психология — одно из ведущих направлений в психологии конца XIX — начала XX в., положившее в основу своих исследований метод самонаблюдения; главные ее представители В. Вундт (Wundt, 1832–1920) и Э. Титченер (Titchener, 1867–1927).
[379]Речь идет об американской школе «психологии «Я»», или «эго-пси-хологии».
[380]См. раздел «Самосознание» в труде Гегеля «Феноменология духа» (СПб., 1913).
[381]Веланс (Waelhens) Альфонс де (1911–1981) — бельгийский философ, представитель феноменологическо-экзистенциалистского направления; в 60—70-е гг. был близок психоанализу.
[382] Вслед за Сартром термином «редкость» (rareté) обозначают отношение индивида к окружающей среде в условиях нужды, нехватки.
[383]Алэн (Alain, псевдоним Эмиля Шартье) (1868–1951) — французский философ-моралист; в политике ставил целью спасти человека от тирании.
[384] Стоицизм — школа древнегреческой философии; основана Зено-ном из Китиона ок. 300 до н. э.
[385] Скептицизм — древнегреческое философское направление, основанное Пирроном из Элиды в конце IV в. до н. э.
[386] См.: Гегель. Феноменология духа. С. 90 и след.
[387] Hybris — высокомерие (греч.).
[388]Речь идет об английских писателях XVI–XVII вв., современниках королевы Елизаветы Тюдор (1558–1603).
[389] Аполлон — в греческой мифологии олимпийский бог, сочетающий в себе функции как губительные, так и благодетельные, стороны мрачные и светлые; со временем Аполлон приобрел значение устроителя социально-политической жизни Греции, а также организующего начала в области морали, искусства, религии.
[390] Софокл. Эдип-царь, 556–558 (пер. С. Шервинского).
[391] «О вещая моя душа» (Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5 (пер. М. Лозинского)).
[392] Bildung (нем.), naiôeia (греч.), education (англ.), eruditio (лат.) — образование, воспитание.
Психоанализ и развитие современной культуры
In.: Traité de psychanalyse, sous la direction de S. Nacht. T. I, Histoire. Paris: P.U.F., 1965. P. 79—109.
[393] См.: Спиноза Б. Этика. М.;Л., 1933. С. 1.
[394]Ананке — в греческой мифологии богиня необходимости, неизбежности.
[395] Здесь и далее см.: Фрейд 3. Недовольство культурой (пер. А. Рут-кевича) // Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
[396] Человек человеку волк (лат.).
[397]Буквально: «сказочка о небесах» (нем.). Слова из поэмы Г. Гейне «Зимняя сказка».
[398] «Так совесть делает из всех нас трусов» (Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 1).
[399] Эпикур (341–270) — древнегреческий философ-материалист.
Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.) — римский философ и поэт, автор поэмы «О природе вещей»; его идеи близки материалистическим взглядам Эпикура.
[400]См.: Фрейд 3. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 1997. С. 190–191.
[401] Смит Робертсон (Smith Robertson, 1846–1894) — американский историк, этнолог, религиовед (см.: Фрейд 3. Тотем и табу. С. 178 и след.; 203).
[402] «Имаго» («Imago») — международный психоаналитический журнал, основанный соратниками Фрейда Гансом Саксом и Отто Ранком (см. далее).
[403] Атон («диск солнца») — в египетской мифологии олицетворение солнечного диска; первоначально — одна из ипостасей бога солнца, впоследствии — единый бог всего Египта.
[404] Фараону Эхнатону приписывается свершение «монотеистической революции» — удаление всех древних богов из египетского пантеона ради единственного бога — Атпона.
[405] Ранте (Rank) От/по (1884–1939) — один из ведущих представителей психоаналитической школы Фрейда; разрабатывал теорию «травмы рождения», отвергнутую Фрейдом; автор работ «Миф о рождении героя» (1909), «Мотив инцеста в литературе и фольклоре» (1912).
[406]Райк (Reik) Теодор (1884–1939) — австрийский психоаналитик. [407]Керигма — провозвестие, проповедь (греч.).
[408] Искусство поэзии (лат.).
[409] «В орехе», то есть в зародыше (лат.); здесь: по сути дела, по существу.
[410] Статуя Моисея, анализируемая Фрейдом в указанной работе, выполнена Микеланджело для гробницы папы Юлия II (Рим, церковь Сан Пьетро ин Винколи).
[411]См.: «Литература». С. 601.
[412] Онеирические (от греч. oyeipoç — сон) — сновидческие, фантастические, бредовые.
[413] Aufklärer — просветитель, представитель эпохи Просвещения (Aufklärung — нем.).
[414] См.: Ницше. По ту сторону добра и зла //Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 238 (пер. Н. Полилова).
[415] Во французском языке on — безличное местоимение (ср. нем. «тал»).
[416] Эпикуреизм — мироощущение, основанное на этике Эпикура, считавшего главной целью человека удовлетворение чувственных инстинктов и достижение полной душевной безмятежности.
[417] См.: Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. Гл. 1: Моральная обязанность.
Философская интерпретация Фрейда
In: Bulletin de la Société française de philosophie, séance du 22 janvier 1966. Paris, Armand Colin, n 3, 73–89.
[418] Геру (Gueroult) Марсиал (1891–1976) — французский историк философии.
[419] Quid — здесь: нечто (лат.).
[420] Речь идет о сообщении, сделанном П. Рикёром на заседании Французского философского общества 22 января 1966 г. См. книгу П. Рикёpa «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» (Ricoeur P. De l'interprétation. Essai sur Freud. Paris, 1965).
[421] См. комм. 15 на стр. 25.
Ь1Финк (Fink) Ойеен (1905–1975) — немецкий философ, пропагандировавший гуссерлевскую феноменологию, сближая ее с идеями Хайдеггера.
[422] Своими учителями Фрейд считал выдающегося австрийского физиолога Эрнста Брюкке (1819–1892), руководившего психологической лабораторией Венского университета, который Фрейд начал посещать в 1873 году, а также его ассистентов Зигмунда Экснера и Эрнста фон Флеиш-Марксова; в 1881 году Фрейд познакомился с профессором Физиологического института в Вене Йозефом Брейером (1842–1925), ставшим его покровителем в науке, поддерживавшим его морально и материально.
[423] Category mistake — категориальная ошибка (англ.).
[424] Stricto sensu — в строгом смысле (лат.).
[425] См.: Ricoeur P. De l'interprétation. P. 387. Здесь Рикёр приводит цитату из «Толкования сновидений» Фрейда: «В наиболее конкретной форме процесс сгущения в сновидении проявляется в том случае, когда он избирает своим объектом слова и имена. Слова вообще очень часто играют в сновидении роль вещей и претерпевают тогда те же самые соединения, смещения, замещения, сгущения, как и представления о вещах» (Цит по: Фрейд 3. Толкование сновидений. СПб, 1998. С. 333).
[426] «Тетическое же суждение есть такое, в котором нечто не приравнивается и не противополагается ничему другому, а только полагается себе равным…» (Фихте И. Г. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1916. С. 93).
[427]Hypothéton — предпосылка, предположение (греч.).
[428]Anhypothéton — здесь: беспредпосылочность (греч.).
[429]См.: Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. С. 181 (пер. с нем. Барышниковой Г. В.).
[430] Мерло-Понти (Merleau-Ponty) Морис (1908–1961) — французский философ, представитель феноменологическо-экзистенциалистского направления.
Эснар (Hesnard) Ангело Луи Мари (1886–1969) — французский психиатр, сторонник «открытого» психоанализа, обогащенного современными идеями биологии, лингвистики, феноменологии, социологии; книга «Творчество Фрейда«(«L'Oeuvre de Freud») была опубликована в 1960 г.
[431] Ипполит (Hyppolite) Жан (1907–1968) — французский философ, историк философии, представитель неогегельянства, стремившийся соединить идеи Гегеля с экзистенциализмом.
Техническое и нетехническое в интерпретации
In: Tecnica e casistica (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1964). Archivio di filosofia, direction E. Castelli. 34, 1964. P. 23–37.
[432]In absentia — здесь: в (его) отсутствие (лат.).
In effigie — здесь: с (его) призраком, тенью (лат.).
[433] См.: Шекспир. Гамлет, акт III, сцена 2 (пер. М. Лозинского).
КОММЕНТАРИИ 611
[434]Вергот (Vergüte) Анри-Бернар (р. 1913) — французский философ, специалист в области философии религии и философии морали; значительную часть своих работ посвятил творчеству С. Кьеркегора.
[435] Wunscherfüllung — исполнение желания (нем.).
[436]'Бихевиоризм — направление в психологии XX в., сводящее психику к различным формам поведения, трактуемого как совокупность реакций организма на раздражения внешней среды.
[437] Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768–1833) — немецкий протестантский теолог и философ; с его именем обычно связывают возникновение философской герменевтики.
Вебер (Weber) Макс (1864–1920) — немецкий социолог, историк, экономист.
Бультман (Bultmann) Рудольф (1884–1976) — немецкий протестантский теолог, историк религий, философ, представитель «диалектической теологии», отталкивающийся от основных положений христианского экзистенциализма; сторонник демифологизации христианского учения, выражения его содержания в терминах человеческого существования.
*вЛакан (Lacan) Жак (1901–1981) — французский теоретик и практик «структурного психоанализа», врач-психиатр; именно Лакан, считает Рикёр, дал наиболее правильное истолкование психоанализа Фрейда, выделив языковую структуру бессознательного (см.: RicoeurP. Reflection faite. Autobiographie intellectuelle. P. 33).
[438]Entzauberung — расколдовывание (нем.).
Entgötterung — разбожествление (нем.).
[439] Речь идет о «Новых сериях лекций по введению в психоанализ» Фрейда (1930), которую многие сторонники и критики психоанализа считают развернутым и окончательным вариантом фрейдизма, где его основоположник обсуждает социологические, философские и общемировоззренческие проблемы (см.: Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989).
[440]3ёйдер-3е — залив в Северном море у побережья Нидерландов.
Искусство и фрейдовская систематика
In: Entretiens sur Г Art et la Psychanalyse. Décades du Centre culturel international de Cerisy-la-SalIe (6—11 septembre 1962). Paris — La Haye, Mouton, 1968. P. 24–37, 361–368.
[441] In fine — в конечном счете, в итоге (лат.).
[442]Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914) — немецкий философ, психолог, эстетик.
[443]*Фехнер (Fechner) Густав Теодор (1801–1887) — немецкий философ и физиолог, один из основоположников экспериментальной психологии.
[444] Речь идет о картине Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией и младенцем Христом» (ок. 1509).
[445] Юнг (Jung) Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и культуролог, признававший себя учеником Фрейда, затем резко порвавший с ним; основатель аналитической психологии, в центре которой лежит понятие коллективного бессознательного, передаваемого из поколения в поколение совокупностью архетипов.
III. Герменевтика и феноменология
Жан Набер об акте и знаке In: Etudes philosophiques. Paris, P.U.F., 1962. № 3, 339–349.
[446] Мэн de Биран (Main de Biran) Мари Франсуа Пьер (Confier de Biran, 1766–1824) — французский философ и политический деятель.
[447] Малъбранш (Malebranche) Никола (1638–1715) — французский философ, главный представитель окказионализма, стремившийся соединить идеи картезианства с учением Августина.
[448]Речь идет о втором издании «Критики чистого разума», осуществленном в 1787 г.
Хайдеггер и проблема субъекта
Впервые опубликовано на английском языке: The Critique of subjectivity and Cogito in the Philosophy of Heidegger, in: Heidegger and the Quest for Truth, éd. Manfred S. Frings. Chicago, Quadrangle Books, 1968. P. 62–75.
[449] В 1929–1930 гг. Хайдеггер осуществляет радикальную переориентацию своего мышления, названную им самим «поворотом»; именно с тех пор исследователи творчества немецкого мыслителя говорят о «раннем» («Бытие и время», 1927) и «позднем» («Неторные тропы», 1950; «Время картины мира», 1950) Хайдеггере.
[450]Здесь и далее см.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997 (пер.
B. В. Бибихина).
[451]Здесь и далее см.: Хайдеггер М. Время картины мира// Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993 (пер. В. В. Бибихина).
[452] См. комм. 4 на с. 606.
[453] См. комм. 44 на с. 611.
[454] Gelassenheit — брошенность, одиночество (нем.)
Вопрос о субъекте: вызов семиологии
Впервые частично воспроизведено: «Die Zukunft der Philosophie und die Frage nach dem Subject». — In: Die Zukunft der Philosophie. Ölten u. Freiburg i. B., Walter-Verlag, 1968,128–165. — ив: «New developments in Phenomenology in France — the Phenomenology of language». — In: Social Research. New York, ed. New School for Social Research, vol. 34, № 1, 1967. P. 1—30.
[455] Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. С. 348–349.
[456] См.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
C. 229–258.
[457]Habitus — внешность, наружность, облик (лат.). [458]Здесь и далее см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974 (пер. с фр. Ю. Н. Караулова).
[459] Hic et nunc — здесь и теперь (лат.).
[460] Статья «Трансценденция ego» явилась своего рода творческим итогом изучения Ж.-П. Сартром феноменологии и экзистенциализма в Германии (1933–1934); опубликована в 1936 г. в журнале «Recherches philosophiques».
Символика интерпретации зла
Первородный грех: исследование значения
In: Eglise et Théologie. Bulletin trimestriel de la faculté de Théologie protestante de Paris, 23, 1960. P. 11–30.
[461] Пелагианство — христианская ересь, возникшая в начале V в. на латинском Западе в связи со спорами о божественной благодати, первородном грехе человека, свободе воли и предопределении; свое название получило от имени монаха Пелагия (ок. 360–410).
[462]Климент Александрийский (ок. 150–215) — христианский богослов и писатель.
[463] Манихейство — религиозное учение об окончательном торжестве добра (Света) над злом (Мраком), созданное персом Мани (III в.).
* Peccatum originale — врожденный грех (лат.).
Peccatum naturale — природный грех (лат.).
*Йонас (Jonas) Ханс (1903–1993) — немецко-американский философ, занимавшийся проблемами философии биологии, философии сознания, этики.
Пёч (Puech) Анри-Шарль (р. 1902) — французский религиовед, специалист в области истории религий.
[464] Сотериология (от греч. sortier — спаситель) — учение о спасении через искупителя.
[465] Речь идет о трактате Августина «Рассуждение против Фортуна-та-манихея» («Disputatio contra Fortunatum manichaeum»), 392.
[466] Defecîus — нехватка (лат.)
[467] Aversio a Deo — отпадение от бога (лат.).
[468] Und malum faciamus — Откуда мы берем зло (лат.).
[469] Declinatio — отклонение (лат.). Corruptio — порча (лат.).
[470] Libertas adpeccandum et ad non peccandum — свобода греховности и непогрешимости (лат.)
[471] Речь идет о трактате Августина «О различных вопросах к Сим-плициану» («De diversis quaestionibus ad Simplicianum»); в трудах: Аврелий Августин. Исповедь. М., 1997; Анри-Ирене Марру. Святой Августин и августинианство. М., 1999 — годом издания этого трактата значится 396-й.
[472] В тех же трудах (см. предыдущий комм.) название этого трактата и дата его написания указаны так: «О Благодати Христовой и о первородном грехе против Пелагия и Целестия» («De Gratia Christi et de peccatooriginal!contraPelagiumetCoelestium», 418).
Герменевтика символов и философская рефлексия (1)
In: II Problema délia Dimitizzazione (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1961), Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 31, 1961. P. 51–73.
[473] «EnumaElish» — древняя вавилонская поэма о сотворении мира..
[474] «Прометей прикованный* — трагедия Эсхила.
[475] Орфики — представители религиозного движения в Древней Греции, возникшего в результате реформы культа Диониса.
[476]Цит по: Материалисты древней Греции. М., 1955. С. 50.
[477] Минерва — в римской мифологии покровительница ремесел и искусств, позднее — богиня мудрости, войны и городов.
Юпитер — в римской мифологии бог неба, дневного света, грозы; царь богов.
[478] àÔr^ia— несправедливость (греч.). oqjxxaia — неумеренность (греч.).
[479] Per generationem — по рождению (лат.).
[480]Здесь и далее см.: Кант. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
[481] См.: Иов. 38,1.
[482] Hiatus — пропасть, расселина, отверстие (лат.).
[483] Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, главный бог Вавилона.
"^Гераклит (ок. 540–480) — древнегреческий философ (именно он ввел в философию понятие логоса как говорящего с самим собой космоса, который упорядочивает мир при помощи смешения противоположных начал).
Филон Александрийский (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.) — иудей-ско-эллинистический философ, теолог, экзегет; логос у него создает космос из огненной стихии и является организующим принципом и наиболее совершенным творением мира.
[484] Спиноза. Этика. М.;Л., 1933. С. 143 (пер. Н. А. Иванцова).
[485]Maître Jacque (по имени персонажа комедии Мольера «Скупой», бывшего одновременно и кучером и поваром) — мастер на все руки (франц.).
[486] «Атласный башмачок» (1929) — пьеса французского писателя Поля Клоделя (1868–1955).
Герменевтика символов и философская рефлексия (2)
Первоначально под названием «Herméneutique et réflexion». — In: De-mitizzazione e immagine (Actes du Congrès international, Rome,Janvier 1962), Ar-chivio di Filosofia, direction E. Castelli, 32, 1962. P. 19–34.
[487] См. комм. 56 на с. 611–612.
[488] Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа (1613–1680) — французский моралист.
[489]Eschaton — последний, конечный (греч.)
Демифизация обвинения
In: Demythisation et Morale (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1965), Archivio di Filosolia, direction E. Castelli, 35,1965 et Paris, Aubier, 1965. P. 49–65.
[490]От лат. principium — начало, первопричина, первоисточник.
[491]Ponit sednon tollit — полагает, а не отвергает (лат.).
[492]Semeljussit semperparet, ânaÇ teyôuevov— принятому однажды подчиняются всегда (лат., греч.)
^Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — средневековый теолог и философ, представитель августинианства.
Барт (Barth) Карл (1886–1968) — швейцарский протестантский теолог, основоположник «диалектической теологии».
[493]Intellectsfidei — разумная вера (лат.)
[494]Faktum — факт (нем.).
[495]Deus sive natura — Бог, или природа (лат.).
Интерпретация мифа о наказании
In: Le Mythe de la peine (Actes du Congrès international. Rome, janvier, 1967). Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 37,1967 et Paris, Aubier, 1967. P. 13–42.
*°Литтре (Littré) Эмиль (1801–1881) — французский лексикограф позитивистской ориентации, автор пятитомного «Словаря французского языка» (1863–1873).
[496] Здесь и далее см.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990 (пер. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной).
[497]Massa реrdita — загубленная масса (лат.).
[498] «Орестея» — трилогия древнегреческого драматурга Эсхила (525–456), состоящая из трагедий «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды».
[499] Lex — закон, юридическая норма (лат.). Nomos — обычай, закон (греч.).
Септуагинта — наиболее древняя и значимая греческая версия Ветхого Завета, созданная «семидесятью толковниками» между 250 и 130 гг. до н. э.
[500]См.: Ос. 2, 18–23; Ис. 50, 1.
[501] Паскаль различает три несводимых друг к другу порядка бытия: физический, интеллектуальный, нравственный (см.: Паскаль Б. Мысли. М., 1994).
Религия и вера»
Предисловие к Бультману In: Bultmann R. Jesus, mythologie et démythologisation. P., éd. du Seuil, 1968.
[502] Речь идет об аллегоризме стоиков, представителей одного из главных течений эллинистической философии, зафиксированном в их диалектике, которая делится на учение об «обозначающем» (поэтика, теория музыки и грамматика) и «обозначаемом», или предмете высказывания.
[503] Имеется в виду аллегоризм Филона Александрийского', понимавшего священную историю не буквально, как того требовал иудаизм, а аллегорически, с помощью отвлеченных понятий языческого пантеизма.
[504]См.: Быт. 16; 21; 25.
[505]См.: Гал. 4, 24.
[506] Речь идет о представителях александрийской филологии (возникла в начале III в. до н. э.), подчинявших изучение языка практическим потребностям критики текста (Аристарх, Дионисий Фракиец и др.).
[507]Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор и государственный деятель, теоретик красноречия.
[508]Тертуллиан Квинт Септимии Флоренс (ок. 160 — ок. 220) — христианский богослов и писатель; в своих суждениях тяготел к парадоксам, подчеркивая существование пропасти между верой и разумом.
Ориген (ок. 185–254) — христианский теолог, философ и ученый, основатель библейской филологии; разрабатывал учение о трех смыслах Библии — «телесном» (буквальном), «душевном» (моральном) и «духовном» (философско-мистическом), отдавая последнему безусловное предпочтение.
[509]Маркион (конец I в. — 160 г.) — христианский теолог, гностик; сторонник отграничения христианства от иудейства.
[510]Любак (Lubac) Анри de (1896–1991) — французский философ и теолог.
[511]Lectio divina — Священные тексты (лат.).
[512] Multiplex intelectus — многозначное понимание (лат.).
Intellectus de mystherio Christi — понимание таинства Христа (лат.).
[513]Св. Бернар (1090–1153) — католический теолог-мистик.
[514] Fidex ex auditu — здесь: вера на слух (лат.).
[515]Досократики — ранние греческие философы VI–V в. до н. э., а также их ближайшие преемники в IV в. до н. э.
[516]Sacrificmm intellectus — принесенный в жертву разум (лат.).
[517]П. Рикёр в своей «Интеллектуальной автобиографии» отмечает, что под структурализмом он прежде всего имеет в виду разнообразные лингвистические концепции, вытекающие из учения Фердинанда де Соссюра: семиология Р. Барта, семиотика А. Греймаса, литературная критика Ж. Жене, наука о мифах К. Леви-Строса (См.: RicoeurP. Réflexion faite. Autobiografîe intellectuelle. P. 38).
[518] Фидеизм — утверждение приоритета веры над разумом, характерное для религиозных мировоззрений, опирающихся на откровение.
[519]Экзистенциалы — понятия, выражающие, по Хайдеггеру, духовный опыт личности, ощущающей свою неповторимость и смертность.
Свобода и надежда
Первоначальное название работы: «Approche philosophique du concept de liberté religieuse». — In: L'Herméneutique de la liberté religieuse (Actes du Congres international. Rome, janvier 1968). Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 38, 1968 et Paris, Aubier, 1968. P. 215–234.
[520]Мольтман (Moltmann) Юрген (р. 1926) — немецкий теолог, предпринявший попытку соединить традиционную христианскую эсхатологию с идеями социальной теологии: надежда на божественное вмешательство в земные дела должна, по его мнению, сочетаться с преобразованием общества и самого человека в духе христианских принципов.
[521]"Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875–1965) — немецкий мыслитель, близкий «философии жизни»; теолог, врач, музыковед, автор трудов по философии культуры, этике, новозаветной экзегезе.
[522]Бубер (Buber) Мартин (1878–1965) — еврейский религиозный философ, поэт и литератор; создатель «диалогической теологии», близкой к «диалектической теологии» и экзистенциализму.
[523]Exnihüo — из ничего (лат.).
[524]Речь идет о философской поэме «О природе» древнегреческого философа и поэта Парменида (ок. 540–480 до н. э.)
[525]Necspe — пес теш — если нет надежды, нет и страха (лат.).
[526]Promissio — обещание, обетование (лат.);
Missio — послание (лат.).
[527]Creatio ex nihilo — творение из ничего (лат.).
[528] Синоптики — обозначение евангелистов Матфея, Марка и Луки.
[529]Spero ш intelligam — надеюсь, чтобы понять (лат.).
[530]Вейлъ (Weil) Эрик (1904–1977) — французский философ.
[531] Intellectus fidei et spei — разум веры и (разум) надежды (лат.).
[532] Die Absicht aufs höchste Gut — устремленность к высшему благу (нем.).
[533]См. работы Бэкона: «О прогрессе наук…», «О достоинстве и преуспеянии наук», «Новый органон» — Бэкон Ф. Соч. в 2-х тт. М., 1972.
Виновность, этика и религия
Впервые опубликовано на английском языке: Guilt, Ethics and Religion. — in: Talk of God. Royal Institute of Philosophy. Lectures, vol.11,1967–1968. Londres, Macmillan, 1969. P. 100–117.
[534] ^Петтаццони (Pettazzoni) Рафаэль (1883–1959) — итальянский историк религии.
[535] Ego sum qui fed — Я тот, кто это сделал (лат.).
Религия, атеизм, вера
Впервые опубликовано на английском языке: Religion, Athéisme and Faith. I: on Accusation, II: on Consolation. — In: The Religious significance of atheism. By Alasdair Maclntyre and Paul Ricoeur. XVIII Series of Bampton Lectures in America, delivered at Columbia University (1966). New York et Londres, Columbia University Press, 1969. P. 57–98.
[536] Танатос (греч. thanatos) — в греческой мифологии бог, олицетворяющий смерть; в психоанализе — термин, означающий влечение к смерти.
[537]См.: Материалисты Древней Греции. С. 45.
[538]См.: Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1990 (особенно с. 99, 103,107; пер. С. Л. Франка).
^Sils-Maria — деревушка близ Венеции, где в 1881 г. у Ницше родилась идея работы «Так говорил Заратустра»: «Я здесь засел и ждал в беспроком сне, По ту черту добра и зла…»
(Фр. Ницше. Сильс-Мария).
^Бонхёффер (Bonhoeffer) Дитрих (1906–1945) — немецкий протестантский теолог, автор концепции «безрелигиозного христианства».
[539]См.: Иов 38, 1.
[540] См.: Иов 38,4.
[541]См.: Иов 40, 10–24; Пс. 103, 26; 73, 14; Ис. 27, 1.
[542]См.: Иов 42, 5.
^Сократики — философские школы, основанные вскоре после смерти античного философа Сократа (469–399).
[543]Physis — природа (греч.).
[544]Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 769 (пер. Ю. М. Антоновского).
[545] См., например, Хайдеггер М. Письмо о гуманизме; Вопрос о технике; Поворот // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Отцовство: от фантазма к символу
In: L'Analyse du langage théologique: le nom de Dieu (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1969). Archiviodi Filosofia, direction E. Castelli, 39,1969 et Paris, Aubier, 1969. P. 221–246.
[546] — термин, обозначающий в Священном писании и патриотической литературе понятие христианской любви, милосердия («Ага-пе — это братская любовь со свойственными ей непротивлением, жертвенностью, мученичеством». — RicoeurP. Histoire et vérité.?., 1964. P. 253).
[547] Период творчества Гегеля в годы преподавания в Йенском университете (1801–1806).
[548]Personenrecht — личное право (нем.).
^Sachenrecht — вещное право (нем.).
[549]Moralität — моральность (нем.).
[550]Sittlichkeit — нравственность (нем.).
[551] Пропп Владимир Яковлевич (1889–1970) — русский лингвист, фольклорист.
Русские формалисты — русские языковеды, в конце XIX в. выступившие за поиск собственно лингвистических критериев при изучении языка; их пафос, по словам Ельмслева (см. комм. 40 на стр. 608) состоял в протесте против смешения грамматики с психологией и логикой.
[552] Барт (Barth) Ролан (1915–1980) — французский литературовед (см. комм. 17 на стр. 618).
^Erinnerung — воспоминание (нем.).
[553]Здесь: реализующей себя эсхатологией (нем.).
^Redivivus — воскресший, обновленный (лат.).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Аврелий — 21–23, 25,
34, 43, 96, 99, 254, 339, 342–351,
353, 355, 356, 375–377, 379–381,
384, 390, 522, 604, 612, 613
Авраам — 81, 421–423, 464, 491,
584
Автономова Н. С. — 604
Адам — 86, 341, 342, 344–347,
349, 350, 354–357, 365, 367, 368,
374, 375, 379, 381, 384, 386, 387,
392, 458, 526, 527
Алэн (Alain) (Э. Шартье) — 156,
190, 608
Анна, св. — 263
Ансельм Кентерберийский — 423,
614
Антоновский Ю. М. — 617
Аполлон — 162, 393, 608
Аристарх — 615
Аристотель — 21–24, 34,190, 307,
334, 376, 377, 501, 510
Аткинсон (Atkinson) — 181
Атон — 182
Барышникова Г. И. — 610
Барт (Barth) К. — 423, 473, 479,
614
Барт (Barth) P. — 18, 583, 614, 616,
618
Башляр (Bachelard) Г. — 118, 606
Бенвенист (Benveniste) Э. — 129,
222, 318, 321, 322, 607, 612
Бергсон (Bergson) A. — 211, 230,
412, 609
Бердяев Н. А. — 6
Бернар (Bernard) св. — 467, 616
Бибихин В. В. — 605, 612
Блэк (Black) M. — 129, 607
Боас (Boas) Ф. — 76, 86, 605
Бонхёффер (Bonhocffer) Д. — 555,
596, 617
Брейе А. — 6
Брейер (Breuer) И. — 234, 610
Брюкке Э. — 610
Брюнсвик Л. — 6
Бубер (Buber) M. — 489, 616
Бультман (Bultmann) P. — 47, 66,
244, 462, 466, 471, 473–486, 491,
492, 603, 604, 611, 615
Бугру Э. — 5
Бэкон (Bacon) Ф. — 513, 617
Вайс (Weiss) И. — 489
Валабрега (Valabrega) — 237
Валентин — 344, 350, 380
Ван Гог Ван Гог (Van Gogh) B. —
157
Ван дер Леув (Leew van der) Ж. —
44, 55, 103, 603
Вебер (Weber) M. — 244, 611
Вейль (Weil) Э. — 498, 616
Веланс (Waelhens) A. де — 154, 608
Вергот (Vergote) А.-Б. — 240, 611
Винчи Л. да — 611
Витгенштейн (Wittgenstein) Л. —
5, 47
Вундт (Wundt) В. — 608
Гадамер (Gadamer) ГЛ-Г. — 5, 9, 24
Галилей (Galilei) Г. — 40
Гартман (Hartmann) Г. — 154, 191,
243
Гегель (Hegel) И. В. Ф. — 8—11,
14, 16, 36, 54, 88, 145, 154, 156,
157, 165, 190, 196, 198, 210, 214,
230, 231, 303, 304, 307, 309, 334,
389, 390, 410, 425, 439, 442, 444,
446, 448, 449, 452, 457, 499–501,
512, 527, 550, 551, 571–577, 579,
592–595, 598, 608, 610, 615, 618
Гейне Г. — 608
Гераклит — 369, 388, 542, 561, 614
Геру (Gueroult) M. — 215, 609
Гесиод — 372, 429
Гёльдерлин (Hölderlin) — 562
Гёте (Goethe) И. В. — 169, 190, 255,
512
Гийом (Guillaume) Г. — 133, 134,
328, 607
Гиро (Guiraud) П. — 101, 606
Гич (Geach) П. — 129, 607
620
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Годель (Godel) P. — 108, 606 Гомер — 372
Гранэ (Granet) M. — 72, 605 Греймас (Greimas) А.-Ж. — 18, 114, 116, 119, 138, 583, 606, 616 Гуго Сент-Викторский (Hugo de Sancto Victore) — 97, 606 Гумбольдт (Humboldt) В. — 125, 132, 139, 606
Гуссерль (Husserl) Э. — 5–8, 11, 12, 18, 21, 24, 33, 37–39, 47, 129, 166. 220, 250, 299, 305t 311, 312, 318, 319, 324, 326, 327, 395, 482, 486, 603, 604, 607 Давид — 490 Дальбьез В. — 5 Дарвин (Darwin) Ч. — 181,204, 205, 227, 246
Декарт (Descartes) P. — 144, 200, 213, 216, 227, 250, 286, 289–291, 299, 300, 404–406, 558, 603 Джексон (Jackson) — 261 Дильтей (Dylthey) В. — 10, 12, 35, 38, 43, 50, 66, 102, 244, 428, 430, 463, 473, 481, 482, 603 Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий) — 96, 99, 605 Дионисий Фракиец — 615 Додд (Dodd) — 354 Достоевский Ф. М. — 98 Дюмери А. — 8 Дюркгейм (Durkheim) Э. — 605 Дюфрен (Dufrenne) M. — 8,140, 607 Елизавета Тюдор — 608 Ельмслев (Hjelmslev) Л. — 122–124, 135, 222, 316, 319, 606, 618 Женет Ж. — 18, 616 Заратустра — 539, 540, 561. 562, 617
Зенон (из Китиона) — 603 Иаков — 81, 349, 381 Иванов Вяч. Вс. — 605 Иванцов Н. А. — 614 Иезекииль — 351, 353, 381 Иеремия — 351, 352. 381, 587, 588 Иоанн — 476, 489; 589, 590 Иоанн Креститель — 492 Иов — 351, 385, 432, 491, 549, 5501 555–557, 560, 561, 584 Иосиф — 81 Исаак — 422, 491 Исав — 349, 381
Ипполит (Hyppolite) Ж. — 230, 390,
447, 610
Исайя — 452, 588, 592
Иуда — 353
Йеремиас (Jeremias) И. — 581, 590
Йонас (Jonas) X. — 340, 475, 613
Камю (Camus) A. — 7
Кант (Kant) И. — 7, 9, 10,147,181,
190, 213, 216, 272, 273, 278, 283,
284, 299, 355, 375–379, 382–384,
404–406, 414, 415, 417, 423–426,
431, 449, 479, 498, 499, 501, 503-
505, 507, 509, 510, 512–514, 524,
525, 530, 531, 538, 548, 550, 551,
558, 576, 614
Караулов Ю. Н. — 612
Кассирер (Cassirer) Э. — 44
Кастелли (Castelli) Э. — 232, 233,
242, 247, 248, 603
Кафка (Kafka) Ф. — 521
Киспель (Quispel) — 340
Климент Александрийский — 338,
613
Клодель (Claudel) П. — 390, 614
Коперник (Kopemic, Copernicus) H.
203, 205, 227, 246
Крис (Kris) — 191
Кьеркегор (Kierkegaard) С. — 340,
342, 376, 389, 422, 433, 451, 457,
479, 492, 493, 529, 540, 560, 561,
611
Лагаш (Lagache) Д. — 218, 604
Лакан (Lacan) Ж. — 244, 611
Ланьо — 5
Лапланш (Laplanche) Ж. — 147, 604
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Ф.
409, 614
Лашалье — 5
Лёвенштейн Р. — 191
Левина М. И. — 615
Левинас Э. — 8
Леви-Строс (Lévi-Strauss) К. — 19,
61, 65–67, 70–74, 76, 77, 79, 80,
85, 86, 90, 93, 94, 134, 147, 325—
327, 329, 605, 616
Леенхардт (Leenhardt) M. — 44, 603
Лежа С. — 7
Лейбниц (Leibniz) Г. В. — 15, 53,
195, 221, 223, 271, 307, 332, 334,
550, 551, 570
Лёвенштейн (Lœwenstein) P. — 91
Липпс (Lipps) T. — 260, 611
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
621
Литтре (Littre) Э. — 435, 615
Лозинский М. — 608, 610
Лука (апостол) — 589, 616
Лукреций Кар Т. — 179, 608
Любак (Lubac) A. де — 466, 616
Лютер (Luther) M. — 348, 365,
449, 457, 477–479, 483, 495
Мальбранш (Malebranche) H. —
279, 405, 612
Мани — 342, 348, 350, 375, 380,
382, 613
Марк (апостол) — 589, 616
Маркион (Marcion) — 465, 615
Маркс (Marx) К. — 14, 50, 90, 142,
155, 193, 199–203, 212, 355, 409,
415, 533
Марру А.-И. — 613
Марсель (Marcel) Г. — 6, 8, 11
Мартине (Martinet) A. — 63, 605
Маршель (Marchel) В. — 581, 587,
588
Матфей (апостол) — 589, 590, 593,
616
Мейе (Meillet) A. — 126, 606, 607
Мерло-Понти (Merleau-Ponty) M. 7,
21, 229, 240, 307, 311–314, 318,
319, 610, 612
Микеланджело Б. — 609
Михайлов А. В. — 604
Моисей (пророк) — 57, 168, 169,
180–182,185—190,198, 247, 251,
257, 261, 262, 265, 266, 268, 399,
430, 583, 585, 592, 609
Мольер — 614
Мольтман (Moltmann) Ю. — 489,
491, 494, 497, 510, 528, 616
Монжен О. — 10, 26
Мосс (Mauss) M. - 66, 325, 326, 605
Мунье (Mounier) Э. — 7
Мэн де Биран (Main de Biran) M.
Ф. П. — 5, 272, 273, 282, 612
Набер (Nabert) Ж. — 5,50,224,271—
285, 299, 406, 419, 421, 604, 612
Ницше (Nietzsche) Ф. — 14,15, 43,
50, 142, 193, 199–203, 208, 210,
212, 250, 252, 271, 355, 409, 415,
433, 494, 502, 532, 534–537, 539,
540, 547, 550–555, 558, 559, 561,
562, 609, 617
Огден (Ogden) Ч. К. — 107, 606
Одрикур (Haudricourt) A. — 72,
605
Ориген — 464, 615
Ортиг (Ortigues) Э. — 98, 329, 606
Осия — 452, 521, 588
Островский А. Б. — 605
Павел св. — 186, 345–348, 350,
353, 355, 356, 381, 387, 389, 421,
427, 433, 441, 451, 455–458, 460,
464, 466, 476–478, 494, 496, 520,
529, 531, 541, 555, 590
Парменид — 142, 493, 616
Паскаль (Pascal) Б. — 453, 457, 466.
615
Пелагий — 346–351, 355,375, 381,
613
Петтаццони (Pettazzoni) P. — 515,
617
Пёч (Puech) А.-Ш. — 340, 373, 613
Пиррон (из Элиды) — 608
Пирс (Peirce) Ч. С. — 104, 112, 606
Платон — 142, 156, 160, 190, 213,
216, 221, 225, 278, 332, 377, 420,
510, 546, 571, 604
Плотин — 387, 388, 390
Пойер (Pohier) Ж.-M. — 569, 580
Полилов Н. — 609
Политцер (Politzer) Ж. — 147, 607
Понталис Ж.-Б. — 604
Прометей — 162, 392
Пропп В. — 583, 618
Равесон Ф. — 5
Рад (Rad) Г. фон — 80, 82, 490,
582–584, 587, 605
Райк (Reik) T. — 184, 609
Ранк (Rank) О. — 182, 429, 609
Рапапорт (Rapaport) Д. — 243
Ричарде (Richards) А. А. — 107,
606
Робэн Л. — 6
Ротмайер (Rottmayer) — 375
Руткевич А. М. — 608
Рюйе (Ruyer) P. — 119, 606
Сакс Г. — 609
Сартр (Sartre) Ж.-П. — 6, 90, 327,
605, 608, 612
Симондон (Simondon) — 241
Симплициан — 348, 349
Смит Робертсон (Smith Robertson)
181, 609
Сократ — 162, 617
Соссюр (Saussure) Ф. де — 18, 19,
62–64, 108, 110, 112, 118, 122—
124, 127, 222, 313, 605, 616
622
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Софокл — 93, 160–162, 170, 190,
191, 210, 255, 268, 417, 605, 608
Спиноза Б. — 15, 27, 53, 168, 196,
221, 230, 250, 252, 253, 271, 281,
307, 308, 332, 334, 365, 387, 388,
390, 407, 419, 420, 425, 433, 434,
545, 546, 608, 614
Столпнер Б. Г. — 615
Суте (Souter) — 347
Тертуллиан — 464, 615
Титченер Э. — 608
Трир (Trier) И. — 109, 606
Трубецкой Н. С. — 63, 66, 67,
605
Ульман (Ulmann) С. — 101, 107,
109, 606
Урбан (Urban) — 109
Фейербах (Feuerbach) Л. — 14,
252, 355, 415, 475, 479, 502
Фехнер (Fechner) Г. Т. — 261, 611
Филипп А. — 7
Филон Александрийский — 388,
614, 615
Финк (Fink) О. - 220, 610
Фихте (Fichte) И. Г. — 9, 10, 225,
299, 305. 404, 406, 407, 420, 558,
610
Флейш-Маркснов Э. фон — 610
Фортунат — 342
Франк С. Л. — 617
Фреге (Frege) Ф. Л. Г. — 129, 130,
318, 482, 607
Фрейд (Freud) 3. — 8, 12–16, 43,
45, 46, 50, 53, 103, 105, 142, 143,
145, 148,149, 153, 159–161, 165—
189, 191, 193–231, 233–240, 242,
245–269, 271, 294, 300–308, 310,
331, 332, 334, 396–398, 400–402,
409, 412, 413, 415, 417, 418, 428—
430, 432, 433, 494, 504, 532, 534-
537, 539, 546, 547, 550, 552–554,
565–568,571—574,577,579,591 —
593, 595, 597, 604, 607–612
Хабермас Ю. — 9
Хайдеггер (Heidegger) M. — 5–9,
12, 13, 21, 26, 36–39, 41, 48, 52,
56, 140, 200, 285, 286, 288–299,
334, 396, 475, 481, 484–486, 538,
542–545, 558–562, 605, 607, 610,
612, 616, 617
Херманн (Hermann) B. — 479
Хомский (Chomsky) H. — 121, 131,
132, 134, 606
Христос Иисус — 34, 99, 181, 186,
345, 346, 349, 380, 387, 393, 426,
456–460, 462, 463, 465–468, 471,
472, 476, 477, 483, 488, 489, 492,
495, 496, 513, 514, 528, 529, 531,
541, 586, 589–591, 593, 616
Целестий — 349, 613
Цицерон М. Т. — 464, 615
Шастен М. — 6
Швейцер (Schweitzer) A. — 489, 616
Шекспир (Shakespeare) У. — 170,
190, 191, 255, 608, 610
Шелер М. — 6, 12
Шеллинг (Schelling) Ф. В. И. —
190, 196
Шеню (Chenu) M.-Д. — 96, 97,
100, 605
Шервинский С. — 608
Шлейермахер (Schleiermacher) Ф.
10, 35, 43, 50, 66, 103, 244, 481,
611
Шопенгауэр (Schopenhauer) А. —
271
Эдип — 87, 93, 160–163. 166,
170, 190, 191, 203, 210, 212, 217,
242, 247, 268, 428, 536, 537, 566—
569, 573, 582, 591, 592
Экснер 3. — 610
Элиаде (Eliade) M. — 12, 44, 55,103,
395, 603
Эпикур — -179, 398, 608, 609
Эснар (Hesnard) А. Л. М. — 229,
240, 610
Эсхил — 212, 446, 461, 613, 615
Эхнатон — 182, 609
Юлиан Экланский — 344, 348, 350
Юлий II (папа) — 609
Юнг (Jung) К. Г. — 269, 611
Якобсон Р. О. — 19, 63, 65, 110,
112–114, 118, 222, 605
Янкелевич В. — 29
Ясперс (Jaspers) К. — 6–8, 26, 511
Яхве — 80, 81, 182, 185, 341, 356,
452, 476, 582–584, 586–588
Примечания
1
Ricoeur P, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 16.
(обратно)2
Бердяев H. A. Самопознание. M., 1991. С. 262.
(обратно)3
См.: Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 12.
(обратно)4
«France catholique». 1992, № 2338. P. 16.
(обратно)5
Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 18.
(обратно)6
«Известия», 1993,23 окт.
(обратно)7
Dufrenne M., RicoeurP. Karl Jaspers et la Philosophie de l'existence. Paris, 1947.
(обратно)8
Mongin О. Paul Ricoeur. Paris, 1994. P. 35.
(обратно)9
См. наст. изд… с. 36.
(обратно)10
Ricoeur P. Méthode et tâche d'une Phénoménologie de la volonté // Problèmes actuels de la Phénoménologie. P., 1952. P. 119.
(обратно)11
Наст, изд., с. 324.
(обратно)12
RicoeurP. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 38.
(обратно)13
Ricoeur P. Lectures 2. La Contrée des philosophes. Paris, 1992. P. 196.
(обратно)14
См.: Ricoeur P. La métaphore vive. Paris, 1975; Ricoeur P. Parole et Symbole // Revue des sciences religieuses. Strasbourg, janv.-av. 1975.
(обратно)15
Kic0é>MrP.TempsetRécit.T. 1–3. Paris, 1983–1985.
(обратно)16
Ricoeur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II. Paris, 1986.
(обратно)17
Ricoeur P. Temps et Récit. T. 1. P. 26.
(обратно)18
Ricoeur P. Temps et Récit. T. 1. P. 106–107.
(обратно)19
Ricoeur P. Ce qui me préoccupe depuis 30 ans // Esprit, 1986, № 8/9. P. 241.
(обратно)20
Ibid
(обратно)21
Ricoeur P. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 57.
(обратно)22
Mongin О. Face à l'éclipsé de Récit// Esprit, 1986, № 8/9. P. 225.
(обратно)23
RicoeurP. Du texte à l'action. P. 8.
(обратно)24
RicoeurP. Du texte à l'action. P. 162.
(обратно)25
Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
(обратно)26
30
(обратно)27
RicoeurP. Mémoire, Histoire, Oubli. Paris, 2000. P. 376.
(обратно)28
1
(обратно)29
2
(обратно)30
3
(обратно)31
1
(обратно)32
2
(обратно)33
3
(обратно)34
греха
(обратно)35
Quid — зачем, к чему, для чего, с какой целью (лат.).
(обратно)36
Стоическая школа — древнегреческая философская школа, основанная Зеноном из Китиона ок. 300 г. до н. э.
(обратно)37
Галаха, Аггада — жанры талмудической литературы.
(обратно)38
Речь идет о труде немецкого философа и историка культуры, одного из основоположников философской герменевтики Вильгельма Дильтея (1833–1911) «Возникновение герменевтики» (1900).
(обратно)39
Dasein — присутствие, наличное существование (нем.).
(обратно)40
Полное название труда Эдмунда Гуссерля (1859–1938): «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936); это последнее (незаконченное) произведение философа, материалом к написанию которого послужили доклады, сделанные им в 1935 г. в Вене и Праге.
(обратно)41
Cogilo — мыслить, думать, рассуждать (лат.); Рене Декарт (1596–1650), один из родоначальников новоевропейской философии и экспериментально-математического естествознания, признавал Cogito (Со-gito ergo sum — мыслю, следовательно, существую) первым достоверным суждением науки и первым непосредственно данным сознанию объектом.
(обратно)42
Речь идет о работе П. Рикёра «Символика зла» («Symbolique du mal»), входящей в состав его труда «Философия воли» («Philosophie de la volonté. II. Finitude et culpabilité». Paris, I960):
(обратно)43
Ван дер Л eye (Leew van der) Жерар (1890–1950) — голландский пастор, ученый, специалист в области истории религий.
Леенхардт (Leenhardt) Морис (1878–1945) — протестантский пастор, этнолог, специалист в области первобытного мышления и мифологии.
Элиаде (Eliade) Мирче (1907–1986) — французский философ культуры, исследователь мифологии, религиовед, писатель.
(обратно)44
Булътман (Boultmann) Рудольф (1884–1976) — немецкий протестантский теолог, историк религии, философ, представитель «диалектической теологии»; сторонник демифологизации христианского учения, выражения его содержания в терминах человеческого существования. Автор работ: «Иисус» («Jesus», 1926), «Новый Завет и мифология» («Neues Testament und Mythologie», 1948), «Теология Нового Завета» («Theologie des Neuen Testaments», 1953); см. раздел «Предисловие к Бультману» в наст. изд.
(обратно)45
Полное название работы Э. Гуссерля: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. Общее введение в чистую феноменологию» (1913; рус. пер. А. В. Михайлова — 1999 г.).
(обратно)46
Набер (Nabert) Жан (1881–1960) — французский религиозный философ, в центре внимания которого проблемы самопознания, свободы, зла, веры. Автор работ: «Внутренний опыт свободы» («L'expérience intérieure de la liberté», 1932), «Основы этики» («Eléments pour une Ethique», 1943), «О зле» («Essai sur le mal», 1955), «Жажда Бога» («Le désir de Dieu», 1966). П. Рикёр посвятил Ж. Наберу работу «Символика зла».
(обратно)47
Culpa — вина, проступок (лат.).
(обратно)48
Герменевтический круг — особенность процесса познания, отражающая его циклический характер. Различные представления о герменевтическом круге связаны с осознанием взаимообусловленности объяснения и интерпретации, с одной стороны, и понимания, с другой: чтобы нечто понять, его надо объяснить, и наоборот. Св. Августин утверждал: для понимания Священного писания необходимо в него верить, но для веры необходимо его понимание; в герменевтике XVIII–XIX вв. герменевтический круг представлен как круг целого и части: для понимания целого необходимо понимание отдельных частей, но для понимания отдельных частей необходимо уже иметь представление о смысле целого.
(обратно)49
В связи с тем, что психоаналитическая терминология занимает в данной работе П. Рикёра значительное место, позволю себе отослать читателя, незнакомого или малознакомого с ней, к вышедшему на русском языке всемирно известному «Словарю по психоанализу» (М., 1996; пер. с фр. Н. С. Автономовой), авторами которого являются философ и врач-психоаналитик Жан Лапланш (р. 1924) и философ и литератор Жан-Бернар Понталис (р. 1924), научным редактором — Даниэль Лагаш (1903–1972), один из наиболее известных психоаналитиков, работавших в области психологии. В «Словаре» дана полная библиография трудов Фрейда.
(обратно)50
Conatus — влечение, стремление (лат.).
(обратно)51
См.: Платон. Пир 203 Ь-е.
(обратно)52
Arche — начало, принцип (греч.). Telos — цель (греч.).
(обратно)53
См. в наст. изд. разд. IV. Символика интерпретации зла, гл. «Герменевтика символов и философская рефлексия» (1 и 2).
(обратно)54
Вероятно, Рикёр имеет в виду свой труд «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» («De l'interprétation. Essai sur Freud», 1965) и, в частности, первую главу: «О языке, символе и интерпретации».
(обратно)55
Gnose — познание (греч.: gnôsis).
(обратно)56
Гностики — представители гностицизма, религиозно-философского учения поздней античности, в котором основные факты и учение христианства разрабатывались как принадлежащие языческой (восточной и эллинской) мудрости.
(обратно)57
Экзистентное (existential) понимание — анализ человеческого существования, игнорирующий онтологическую перспективу (см.: Хай-деггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 12–13. Пер. В. В. Бибихина).
(обратно)58
«Первобытное мышление* — труд К. Леви-Строса, опубликован в 1962 г. (рус. пер. А. Б. Островского — 1994).
(обратно)59
Здесь и далее см.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
Соссюр (Saussur) Фердинанд де (1857–1913) — швейцарский лингвист, один из основателей структурной лингвистики.
(обратно)60
Фонологическое направление в лингвистике — раздел лингвистики, в котором изучаются структуры и функциональные закономерности звукового строя языка.
(обратно)61
Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) — русский лингвист, один из ярких представителей Пражского лингвистического кружка; разработал основы фонологии как особой лингвистической дисциплины; сформулировал принципы и задачи морфонологии.
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) — русский и американский лингвист, литературовед, семиотик, один из основоположников структурализма.
Мартине (Martinet) Андре (р. 1908) — французский лингвист, фонолог, последователь Н. С. Трубецкого.
(обратно)62
Saussure F. de. Cours de linguistique générale. P. 166.
(обратно)63
Saussure E de. Cours de linguistique générale. P. 121.
(обратно)64
Ibid. P. 140
(обратно)65
Lévy-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 101, ЮЗ.
(обратно)66
Здесь и далее см.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983 (пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова). В данном случае см. с. 83 и след.
(обратно)67
Ibid. P. 102.
(обратно)68
Мосс (Mauss) Марсель (1872–1950) — французский социолог и этнограф, ученик Э. Дюркгейма; оказал влияние на развитие структурной антропологии К. Леви-Строса.
(обратно)69
Lévi-Strauss С, Anthropologie structurale. P. 37.
(обратно)70
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 39–40.
(обратно)71
Ibid. R 51–52,56—57
(обратно)72
Ibid. P. 57: «Родство не является статичным, оно существует только для того, чтобы непрерывно продолжаться. Мы имеем здесь в виду не желание продолжения рода, а тот факт, что в большинстве систем родства изначальное нарушение равновесия, возникающее в данном поколении между тем, кто отдает женщину, и тем, кто ее получает, может восстановиться только благодаря ответным дарениям в последующих поколениях. Даже самая элементарная структура родства существует одновременно в синхроническом и диахроническом измерениях». Эти слова следует сопоставить с тем замечанием, какое мы сделали выше относительно диахронии в структурной лингвистике).
(обратно)73
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 58.
(обратно)74
Ibid. P. 61.
(обратно)75
Ibid. P. 68.
(обратно)76
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 69.
(обратно)77
Ibid. P. 71.
(обратно)78
Ibid.P.65.
(обратно)79
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 70
(обратно)80
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 71.
(обратно)81
Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. P. 81
(обратно)82
Леви-Строс может согласиться с такой постановкой вопроса, поскольку он сам его превосходно сформулировал: «Моя рабочая гипотеза занимает промежуточное положение: возможно, что между определенными аспектами и на определенных уровнях обнаруживаются некоторые связи, и наша задача состоит в том, чтобы определить, каковы эти аспекты и каково расположение этих уровней» (Anthropologie structurale. P. 91).
(обратно)83
Одрикур (Haudricourt) Анри (р. 1911) — французский лингвист, исследователь языков Юго-Восточной Азии.
Гранэ (Granet) Марсель (1884–1940) — французский синолог.
(обратно)84
Боас (Boas) Франц (1858–1942) — американский антрополог, этнолог, лингвист, один из основоположников структурной лингвистики.
(обратно)85
Бриколаж (фр.: bricolage) — поделки, изготовление самоделок.
(обратно)86
Рад (Rad) Герхард фон (1901–1971) — религиовед, специалист по изучению Ветхого и Нового заветов.
(обратно)87
Амфиктиония — в Древней Греции религиозно-политический союз племен и городов с общими святилищем, казной, правилами ведения войн.
(обратно)88
Машина feed-back — машина с обратной связью (англ.).
(обратно)89
Праксис (praxis) — термин, введенный Сартром для обозначения творческого характера деятельности в отличие от подавляющей индивида инертной деятельности.
(обратно)90
Речь идет о трагедиях древнегреческого драматурга Софокла (ок. 496–406) «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне».
(обратно)91
Шеню (Chenu) Мари-Доминик (1895–1990) — французский теолог-доминиканец, автор работ по средневековой теологии и томизму.
(обратно)92
Signum — знак, клеймо (лат.).
(обратно)93
Symbolon — символ (греч.).
(обратно)94
Дионисии — по всей вероятности, Рикёр имеет в виду Дионисия Ареопагита (Псевдо-Дионисия), христианского мыслителя V или VI в., использовавшего символизм для истолкования всего сущего.
(обратно)95
Analogia — соразмерность, соответствие, подобие, сходство (греч.).
Anagoge — раскрытие внутреннего смысла (греч.).
(обратно)96
*Allegoriae — аллегория, иносказание (греч.).
Disünctiones — различение, распознавание (лат.).
(обратно)97
Гуго Сент-Викторскии (Hugo de Saint-Victor, ок. 1096–1141) — средневековый философ, представитель схоластики.
(обратно)98
Ортиг (Ortigues) Эдмон (р. 1917) — французский философ, религиовед, этнограф, лингвист.
(обратно)99
Translatio — перенос, перемещение, перевод (лат.).
(обратно)100
Ульман (Ulmann) Стивен (1914–1976) — английский лингвист. Гиро (Guiraud) Пьер (p. 1912) — французский лингвист.
(обратно)101
A fortiori — тем более (лат.).
(обратно)102
Пирс (Pierce) Чарлз Сандерс (1839–1914) — американский философ, логик, математик, естествоиспытатель; родоначальник общей теории знаков — семиотики.
(обратно)103
Огден (Ogden) Чарлз Кей (1889–1957) — американский лингвист. Ричарде (Richards) Айвор Армстронг (1893–1979) — английский
(обратно)104
Годель (Godel) Роберт (р. 1902) — австро-швейцарский лингвист, представитель социологического направления в лингвистике.
(обратно)105
Трир (Trier) Йост (1894–1970) — немецкий лингвист, последователь Гумбольдта (см. далее комм. 41).
(обратно)106
Inpraesentia — в присутствие (лат.).
(обратно)107
In absentia — в отсутствие (лат.)
(обратно)108
Греймас (Greimas) Альгирдас (р. 1917) — французский лингвист (см. комм, к с. 452).
(обратно)109
Башляр (Bachelard) Гастон (1884–1962) — французский философ, методолог науки, эстетик; см. его книгу «Психоанализ огня». М., 1993.
3&Рюйе (Ruyer) Реймон (р. 1902) — французский философ.
Структура, слово, событие In: Esprit. «Structuralisme, idéologie et méthode», mai 1967. P. 801–821.
(обратно)110
Хомский (Chomsky) Ноам (р. 1928) — американский лингвист, основоположник генеративной лингвистики и теории формальных языков как раздела математической логики.
*°Елъмслев (Hjelmslev) Луи (1899–1965) — датский лингвист.
(обратно)111
Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм (1767–1835) — немецкий языковед, философ, эстетик, государственный деятель и дипломат; основоположник философии языка как самостоятельной дисциплины, оказавший огромное влияние на развитие языкознания в XIX–XX вв.
(обратно)112
Мейе (Meillet) Антуан (1866–1936) — французский лингвист, последователь Соссюра, глава французской социологической школы в лингвистике.
(обратно)113
Бенвенист (Benveniste) Эмиль (1902–1976) — французский лингвист, ученик А. Мейе, специалист по общему и европейскому языкознанию, а также в области семиотики.
**Фреге (Frege) Фридрих Людвиг Готлоб (1848–1918) — немецкий философ, логик и математик, основоположник современной формальной логики и логической семантики.
*ьГич (Geach) Питер — английский философ, представитель лингвистической философии.
Блэк (Black) Макс (р. 1909) — американский философ, представитель лингвистической философии.
(обратно)114
Erfüllung — выполнение, исполнение (нем.).
(обратно)115
Гийом (Guillaume) Гюстав (1883–1960) — французский философ, лингвист, последователь А. Мейе.
(обратно)116
Unterwegs zur Sprache — на пути к языку (нем.). Намек на одноименную работу — «На пути к языку» (1959) М. Хайдеггера.
(обратно)117
Дюфрен (Dufrenne) Микель (р. 1910) — французский философ и эстетик.
(обратно)118
См. раздел «Диалектика бытия и небытия» платоновского диалога «Софист», 236с—259е.
(обратно)119
Речь идет о статье «Бессознательное», включенной в сборник работ 3. Фрейда «Метапсихология» («Métapsychologie». Paris, 1952), куда вошли также статьи «Влечения и их судьбы», «Вытеснение», «Мета-психологические дополнения к учению о сновидениях», «Скорбь и меланхолия».
(обратно)120
Ноэсис и ноэма — термины платоновской и аристотелевской философии. Гуссерль использует их для раздельного описания объектов сознания и процессов их идеального построения; они связаны с центральным понятием феноменологии — интенциональностью, то есть предметной направленностью сознания. Рикёр так поясняет эти термины: поете — воспринимаемое, желаемое; noese — восприятие, желание (см. rRicoeurP. Reflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 30).
(обратно)121
Политцер (Politzer) Жорж (1903–1942) — французский мыслитель; разрабатывал проблемы философии, политэкономии, психологии с позиций диалектического материализма (См.: Политцер Ж. Избранные философские и психологические труды. М., 1980).
(обратно)122
les, PCS, Cs — принятое в психологической и философской литературе сокращенное обозначение содержаний душевной жизни, признаваемых и психоанализом: les (inconscience) — бессознательное, PCS (preconscience) — предсознательное, Cs (conscience) — сознание.
(обратно)123
Es (нем.), Id (лат.), Ça (фр.) — «Оно» — наиболее архаичная, безличная часть психики, содержащая бессознательные влечения (les), которые коренятся в телесной организации человека и стремятся к удовлетворению.
(обратно)124
Интроспективная психология — одно из ведущих направлений в психологии конца XIX — начала XX в., положившее в основу своих исследований метод самонаблюдения; главные ее представители В. Вундт (Wundt, 1832–1920) и Э. Титченер (Titchener, 1867–1927).
(обратно)125
Речь идет об американской школе «психологии «Я»», или «эго-пси-хологии».
(обратно)126
См. раздел «Самосознание» в труде Гегеля «Феноменология духа» (СПб., 1913).
(обратно)127
Веланс (Waelhens) Альфонс де (1911–1981) — бельгийский философ, представитель феноменологическо-экзистенциалистского направления; в 60—70-е гг. был близок психоанализу.
(обратно)128
Вслед за Сартром термином «редкость» (rareté) обозначают отношение индивида к окружающей среде в условиях нужды, нехватки.
(обратно)129
Алэн (Alain, псевдоним Эмиля Шартье) (1868–1951) — французский философ-моралист; в политике ставил целью спасти человека от тирании.
(обратно)130
Стоицизм — школа древнегреческой философии; основана Зено-ном из Китиона ок. 300 до н. э.
(обратно)131
Скептицизм — древнегреческое философское направление, основанное Пирроном из Элиды в конце IV в. до н. э.
(обратно)132
См.: Гегель. Феноменология духа. С. 90 и след.
(обратно)133
Hybris — высокомерие (греч.).
(обратно)134
Речь идет об английских писателях XVI–XVII вв., современниках королевы Елизаветы Тюдор (1558–1603).
(обратно)135
Аполлон — в греческой мифологии олимпийский бог, сочетающий в себе функции как губительные, так и благодетельные, стороны мрачные и светлые; со временем Аполлон приобрел значение устроителя социально-политической жизни Греции, а также организующего начала в области морали, искусства, религии.
(обратно)136
Софокл. Эдип-царь, 556–558 (пер. С. Шервинского).
(обратно)137
«О вещая моя душа» (Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5 (пер. М. Лозинского)).
(обратно)138
Bildung (нем.), naiôeia (греч.), education (англ.), eruditio (лат.) — образование, воспитание.
(обратно)139
См.: Спиноза Б. Этика. М.;Л., 1933. С. 1.
(обратно)140
Ананке — в греческой мифологии богиня необходимости, неизбежности.
(обратно)141
Здесь и далее см.: Фрейд 3. Недовольство культурой (пер. А. Рут-кевича) // Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
(обратно)142
Человек человеку волк (лат.).
(обратно)143
Буквально: «сказочка о небесах» (нем.). Слова из поэмы Г. Гейне «Зимняя сказка».
(обратно)144
«Так совесть делает из всех нас трусов» (Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 1).
(обратно)145
Эпикур (341–270) — древнегреческий философ-материалист.
Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.) — римский философ и поэт, автор поэмы «О природе вещей»; его идеи близки материалистическим взглядам Эпикура.
(обратно)146
См.: Фрейд 3. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 1997. С. 190–191.
(обратно)147
Смит Робертсон (Smith Robertson, 1846–1894) — американский историк, этнолог, религиовед (см.: Фрейд 3. Тотем и табу. С. 178 и след.; 203).
(обратно)148
«Имаго» («Imago») — международный психоаналитический журнал, основанный соратниками Фрейда Гансом Саксом и Отто Ранком (см. далее).
(обратно)149
Атон («диск солнца») — в египетской мифологии олицетворение солнечного диска; первоначально — одна из ипостасей бога солнца, впоследствии — единый бог всего Египта.
(обратно)150
Фараону Эхнатону приписывается свершение «монотеистической революции» — удаление всех древних богов из египетского пантеона ради единственного бога — Атпона.
(обратно)151
Ранте (Rank) От/по (1884–1939) — один из ведущих представителей психоаналитической школы Фрейда; разрабатывал теорию «травмы рождения», отвергнутую Фрейдом; автор работ «Миф о рождении героя» (1909), «Мотив инцеста в литературе и фольклоре» (1912).
(обратно)152
Райк (Reik) Теодор (1884–1939) — австрийский психоаналитик. [554]Керигма — провозвестие, проповедь (греч.).
(обратно)153
Искусство поэзии (лат.).
(обратно)154
«В орехе», то есть в зародыше (лат.); здесь: по сути дела, по существу.
(обратно)155
Статуя Моисея, анализируемая Фрейдом в указанной работе, выполнена Микеланджело для гробницы папы Юлия II (Рим, церковь Сан Пьетро ин Винколи).
(обратно)156
См.: «Литература». С. 601.
(обратно)157
Онеирические (от греч. oyeipoç — сон) — сновидческие, фантастические, бредовые.
(обратно)158
Aufklärer — просветитель, представитель эпохи Просвещения (Aufklärung — нем.).
(обратно)159
См.: Ницше. По ту сторону добра и зла //Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 238 (пер. Н. Полилова).
(обратно)160
Во французском языке on — безличное местоимение (ср. нем. «тал»).
(обратно)161
Эпикуреизм — мироощущение, основанное на этике Эпикура, считавшего главной целью человека удовлетворение чувственных инстинктов и достижение полной душевной безмятежности.
(обратно)162
См.: Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. Гл. 1: Моральная обязанность.
(обратно)163
Геру (Gueroult) Марсиал (1891–1976) — французский историк философии.
(обратно)164
Quid — здесь: нечто (лат.).
(обратно)165
Речь идет о сообщении, сделанном П. Рикёром на заседании Французского философского общества 22 января 1966 г. См. книгу П. Рикёpa «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» (Ricoeur P. De l'interprétation. Essai sur Freud. Paris, 1965).
(обратно)166
См. комм. 15 на стр. 25.
(обратно)167
Финк (Fink) Ойеен (1905–1975) — немецкий философ, пропагандировавший гуссерлевскую феноменологию, сближая ее с идеями Хайдеггера.
(обратно)168
Своими учителями Фрейд считал выдающегося австрийского физиолога Эрнста Брюкке (1819–1892), руководившего психологической лабораторией Венского университета, который Фрейд начал посещать в 1873 году, а также его ассистентов Зигмунда Экснера и Эрнста фон Флеиш-Марксова; в 1881 году Фрейд познакомился с профессором Физиологического института в Вене Йозефом Брейером (1842–1925), ставшим его покровителем в науке, поддерживавшим его морально и материально.
(обратно)169
Category mistake — категориальная ошибка (англ.).
(обратно)170
Stricto sensu — в строгом смысле (лат.).
(обратно)171
См.: Ricoeur P. De l'interprétation. P. 387. Здесь Рикёр приводит цитату из «Толкования сновидений» Фрейда: «В наиболее конкретной форме процесс сгущения в сновидении проявляется в том случае, когда он избирает своим объектом слова и имена. Слова вообще очень часто играют в сновидении роль вещей и претерпевают тогда те же самые соединения, смещения, замещения, сгущения, как и представления о вещах» (Цит по: Фрейд 3. Толкование сновидений. СПб, 1998. С. 333).
(обратно)172
«Тетическое же суждение есть такое, в котором нечто не приравнивается и не противополагается ничему другому, а только полагается себе равным…» (Фихте И. Г. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1916. С. 93).
(обратно)173
Hypothéton — предпосылка, предположение (греч.).
(обратно)174
Anhypothéton — здесь: беспредпосылочность (греч.).
(обратно)175
См.: Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. С. 181 (пер. с нем. Барышниковой Г. В.).
(обратно)176
Мерло-Понти (Merleau-Ponty) Морис (1908–1961) — французский философ, представитель феноменологическо-экзистенциалистского направления.
Эснар (Hesnard) Ангело Луи Мари (1886–1969) — французский психиатр, сторонник «открытого» психоанализа, обогащенного современными идеями биологии, лингвистики, феноменологии, социологии; книга «Творчество Фрейда«(«L'Oeuvre de Freud») была опубликована в 1960 г.
(обратно)177
Ипполит (Hyppolite) Жан (1907–1968) — французский философ, историк философии, представитель неогегельянства, стремившийся соединить идеи Гегеля с экзистенциализмом.
(обратно)178
В своем сообщении на Международном коллоквиуме на тему «Техника и казуистика» проф. Кастелли связывал означенную проблему с вопросом, который был основным на предшествующих ежегодных встречах ученых в Риме; тема эта звучит так: демистификация как аспект современности.
(обратно)179
Freud. Gesammelte Werke. T. XIII. S. 211.
(обратно)180
Freud. Gesammelte Werke. T. XIII. S. 40
(обратно)181
Freud, Début du traitement. P. 102.
(обратно)182
In absentia — здесь: в (его) отсутствие (лат.).
In effigie — здесь: с (его) призраком, тенью (лат.).
(обратно)183
См.: Шекспир. Гамлет, акт III, сцена 2 (пер. М. Лозинского).
(обратно)184
Вергот (Vergüte) Анри-Бернар (р. 1913) — французский философ, специалист в области философии религии и философии морали; значительную часть своих работ посвятил творчеству С. Кьеркегора.
(обратно)185
Wunscherfüllung — исполнение желания (нем.).
(обратно)186
'Бихевиоризм — направление в психологии XX в., сводящее психику к различным формам поведения, трактуемого как совокупность реакций организма на раздражения внешней среды.
(обратно)187
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768–1833) — немецкий протестантский теолог и философ; с его именем обычно связывают возникновение философской герменевтики.
Вебер (Weber) Макс (1864–1920) — немецкий социолог, историк, экономист.
Бультман (Bultmann) Рудольф (1884–1976) — немецкий протестантский теолог, историк религий, философ, представитель «диалектической теологии», отталкивающийся от основных положений христианского экзистенциализма; сторонник демифологизации христианского учения, выражения его содержания в терминах человеческого существования.
*вЛакан (Lacan) Жак (1901–1981) — французский теоретик и практик «структурного психоанализа», врач-психиатр; именно Лакан, считает Рикёр, дал наиболее правильное истолкование психоанализа Фрейда, выделив языковую структуру бессознательного (см.: RicoeurP. Reflection faite. Autobiographie intellectuelle. P. 33).
(обратно)188
Entzauberung — расколдовывание (нем.).
Entgötterung — разбожествление (нем.).
(обратно)189
Речь идет о «Новых сериях лекций по введению в психоанализ» Фрейда (1930), которую многие сторонники и критики психоанализа считают развернутым и окончательным вариантом фрейдизма, где его основоположник обсуждает социологические, философские и общемировоззренческие проблемы (см.: Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989).
(обратно)190
3ёйдер-3е — залив в Северном море у побережья Нидерландов.
(обратно)191
In fine — в конечном счете, в итоге (лат.).
(обратно)192
Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914) — немецкий философ, психолог, эстетик.
(обратно)193
*Фехнер (Fechner) Густав Теодор (1801–1887) — немецкий философ и физиолог, один из основоположников экспериментальной психологии.
(обратно)194
Речь идет о картине Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией и младенцем Христом» (ок. 1509).
(обратно)195
Юнг (Jung) Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и культуролог, признававший себя учеником Фрейда, затем резко порвавший с ним; основатель аналитической психологии, в центре которой лежит понятие коллективного бессознательного, передаваемого из поколения в поколение совокупностью архетипов.
(обратно)196
Мэн de Биран (Main de Biran) Мари Франсуа Пьер (Confier de Biran, 1766–1824) — французский философ и политический деятель.
(обратно)197
Малъбранш (Malebranche) Никола (1638–1715) — французский философ, главный представитель окказионализма, стремившийся соединить идеи картезианства с учением Августина.
(обратно)198
Речь идет о втором издании «Критики чистого разума», осуществленном в 1787 г.
(обратно)199
В 1929–1930 гг. Хайдеггер осуществляет радикальную переориентацию своего мышления, названную им самим «поворотом»; именно с тех пор исследователи творчества немецкого мыслителя говорят о «раннем» («Бытие и время», 1927) и «позднем» («Неторные тропы», 1950; «Время картины мира», 1950) Хайдеггере.
(обратно)200
Здесь и далее см.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997 (пер.
B. В. Бибихина).
(обратно)201
Здесь и далее см.: Хайдеггер М. Время картины мира// Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993 (пер. В. В. Бибихина).
(обратно)202
См. комм. 4 на с. 606.
(обратно)203
См. комм. 44 на с. 611.
(обратно)204
Gelassenheit — брошенность, одиночество (нем.)
(обратно)205
Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. С. 348–349.
(обратно)206
См.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
(обратно)207
Habitus — внешность, наружность, облик (лат.). [555]Здесь и далее см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974 (пер. с фр. Ю. Н. Караулова).
(обратно)208
Hic et nunc — здесь и теперь (лат.).
(обратно)209
Статья «Трансценденция ego» явилась своего рода творческим итогом изучения Ж.-П. Сартром феноменологии и экзистенциализма в Германии (1933–1934); опубликована в 1936 г. в журнале «Recherches philosophiques».
In: Eglise et Théologie. Bulletin trimestriel de la faculté de Théologie protestante de Paris, 23, 1960. P. 11–30.
(обратно)210
Пелагианство — христианская ересь, возникшая в начале V в. на латинском Западе в связи со спорами о божественной благодати, первородном грехе человека, свободе воли и предопределении; свое название получило от имени монаха Пелагия (ок. 360–410).
(обратно)211
Климент Александрийский (ок. 150–215) — христианский богослов и писатель.
(обратно)212
Манихейство — религиозное учение об окончательном торжестве добра (Света) над злом (Мраком), созданное персом Мани (III в.).
* Peccatum originale — врожденный грех (лат.).
Peccatum naturale — природный грех (лат.).
*Йонас (Jonas) Ханс (1903–1993) — немецко-американский философ, занимавшийся проблемами философии биологии, философии сознания, этики.
Пёч (Puech) Анри-Шарль (р. 1902) — французский религиовед, специалист в области истории религий.
(обратно)213
Сотериология (от греч. sortier — спаситель) — учение о спасении через искупителя.
(обратно)214
Речь идет о трактате Августина «Рассуждение против Фортуна-та-манихея» («Disputatio contra Fortunatum manichaeum»), 392.
(обратно)215
Defecîus — нехватка (лат.)
(обратно)216
Aversio a Deo — отпадение от бога (лат.).
(обратно)217
Und malum faciamus — Откуда мы берем зло (лат.).
(обратно)218
Declinatio — отклонение (лат.). Corruptio — порча (лат.).
(обратно)219
Libertas adpeccandum et ad non peccandum — свобода греховности и непогрешимости (лат.)
(обратно)220
Речь идет о трактате Августина «О различных вопросах к Сим-плициану» («De diversis quaestionibus ad Simplicianum»); в трудах: Аврелий Августин. Исповедь. М., 1997; Анри-Ирене Марру. Святой Августин и августинианство. М., 1999 — годом издания этого трактата значится 396-й.
(обратно)221
В тех же трудах (см. предыдущий комм.) название этого трактата и дата его написания указаны так: «О Благодати Христовой и о первородном грехе против Пелагия и Целестия» («De Gratia Christi et de peccatooriginal!contraPelagiumetCoelestium», 418).
(обратно)222
«EnumaElish» — древняя вавилонская поэма о сотворении мира..
(обратно)223
«Прометей прикованный* — трагедия Эсхила.
(обратно)224
Орфики — представители религиозного движения в Древней Греции, возникшего в результате реформы культа Диониса.
(обратно)225
Цит по: Материалисты древней Греции. М., 1955. С. 50.
(обратно)226
Минерва — в римской мифологии покровительница ремесел и искусств, позднее — богиня мудрости, войны и городов.
Юпитер — в римской мифологии бог неба, дневного света, грозы; царь богов.
(обратно)227
àÔr^ia— несправедливость (греч.). oqjxxaia — неумеренность (греч.).
(обратно)228
Per generationem — по рождению (лат.).
(обратно)229
Здесь и далее см.: Кант. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
(обратно)230
См.: Иов. 38,1.
(обратно)231
Hiatus — пропасть, расселина, отверстие (лат.).
(обратно)232
Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, главный бог Вавилона.
"^Гераклит (ок. 540–480) — древнегреческий философ (именно он ввел в философию понятие логоса как говорящего с самим собой космоса, который упорядочивает мир при помощи смешения противоположных начал).
Филон Александрийский (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.) — иудей-ско-эллинистический философ, теолог, экзегет; логос у него создает космос из огненной стихии и является организующим принципом и наиболее совершенным творением мира.
(обратно)233
Спиноза. Этика. М.;Л., 1933. С. 143 (пер. Н. А. Иванцова).
(обратно)234
Maître Jacque (по имени персонажа комедии Мольера «Скупой», бывшего одновременно и кучером и поваром) — мастер на все руки (франц.).
(обратно)235
«Атласный башмачок» (1929) — пьеса французского писателя Поля Клоделя (1868–1955).
(обратно)236
См. комм. 56 на с. 611–612.
(обратно)237
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа (1613–1680) — французский моралист.
(обратно)238
Eschaton — последний, конечный (греч.)
(обратно)239
От лат. principium — начало, первопричина, первоисточник.
(обратно)240
Ponit sednon tollit — полагает, а не отвергает (лат.).
(обратно)241
Semeljussit semperparet, ânaÇ teyôuevov— принятому однажды подчиняются всегда (лат., греч.)
^Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — средневековый теолог и философ, представитель августинианства.
Барт (Barth) Карл (1886–1968) — швейцарский протестантский теолог, основоположник «диалектической теологии».
(обратно)242
Intellectsfidei — разумная вера (лат.)
(обратно)243
Faktum — факт (нем.).
(обратно)244
Deus sive natura — Бог, или природа (лат.).
(обратно)245
Здесь и далее см.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990 (пер. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной).
(обратно)246
Massa реrdita — загубленная масса (лат.).
(обратно)247
«Орестея» — трилогия древнегреческого драматурга Эсхила (525–456), состоящая из трагедий «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды».
(обратно)248
Lex — закон, юридическая норма (лат.). Nomos — обычай, закон (греч.).
Септуагинта — наиболее древняя и значимая греческая версия Ветхого Завета, созданная «семидесятью толковниками» между 250 и 130 гг. до н. э.
(обратно)249
См.: Ос. 2, 18–23; Ис. 50, 1.
(обратно)250
Паскаль различает три несводимых друг к другу порядка бытия: физический, интеллектуальный, нравственный (см.: Паскаль Б. Мысли. М., 1994).
(обратно)251
Речь идет об аллегоризме стоиков, представителей одного из главных течений эллинистической философии, зафиксированном в их диалектике, которая делится на учение об «обозначающем» (поэтика, теория музыки и грамматика) и «обозначаемом», или предмете высказывания.
(обратно)252
Имеется в виду аллегоризм Филона Александрийского', понимавшего священную историю не буквально, как того требовал иудаизм, а аллегорически, с помощью отвлеченных понятий языческого пантеизма.
(обратно)253
См.: Быт. 16; 21; 25.
(обратно)254
См.: Гал. 4, 24.
(обратно)255
Речь идет о представителях александрийской филологии (возникла в начале III в. до н. э.), подчинявших изучение языка практическим потребностям критики текста (Аристарх, Дионисий Фракиец и др.).
(обратно)256
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор и государственный деятель, теоретик красноречия.
(обратно)257
Тертуллиан Квинт Септимии Флоренс (ок. 160 — ок. 220) — христианский богослов и писатель; в своих суждениях тяготел к парадоксам, подчеркивая существование пропасти между верой и разумом.
Ориген (ок. 185–254) — христианский теолог, философ и ученый, основатель библейской филологии; разрабатывал учение о трех смыслах Библии — «телесном» (буквальном), «душевном» (моральном) и «духовном» (философско-мистическом), отдавая последнему безусловное предпочтение.
(обратно)258
Маркион (конец I в. — 160 г.) — христианский теолог, гностик; сторонник отграничения христианства от иудейства.
(обратно)259
Любак (Lubac) Анри de (1896–1991) — французский философ и теолог.
(обратно)260
Lectio divina — Священные тексты (лат.).
(обратно)261
Multiplex intelectus — многозначное понимание (лат.).
Intellectus de mystherio Christi — понимание таинства Христа (лат.).
(обратно)262
Св. Бернар (1090–1153) — католический теолог-мистик.
(обратно)263
Fidex ex auditu — здесь: вера на слух (лат.).
(обратно)264
Досократики — ранние греческие философы VI–V в. до н. э., а также их ближайшие преемники в IV в. до н. э.
(обратно)265
Sacrificmm intellectus — принесенный в жертву разум (лат.).
(обратно)266
П. Рикёр в своей «Интеллектуальной автобиографии» отмечает, что под структурализмом он прежде всего имеет в виду разнообразные лингвистические концепции, вытекающие из учения Фердинанда де Соссюра: семиология Р. Барта, семиотика А. Греймаса, литературная критика Ж. Жене, наука о мифах К. Леви-Строса (См.: RicoeurP. Réflexion faite. Autobiografîe intellectuelle. P. 38).
(обратно)267
Фидеизм — утверждение приоритета веры над разумом, характерное для религиозных мировоззрений, опирающихся на откровение.
(обратно)268
Экзистенциалы — понятия, выражающие, по Хайдеггеру, духовный опыт личности, ощущающей свою неповторимость и смертность.
(обратно)269
Мольтман (Moltmann) Юрген (р. 1926) — немецкий теолог, предпринявший попытку соединить традиционную христианскую эсхатологию с идеями социальной теологии: надежда на божественное вмешательство в земные дела должна, по его мнению, сочетаться с преобразованием общества и самого человека в духе христианских принципов.
(обратно)270
"Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875–1965) — немецкий мыслитель, близкий «философии жизни»; теолог, врач, музыковед, автор трудов по философии культуры, этике, новозаветной экзегезе.
(обратно)271
Бубер (Buber) Мартин (1878–1965) — еврейский религиозный философ, поэт и литератор; создатель «диалогической теологии», близкой к «диалектической теологии» и экзистенциализму.
(обратно)272
Exnihüo — из ничего (лат.).
(обратно)273
Речь идет о философской поэме «О природе» древнегреческого философа и поэта Парменида (ок. 540–480 до н. э.)
(обратно)274
Necspe — пес теш — если нет надежды, нет и страха (лат.).
(обратно)275
Promissio — обещание, обетование (лат.);
Missio — послание (лат.).
(обратно)276
Creatio ex nihilo — творение из ничего (лат.).
(обратно)277
Синоптики — обозначение евангелистов Матфея, Марка и Луки.
(обратно)278
Spero ш intelligam — надеюсь, чтобы понять (лат.).
(обратно)279
Вейлъ (Weil) Эрик (1904–1977) — французский философ.
(обратно)280
Intellectus fidei et spei — разум веры и (разум) надежды (лат.).
(обратно)281
Die Absicht aufs höchste Gut — устремленность к высшему благу (нем.).
(обратно)282
См. работы Бэкона: «О прогрессе наук…», «О достоинстве и преуспеянии наук», «Новый органон» — Бэкон Ф. Соч. в 2-х тт. М., 1972.
(обратно)283
^Петтаццони (Pettazzoni) Рафаэль (1883–1959) — итальянский историк религии.
(обратно)284
Ego sum qui fed — Я тот, кто это сделал (лат.).
(обратно)285
Танатос (греч. thanatos) — в греческой мифологии бог, олицетворяющий смерть; в психоанализе — термин, означающий влечение к смерти.
(обратно)286
См.: Материалисты Древней Греции. С. 45.
(обратно)287
См.: Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1990 (особенно с. 99, 103,107; пер. С. Л. Франка).
(обратно)288
Sils-Maria деревушка близ Венеции, где в 1881 г. у Ницше родилась идея работы «Так говорил Заратустра»: «Я здесь засел и ждал в беспроком сне, По ту черту добра и зла…»
(обратно)289
(Фр. Ницше. Сильс-Мария).
^Бонхёффер (Bonhoeffer) Дитрих (1906–1945) — немецкий протестантский теолог, автор концепции «безрелигиозного христианства».
(обратно)290
См.: Иов 38, 1.
(обратно)291
См.: Иов 38,4.
(обратно)292
См.: Иов 40, 10–24; Пс. 103, 26; 73, 14; Ис. 27, 1.
(обратно)293
См.: Иов 42, 5.
(обратно)294
Сократики — философские школы, основанные вскоре после смерти античного философа Сократа (469–399).
(обратно)295
Physis — природа (греч.).
(обратно)296
Ницше Ф. Соч. в 2-х тт. Т. 2. С. 769 (пер. Ю. М. Антоновского).
(обратно)297
См., например, Хайдеггер М. Письмо о гуманизме; Вопрос о технике; Поворот // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
(обратно)298
— термин, обозначающий в Священном писании и патриотической литературе понятие христианской любви, милосердия («Ага-пе — это братская любовь со свойственными ей непротивлением, жертвенностью, мученичеством». — RicoeurP. Histoire et vérité.?., 1964. P. 253).
(обратно)299
Период творчества Гегеля в годы преподавания в Йенском университете (1801–1806).
(обратно)300
Personenrecht — личное право (нем.).
(обратно)301
Sachenrecht — вещное право (нем.).
(обратно)302
Moralität — моральность (нем.).
(обратно)303
Sittlichkeit — нравственность (нем.).
(обратно)304
Пропп Владимир Яковлевич (1889–1970) — русский лингвист, фольклорист.
(обратно)305
Барт (Barth) Ролан (1915–1980) — французский литературовед (см. комм. 17 на стр. 618).
(обратно)306
Erinnerung — воспоминание (нем.).
(обратно)307
Здесь: реализующей себя эсхатологией (нем.).
(обратно)308
Redivivus — воскресший, обновленный (лат.).
(обратно)309
1
(обратно)310
2
(обратно)311
3
(обратно)312
4
(обратно)313
5
(обратно)314
6
(обратно)315
7
(обратно)316
8
(обратно)317
9
(обратно)318
10
(обратно)319
11
(обратно)320
12
(обратно)321
13
(обратно)322
14
(обратно)323
15
(обратно)324
16
(обратно)325
17
(обратно)326
18
(обратно)327
1
(обратно)328
2
(обратно)329
3
(обратно)330
4
(обратно)331
5
(обратно)332
6
(обратно)333
7
(обратно)334
8
(обратно)335
9
(обратно)336
10
(обратно)337
11
(обратно)338
12
(обратно)339
13
(обратно)340
14
(обратно)341
15
(обратно)342
16
(обратно)343
17
(обратно)344
18
(обратно)345
19
(обратно)346
20
(обратно)347
21
(обратно)348
22
(обратно)349
23
(обратно)350
24
(обратно)351
25
(обратно)352
26
(обратно)353
27
(обратно)354
28
(обратно)355
29
(обратно)356
30
(обратно)357
31
(обратно)358
32
(обратно)359
33
(обратно)360
34
(обратно)361
35
(обратно)362
36
(обратно)363
37
(обратно)364
39
(обратно)365
41
(обратно)366
42
(обратно)367
43
(обратно)368
46
(обратно)369
47
(обратно)370
48
(обратно)371
49
(обратно)372
1
(обратно)373
2
(обратно)374
3
(обратно)375
4
(обратно)376
5
(обратно)377
6
(обратно)378
7
(обратно)379
8
(обратно)380
9
(обратно)381
10
(обратно)382
11
(обратно)383
12
(обратно)384
13
(обратно)385
14
(обратно)386
15
(обратно)387
16
(обратно)388
17
(обратно)389
18
(обратно)390
19
(обратно)391
20
(обратно)392
21
(обратно)393
22
(обратно)394
23
(обратно)395
24
(обратно)396
25
(обратно)397
26
(обратно)398
27
(обратно)399
28
(обратно)400
29
(обратно)401
30
(обратно)402
31
(обратно)403
32
(обратно)404
33
(обратно)405
34
(обратно)406
35
(обратно)407
36
(обратно)408
37
(обратно)409
38
(обратно)410
39
(обратно)411
40
(обратно)412
41
(обратно)413
42
(обратно)414
43
(обратно)415
44
(обратно)416
45
(обратно)417
46
(обратно)418
47
(обратно)419
48
(обратно)420
49
(обратно)421
50
(обратно)422
52
(обратно)423
53
(обратно)424
54
(обратно)425
55
(обратно)426
56
(обратно)427
57
(обратно)428
58
(обратно)429
59
(обратно)430
60
(обратно)431
61
(обратно)432
62
(обратно)433
63
(обратно)434
64
(обратно)435
65
(обратно)436
66
(обратно)437
67
(обратно)438
69
(обратно)439
70
(обратно)440
71
(обратно)441
72
(обратно)442
73
(обратно)443
7
(обратно)444
75
(обратно)445
76
(обратно)446
1
(обратно)447
2
(обратно)448
3
(обратно)449
4
(обратно)450
5
(обратно)451
6
(обратно)452
7
(обратно)453
8
(обратно)454
9
(обратно)455
10
(обратно)456
11
(обратно)457
12
(обратно)458
13
(обратно)459
14
(обратно)460
15
(обратно)461
1
(обратно)462
2
(обратно)463
3
(обратно)464
6
(обратно)465
7
(обратно)466
8
(обратно)467
9
(обратно)468
10
(обратно)469
11
(обратно)470
12
(обратно)471
13
(обратно)472
14
(обратно)473
15
(обратно)474
16
(обратно)475
17
(обратно)476
18
(обратно)477
19
(обратно)478
20
(обратно)479
21
(обратно)480
22
(обратно)481
23
(обратно)482
24
(обратно)483
25
(обратно)484
27
(обратно)485
28
(обратно)486
29
(обратно)487
30
(обратно)488
31
(обратно)489
32
(обратно)490
33
(обратно)491
34
(обратно)492
35
(обратно)493
37
(обратно)494
38
(обратно)495
30
(обратно)496
41
(обратно)497
42
(обратно)498
43
(обратно)499
44
(обратно)500
45
(обратно)501
46
(обратно)502
1
(обратно)503
2
(обратно)504
3
(обратно)505
4
(обратно)506
5
(обратно)507
6
(обратно)508
7
(обратно)509
8
(обратно)510
9
(обратно)511
10
(обратно)512
11
(обратно)513
12
(обратно)514
13
(обратно)515
14
(обратно)516
15
(обратно)517
16
(обратно)518
17
(обратно)519
18
(обратно)520
19
(обратно)521
20
(обратно)522
21
(обратно)523
22
(обратно)524
23
(обратно)525
24
(обратно)526
25
(обратно)527
26
(обратно)528
27
(обратно)529
28
(обратно)530
29
(обратно)531
30
(обратно)532
31
(обратно)533
32
(обратно)534
33
(обратно)535
34
(обратно)536
35
(обратно)537
36
(обратно)538
37
(обратно)539
40
(обратно)540
41
(обратно)541
42
(обратно)542
43
(обратно)543
45
(обратно)544
46
(обратно)545
47
(обратно)546
48
(обратно)547
49
(обратно)548
50
(обратно)549
51
(обратно)550
53
(обратно)551
54
(обратно)552
55
(обратно)553
57
(обратно)554
36
(обратно)555
13
(обратно)

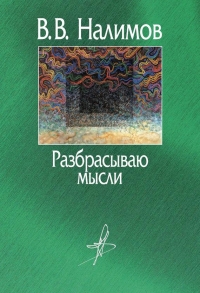

Комментарии к книге «Конфликт интерпретаций», Поль Рикер
Всего 0 комментариев