Предисловие
Жак Маритен (1882–1973), крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе. В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий. Общая установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный в своем прообразе космос, чем сближается с интуицией русской религиозной философии. В том вошли также работы по теории искусства и проблемам художественного творчества, рожденные как отклик на сюрреалистические эксперименты, поставившие перед мыслителем задачу возвратить искусствоведческую мысль к твердым основаниям метафизики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и соотнести с ней современную ситуацию в художественном творчестве.
Краткий трактат о существовании и существующем
Предисловие
Посвящается Раисе1*.
Различные «экзистенциализмы»
1. Этот краткий трактат о существовании и существующем можно рассматривать как очерк экзистенциализма св. Фомы Аквинского. Здесь важно с самого начала исключить возможность путаницы. Экзистенциализм св. Фомы совершенно отличен от экзистенциалистских идей тех философий, которые нам предлагают сегодня; и если я говорю, что он является, на мой взгляд, единственным подлинным экзистенциализмом, то это не означает с моей стороны попытки омолодить томизм путем словесного ухищрения, за которое мне было бы совестно, и таким образом облачить Фому Аквинского в модный костюм, — впрочем, слово «костюм» служит здесь неким эвфемизмом. Я не являюсь неотомистом, взвесив все, я бы предпочел быть палеотомистом; надеюсь, что я томист. И вот уже более тридцати лет я констатирую, что трудно добиться от наших современников, чтобы они не смешивали изобретательность философов с аналогичной способностью художников высокой моды.
Говоря об экзистенциализме св. Фомы, томист всего лишь вновь обращается, в русле современной моды, к сокровищу, которому она не знает цены, и при этом осуществляет право первенства. Для уточнения скажу, что, на мой взгляд, отличие подлинного томизма от некоторых схоластических неотомистских или мнимо томистских течений (куда незаметно проник дух Платона, Декарта, Вольфа или Канта, дух, от которого нынешнее преподавание того, что именуется «томизмом», еще не вполне избавилось) заключается как раз в признании подлинным томизмом примата существования и интуиции экзистенциального бытия. Мы были бы рады, если бы под напором современных экзистенциалистских систем к этому пункту было привлечено особенное внимание. Мы не ждали появления этих систем, чтобы опровергнуть заблуждение, состоящее в том, что философию бытия рассматривают как философию сущностей или диалектику сущностей — которую я называю просматриванием книги иллюстраций, — не видя в ней того, чем она является в действительности, того, что составляет ее преимущество и определяет ее своеобразное и исключительное положение среди иных философий: не видя в ней философии существования и экзистенциального реализма, осмысления акта существования интеллектом, решительно настроенным никогда не отрекаться от себя.
Если обратиться к словарю, то, как известно, слово «экзистенциальный» приобрело современное звучание, в особенности в Германии, прежде всего под влиянием Кьеркегора. Лет двадцать назад стоял вопрос об экзистенциальном христианстве, и я вспоминаю красноречивый доклад Романо Гвардини, в котором он толковал перед несколькими слегка удивленными прелатами, что экзистенциальный смысл Евангелия от св. Иоанна открылся ему через образ князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот». Многие философы — от Ясперса и Габриэля Марселя до Бердяева и Шестова — называли себя тогда «экзистенциальными» философами. Несколько позже слово «экзистенциализм» получило право гражданства, ныне оно пользуется немалым успехом, но вместе с тем, как недавно отметил г-н Сартр, «оно уже вообще ничего не означает». Если не считать этого случайного неудобства, само по себе это хорошее и даже отличное слово. По отношению к томистской философии оно столь же применимо, как и слово «реализм». Его нет в таблице Петра Бергамского[2*]; сам св. Фома не называл себя ни экзистенциалистом, ни реалистом (он никогда не объявлял себя и томистом). Однако эти определения существенны для его мысли.
2. Сразу же заметим, что есть два принципиально различных понимания слова «экзистенциализм». В одном случае утверждается примат существования, но как предполагающего и сохраняющего сущности или природы, как знаменующего собой высшую победу интеллекта и интеллигибельности. Это то, что я рассматриваю как подлинный экзистенциализм. В другом случае утверждается примат существования, но как разрушающего или устраняющего сущности или природы, как демонстрирующего высшее поражение интеллекта и интеллигибельности. Это то, что я рассматриваю как апокрифический экзистенциализм — тот самый современный экзистенциализм, который уже вообще «ничего не означает». Еще бы! Ведь, устраняя сущность или то, что задается актом существования (esse), вы устраняете одновременно существование, или esse, ибо эти два понятия коррелятивны и неразделимы. Такой экзистенциализм сам себя пожирает.
При всем своем рационализме Декарт, постольку, поскольку он, будучи последователем Дунса Скота, стал предшественником современных либертистских метафизик, сам тяготел к такому экзистенциализму в том, что касается Бога. Без сомнения, он говорил больше, нежели кто-либо другой, о божественной сущности, усматривая в ней действующую причину самого существования Бога. Но эта сущность становится абсолютно непроницаемой (не считая того, что сама ее идея достаточна, чтобы уверить нас в существовании Бога), она, так сказать, не более чем блеск одного божественного существования, понимаемого как акт чистой воли. В предельном случае получится божественное Существование, лишенное природы. И поскольку таковое немыслимо, мысль переходит к более или менее двойственному заменителю, доставляемому идеей чистого Действия, чистой Действенности или чистой Свободы, высшей по отношению ко всему интеллектуальному порядку и интеллигибельности, — свободы, которая сама утверждается без причины, единственно лишь своей «мощью», и своевольно создает интеллигибельное и сущности, а также идеи, представляющие собой их воспроизведение в наших умах. В конечном счете Бог Декарта — это Воля, совершенно изъятая из всякого порядка Мудрости (подход, который св. Фома рассматривал как богохульство). Вот почему этот Бог исключает из своих действий всякую финальность, создает вечные истины как чистые случайности, совершенно независимые от его неизменной Сущности, возможные партиципации которой неизменно созерцал бы его интеллект, но зависимые от его простой Воли. Вот почему он мог бы создать горы без долин, сделать круг квадратным и противоречащие суждения одновременно истинными. Поэтому и весь строй человеческой морали отмечен, по мнению Декарта, той же радикальной случайностью и зависит от ничем не обоснованного чистого повеления; ведь справедливое и несправедливое таковы лишь сообразно с ведением Верховного Существования и немотивированным выбором, посредством которого божественный Субъект решает реализовать свою творческую свободу.
Именно эту форму экзистенциализма — примат существования, но за счет устранения интеллигибельной природы или сущности — мы вновь обнаруживаем сегодня в атеистическом экзистенциализме, и, без сомнения, у автора «Бытия и ничто»[3*] есть гораздо больше оснований связывать себя с философом cogito, нежели он полагает. Но на сей раз речь не идет более о том высшем Существовании, которое составляло для абсолютного теизма основу рационалистического видения мира и которое было тем более властным, что оно коренилось единственно в волении недоступной Бесконечности. Речь идет о конечном существовании субъектов, лишенных сущности, которых первичный атеистический выбор ввергает в хаос вязких и раздробленных данностей совершенно иррационального мира и от которых он требует, чтобы они создавали, или творили, себя самих — через последовательность абсолютных актов выбора, неизбывно ставящих их в конкретные, всякий раз новые ситуации. Им надлежит, конечно же, не созидать свою интеллигибельную сущность или структуру, поскольку таковых не существует, но творить образы, устремленные в будущее, проекты (pro-jets), которые никогда не смогут дать им нечто наподобие лица.
Существование без сущности, субъект, лишенный сущности: мы изначально попадаем в область немыслимого. Таким образом — и это отсутствие fair play[4*], на мой взгляд, представляет самый большой порок этой философии[1], — изначальное, прямое утверждение, что существование лишено сущности или исключает сущность, заменяется более продуманным и двойственным утверждением, что существование — Heidegger dixit[5*] — предшествует сущности. Это утверждение двойственно, поскольку оно могло бы означать нечто истинное — а именно, что акт предшествует потенции, что моя сущность самим своим присутствием в мире обязана моему существованию и что ее интеллигибельность проистекает из Существования в чистом акте, — тогда как в реальности оно означает совсем иное: а именно, что существование ничего не актуализирует, что я существую, но являю собой ничто, что человек существует, но нет никакой человеческой природы.
Точно так же понятие «проект»[2] служит двойственным заменителем понятия сущности, или основного качества (quiddite), а понятие ситуации — двойственным заменителем понятия объективной обусловленности, порождаемой причинами и природами, взаимодействующими в мире. Подобно тому как в метафизике Декарта понятие чистого Действия, чистой Действенности или чистой Свободы неявно заменяло собой немыслимое понятие Бога, не обладающего природой, в атеистическом экзистенциализме немыслимое понятие субъекта, лишенного природы, заменяется понятием чистого действия или чистой действенности в процессе выбора, короче говоря, чистой свободы. Свобода эта двойственна сама по себе и рушится изнутри, поскольку, требуя по видимости высшего свободного выбора, она в действительности требует лишь чистой спонтанности, неизбежно внушающей подозрение, что она — лишь внезапное извержение необходимости, спрятанной в глубине той самой природы, которую мнили изгнанной. Возможно, на все это намекал на несравненном языке, доставляющем удовольствие современной философии, критик, упрекавший доктрину г-на Сартра в возрождении радикал-социализма.
Заметим, что эта философия вовсе не так далека, как думает сам г-н Сартр, от философии тех «французских профессоров, которые к 1880 г. попытались создать светскую мораль»[3], упраздняя Бога и сохраняя буржуазную порядочность и кантовский декалог. Ибо если экзистенциализм полагает, что несуществование Бога мешает жить, если он заявляет, обнаруживая тем самым метафизическую проницательность, что человеческой природы нет, коль скоро нет созерцающего ее Бога, и утверждает, что упразднение Бога ведет к опустошению области интеллигибельного, то все же отправной пункт и тонкая пружина всех его начинаний — стремление доставить отвратительному человеческому вибриону, который упорно развивается и множится, возможность справиться с ситуацией в обезбоженном мире и освоиться с атеизмом. (Не сохраняя, конечно, буржуазную добропорядочность, а изыскивая средство не быть, принимая моральные категории г-на Сартра, ни «негодяем», ни «подлецом», что является еще одним, возможно наиболее экономным, способом самооправдания. И, конечно, не устанавливая по своему усмотрению, подобно картезианскому Богу, справедливое и несправедливое, а также объективную меру морального, поскольку таковой не существует, но придавая чему угодно моральную или даже героическую ценность, если в это достаточно полно вовлечена его свобода.) В этом и состоит неприкосновенная тайна, первоначальное решение и оздоровительная позиция экзистенциализма: любой ценой устроить дело так, чтобы атеизм оказался жизнеспособным. А если по случайному стечению обстоятельств это невозможно? Если случайно нельзя ни выйти из затруднения, ни устраниться? Этот вопрос даже не ставится, его старательно избегают и скрывают. Г-н Сартр имеет основания решительно объявлять себя оптимистом, оставляя христианам смысл трагического, — христианам и великим антихристианам. Не будем говорить о Паскале. В экзистенциализме нет ничего даже от величия Ницше. Это удивительное отречение от всего великого есть, возможно, то наиболее оригинальное и ценимое, что он приносит нашей эпохе.
Глава I Бытие
Введение
Veritas sequitur esse rerum[6*]
3. Фома Аквинский, как я отмечал в другом исследовании[4], переходит от самой интеллектуальной способности к существованию. У него в высшей степени классическое представление о науке: он скрупулезно внимателен к малейшим требованиям, к тончайшим правилам и мерилам логики, разума, искусства соединять идеи. И познает он не книгу иллюстраций, а эти небеса и эту землю, вместившие в себя больше, чем любая философия, этот существующий универсум, основывающийся на первичных фактах, которые необходимо констатировать, а не выводить. Универсум этот пронизан всеми творческими импульсами бытия, оживляющими его, объединяющими и заставляющими устремляться к непредвиденному будущему. Он затронут также всеми ущербными моментами бытия, которые составляют реальность зла и в которых следует видеть цену взаимодействия существующих образований и цену сотворенной свободы, способной ускользать от импульса первичного Бытия.
«Veritas sequitur esse rerum» — это отправное томистское положение, и здесь важно определить его значимость. Истина следует существованию вещей, или трансобъективных субъектов, с которыми сталкивается мысль. Она являет собой адекватность актуально имманентного нашей мысли тому, что существует за пределами нашего мышления. Духовное сверхсуществование, благодаря которому я становлюсь в высшем жизненном акте другим как таковым и которое соответствует существованию, осуществляемому этим другим и сохраняемому им самим в законно принадлежащей ему области интеллигибельного, — вот в чем состоит истинное знание.
Таким образом, познание погружено в существование. Существование — существование материальных реалий — дано нам первоначально через чувство, чувство постигает объект именно в качестве существующего, иными словами, в его реально существующем воздействии на наши органы чувств; вот почему парадигмой всякого истинного познания является интуиция вещи, которую я вижу и которая распространяет на меня свое влияние[5]. Чувство постигает существование в действии, не осознавая того, что это существование; оно передает его интеллекту. Оно передает интеллекту интеллигибельную ценность, которую само не распознает как таковую и которую интеллект познает и называет своим именем: «бытие».
А интеллект, схватывающий интеллигибельное, которое он собственной силою выделяет из чувственного опыта, постигает в недрах собственной внутренней жизни эти природы или сущности, отделенные им путем абстракции от их материального существования в определенной точке пространства и времени. Во имя чего? Не для того ли, чтобы просто созерцать в этих идеях картину сущностей? Разумеется, нет! Для того, чтобы вернуть их существованию через акт, в котором завершается и достигает самореализации интеллектуальное постижение, а именно через суждение, декларирующее: ita est, «это так». Когда я говорю, например: «Всякий евклидовский треугольник обладает суммой внутренних углов, равной двум прямым углам» или «Земля вращается вокруг Солнца», то я в действительности говорю: всякий евклидовский треугольник существует в своем математическом существовании как обладающий этим свойством, а Земля существует в своем физическом существовании как обладающая этим типом движения. Функция суждения — экзистенциальная функция[6].
Простое восприятие
4. В данной связи необходимы некоторые объяснения, касающиеся, во-первых, абстрагирующей перцепции, которая является первичной операцией духа, и, во-вторых, суждения. Относительно первого пункта мы отметим, что своего рода священный ужас, охватывающий экзистенциальных философов, как христиан, так и атеистов, перед лицом того, что они именуют универсумом объектов, хотя и ведет к серьезным последствиям (в конечном счете к отвержению условий интеллигибельности познания), имеет ничтожный источник и рождается из убогого недоразумения, уходящего своими корнями в далекое прошлое, в картезианскую теорию идей-картин[7]. Они воображают объект как овеществленную идею, как фрагмент чисто внешнего, инертного и пассивного, которое полагает духу преграду, помещаясь между ним и миром существующего или реальных субъектов, доступных в таком случае лишь постижению через живой опыт субъективности. Они не видят того, что в объекте и объективности — сама жизнь и спасение интеллекта: объект — конечная цель первой операции интеллекта (простой перцепции или «простого восприятия»). И что же он являет собой, как не интеллигибельную плотность существующего субъекта в определенном ракурсе абстрагирования, ставшую актуально прозрачной для духа и отождествленную с его жизненной активностью при посредстве понятия и в понятии? Короче говоря, он есть интеллигибельная объективация духом трансобъективного субъекта, неисчерпаемого в своем конкретном существовании, т. е. бесконечно объективируемого в новых, сопряженных с предшествующими объектах понятия. Экзистенциалисты не видят, что этот универсум объектов, который они стараются изгнать из сферы существования, и не притязает на существование как таковой, он существует лишь в духе, а реально существующее — это субъекты, или supposita, объективированные духом ради познания, но существующие для себя в мире конкретного и случайного существования, где объединяются сущность и случайное. Я вернусь несколько позже к значению понятия субъекта, или основания (suppot), в томистской философии; с иной, чисто логической, точки зрения я бы хотел лишь отметить здесь, что для этой философии, сообразно с очень часто игнорируемым различием, наука стремится познать определенный субъект в его экзистенциальной неисчерпаемости, тогда как объект науки составляют, строго говоря, те заключения, к которым она приходит.
Марксисты, со своей стороны, верны понятию объекта. Но, основываясь на перевернутом гегельянстве и диалектическом идеализме, переведенном в плоскость философии реального, они по сути игнорируют универсум существования, или универсум субъектов, чтобы приписать миру овеществленных объектов и природ, представляющих собою не более чем случайные аспекты имманентно становящегося, некое существование, которое есть лишь вынесение идеи вовне. И, таким образом, они подпадают под обвинение, выдвигаемое экзистенциалистами против идеалистического мифа об объекте.
Мы можем, следовательно, констатировать неправоту и тех и других и заключить наше первое размышление, утверждая, что в абстрагирующей перцепции, являющейся первой фазой и первым условием всякой активности интеллекта, схватываемое интеллектом не сводится к вечным вещам, которые он созерцает в неизвестно каком обособленном интеллигибельном универсуме или мираже гипостазированных грамматических форм, согласно фальшивому платонизму, с которым позитивисты и номиналисты, экзистенциалисты и марксисты хотели бы связать понятие сущности или природы с неизменной интеллигибельной структурой. Метафизик знает, что ему надлежит искать первичное основание интеллигибельности вещей, равно как и всякого иного качества или совершенства бытия. Он обнаруживает его в чистом Акте и понимает, что в конечном счете не было бы человеческой природы, если бы божественный Интеллект не созерцал свою собственную Сущность и в этой Сущности вечную идею человека, которая является не абстрактной и общей идеей, подобной нашим, а идеей творческой. Но мы видим не эту божественную идею, не в этой интеллигибельной сфере мы постигаем человеческую природу; интеллигибельная сфера, где мы постигаем сущности и природы и оперируем ими, пребывает в нас самих: это — активно-имманентное нашей нематериальной мысли. В абстрагирующей перцепции, в этом прорыве к реальности и чувственному опыту с целью обеспечить себе пищу, интеллект схватывает именно природы или сущности, присутствующие в вещах, или экзистенциальных субъектах (но не в состоянии актуальной интеллигибельности или всеобщности), однако сами по себе не являющиеся вещами и очищаемые интеллектом от существования через дематериализацию. Вот что мы изначально именуем интеллигибельным или объектом мысли.
Суждение
5. Но в особенности для нас важно второе соображение, касающееся суждения. Выше я сказал, что функция суждения — экзистенциальная функция и что суждение возвращает сущности — интеллигибельное, объекты мысли — существованию или миру субъектов (существованию необходимо материальному, просто идеальному или по крайней мере нематериальному в возможности, в зависимости от того, идет ли речь о физическом, математическом или метафизическом познании). В связи с этим возникает центральная проблема — проблема философской значимости суждения и самого существования, которое, согласно томистам, оно должно утверждать.
Для Декарта суждение есть операция воли, а не интеллекта, и утверждаемое им существование — это лишь полагание непостижимого в себе самом ideatum[7*], изображением которого является idea. Для Канта суждение само по себе обладает идеальной, а не экзистенциальной функцией: именно оно созидает понятие, подводя эмпирическую материю под категорию, и существование есть не более чем полагание, абсолютно очищенное от всякой ценности или интеллигибельного содержания. Для св. Фомы, в отличие от Декарта, суждение есть не только операция, следующая за простым восприятием и образованием понятия; оно — завершение, кульминация, совершенное состояние, слава интеллекта и интеллектуального постижения, подобно тому как утверждаемое им существование составляет совершенство и славу бытия и интеллигибельности.
Как я писал в «Ступенях познания»[8], когда я формулирую суждение, «я совершаю с моими noemata[8*] в глубине моей мысли операцию, обладающую смыслом лишь постольку, поскольку она связана со способом их существования (по крайней мере в возможности) за ее пределами. Собственная функция суждения состоит, таким образом, в том, что оно заставляет дух перейти с уровня простой сущности, или простого объекта, данного мысли, на уровень вещи, или наделенного существованием (в действительности или в возможности) субъекта, интеллигибельными аспектами которого являются объекты мысли — предикат и субъект… Можно сказать вместе с Ласком[9*], но только в ином смысле, что всякое суждение предполагает "полную гармонию" (со стороны вещи) и — как итог самого суждения — "примирение после битвы"..В самой вещи, в самом трансобъективном субъекте даны "объятия", предшествующие "состоянию раздора", которое должно быть "побеждено" суждением. Суждение восстанавливает для трансобъективного субъекта его единство, нарушенное простым восприятием, улавливающим в нем различные объекты мысли. Это единство не могло предшествовать в духе, поскольку дух, напротив, разлагает его, с тем чтобы потом воссоздать вновь. Оно предшествовало (изначально полагало себя) вне духа, в существовании (действительном или возможном), которое в качестве удерживаемого (exercita) находится вне порядка простого представления или простого восприятия».
Что это означает? «Суждение не удовлетворяется представлением или восприятием существования. Оно его утверждает, оно переносит в него как в осуществленное или могущее быть осуществленным за пределами духа объекты понятий, воспринятые духом. Иными словами, интеллект, когда он судит, сам живет интенциональной жизнью посредством свойственного ему акта — того самого акта существования, который осуществляется или может осуществляться вещью за пределами духа»[9]. Таким образом утверждаемое и интенционально переживаемое духом и в духе существование знаменует в нем кульминацию и завершение актуальной интеллигибельности. Оно соответствует акту существования, осуществляемому вещами. И сам по себе этот акт существования есть нечто несравненно большее, нежели простое полагание, лишенное собственной интеллигибельной ценности. Это — высший акт или энергия, а нам известно, что большая степень актуальности сопряжена с большей интеллигибельностью.
И в то же время существование не тождественно сущности: оно принадлежит к иному порядку, чем весь сущностный порядок, оно не есть, стало быть, нечто интеллигибельное, объект мысли в определенном выше смысле этих слов (как синонимов слова «сущность»). Можно заключить только, что оно превосходит объект и интеллигибельное в строгом смысле, поскольку являет собой осуществляемый субъектом акт, преимущественная интеллигибельность которого, или сверхинтеллигибельность, объективируется в нас в самом акте суждения. Мы могли бы назвать его в этом смысле трансобъективным актом. Именно в этом высшем и аналогическом смысле оно есть нечто интеллигибельное. «Интеллигибельность, на которой держится суждение, более таинственна, чем та, которую доставляют нам идеи или понятия, она выражается не в понятии, а в самом акте утверждения или отрицания, — это есть сверхинтеллигибельность, если можно так выразиться, самого акта существования, данного в возможности или в действительности. И именно с этой сверхинтеллигибельностью существования св. Фома связывает всю жизнь интеллекта»[10].
* * *
Интуиция бытия
6. Вот почему в основу метафизического познания он полагает интеллектуальную интуицию той сокровенной реальности, что прячется за самым общим и самым расхожим словом нашего языка — словом быть и открывается нам как ничем не ограниченный предмет науки, вызывающей зависть богов, когда мы раскрываем в его собственной ценности тот акт существования, который осуществляет самая простая вещь, тот победный порыв, в которым она торжествует над ничто.
Философ не является философом, если он не метафизик. И именно интуиция бытия — будь она даже искажена системой, как, например, у Платона или Спинозы, — формирует метафизика. Я говорю об интуиции бытия в ее чистых и всепроникающих свойствах, в ее типичной и первоначальной интеллигибельной плотности, об интуиции бытия secundum quod est ens[11] [10*]. Постигнутое таким образом бытие не является ни смутным бытием здравого смысла, ни обособленным бытием наук и философии природы, ни лишенным реальности бытием логики, ни псевдобытием диалектики, принимаемой за философию[12]. Это бытие, взятое само по себе, в его ценности и его собственных ресурсах интеллигибельности и реальности, т. е. в том богатстве, в той аналогической и трансцендентальной полноте, что выражена в несовершенном и множественном единстве его понятия и дает ему возможность охватить бесконечное число своих аналогов, делает его преизобилующим трансцендентальными и динамическими ценностями, выражающими тенденцию, в которой идея бытия превосходит самое себя[13]. Это бытие, достигнутое или постигнутое таким образом на вершине абстрагирующего интеллектуального постижения, эйдетической или интенсивной визуализации, которая является столь озаряющей и чистой лишь потому, что однажды интеллект был пробужден в его глубинах и высвечен изнутри через потрясение от акта существования, схваченного в вещах, потому, что интеллект возвысился до его восприятия или слышания в себе, в интеллигибельной и сверхинтеллигибельной цельности его звучания.
Чтобы достигнуть этой интуиции, есть различные пути и способы продвижения. Ни один из них не определен заранее, ни один не является более законным, нежели другой: именно потому, что дело не в рациональном анализе, не в индуктивной или дедуктивной процедуре, не в силлогистической конструкции, а в интуиции как первичном факте. Чувства и то, что св. Фома называет «суждением чувства», слепая экзистенциальная перцепция чувства играют здесь первостепенную и незаменимую роль. Но это не более чем предпосылка, необходимо, чтобы глаза слепорожденного открылись, чтобы действие духовных сил интеллекта выявило в интеллигибельном свете этот акт существования, который чувство постигло, не открывая, и затронуло, не видя. Интуиция бытия может быть чем-то вроде прирожденного дара царственного интеллекта, невозмутимо уверенного благодаря своей, ясной силе и опоре на тонкую и чистую плоть, на живую и уравновешенную чувственность, как это, по-видимому, было у Фомы Аквинского. Она может внезапно появиться как своего рода естественная благодать при виде стебелька травы или ветряной мельницы или же внезапном постижении моей собственной реальности. Она может происходить от неумолимости, с какой бытие независимых от меня вещей навязывается мне, отрицая мое собственное бытие в его одиночестве и его хрупкости. И возможно, что меня приведет к ней мой опыт длительности, или тоски, или же определенных моральных реалий, преодолевающих течение времени. Неважно каким образом — главное сделать шаг, открыть в подлинной интеллектуальной интуиции смысл бытия, ценностный смысл следствий акта существования. Главное увидеть, что существование — не просто эмпирический факт, но изначальная данность для самого духа, предоставляющая ему бесконечное поле сверхнаблюдаемого, иначе говоря, первичный и сверхинтеллигибельный источник интеллигибельности.
Недостаточно преподавать философию, даже томистскую философию, чтобы обладать этой интуицией. Скажем, что это определяет случай, или дар, или, возможно, способность к восприятию света. Без такой интуиции наше знание всегда будет оставаться знанием на уровне мнения, непрочным и бесплодным, до крайности перегруженным эрудицией, knowledge about[11*]; будет постоянное кружение вокруг огня без проникновения в него. Даже совершая ошибки на своем пути, с нею можно продвинуться дальше, чем за многие годы диалектических упражнений, критической рефлексии или концептуального препарирования явлений, и таким образом обрести привилегию одиночества и меланхолии. Если поэт — ясновидящий, философ тоже ясновидец, хотя и совсем по-иному. Пусть он испытывает порой некоторую растерянность, а порой — радость открытия, при всей книжной учености и знании жизни он всегда опьянен бытием.
Понятие существования, или акта существования (esse), и понятие бытия, им «того, что существует» (ens)
7. Предшествующие размышления ставят нас перед парадоксом, который надо попытаться прояснить. Мы сказали, что интеллигибельное, схватываемое в наших идеях, — это сущность. Но существование не тождественно сущности, оно противостоит любому сущностному порядку. Каким же образом тогда оно может быть объектом интеллекта, и притом его высшим объектом? Как можем мы говорить о понятии или идее существования? Или же следует сказать, что существование не схватывается интеллектом, недоступно для него, что оно не поддается никакой концептуализации, что оно не более чем предел, который реальность всюду полагает философскому поиску сущностей, непознаваемое, на основе которого конструирует себя метафизика, не постигая его самого?
Сказанное выше предвосхищает ответ: сущности — объект первой операции интеллекта, или простого восприятия. Акт существования обращен именно к суждению. Интеллект охватывает и содержит себя самого, он присутствует всецело в каждой из своих операций. И в первом проблеске его активности, появляющейся в мире чувств, в первом акте, в котором он самоутверждается, выражая для самого себя некую данность опыта, он воспринимает и судит в одно и то же время, он образует свою первую идею (идею бытия), вынося свое первое суждение (о существовании), и выносит свое первое суждение, образуя свою первую идею. Я утверждаю, стало быть, что он овладевает таким образом ценностью, которая законно принадлежит суждению, дабы включить ее в само простое восприятие, он делает ее визуальной в качестве первой и абсолютно новой идеи, привилегированной идеи, которая оказывается результатом не одного лишь процесса простого восприятия, но и схватывания именно акта существования, утверждаемого интеллектом с момента осуществления им операции суждения. Он постигает себя, чтобы превратить себя в объект мысли высокого интеллигибельного или сверхинтеллигибельного порядка, к которому относится суждение, — порядка существования.
Таким образом существование становится объектом, но, как я указывал ранее, в высшем и аналогическом смысле, который следует из объективации трансобъективного акта и относится к трансобъективным субъектам, осуществляющим этот акт или способным к его осуществлению. Понятие овладевает тем, что является не сущностью, а интеллигибельным в аналогическом и высшем смысле, сверхинтеллигибельным, данным уму в самой операции, которую он совершает каждый раз, когда судит, со времени своего первого суждения.
Но это понятие существования или акта существования (esse) не оторвано и не может быть оторвано от абсолютно первого понятия бытия (ens, того, что есть, того, что существует, того, что осуществляет акт существования) — именно потому, что утверждение существования, или суждение, доставляющее этому утверждению его содержание, само по себе является «соединением» субъекта с существованием, утверждением, что нечто существует (действительно или в возможности, просто или с тем или иным предикатом). Именно понятие бытия (того, что существует или может существовать) в порядке идеативной перцепции адекватно соответствует этому утверждению в порядке суждения. Понятие «существование» не может быть визуально представлено совершенно отдельно, изолированно, обособленно от понятия «бытие», и именно в нем и с ним оно мыслится прежде всего. Мы затрагиваем здесь исходную ошибку, которая обнаруживается в основании всех современных экзистенциальных философий. Не зная или не принимая во внимание предупреждение древней схоластической мудрости: «Существование не может составить объект совершенной абстракции», они предполагают, что существование может быть обособлено, что лишь существование есть питательная почва философии, они рассуждают об экзистенции, не рассматривая бытия[14], они именуют себя философиями существования, вместо того чтобы называться философиями бытия.
Сказанное означает, что понятие «существование» не может быть отделено от понятия «сущность». Будучи неотделимо от него, оно составляет одно и то же простое, хотя и внутренне варьирующееся понятие, одно и то же аналогическое по сути своей понятие — понятие «бытие», самое первое из всех, по отношению к которому все иные выступают вариантами или определениями, поскольку оно возникает в духе при первом пробуждении мысли, при первом схватывании интеллигибельного, осуществленном в чувственном опыте через превосхождение чувственного. В момент, когда палец указывает улавливаемое глазом, в момент, когда чувство слепо, без мысленного слова, без участия интеллекта воспринимает: Это существует, — интеллект говорит одновременно (в суждении): Это бытие есть, или существует и (в понятии): бытие[15]. Имеется взаимная связь причин, взаимный приоритет этого понятия и этого суждения по отношению друг к другу в различных планах. Чтобы сказать: «Это бытие есть, или существует», необходимо обладать идеей бытия. Чтобы обладать идеей бытия, нужно утверждать и схватывать акт существования в суждении. В целом простое восприятие в дальнейшем будет предшествовать суждению, но тут, при первом пробуждении мысли, оно зависит от него, и наоборот. Идея бытия («этого бытия») предшествует суждению существования в порядке материальной или субъективной причинности, суждение существования предшествует идее бытия в порядке формальной причинности. Чем более размышляешь об этом предмете, тем яснее сознаешь, что именно таким образом интеллект концептуализирует существование и составляет для себя идею бытия — смутного бытия здравого смысла.
8. И когда, продвигаясь к царице наук и высшей интуиции, о которой я только что говорил, интеллект отделяет от чувственного познания погруженное в него бытие в его собственной ценности, в его типичной и первозданной интеллигибельной плотности, чтобы сделать из него объект или, вернее, предмет метафизики, когда он концептуализирует метафизическую интуицию бытия, он также — и прежде всего — выявляет в том же самом свете акт существования[16].
Теперь он, согласно классической томистской доктрине, находится на третьей ступени абстракции[17]. Но тут мы хорошо видим, как неверно помещать ступени абстракции на одной линии, как будто математика лишь более абстрактна и более обща, нежели физика, а метафизика более абстрактна и более обща, нежели математика. Нет! Между ступенями абстракции существует лишь аналогическая общность, каждая из них соответствует некоторому типичному, обладающему неустранимым своеобразием способу подхода к реальному и овладения таковым, «трофею» sui generis в борьбе интеллекта с вещами. Абстракция, присущая метафизике, не исходит от «простого восприятия» или эйдетической визуализации универсалии, более общей, чем другие. Она исходит от эйдетической визуализации трансценденталии, которая пропитывает все и интеллигибельность которой включает неустранимую пропорциональность или аналогию (а относится к своему собственному акту существования так, как b относится к своему акту существования), поскольку именно эту трансценденталию открывает суждение: актуализацию бытия через акт существования, постигаемый как преодолевающий границы и условия эмпирического существования в неограниченной полноте своей интеллигибельности.
Если метафизика находится на высшей ступени абстракции, то лишь потому, что, в отличие от всех иных наук обращаясь к бытию как таковому, она рассматривает в качестве объекта собственного анализа и научного исследования сам акт существования. Объектом метафизики является бытие, или данное в акте существования, рассматриваемое как бытие, т. е. как то, что не сопряжено с материальными условиями эмпирического существования, как то, что осуществляется или может осуществляться без материи в акте существования. В силу характеризующего ее типа абстракции, метафизика рассматривает реалии, которые существуют или могут существовать вне материи, она абстрагируется от материальных условий эмпирического существования, но не абстрагируется от существования! Существование — понятие, под знаком которого она познает все постижимое, — я имею в виду реальное существование, действительное или возможное, существование не как индивидуально данное чувствам или сознанию, а как отделенное от индивидуального абстрагирующей интуицией, существование не редуцированное к той степени актуально ощущаемой экзистенциальной действительности, которой только и занимаются феноменологи-экзистенциалисты, но проявляющееся в той интеллигибельной полноте, которой оно обладает как акт сущего и которая служит основой необходимой и всеобщей достоверности знания в собственном смысле этого слова. И сам свой объект метафизика улавливает в вещах: это — бытие чувственно воспринимаемых и материальных вещей, бытие мира опыта, представляющего ее непосредственно доступную область исследования[18], и именно его, прежде чем искать его причину, она выделяет и рассматривает — не как чувственное и материальное, а как бытие. До того как подняться к духовным сущим, она охватывает эмпирическое существование, существование материальных вещей — не как эмпирическое и материальное, а как существование.
То, что метафизика — наука более общая, нежели иные, представляет лишь, так сказать, акцидентальное следствие нематериальности ее объекта и ее видения. Сама по себе именно благодаря тому, что, рассматривая объекты, согласно ее собственным основаниям свободные от материальности, ее просветленный взгляд проникает в вещи, не останавливаясь на материальных характеристиках, метафизика ориентирована на самое глубинное в конкретных и индивидуальных вещах, на их бытие, раскрытое как бытие, и на акт существования, который они осуществляют или могут осуществлять. Если она не достигает самого индивидуального, то не потому, что она сама отказывается от этой задачи в силу своей собственной ноэтической структуры; я бы сказал, что это не ее вина — все дело в корне небытия и неинтеллигибельности, каким является материя в индивиде. Доказательством тому служит факт, что при ее переходе от бытия к причине бытия высшая реальность, постигаемая ею, правда, под покровом аналогии, — это в высшей степени индивидуальная реальность чистого Акта, Ipsum esse subsistens[27*]. Она является единственной дисциплиной, которая способна таким образом достигнуть индивидуального, индивидуального в подлинном смысле. Наихудшая ересь метафизики — рассматривать бытие как genus generalissimum[28*], делая из него одновременно нечто однозначное и чистую сущность. Бытие не является универсалией; его бесконечная полнота, его сверхвсеобщность, если угодно, есть полнота имплицитно множественного объекта мысли, которая пропитывает одинаково все вещи и в своей неустранимой множественности проникает в глубины каждой из них; Бытие — не просто то, что суть вещи, но также и сам акт их существования.
Есть понятие существования. В этом понятии существование взято ut significata[19], как означаемое для духа, и по типу сущности, хотя оно не является сущностью. Но метафизика обращается не к понятию существования, никакая наука не останавливается на понятии — все они переходят от понятия к реальности[20]. Наука о бытии обращается не к понятию существования, а к самому существованию. И когда она рассматривает существование (а она так или иначе рассматривает его всегда), используемое ею понятие демонстрирует ей не сущность, а, по выражению Этьена Жильсона[21], то, сущностью чего является не быть сущностью: акт существования. Существует аналогия, а не отношение однозначности между таким понятием и понятиями, используемыми другими науками. Они пользуются своими понятиями для познания означаемых ими реалий, но эти реалии — сущности. Метафизика использует понятие существования, чтобы познать реальность, которая есть не сущность, а сам акт существования.
Я напомнил, что нельзя отделить понятие существования от понятия сущности: существование всегда есть существование чего-либо, некой способности существовать; само понятие сущности (essentia) означает связь с актом существования (esse), и поэтому у нас есть основание говорить, что существование — первоисточник интеллигибельности[22]. Но, не являя собой ни некую сущность, ни нечто интеллигибельное, этот первоисточник интеллигибельности должен быть сверхинтеллигибелъным. Когда мы говорим, что бытие — это то, что существует или может существовать, то, что осуществляет или может осуществлять акт существования, то в этих нескольких словах заключена великая тайна: в субъекте «то, что» мы подразумеваем (поскольку он есть то или это, поскольку он обладает определенной природой) сущность или интеллигибельное, в глаголе «существует» мы подразумеваем акт существования, или сверхинтеллигибельное. Сказать «то, что существует» значит соединить интеллигибельное со сверхинтеллигибельным, значит иметь перед глазами интеллигибельное, облеченное и дополненное сверхинтеллигибельным. Что удивительного, что на вершине сущего, там, где все обращено к чистому трансцендентному акту, интеллигибельность сущности соединяется в абсолютной тождественности со сверхинтеллигибельностью существования, так что и первое и второе бесконечно превосходят обозначаемое у нас их понятиями, в непостижимом единстве Того, кто есть Сущий?
Следствия интуиции бытия
9. Я постарался уточнить некоторые аспекты глубинной интуиции, лежащей в основе томизма. Комментарии по поводу этой интуиции бытия могут быть бесконечными[23]. Именно с нею непосредственно связан наиболее фундаментальный и наиболее характерный метафизический тезис аристотелизма, переосмысленный Фомой Аквинским, — тезис о реальном различии сущности и существования во всем, что не является Богом, или, иначе говоря, распространение доктрины возможности и действительности на отношение сущности к существованию. Это поистине чрезвычайно смелый тезис, поскольку тут возможность — интеллигибельная сущность или структура, уже завершенная на своем уровне сущности, — дополнена и актуализирована актом иного порядка, который абсолютно ничего не прибавляет к сущности как таковой, интеллигибельной структуре или основному качеству, но прибавляет к ней все постольку, поскольку полагает ее extra causas или extra nihil[30*]. Невозможно ничего понять, если придерживаться чисто эссенциалистской точки зрения, если не видеть, что сама интеллигибельность сущностей (в вещах, а не в нашем духе, где они отделены от вещей) — если не видеть, что сама интеллигибельность сущностей есть определенный способ реализации существования. «Potentia dicitur ad actum»[31*]; познаваемость, или интеллигибельность, сущность понимаются по отношению к существованию. Аналогическая бесконечность существования есть сотворенная партиципация совершенно единой бесконечности Ipsum esse subsistens, аналогическая бесконечность, которая саморазличается сообразно с возможностями существования и по отношению к которой сами эти возможности существования, т. е. сущности, являются познаваемыми, или интеллигибельными. Будучи реальными — т. е. полагаемыми вне состояния простой возможности — благодаря акту существования, они реально отличны от него, подобно тому как возможность реально отлична от превращающего ее в действительность акта, ибо если бы они были своим собственным существованием, то являлись бы Существованием и Интеллигибельностью в чистом акте и уже не были бы сотворенными сущностями.
Таким образом, акт существования есть высший акт. Рассматриваем ли мы его в этой хрупкой травинке или в этом слабом биении нашего сердца, всюду он предстает как акт и совершенство всякой формы и всякого совершенства. «Hoc quod dico esse est actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum»[24] [32*]. «Акт существования есть действительность всякой формы или природы»[25], «он есть действительность всех вещей и даже самих форм»[26]. Акт существования, который не тождественен сущности, лишен определенности и не мог бы быть назван ни актом, ни энергией, ни формой, ни совершенством, если бы эти слова были однозначны и не могли обозначать нечто, возвышающееся над любым порядком сущностей, — акт существования представляет собой то, что есть самого действительного и самого формального, illud quod est maxime formale omnium est ipsum esse[27], ipsum esse est perfectissimum omnium[28] [33*]. Св. Фома был убежден, что живая собака лучше мертвого льва[29], хотя он также полагал, вызывая у некоторых раздражение, что лев (живой) лучше собаки. И он также был убежден, что, возвышаясь над всеми ступенями бытия, extra omne genus respectu totius esse[30][34*], «Бог содержит в себе все совершенство бытия», поскольку он и есть Бытие, или «бытийствующий в себе акт существования»[31]. «Первопричина находится над существующим, или над тем, что обладает бытием (supra ens), не потому, что, как полагали платоники, сущность блага и единства пребывает над бытием, понимаемым как отдельная сущность, а потому, что первопричина есть сам бесконечный акт существования, inquantum est ipsum esse infinitum»[32].
10. Нетрудно было бы показать, что все иные важные специфически томистские тезисы также имеют смысл лишь для мышления, обращенного прежде всего к существованию. Вот почему они всегда будут оспариваться всякой философией, которая не сосредоточена на примате существования.
Так обстоит дело с теорией виртуального различия. Если универсальное имеет основание в вещах, но обнаруживается как таковое лишь в духе, если нет ничего среднего между реальным различием и различием, полагаемым разумом, то это потому, что способ, каким вещи осуществляют акт существования, переносит в чисто идеальное существование все условия существования, которые они приобретают как объекты мысли.
Так обстоит дело с теорией возможности и в особенности с теорией materia prima[35*]. Если возможность ни в коей мере не является проектом действительности или виртуальностью, то мир не является словарем сущностей или идеальных возможностей, по-своему обладающих интеллигибельностью (хотя бы в плане простого проекта, или простой виртуальности), но в вещах есть аспект непрозрачности и совершенной неинтеллигибельности (бремя реальности, не интеллигибельной для себя самой), тем более ощутимый, чем они отдаленнее от чистого акта существования. Если материя абсолютно лишена действительности, формы и определенности, это означает, что она не есть сущность, а являет собой лишь возможность, соотнесенную с сущностью. И если она — не сущность, это значит, что сущность понимается по отношению к акту существования и, таким образом, то, что не составляет само по себе возможность существования, не является сущностью.
Так же обстоит дело с теорией человека как составного сущего. Если духовная и бытийствующая душа является субстанциальной и единственной формой человеческой субстанции и если человек не состоит из двух сопряженных сущностей, как будет утверждать картезианский спиритуализм, к несчастью для современной мысли; если он представляет собой естественное единство — биологическое, чувственное и рациональное, — благодаря актуализации materia prima посредством формы, т. е. духа, то форма (как сущность) сама по себе предполагает связь с существованием (esse per se convenit formae) и должна рассматриваться не только как то, в силу чего субъект обладает в своей сущности теми или иными интеллигибельными определениями, но также и как то, в силу чего он определенным образом создан для существования и получает от своих причин экзистенциальную актуализацию. С эссенциалистской точки зрения разумная душа есть лишь инструмент мысли, а протяженность (или иная материальная форма) есть то, при посредстве чего я обладаю телом. Но с точки зрения экзистенциалистской разумная душа есть то, при посредстве чего существование облекает меня всего целиком, с моим телом и моими чувствами, равно как и с моим мышлением, а также то, при посредстве чего сама первоматерия, которой она придает форму, сохраняет существование.
Точно так же обстоит дело с теорией зла. Если зло, будучи отсутствием или недостаточностью бытия, в то же время не имеет ничего общего с простым уменьшением блага, если оно реально и активно, если у него достаточно могущества для разрушения божественного творения, то оно — не просто лакуна в сущности, но некая лишенность в субъекте, осуществляющем акт существования, рана в бытии, и, действуя не само по себе, а через уничтожаемое им благо, оно тем более активно и сильно, чем глубже уязвляет оно небытием существующий субъект и чем более активное и высокое существование этот субъект осуществляет.
Таким же образом обстоит дело с теорией имманентных актов познания и любви. Никакой анализ, проведенный в терминах сущности, не может объяснить эти акты. Их следует рассматривать в экзистенциальных терминах. Тогда каждый из них окажется типичным способом активного сверхсуществования: познание — нематериальным сверхсуществованием, в котором познающий является или интенционально становится познаваемым; любовь — нематериальным сверхсуществованием, в котором любимый является или становится в любящем принципом тяготения или интенциональной сопричастности, в силу чего любящий внутренне стремится, как к своему собственному бытию, с которым он разлучен, к экзистенциальному единству с любимым и самоотчуждается в реальности любимого[33].
С тем же явлением мы сталкиваемся в теории свободы, понимаемой не как потенциальная, а как активная господствующая недетерминированность и как власть воли над самим детерминирующим ее суждением. Здесь в конечном счете утверждается примат осуществления над обособлением, который возмущает всякую философию чистых сущностей и который имеет смысл лишь постольку, поскольку в неделимый момент, когда воля и интеллект взаимно обусловливают друг друга, волевой акт определенно делает субъекта существующим сообразно с такой-то установкой или расположенностью всего его морального существа, по отношению к которой для него будет приемлемым такое-то благо, и делает определенно действенным такое-то суждение интеллекта, т. е. делает субъекта определенно вторгающимся в существование.
Аналогичным образом обстоит дело в теории божественного влияния в его отношении к человеческой свободе. Если бы божественное влияние определяло человеческую свободу, подобно тому как в мире сущностей координаты определяют направление или перпендикуляр определяет точку на прямой, то мы бы никогда не могли понять, что человеческая воля остается свободной, когда она движима Богом. Но все меняется, если рассматривать дух с точки зрения акта существования, и, напротив, становится понятным, что человеческая свобода не могла бы быть реальной, что та высшая действительность, какой является господствующая недетерминированность и власть воли над детерминирующим ее суждением, не могла бы осуществиться, если бы влияние первопричины не побуждало ее изнутри к реализации в существовании, подобно тому как оно побуждает к экзистенциальному акту все причины сообразно с присущим им способом действия.
В более общем виде ясно, что понятия действующей причины и цели, естественные для здравого смысла, но столь затруднительные для философов и ставшие камнем преткновения для всех великих современных метафизик, которые в конце концов предоставили философиям, подчиненным наукам о явлениях, возможность их отбросить, могут войти в собственно философский контекст и найти здесь оправдание лишь с точки зрения экзистенциального интеллектуализма, подобного тому, что был развит Фомой Аквинским. Ибо никакая чистая сущность никогда не будет причиной и никогда не будет целью. Действующая причинность есть вторжение в существование, что предполагает в сущих стремление экзистенциально преизобиловать. А целевая причинность объясняет это вторжение сущих в существование и направленность свойственного им стремления экзистенциально превосходить самих себя. Вот почему их причинность осуществляется лишь в силу сверхпричинности, благодаря которой их пронизывает действие Первосущего, и в силу сверхцели, благодаря которой они любят обособленное общее Благо больше себя самих и стремятся к нему более изначально и более упорно, нежели к своей собственной специфической цели, даже если они являют собой просто птицу, гребень волны или неживую молекулу.
11. Здесь мы видим один из аспектов томизма, имеющий, на мой взгляд, первостепенное значение. Именно потому, что метафизика св. Фомы сосредоточена не на сущностях, а на существующем, на таинственном фонтанировании акта существования, в котором актуализируются и оформляются, в соответствии с аналогическим многообразием ступеней бытия, все свойства и природы, преломляющие и умножающие в его сотворенных партиципациях трансцендентное единство самостоятельно существующего Бытия, — именно поэтому метафизика св. Фомы постигает бытие как изобильное. Всюду бытие изобильно, оно преизбыточествует дарами и плодами. И это есть действие, в котором все сущие находятся во взаимной коммуникации и благодаря которому под воздействием пронизывающего их божественного импульса они в каждый момент, в этом мире случайного существования и случайностей непредвиденного будущего, становятся лучше или хуже, нежели они сами и простой факт их существования, они обмениваются своими тайнами, совершенствуют или ухудшают друг друга, вместе помогают либо препятствуют плодотворности бытия, вовлекаясь, независимо от их действий, в направляемый божественным провидением поток, из которого не может вырваться ничто.
И над временем, в первом и трансцендентном Источнике именно изобильность божественного существования, изобильность в чистом акте, проявляется в самом Боге, как учит откровение, во множественности божественных Лиц и, как способен познать своими усилиями разум, в том, что само существование Бога есть Интеллект и Любовь, что оно носит свободно-творческий характер. И эта божественная полнота не просто дарует, а дарует самое себя, и для того, чтобы даровать себя способным к ее восприятию душам, она создала мир. Не для себя, а для нас, говорит св. Фома, Бог создал все вещи во славу свою.
Итак, если бытие обильно и само по себе коммуникативно, если оно отдает себя, то оправданна любовь, — и тот эрос, та естественная любовь, которая равновелика бытию и полагает во все вещи, во все ступени бытия неискоренимую и многообразную устремленность; и то побуждение и то желание выйти за пределы самого себя, чтобы жить жизнью любимого, которые неотъемлемы от человеческого существа и которые не в состоянии распознать никакая философия чистых сущностей. Для Спинозы вершина мудрости и человеческого совершенства — в интеллектуальной любви к Богу, т. е. в том, чтобы в качестве беспристрастного наблюдателя принимать всеобщий порядок вещей, не требуя взамен любви, поскольку Бог Спинозы — лишь бытийствующая сущность. Но для св. Фомы Аквинского вершиной мудрости и человеческого совершенства было любить в высшей степени личностное начало всякого существования, т. е., будучи также и прежде всего любимым им самим, открываться полноте его любви, нисходящей на нас и изливаемой нами на других, чтобы продолжать во времени его творение и передавать его благость[34].
Если любовь и устремленность равновелики бытию, если благо есть явление божественности бытия, если все движимо надеждой, если все вещи сталкиваются с существованием и если все они изливают свое бытие в действии, если все вещи стремятся, каждая сообразно своему типу, к бытийствующему Благу, которое бесконечно их превосходит, если во всех вещах бытие и трансцендентальные свойства бытия тяготеют к полноте, невыразимой никаким Именем, полноте, где, сливаясь друг с другом в неосязаемой жизни, они существуют в чистом акте, то все это происходит потому, что существование есть высший акт, и потому, что самодостаточный акт Существования возвышается над всяким порядком сущих, совершенств и существований, которые представляют собой его сотворенные партиципации и согласуются между собой в поле его притяжения, в его побуждающем действии. Очевидно, что философия бытия — это равным образом и философия динамизма бытия. Те, кто на том основании, что для этой философии существуют природы, интеллигибельные структуры и различные ступени бытия, полагают, будто она обладает, как они выражаются, «статической» концепцией реальности, попросту сознаются, что не знают, о чем говорят. Верно храня тайну существования, она тем самым верно хранит тайну действия и движения.
Разумеется, у св. Фомы Аквинского мы не найдем систематического применения идеи развития или эволюции в современном смысле этих слов. Но, с одной стороны, сама эта идея является светоносной и продуктивной только в контексте онтологического анализа реальности; если же она притязает на то, чтобы заменить подобный анализ и самой стать высшим принципом объяснения, то она, как подметил Гёте, лишь оказывает на мысль бесконечно разлагающее влияние, поскольку она не является метафизическим инструментом и не затрагивает аналитическое объяснение бытия: она являет собой исторический инструмент и затрагивает историческое объяснение становления. С другой стороны, конечно же, верно, что история не была сильной стороной Средневековья и что историческое объяснение отсутствовало в науках о природе, с которыми имел дело св. Фома. Это — завоевание современной науки. Но заключать метафизику в пределы истории не значит проявлять историческое чутье, равно как не будет проявлением философского чутья думать, что в метафизике нет ничего, кроме научных образов, которые дали ей возможность в определенную эпоху выразить себя на уровне явлений, но которые никогда не содержали в себе метафизики. В арсенале томизма есть все необходимое, чтобы ввести историческое измерение в познание Природы и Человека; более того, его первичные интуиции, так сказать, ожидают этого, они требуют принять и заставить работать идею развития и эволюции, дополнить opus philosophicum[36*] философией истории.
Глава II Действие
Совершенство человеческой жизни
12. До сих пор мы рассматривали метафизику и спекулятивную философию. Я сказал, что томизм — это экзистенциальный интеллектуализм. И именно это, так же как и главенство спекулятивного в этой философии, иллюстрирует ее существенное отличие от современного экзистенциализма, равно как и от всякой философии, которая отрекается от собственного имени, отрекаясь от умозрения в пользу действия и смешивая знание с властью.
Если дело касается практической философии, или этики, экзистенциализм св. Фомы и здесь сохраняет тот же интеллектуалистский характер, в том смысле, что практическая философия остается для него спекулятивной по своему типу (это — философия), хотя она и является практической по своему объекту (моральное поведение). Здесь также присутствуют природы, подлежащие познанию, которые на сей раз послужат для конституирования норм поведения, поскольку познание осуществляется ради ориентации действия. Однако в ином смысле нужно сказать, что при переходе в область этики этот экзистенциализм становится волюнтаристическим, если учитывать, сколь существенную роль он признает за волей, которая только и делает человека попросту добрым или злым, и в какую зависимость от актуального стремления субъекта к своим целям он ставит практическое суждение.
И как раз потому, что в этике, или практической философии, томистский экзистенциализм обращен теперь уже не на существование, осуществляемое вещами, а на акт, вызываемый в существовании свободой субъекта, различия в метафизической точке зрения, какими бы глубокими они ни были, отнюдь не исключают определенных связей между этим экзистенциализмом и экзистенциализмом современным. По существу, именно в сфере моральной философии этот последний, как мне представляется, развивает воззрения, наиболее достойные внимания. Совершенно неверно понимая свободу, он, однако, обладает подлинным чувством свободы и неотъемлемо ей присущей трансцендентности по отношению к конкретным проявлениям и возможностям сущности, даже если они принадлежат «глубинному Я»[35]. Он чувствует в определенном смысле творческое значение морального акта, и различные степени его глубины, и абсолютную, несводимую ко всей цепи предшествующих событий и причин, единичность того мгновения, когда через осуществление своей свободы субъект открывается самому себе и оказывается вовлеченным (s'engage) (увы, я не могу избежать этого слова, но уже то, каким образом его превратили в общее место, свидетельствует о понимании его значимости). Если бы все это не перечеркивалось принятием абсурда и изгнанием природы и forma rationis[37*], а также всякого объекта, причинности и цели, тут содержались бы предпосылки для моральной философии и для философии свободы.
Что же касается глубинно экзистенциального характера томистской этики[36], то я удовольствуюсь напоминанием о двух хорошо известных и весьма значимых положениях доктрины.
Первое относится к совершенству человеческой жизни. Св. Фома учит, что совершенство состоит в любви милосердия и что каждый должен стремиться к совершенству любви сообразно со своим положением постольку, поскольку он любит. Всякая мораль, таким образом, связана с тем, что наиболее экзистенциально в мире. Ибо любовь — и это является другой томистской темой — направлена не на возможности и не на чистые сущности: она направлена на существующее, любят не возможное, а то, что существует или предназначено к существованию. И в конечном счете именно потому, что Бог есть самостоятельный акт Существования в стихии всех совершенств, любовь к лучшему, нежели любое благо, есть то, в чем человек достигает совершенства своего бытия. Это совершенство не состоит в соединении с сущностью благодаря высшей точности копирования идеала. Оно состоит в том, чтобы любить, невзирая на все непредвиденное и опасное, темное, трудное, безрассудное в любви, оно состоит в полноте и тонкости диалога и единения личности с личностью, вплоть до преображения, которое, как говорил св. Хуан де ла Крус[38*], делает человека богом через сопричастность: «две природы в едином духе и любви», в едином духовном сверхсуществовании любви.
Моральное суждение
13. Второе положение доктрины, определяющее, в частности, всю теорию добродетели практической мудрости, касается суждения морального сознания и того, каким образом в глубине конкретного существования желание вмешивается в регуляцию морального акта посредством разума. Тут св. Фома устанавливает зависимость правоты интеллекта от правоты воли, обусловленную теперь уже не спекулятивной, а практической экзистенциальностью морального суждения. Истина практического интеллекта понимается в общем уже не как соответствие внешнему по отношению к сознанию бытию, а как соответствие подобающему желанию, поскольку цель теперь не в том, чтобы познать сущее, а в том, чтобы вызвать к существованию еще не сущее. Более того, акт морального выбора столь индивидуализирован (одновременно в силу индивидуальности личности, от которой он исходит, и в силу конкретной совокупности случайных обстоятельств, в которых он совершается), что выражающее его практическое суждение, в котором я говорю себе: «Вот что мне нужно делать», может быть правильным, только если в настоящее время, hiс et nunc, динамика моего желания правильна и обращена к подлинным благам человеческой жизни.
Вот почему практическая мудрость, prudentia, с необходимостью является одновременно моральной и интеллектуальной добродетелью и, подобно самому суждению нравственного порядка, не может быть замещена никаким теоретическим или научным знанием.
Никогда одно и то же моральное событие не повторяется в мире дважды; строго говоря, никогда не бывает прецедента, каждый раз я готов произвести нечто новое, ввести в существование единственный в мире акт, который должен соответствовать моральному закону по типу и условиям, принадлежащим только мне и ранее не наблюдавшимся. Бесполезно перелистывать словарь моральных прецедентов! Моральные трактаты, конечно, ознакомят меня со всеобщим правилом или всеобщими правилами, которые мне надлежит применять, но они не скажут мне, каким образом я как единственное и неповторимое существо должен применить их в той конкретной обстановке, в какой я нахожусь. Никакое, сколь угодно совершенное, дотошное и детальное познание моральных сущностей, сколь бы индивидуализированными они ни были (они остаются всегда общими), никакая казуистика, никакая последовательность чисто дедуктивных заключений, никакое знание не могут освободить меня от морального суждения и, если я обладаю какой-либо добродетелью, от осуществления добродетели практической мудрости, в которой правота моей воли должна определять правильность моего видения. В практическом силлогизме большая посылка, формулирующая всеобщее правило, обращается только к интеллекту, но меньшая посылка и заключение варьируются — их избирает целостный субъект, чей интеллект направлен к экзистенциальным целям, которым в силу самой его свободы актуально подчинены его желания[37].
Существуют объективные нормы морали, существуют обязанности и правила, поскольку формальная составляющая человеческой морали — это мерило разума. Но я их применяю, и применяю надлежащим образом, только если они воплощены в целях, актуально привлекающих мое желание, и в действительном побуждении моей воли. Во многих случаях человек сталкивается с простыми правилами (например, воспрещающими человекоубийство или супружескую измену), которые не ставят никакой моральной проблемы, кроме проблемы следования им на практике. Чтобы человек следовал им, необходимо, чтобы в момент искушения они не просто звучали у него в голове как всеобщие правила, достаточные для его осуждения, но не способные побудить его к действию, — надо, чтобы он признал в них, через своего рода болезненное органическое врастание и рефлексию над самим собой, требование своего самого индивидуализированного, самого личностного желания, требование тех целей, на которые направлена его жизнь. Иначе он «не сотворит благо, которое он любит» (которое он любит недейственно, лишь постольку, поскольку считает, что оно само по себе является благим) и «содеет зло, которого не желает» (которого он не желает в качестве зла, но которое он в данный момент воспринимает как свое благо). Однако во многих других случаях, собственно говоря, образующих ткань нашей моральной жизни, человек сталкивается с множеством вступающих в конфликт долженствований и многообразием правил, которые пересекаются друг с другом в конкретных обстоятельствах, так что встает проблема: что же я действительно должен делать? Именно тут ему следует прибегнуть к regulae arbitrariae[39*] практической мудрости, к тем правилам, которые не просто учитывают все объективные частные обстоятельства, но становятся решающими только в силу основных влечений субъекта (предположительно правильных) и наклонностей его добродетелей.
14. Нам преподносят как некое открытие, что в самых глубоких и свободных — и в самых мудрых — актах морального выбора главную роль играют не мотивы, над которыми размышляет разум, а непредвиденный, часто обескураживающий для ума самого субъекта порыв непостижимой субъективности. Но как же может быть иначе, если моральное суждение должно учитывать, в момент его свободного вынесения, все то реально не познанное, что несет в себе субъект, его скрытые возможности, его глубинные устремления, прочность или хрупкость его моральной субстанции, его моральные добродетели, если таковые имеются, неясный зов его предназначения? Все это невыразимо для него, неизвестно ему в понятиях разума, но смутный инстинкт самопостижения и (если у него есть добродетели) его добродетель практической мудрости неосознанно постигают их, сообразно не поддающемуся описанию способу познания через сопричастность (connaturalite). И эти элементы оценки, невыразимые в понятиях, наиболее значимы для практической правильности решения, которое он примет, когда его воля сделает определенно действенным тот или иной объективный мотив, жизненно соотнесенный со всем его внутренним миром. Таким образом, самое свободное решение может иногда явиться под видом фатальности, хотя оно и обусловлено действительно свободным выбором, самое мудрое практическое решение порой может показаться иррациональным и необъяснимым, ибо его основания скрыты в субстанции субъекта. И когда мы позднее вспомним о нем, то, отделяя его от действительного, хотя и неуловимого для понятий, света, которым оно было окружено, мы, возможно, будем ретроспективно сомневаться в его практической мудрости и даже в его свободном характере.
В сфере моральных проблем, где необходимо примирять противоположные друг другу обязанности и добродетели, мы делаем выбор не только между добром и злом, но также (и даже чаще всего) между хорошим и лучшим. Именно тогда мы вступаем в область глубочайших таинств моральной жизни и в то же время индивидуальность морального акта достигает наивысшей степени. Св. Фома учит, что мера даров Святого Духа выше, нежели мера моральных добродетелей, мера дара верного решения выше меры практической мудрости. Святые всегда удивляют нас. Их добродетели более свободны, нежели добродетели просто добродетельного человека. Порой даже во внешне схожих обстоятельствах они поступают совсем не так, как он. Они снисходительны там, где он был бы суров, строги там, где он бы был снисходителен. Когда одна святая покидает своих детей или подвергает их искушению возмущения ради принятия религии, а другая попускает убить своего брата у врат монастыря, дабы не нарушить обета; когда один святой является к епископу нагим из любви к бедности, другой избирает нищенство и отталкивает людей кишащими на нем паразитами, третий оставляет государственные дела и становится каторжником из сострадания к пленникам, а четвертый предпочитает подвергнуться несправедливому осуждению, нежели защитить себя от бесчестных обвинений, — они превышают меру. Что это означает? У них другая мера, но она подходит лишь для каждого из них. Если эта мера превосходит мерило разума, то измеряемое ею действие совершеннее того, что измеряется простыми моральными добродетелями, не вследствие своего объекта как такового, а вследствие внутреннего импульса, получаемого ими от Духа Божиего в глубинах своей непередаваемой субъективности и направленного, независимо от меры разума, к высшему, распознаваемому ими одними благу, о котором они призваны свидетельствовать. Вот почему не было бы никакой святости, если бы мир лишили всего, выходящего за рамки принятого, и всего того, что разум считает бессмысленным. И поэтому когда о таких действиях говорят, что они удивительны и неподражаемы, то высказывают нечто более глубокое, чем полагают: они необобщаемы, они неуниверсализируемы. Они являются благими, они — наилучшие из всех моральных актов, и они хороши лишь для тех, кто их совершает. Таким образом, мы далеки от кантовского универсализма и от нравственности, определяемой возможностью возвести максиму некоторого действия в закон, значимый для всех людей.
15. Великой ошибкой Кьеркегора, при всех его великих интуициях, было разделение и противопоставление в качестве двух разнородных миров мира всеобщности, или универсального закона, и мира единичного, не находящего оправдания у человеческого разума свидетельства, данного «рыцарем веры». В таком случае ему следовало пожертвовать этикой или же по крайней мере «отстраниться» от нее. В реальности эти два мира взаимосвязаны, оба они входят в универсум этики, который подразделяется на специфически различные области сообразно степени глубины моральной жизни: от этики животного человека до этики духовного человека и духовного начала (pneuma), от самой поверхностной области, где моральная жизнь едва моральна, едва интегрирована сознанием и состоит во внешнем соответствии с общественным мнением, с правилами и табу социальной группы, до предельных глубин, сокрытых в божественной жизни, где нравственная жизнь всецело моральна и интегрирована сознанием — сознанием того spiritualis homo[40*], который судит обо всех вещах и не судим никем[38]. Не только такой трагический герой, как Агамемнон, но и Авраам, лично приносящий в жертву Исаака, все еще принадлежит к универсуму этики. Авраам, затронутый в глубине сердца повелением самого Бога и раздирающим его противоречием, подчинился и всеобщему закону, первому закону из всех: «Ты будешь почитать непостижимого Бога и будешь ему повиноваться». И Авраам смутно знал — не из трактатов по нравственному богословию, а по внушению Святого Духа, — что умерщвление сына не подпадало под закон, воспрещающий человекоубийство, ибо таково было повеление Господа жизни[39].
С другой стороны, если этическое поведение уже перестало быть просто сном наяву, определяемым страхом социальных санкций или желанием оправдать себя перед другими, если человек действительно переступил порог моральной жизни, всеобщий закон, как мы отметили, жизненно интериоризирован, укоренен, экзистенциализирован в динамизме индивидуального субъекта, устремленного к целям, которые обладают для него первостепенной значимостью. Даже когда человек повинуется закону как раб, поскольку желает сделать зло, но одновременно боится преисподней и гнева Божиего, то не просто логическое подведение частного случая под общий закон, анонимного действия, предполагающего какого-то неопределенного субъекта, под правило, которое выражает то, что должен делать каждый человек, а сам его страх, страх, осаждающий его сознание и заставляющий его содрогаться при мысли об опасности погубить свою душу, подавляет, под законом, его злую волю и заставляет его отождествлять свое уникальное, драгоценное Я, мятущееся и непокорное Я того человека, каким он является, со всяким человеком, подчиненным всеобщему предписанию.
Когда человек повинуется закону, будучи ему привержен, ибо, желая прежде всего справедливости, он не желает того дурного поступка, который сегодня составляет для него искушение и который запрещен законом, то именно его собственное желание, более глубинное и сильное, чем соблазн, именно его стремление к целям, поставленным им перед собою в первую очередь, согласует с законом его волю, остающуюся волей к добру, и заставляет его отождествлять свое Я со всяким человеком, подчиненным всеобщему предписанию.
Когда же он повинуется закону как друг закона, ибо Дух Божий делает его единым духом и любовью с Началом закона, и, сам по себе поступая так, как предписывает закон, более не находится под законом, то сама его высшая и теперь уже в высшей степени свободная любовь к Богу и Единству заставляет его следовать закону, ставшему его собственным законом, ставшему его личностным призывом, доносящим до него слово Того, кого он любит, — закону, по отношению к которому он является уже не Я, подлежащим отождествлению со всяким человеком, а самим этим человеком, тем человеком, названным его именем, к кому обращен этот закон, в его полном одиночестве пред Богом.
Когда св. Фома учит нас, что дары Святого Духа даны всем, так как они необходимы для спасения, он открывает нам тем самым, что в определенные моменты и в определенных глубинах этического универсума каждый из нас может быть вынужден совершить жертву Авраама и превзойти меру разума, не будучи поставленным при этом в исключительную ситуацию, как Авраам, и не познав такого же величия. И когда он нас учит, в отношении этического универсума в его целостности и касательно жизни практического разума и простых моральных добродетелей, что не может быть осуществления добродетелей без личностного суждения практической мудрости и, в более широком плане, что не бывает моральной жизни без личностных суждений нравственного порядка, то этим он говорит нам, что в каждом подлинно моральном акте человек для применения закона и применяя закон должен воплотить и постичь всеобщее в своем собственном единичном существовании, оставаясь одиноким перед лицом Бога.
Что же до наших современных атеистических экзистенциалистов, то они жертвуют вместе со всякой сущностью этически всеобщим, жертвуют с удовольствием варваров, не ведая, что творят, а не так, как Кьеркегор — с тоской и болью, понимая его ценность. В действительности они, кажется, считают, что если бы существовала система моральных правил, то она должна была бы сама по себе автоматически применяться к частным случаям, откуда следовало бы, что всякая мораль ущербна, поскольку для молодого человека, колеблющегося относительно того, следует ли, разбивая сердце матери, присоединиться к генералу де Голлю, должно быть достаточно заглянуть в словарь ее предписаний, дабы знать, что делать, но, однако же, это не так. Короче говоря, они воображают, будто мораль избавляет от морального сознания, и заменяют своими золотыми правилами этот подвижный и тонкий орган, который столь дорого стоит, и его непреложно индивидуальное суждение, так же как и непреложно личностное и несводимое ни к какому роду знания суждение практической мудрости, которое дается еще труднее. Они подменяют все это расщелиной Пифии, поскольку они изгнали разум и усматривают формальное содержание морали в одной чистой свободе. Пусть озадаченный молодой человек приложит ухо к этой расщелине, чтобы сама его свобода подсказала ему, как ею распорядиться.
И, главное, не следует давать ему советы! Даже самый незначительный совет несет с собой риск подавить его свободу, помешать доброму змею выползти из расщелины. Свобода этих философов свободы исключительно хрупка. Лишая ее связи с разумом, они истощают ее саму. Что до нас, то мы не считаем, что советы опасны для человеческой свободы. Пичкайте ее советами сколько вздумается — мы знаем, что у нее достаточно силы их переварить и что она живет рациональными мотивациями, которые сама направляет, как ей угодно, и которые только она делает эффективными. В конечном счете, устраняя общее и универсальный закон, устраняют и свободу, оставляя лишь ее видимость — нечто бесформенное, возникающее из мрака. Ибо, устраняя общее и универсальный закон, устраняют разум, в котором коренится всякая свобода[40] и из которого в человеке исходит столь великое желание, что его не могут в достаточной мере детерминировать никакой мотив и никакая объективная потребность, кроме Блаженства, увиденного воочию[41].
Глава III Существующее
Субъект (suppositum)
16. Я говорил об экзистенциальном — практически-экзистенциальном — характере морального суждения, истинность которого измеряется верно ориентированным волевым динамизмом субъекта. Теперь дадим некоторые разъяснения относительно самого понятия «субъект» и того места, которое оно занимает в целостном видении философии томизма. В силу именно экзистенциализма (экзистенциалистского интеллектуализма) этой философии понятие «субъект» играет в ней важнейшую роль, и мы можем даже сказать, что субъекты занимают все пространство томистского универсума, в том смысле что для томизма существуют только субъекты с присущими им акциденциями, исходящей от них деятельностью и теми отношениями, которые устанавливаются между ними; только единичные субъекты осуществляют акт существования.
То, что мы называем субъектом, Фома Аквинский называл основанием (suppositum). Сущность есть то, что представляет собой вещь; основание есть то, что обладает сущностью, то, что осуществляет существование и действие, — actiones sunt suppositorum[43*], — то, что бытийствует. Здесь мы имеем дело с метафизическим понятием, вызывающим головную боль у стольких студентов и озадачивающим всех, кто не понял подлинной — экзистенциальной — основы томистской метафизики: понятием бытийствования[44*].
Мы должны говорить о понятии бытийствования весьма уважительно не только в связи с его трансцендентным применением в теологии, но и потому, что в рамках самой философии оно свидетельствует о высшем напряжении артикулированной мысли, пытающейся интеллектуально «уловить» нечто ускользающее из мира понятий или идей разума — специфическую реальность субъекта. Экзистенциальный субъект родствен акту существования в том, что оба они превосходят понятие или идею как предел первой операции духа, простого восприятия. Я попытался показать в предыдущем разделе, как интеллект, поскольку он охватывает себя, фиксирует в первой из своих идей именно акт существования, составляющий интеллигибельное или, вернее, сверхинтеллигибельное содержание, присущее суждению, а не простому восприятию. Теперь же мы обращаемся не к акту существования, а к тому, что осуществляет этот акт. Так же как в языке нет ничего более привычного, чем слово «быть» — и это величайшая тайна философии, — нет ничего более обычного, нежели понятие «субъект», которому во всех наших суждениях мы приписываем предикат. И когда мы предпринимаем метафизический анализ реальности этого субъекта, этой индивидуальной вещи, которая удерживается в существовании, этой в высшей степени конкретной реальности, и стараемся отдать должное ее несводимой оригинальности, мы должны обратиться к наиболее абстрактным и разработанным понятиям нашей лексики. Неудивительно, что умы, стремящиеся к легкому решению проблем, принимают за пустые схоластические тонкости и головоломки пояснения, с помощью которых Каетан и Хуан де Санто-Томас демонстрируют нам отличие бытийствования как от сущности, так и от существования и описывают его в качестве субстанциального модуса. Я согласен, что стиль их рассуждений кажется уводящим нас очень далеко от опыта, на «третье небо абстракции». И тем не менее в действительности их цель заключалась в том, чтобы выработать объективное понятие субъекта или основания, объективно выявить — путем онтологического анализа структуры реальности — те свойства, благодаря которым субъект является субъектом, а не объектом и трансцендирует или, точнее, превосходит по глубине весь универсум объектов.
Когда они объясняют нам, что сущность или природа не может существовать вне ума именно как объект мысли и тем не менее индивидуальная природа существует и, следовательно, чтобы существовать, она должна быть чем-то иным, нежели объект мысли, она должна нести в себе некую высшую законченность, которая ничего не добавляет к ней в сфере сущности (и соответственно ничем новым, что ее характеризует, не обогащает наше понимание), но ограничивает ее самой этой сферой, замыкает ее или определяет ее место, конституирует ее в качестве некоего в себе или в качестве чего-то внутреннего по отношению к существованию, с тем чтобы она могла сделать своим этот акт существования, для которого она сотворена и который превосходит ее[42], когда они объясняют нам таким образом, в силу чего, в плане реальности quod[46*], существующее и действующее есть нечто отличное от quid[47*], которое мы мыслим, они тем самым подтверждают экзистенциальный характер метафизики, разрушают платоновский мир чистых объектов, оправдывают переход в мир субъектов, или оснований, спасают для метафизического интеллекта ценность и реальность субъектов.
17. Бог не творит сущностей, которым бы он придавал окончательный вид бытийствующих, чтобы затем заставить их существовать! Бог творит существующие субъекты, или основания, бытийствующие в своей индивидуальной природе, которая их конституирует, и получающие от творческого импульса свою природу, а также собственное бытийствование, существование и активность. Каждый из этих субъектов обладает сущностью и выражает себя в действии, каждый из них в реальности своего индивидуального существования представляет для нас неисчерпаемый источник знания. Мы никогда не узнаем всего про мельчайшую травинку или водоворот в стремительном ручье. В мире существования есть лишь субъекты, или основания, и то, что приходит от них в бытие. Вот почему этот мир есть мир природы и превратностей, мир, в котором происходят случайные и внезапные события и в котором течение событий податливо и изменчиво, в то время как законы сущностного порядка необходимы. Мы познаем субъекты, и мы никогда до конца их не познаем. Мы не познаем их в качестве субъектов, мы их познаем только объективируя, занимая по отношению к ним объективную позицию, превращая их в объекты, поскольку объект есть не что иное, как нечто в субъекте, переведенном в состояние нематериального существования актуального мышления. Мы познаем субъекты не как субъекты, а как объекты, следовательно, только в тех или иных аспектах или, скорее, интеллигибельных приближениях (inspects) и интеллигибельной перспективе, в которых они представлены разуму и которые мы никогда до конца не раскроем в них.
В движении по лестнице бытия к более высоким его ступеням мы имеем дело с субъектами существования, с основаниями, все более и более богатыми в своей внутренней сложности; их индивидуальность все более и более концентрирована и интегрирована, их действие демонстрирует все более и более совершенную спонтанность: от простой транзитивной активности неодушевленных тел к скрыто имманентной активности растительной жизни, к явно имманентной активности чувственной жизни и совершенно имманентной активности жизни интеллекта[43]. На этой последней ступени преодолевается порог свободы выбора и одновременно порог собственно независимости (при всем ее несовершенстве) и личности: с появлением человека свобода спонтанности становится свободой автономии, suppositum становится persona — целым, которое бытийствует и существует в силу самого бытийствования и существования своей духовной души, само полагает себе цели, является самостоятельным универсумом, микрокосмом, который, несмотря на постоянную угрозу своему существованию в глубинах материального универсума, обладает большей онтологической плотностью, нежели весь этот универсум. Только личность свободна, только у нее одной есть в полном смысле слова внутренний мир и субъективность, поскольку она сама в себе содержится и развивается. Личность, по словам Фомы Аквинского, есть наиболее благородное и возвышенное во всей природе.
* * *
Субъективность как субъективность
18. Благодаря чувственности и опыту, науке и философии каждый из нас, как я уже сказал, познает в качестве объектов мир субъектов, оснований и личностей, в котором он пребывает. Парадокс сознания и личности в том, что каждый из нас находится как раз посреди этого мира, каждый представляет собой центр бесконечности. И этот привилегированный субъект, мыслящее Я, является самому себе не как объект, а как субъект; среди всех субъектов, известных ему в качестве объектов, он единственный выступает субъектом как таковым. Перед нами, таким образом, субъективность как субъективность.
Я знаю себя в качестве субъекта благодаря сознанию и рефлексии, но моя субстанция сокрыта от меня. Фома Аквинский объясняет, что в спонтанной рефлексии, являющейся преимуществом интеллектуальной жизни, каждый из нас обладает знанием (не научным, но опытным и непередаваемым) о существовании своей души, о единичном существовании этой субъективности, которая ощущает, страдает, любит и мыслит. И когда человек пробуждается к интуиции бытия, он в то же самое время пробуждается к интуиции субъективности; он постигает в неугасающем озарении, что он есть некое Я, как сказал Жан-Поль Сартр. Сила подобного ощущения может быть столь велика, что оно поведет его к той героической аскезе пустоты и уничтожения, благодаря которой экстатически постигается субстанциальное существование Я и одновременно присутствие необъятного божественного Я, что, на мой взгляд, характерно для естественной мистики Индии[44].
Но интуиция субъективности — это интуиция экзистенциальная, которая не открывает никакой сущности. То, что мы из себя представляем, известно нам через наши явления, наши действия и поток сознания. Чем более мы осваиваемся с внутренней жизнью, чем лучше распознаем удивительную текучую множественность, которая нам таким образом открывается, тем более мы чувствуем, что нам остается неизвестна сущность нашего Я. Субъективность как субъективность неконцептуализируема, она являет собою неисследимую бездну, недоступную идее, понятию или образу, любому типу науки, интроспекции, психологии или философии. Да и как может быть иначе, если учесть, что любая реальность, познаваемая с помощью понятий, идей или образов, постигается в качестве объекта, а не субъекта? Субъективность как таковая, по сути, ускользает из области того, что мы знаем о самих себе через идеи.
19. Тем не менее она познается определенным способом или, вернее, определенными способами, которые я хотел бы вкратце перечислить. Во-первых, субъективность познаваема или, скорее, ощущаема благодаря бесформенному и рассеянному знанию, которое по отношению к рефлективному сознанию можно назвать бессознательным или предсознательным знанием. Это знание принадлежит к сфере «сопутствующего», или спонтанного, сознания, которое, не пробуждая ясного акта мысли, фактически охватывает in actu exercito наш внутренний мир в той мере, в какой он включен в жизненную активность наших духовных способностей[45]. Даже в отношении самых поверхностных людей справедливо, что начиная с момента, когда они произносят «я» все развертывание их состояний сознания и действий, их мечты воспоминания и поступки поддерживаются виртуальным и невыразимым знанием, экзистенциальным и жизненным знанием тотальности, имманентной каждой из ее частей, и окутаны — помимо их сознания — рассеянным сиянием, необыкновенной свежестью, материнским пониманием и сочувствием, исходящими от субъективности. Субъективность непознаваема; она ощущается как благотворная всеохватывающая ночь.
Во-вторых, существует познание субъективности как таковой — конечно же, несовершенное и фрагментарное, но в этом случае оформленное и актуально данное разуму, — которое относится к тому, что Фома Аквинский называет познанием через склонность, симпатию или сопричастность, а не через познавательную деятельность. Оно является нам в трех специфически различных формах: как практическое познание, когда о явлениях морали и самом субъекте судят по его внутренней склонности, о чем я говорил раньше в связи с моральным сознанием и практической мудростью; как поэтическое познание, когда сущее в мире и субъективность познаются совместно в творческой интуиции-эмоции и нераздельно выявляются и выражаются не в слове, а в созданном произведении[46]; как мистическое познание, которое направлено не на субъект, а на божественное и которое не получает какого-либо выражения, но в котором Бог познаваем через единение и сопричастность в любви, а сама любовь, ставшая формальным средством познания божественного Я, одновременно делает человеческое Я прозрачным в его духовных глубинах: дайте мистику минуту саморефлексии, и св. Тереза и св. Хуан де ла Крус покажут вам, в какой степени божественный свет наделяет их ясным и неисчерпаемым знанием собственной субъективности.
Но ни в одном из этих случаев познание субъективности как субъективности, каким бы реальным оно ни было, не есть познание по типу познания, т. е. по типу концептуальной объективации.
20. Ни в одном из приведенных случаев мы не имеем дела с философским познанием; мы впадем в противоречие, если попытаемся создать на этом материале философию, поскольку любая философия так или иначе оперирует понятиями. Это первый, принципиально важный момент, привлекающий наше внимание при рассмотрении субъективности как субъективности. Он определяет границу, отделяющую мир философии от мира религии; именно это глубоко чувствовал Кьеркегор, полемизируя с Гегелем. Непреодолимое препятствие, на Которое наталкивается философия, состоит в том, что она, конечно, познает субъекты, но познает их как объекты, всецело вписываясь в отношение интеллекта к объекту, в то время как религия входит в отношение субъекта к субъекту. Вот почему всякая философская религия или философия, которая, подобно гегелевской, претендует на поглощение и интеграцию религии, в конечном счете представляет собой мистификацию.
Когда философия, исходящая из бытия вещей, постигла Бога как причину бытия, она благодаря ананоэтическому знанию[47] сделала своим объектом божественное Я, выразив его в понятиях, которые не ограничивают данную в них высшую реальность, а, напротив, бесконечно превосходятся ею. Но одновременно она знает или должна знать, что объективируемая ею таким образом «в виде загадки и как бы в зеркале» реальность есть реальность трансцендентного Я, непроницаемого в его бытии и благодати, свободе и славе, которому все другие мыслящие Я, познающие его, сразу же должны отдать долг повиновения и преклонения. Св. апостол Павел порицал языческую мудрость за непризнание этой божественной славы, хотя она и знала ее. Ибо в действительности признать ее уже означает благоговеть перед нею. Одно дело — знать Бога как трансцендентное высшее Я и совсем другое — самому со всеми своими познаниями, со своим существованием, со своей плотью и кровью вступить в живую связь, в которой сотворенная субъективность сталкивается лицом к лицу с трансцендентной субъективностью и, трепеща и любя, ищет в ней спасения. Этим занимается религия.
Религия по существу является тем, чем никакая философия быть не может: отношением личности к личности со всем заключенным в нем риском, тайной, страхом, доверием, восхищением и томлением. И само это отношение субъекта к субъекту[48]требует, чтобы в знании о несотворенной субъективности, которым обладает субъективность сотворенная, последняя сохраняла нечто от нее как субъективности, или тайны личностной жизни. Отсюда следует, что всякое религиозное познание содержит в себе элемент откровения; поэтому в истинной вере именно первая Истина, воплощенная в Личности, открывает человеку тайну божественной субъективности: unigenitus films, qui est in sinu patris, ipse enarravit[49] [49*] Это знание еще дано «в виде загадки и как бы в зеркале», и здесь божественная субъективность еще объективируется, с тем чтобы стать нам доступной. Но теперь объективация осуществляется в зеркале сверханалогии веры[50], в понятиях, которые избраны самим Богом как способ рассказать нам о себе, — до того предела, когда последнее зеркало исчезает и мы познаем, так же как познаны мы сами. Тогда раскрывается божественная субъективность как таковая в видении, в котором божественная сущность сама актуализирует наш интеллект, чтобы заставить нас восхищаться ею. И, в ожидании такого состояния, сопричастность в любви дает нам в апофатическом созерцании несовершенную замену и неясное предчувствие такого единения.
21. В целом ситуация привилегированного субъекта, познающего себя как субъект в отношении всех иных субъектов, постигаемых в виде объектов, ситуация Я, этого мыслящего тростника среди себе подобных, ставит особую проблему. Каждый из нас может сказать вместе с Сомерсетом Моэмом: «То myself I am the most important person in the world; though I do not forget that, not even taking into consideration so grand a conception as the Absolute, but from the standpoint of common sense, I am of no consequence whatever. It would have made small difference to the universe if I had never existed»[51]. Это очень простое замечание, но у него весьма далеко идущие следствия.
Будучи для Я единственным субъектом как таковым среди других субъектов мира, которые открываются моим чувствам и моему интеллекту только в качестве объектов, я нахожусь в центре мироздания, как мы только что заметили. Относительно моей актуальной субъективности я являюсь центром мира, «самой значительной личностью на свете»; моя судьба — самая важная среди других судеб; при всей своей ничтожности я более интересен, чем все святые. Существую я — и существуют все остальные, и, что бы ни случилось с другими, это всего лишь деталь картины, но то, что происходит со мною как таковым, и то, что я должен делать, имеет абсолютную значимость.
И тем не менее, если говорить о мире как таковом и с наиболее естественной «точки зрения здравого смысла», я прекрасно знаю, что «ровно ничего не значу» и «мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал». Я прекрасно знаю, что подобен всем другим, я не лучше других и стою не больше, чем они; я — лишь маленький завиток пены на гребне волны, в мгновение ока уходящей в безбрежность природы и человечества.
Эти два образа — меня и моего положения по отношению к другим субъектам — не могут слиться воедино, эти две перспективы не могут совпасть. Я колеблюсь между ними, находясь в довольно жалком состоянии. Если я увлекусь перспективой субъективности, то впитаю все в себя и, жертвуя всем во имя своей уникальности, приду к абсолютному эгоизму и гордыне. Если меня увлечет перспектива объективности, я буду поглощен всем и, растворясь в мире, изменю своей уникальности и покорюсь судьбе. Эта антиномия разрешается только свыше. Если существует Бог, тогда не я, а он — центр всего, и теперь уже не по отношению к какой-то определенной перспективе, где каждая сотворенная субъективность предстает центром постигаемого ею универсума, но в абсолютном смысле, предполагающем трансцендентную субъективность, с которой соотнесены все субъективности. Теперь я могу знать одновременно и то, что я не имею значимости, и то, что моя судьба — это самое значимое, — знать это, не впадая в гордыню и не изменяя своей уникальности, ибо, любя божественный Субъект больше, чем себя самого, я люблю себя для него и, исполняя его волю, я главным образом для него хочу повиноваться своей судьбе; ибо, не имея значимости в мире, я значим для него, и не только я, но и все другие субъективности, чья способность к любви выявляется в нем и для него; отныне они едины со мной, и мы призваны наслаждаться его жизнью.
22. Я известен другим людям. Они знают меня в качестве объекта, а не субъекта. Они игнорируют мою субъективность как таковую: им неведома не только ее неисчерпаемая глубина, но и наличие целостности в каждом из ее действий, та экзистенциальная сложность внутренних обстоятельств, природных данных, свободного выбора, привязанностей, слабостей, возможных достоинств, любви и страданий, та атмосфера внутренней жизни, которая только и придает смысл каждому из моих действий. Быть познаваемым в качестве объекта, быть известным другим, видеть себя глазами ближнего (здесь г-н Сартр прав) означает быть отторгнутым от самого себя и пораженным в своей самотождественности. Это означает всегда быть неверно понятым, независимо от того, порицает ли являемый другим он наше Я или, напротив, что случается реже, воздает ему должное. Судилище оказывается маскарадом, где обвиняемого наряжают в его собственный шутовской костюм, чтобы взвешивать его действия. Чем больше судьи отходят от грубых внешних критериев, которые их некогда удовлетворяли, чем больше они стараются учесть степени внутренней ответственности, тем скорее они убеждаются, что правда о подсудимом остается не познанной человеческим правосудием. Допрошенный таким судом, Иисус должен был бы безмолвствовать.
Я ведом Богу. Он знает все обо мне как о субъекте. Я являюсь ему в самой моей субъективности, и ему нет нужды объективировать меня с целью познания. Итак, в этом уникальном акте человек познается не как объект, но как субъект во всей глубине и со всеми тайнами его субъективности. Только Богу я известен в таком виде, и только ему я являюсь открытым. Я не открыт самому себе. Чем более я познаю мою субъективность, тем более неясной она для меня остается. Если бы меня не знал Бог, я был бы никому неведом, никто бы не знал меня в моей истине, в моем существовании для себя; никто не знал бы меня, меня как субъекта.
Это означает, что никто не воздал бы должного моему бытию[52]. Нигде мне не воздалось бы должное; мое существование было бы погружено в неверное знание обо мне всех других и мира, а также в мое самонепонимание. Но если не существует справедливости по отношению к моему бытию, никакая надежда для меня невозможна. Если человек неведом Богу и если у него есть глубокий опыт своего личного существования и своей субъективности, тогда у него есть также опыт безысходного одиночества; и страстное желание смерти, более того, стремление к полному уничтожению является единственным источником, фонтанирующим в нем.
Наконец, знать, что я ведом в качестве субъекта во всех измерениях моего бытия, означает не только знать, что моя истина ведома и что в этом ведении мне воздана справедливость. Это означает также знать, что я понят. Даже если Бог осуждает меня, я знаю, что он меня понимает. Мысль о том, что наши помыслы известны тому, кто проникает к нам в душу, сначала повергает нас в страх и трепет, ибо мы — средоточие зла. Но при более глубоком рассмотрении как не задуматься о том, что мы сами и все иные окружающие нас бедные существа, познаваемые нами как объекты, являющиеся перед нами по преимуществу в своей ничтожности, открываются Богу в их субъективности, так что наряду с их недостатками и скрытым злом видна и неявная красота дарованной им Богом природы, видны малейшие искры блага в осуществляемой ими свободе, видны все тягости и все движения доброй воли от рождения до смерти — вся потаенная благость, о которой они сами не имеют представления. Наивысшее познание Бога — постижение его в любви. Знание того, что ты ведом Богу, предполагает не только опыт справедливости, но также и опыт милосердия.
23. В любом случае я хотел бы отметить, что наши собственные действия переносятся нами лишь потому, что наше осознание их погружено в непрозрачный опыт субъективности. Они «вылупляются» из него, как птенцы, в гнезде, в котором все — включая жесточайшие терзания и позор — сопричастно нам, исходит от нас в неповторимой свежести переживаемого нами момента настоящего; они погружены в ту материнскую атмосферу, исходящую от субъективности, о которой я говорил выше. Ничто не является для нас столь разрушительным, как наши собственные действия, когда, забытые, а потом напомнившие о себе какими-то предметами из прошлого, они переходят в состояние объектов, отделенных от живительных истоков субъективности: даже если они не были особенно дурными, мы более не можем быть уверены в их благости и в том, не испортили ли их иллюзия или скрытое дурное намерение; эти «чужестранцы» набрасываются на нас, как мертвецы, нами же порожденные, чтобы внести в нас сомнение и смерть.
Одна из естественных черт состояния обреченности (damnation) — то, что субъект не видит себя в Боге и соответственно не видит всю свою жизнь в вечном мгновении, в котором присутствует все; все его хорошие и дурные поступки вновь представляются ему в бесплодном свете без конца вопрошающей памяти мертвых, как враждебные объекты, совершенно оторванные от актуального существования, где субъективность отныне утвердилась в одиночестве своей дурной воли, отделяющей от нее ее собственное прошлое.
Но когда достигший предела субъект рассматривает себя в Боге и в перспективе божественной вечности, все моменты его прошлой жизни, познанные им в актуальности и данности пережитого мгновения, и все его деяния (даже дурные, не только получившие теперь прощение, но не оставляющие больше ни следа, ни тени) предстают как исходящие в настоящее время из обновленной субъективности, обретающей в этом случае внутреннее сияние и становящейся прозрачной. И благодаря видению, в котором его интеллект обладает Ipsum esse subsistens, он не только познает самого себя и собственную жизнь в высшей степени экзистенциальным образом, но и постигает также другие существа, которые он наконец познает в Боге как субъекты во всех открывающихся глубинах их бытия.
Структура субъекта
24. Объективировать означает подвергать универсализации. Интеллектуально постигаемое, в котором субъект объективируется для нашего духа, составляют универсальные сущности. Именно по отношению к индивидуальности субъекта (интеллект не может ее непосредственно уловить), к его субъективности как субъективности, уникальной и единичной, непередаваемой и неконцептуализируемой, и по отношению к его собственному опыту субъективности объективирование предает субъект, и, постигаемый как объект, он познается превратно, что отмечалось нами выше. Напротив, по отношению к его сущностным структурам субъект отнюдь не постигается ложно, становясь объектом; объективация, которая его универсализует и раскрывает в нем интеллигибельные природы, позволяет, без сомнения, постоянно углублять знание, но никогда не ведет по неверному пути, не затемняет истину, а способствует ее пробуждению в душе.
Субъект, основание или личность обладает сущностью, сущностной структурой, он являет собой субстанцию, наделенную свойствами, испытывающую влияние и действующую при помощи инструментария своих возможностей. Личность есть субстанция, характеризующаяся наличием духовной души как субстанциальной формы и живущая не только биологической и инстинктивной, но также интеллектуальной и волевой жизнью. Было бы наивной ошибкой полагать, что субъективность не имеет интеллигибельной структуры, на том основании, что ей присуща неисчерпаемая глубина, и отрицать в ней всякую природу, с тем чтобы увлечь ее в пропасть чистой и бесформенной свободы.
Эти наблюдения ведут нас к пониманию того, почему многие современные философы, только и рассуждающие о личности и субъективности, однако, совершенно их не понимают. Они попросту игнорируют метафизическую проблему того бытийствования, о котором мы уже говорили выше. Они не видят, что метафизически рассматриваемая личность, являясь образцом бытийствования духовной души, дарованной сложному человеческому существу, и позволяя ему быть носителем собственного существования и свободно совершенствоваться, свободно отдавать себя, есть содержащееся в нас свидетельство щедрости, или размаха, бытия, которая раскрывается духом в воплощении духа и которая составляет в скрытых глубинах нашей онтологической структуры внутренний источник динамики и единства[53].
Их непонимание исходит из нежелания анализировать суть внутренней жизни интеллекта и воли. Они не видят, что именно дух позволяет человеку преодолеть порог независимости в собственном смысле слова и внутренней замкнутости и потому субъективность личности требует, как своей неотъемлемой привилегии, коммуникации разума и любви. Они не видят, что даже до осуществления акта свободного выбора и для создания необходимых условий свершения такового глубочайшая потребность личности состоит в коммуникации с другим на основе единства разума и с другими на основе аффективного единства. Их субъективность не составляет некоего Я, поскольку она всецело феноменальна.
25. Выше я уже приводил афоризм Фомы Аквинского, что корень свободы находится исключительно в разуме. Субъективность является сама себе не через иррациональный разрыв — каким бы глубоким или, наоборот, поверхностным он ни был — в иррациональном потоке психологических и моральных феноменов, снов, автоматических реакций, побуждений и образов, возникающих из бессознательного; и не через тоску по выбору, а через овладение собой ради принесения себя в дар. Когда человек обладает смутной интуицией субъективности, реальность, которой наполняет его сознание опыт, есть реальность скрытой целостности, содержащейся в себе самой и фонтанирующей, преизобилующей познанием и любовью и постигаемой лишь через любовь на ее высшем уровне существования — существования как дарующего себя.
«Итак, я хочу сказать: самопознание, взятое лишь как чисто психологический анализ более или менее поверхностных явлений, как странствие через образы и воспоминания, представляет собою — какова бы ни была его ценность — лишь эготическое знание. Но когда оно становится онтологическим, познание Я преображается, предполагая тогда интуицию бытия и открытие действительной бездны субъективности. И оно есть в то же самое время открытие глубинной щедрости существования. Субъективность, этот сущностно динамический, живой и открытый центр, дарует и приемлет одновременно. Она приемлет при посредстве интеллекта, сверхсуществуя в познании, а дарует через волю, обретая сверхсуществование в любви, т. е. как бы вбирая в себя иные существа в качестве внутренних ориентиров — чтобы преизобиловать ради них и отдавать себя им, — и существуя духовно как дар. И предпочтительнее даровать, нежели получать: духовное существование в любви — наивысшее откровение существования для Я. Я, будучи не только материальным индивидом, но также и духовной личностью, владеет собой и держит себя в руках, ибо наделено духом и свободой. Но во имя чего оно владеет и располагает собой, если не ради наилучшего в истинном и абсолютном смысле — ради самоотдачи?»
«Таким образом, когда человек поистине пробуждается к постижению смысла бытия, или существования, интуитивно проницая туманную и живую глубину Я и субъективности, он постигает благодаря внутреннему динамизму этой интуиции, что любовь — не преходящее удовольствие или более или менее интенсивная эмоция, а изначальное стремление и глубинное основание, заключенное в самом его бытии, то, для чего он живет»[54].
И через любовь в конечном итоге преодолевается та невозможность познать другого в необъективированном виде при помощи чувств и разума, о которой я так подробно говорил выше. Утверждать, что единение в любви делает для нас существо, которое мы любим, нашим вторым Я, значит рассматривать его как другую субъективность, принадлежащую нам. В той мере, в какой мы его действительно любим — т. е. любим не для себя, а для него, — и в той мере, в какой наш интеллект, становясь пассивным по отношению к любви и отбрасывая свои понятия (что бывает не всегда), тем самым делает любовь формальным средством познания, мы обладаем смутным знанием о любимом существе, схожим с тем, каким мы обладаем о себе самих; мы познаем его в присущей ему субъективности, хотя бы до некоторой степени, через опыт единения. И тогда оно в определенной мере исцеляется от своего одиночества; оно может, еще в тревоге, отдохнуть какое-то мгновение в пристанище знания, которым мы обладаем о нем как о субъекте.
Глава IV Свободное существо и свободные вечные предначертания
Время и вечность
26. С соображениями, на которых мы остановили свое внимание в предыдущей главе и которые касались субъекта, или существующего, основания, удерживающего или осуществляющего существование, связана проблема или, вернее, самая возвышенная и глубокая тайна, которой призваны заниматься науки, «невнятно говорящие о божественном»: проблема отношения между свободой сотворенного существа и вечными предначертаниями несотворенной Свободы. Эта проблема сама по себе относится к теологии, которая ставит ее в терминах предопределения к славе и отвержения, достаточной и действенной благодати, предшествующей и последующей божественной воли. В известной степени она относится также и к метафизике, поскольку уже в пределах естественного порядка встает вопрос об отношении между этими двумя видами свободы. В метафизике этот вопрос, как мне кажется, ставится прежде всего следующим образом: каково место человека и его погрешительной свободы в соотнесении с вечным планом, абсолютно свободным и абсолютно неизменным, принятым Несотворенным по отношению к сотворенному? Именно с этой точки зрения я и хочу его здесь рассмотреть, подытоживая в возможно более сжатой форме многолетние размышления о принципах томизма. Дабы сделать более ясным изложение, где среди многообразных вопросов одни влекут за собой другие, мне надо выделить несколько основных соображений, которые я буду рассматривать. Первое соображение: отношение между временем и вечностью. — Каждый момент времени присутствует в божественной вечности не только в том смысле, что известен ей, но и «физически», или в самом его бытии. В этом вопросе Хуан де Санто-Томас четко изложил доктрину своего учителя[55]. Все моменты времени присутствуют в божественной вечности — в ней нет никакой последовательности, она есть момент, длящийся без начала и конца, — потому что созидательные идеи поддерживают сообразно с их собственной мерой — вечностью, бесконечно превосходящей время, — сотворенное, которому они дают существование и собственной мерой которого является последовательность времени. «Это божественное "сегодня" — неизменная, не имеющая конца, недоступная вечность, к ней ничего нельзя добавить, из нее ничего нельзя изъять. И все вещи, которые появляются в нашем дольнем мире, сменяя друг друга и размеренно уходя в небытие, которые разнообразятся соответственно превратностям времени, оказываются перед этим "сегодня" и остаются недвижными перед ним. В этом «сегодня» еще недвижен тот день, когда появился мир. И тем не менее он уже присутствует там, где предстанет пред судом вечного судьи»[56].
Вечность содержит в себе и измеряет время всецело, обладая им нераздельно, и, таким образом, то будущее событие, которое еще не существует само по себе и в своей собственной длительности, уже актуально присутствует в вечности вместе со всеми теми, что предшествовали ему и последуют за ним. Они все присутствуют здесь как моменты (termes) творческого действия, которое без всякой последовательности задает их последовательное наступление, и как нераздельно принадлежащие вечному мгновению и измеряемые им — собственной длительностью этого действия. «Для Бога нет ничего будущего»[57].
Из этого следует, что, собственно говоря, Бог не предвидит вещей во времени, а видит их и, в частности, свободный выбор и решения сотворенного существа, которые, именно в силу своей свободы, абсолютно непредсказуемы. Он их видит в тот самый миг, когда они осуществляются, в чистой экзистенциальной свежести их появления в сфере бытия, во всей скромности их собственного момента рождения.
Сфера добра и сфера зла
27. Второе соображение: свобода сотворенного существа и сфера добра. — Если верно, что, как мы отметили в предыдущей части, любая сотворенная причина действует только в силу сверхпричинности Ipsum esse per se subsisteris[52*]и что, с другой стороны, свобода выбора состоит в активной и господствующей недетерминированности воли, которая сама делает действенным детерминирующий ее мотив, тогда ясно, что свобода сотворенного существа может реализоваться, лишь если она движима и активизируема, пронизана в своей глубине и в полноте ее детерминаций импульсом трансцендентной причинности, посредством которого творческая Свобода побуждает каждое сотворенное сущее действовать подобающим ему образом, заставляет действовать необходимо то, что подчинено необходимым детерминациям, случайно — то, что подчинено случайным детерминациям, свободно — то, действие чего не подчинено никаким детерминациям, кроме задаваемых им самим.
Тут нет никакой трудности, которая могла бы остановить ум, если придерживаться экзистенциальной точки зрения и знать, что означают трансцендентность и аналогия. И отсюда следует, что в экзистенциальной субординации причин сотворенному существу принадлежит вся инициатива, но только вторичная, по отношению к благу и что творческая Свобода имеет здесь всю полноту первичной инициативы. В мире нет ни тени прекрасного, ни следа действительного, ни единой искры бытия, творцом которых не было бы самостоятельно существующее Бытие. Это тем более верно, когда речь идет о том особом благородстве и высшем расцвете бытия, каким является морально благой акт свободной воли.
Итак, метафизика не испытывала бы никакой серьезной трудности, если бы сотворенное существо всегда осуществляло свою свободу в сфере добра. Нам известно, однако, что дело обстоит иначе.
28. Третье соображение: несимметричность между сферой добра и сферой зла. — Эта несимметричность состоит в том, что все относящееся к сфере добра выражается в терминах бытия, в то время как все, что относится к сфере зла, — я не говорю в данном случае о порочном акте, поскольку во всяком акте, в меру содержания в нем действительного и бытия, присутствует благо (метафизическое), — все, что относится к сфере зла как такового, выражается в терминах небытия, ничто, уничтожения. Ибо зло как таковое — это лишенность, т. е. не просто отсутствие какого-то блага, не просто лакуна или какое-либо ничто, но отсутствие должного блага, недостаток или отсутствие формы требуемого бытия в данном бытии, и зло свободного акта — это лишенность регуляции и формы, искажающая и поражающая небытием осуществление свободы.
Отсюда следует, что мы не можем рассуждать о том, что относится к сфере зла, так же, как о том, что относится к сфере блага, и не можем просто применять к первой положения, принятые в отношении второй. Перспектива должна быть противоположной: нам следует мыслить в понятиях nihil, а не в понятиях esse[53*].
29. Четвертое соображение: свобода сотворенного существа и сфера зла. — Каков корень или метафизическая предпосылка зла в свободном акте? Если этот акт сопряжен со злом, т. е. поражен или уязвлен небытием, то до его совершения сама воля, от которой он исходит, уже в определенной мере уклонилась от бытия: она уклонилась свободно, но еще не действуя, и не действуя дурно (иначе мы бы впали в порочный круг, и отыскиваемая нами трещина, сквозь которую зло проникает в свободный акт и дурное деяние, была бы уже актом зла).
В одном из самых трудных и самых оригинальных своих тезисов Фома Аквинский объясняет в связи с этим[58], что порочный свободный акт включает два момента, различных не в смысле предшествования во времени, а в смысле онтологического первенства. В первый момент в самой воле, в силу ее свободы, имеется отсутствие или отрицание, которое еще не является лишенностью, или злом, а представляет просто лакуну: существо не рассматривает норму, или ты должен, от которой зависит регуляция акта. Во второй момент воля совершает свой свободный акт при отсутствии регуляции и с язвой небытия, происходящей от этого отсутствия рассмотрения.
Именно в этот второй момент появляется моральное зло, или грех. В первый момент еще не было моральной вины, или греха, а была только трещина, сквозь которую зло проникло в свободное решение, подготовляемое личностью, — пустота или лакуна, через которую грех должен был обрести форму в свободной воле, прежде чем он вольется в артерии субъекта и мира. Эта пустота или эта лакуна, именуемая у св. Фомы нерассмотрением правила, не является злом, или лишенностью. Это — простое отсутствие, простое небытие внимания. Ибо рассмотрение правила не является долгом для воли, оно становится для нее долгом лишь в момент действия, осуществления бытия, когда она порождает свободное решение и делает свой выбор. Нерассмотрение правила становится злом, или отсутствием должного блага, лишь во второй из обозначенных нами моментов: в момент, когда воля осуществляет акт или бытие, производит выбор, в момент совершения свободного акта — с язвой или аномалией этого нерассмотрения.
И, однако, не являясь еще злом или виною, эта пустота или лакуна — это нерассмотрение правила уже было свободным, ибо оно зависит от свободы желания рассматривать таковое либо не рассматривать. Воля бездейетвовала, не прибегла к рассмотрению. И если воля не принимает во внимание правило, то для этого, говорит св. Фома, достаточно ее свободы, и не нужно искать других причин. «Ad hoc sufficit ipsa libertas voluntatis»[59]. Здесь мы видим абсолютное начало, которое не есть начало, но являет собой уничтожение, трещину, лакуну, введенную в ткань бытия. И отныне нам надлежит чинить насилие над всеми словами нашего языка, которые все созданы как производные от бытия и которые теперь должны быть связаны в неизбежно парадоксальной форме с областью и деяниями небытия или ничто. Первопричина (не действующая, или производящая, а уничтожающая действие, или ущербная), первопричина нерассмотрения правила и, следовательно, производного от этого зла свободного акта есть попросту свобода сотворенного существа[60]. Оно обладает свободной инициативой отсутствия или небытия внимания, пустоты в ткани бытия, nihil, и на сей раз эта свободная инициатива — инициатива первичная, поскольку она состоит не в свободном действии или непротивлении бытию, а в свободном бездействии и нежелании, свободном препятствовании бытию.
Отсюда следует, что если сотворенное существо никогда не бывает одиноким, когда осуществляет свою свободу в сфере добра, и нуждается в первопричине для всего, что оно совершает сопричастного бытию и благу, то оно, напротив, не нуждается в Боге и поистине одиноко в свободном отрицании, в проявлении свободной и первичной инициативы того небытия внимания, или рассмотрения, которое есть первоисточник зла свободного акта, т. е. той самой лишенности, из-за которой свободный акт, где присутствует метафизическое благо, поскольку присутствует бытие, является морально ущербным или попросту порочным. Без Меня не можете делать ничего[61]; без Меня вы можете соделать ничто.
Божественные воздействия
30. Пятое соображение: преодолимые божественные воздействия и непреодолимое божественное воздействие. — Я говорил о пустоте, введенной в ткань бытия; я рассматривал сотворенное существо как пронизываемое и побуждаемое к активности всеми импульсами бытия, исходящими от Ipsum esse subsistens (побуждают ли они сотворенное существо при посредстве всего, что в мире ведет каким бы то ни было путем к благу, или они побуждают его прямо как Божии внушения, воспринятые через интеллект и волю, или же как воздействия постоянного божественного излучения, которое подвигает волю ко благу). Эти импульсы в каждом существе направлены на то, чтобы привести его к его собственной полноте. Если оно несет ничто (neante) под их воздействием, если оно бездействует, если оно проявляет свободную инициативу невнимания, то эта инициатива создает пустоту в ткани бытия, или в импульсах, несущих бытие, подавляет (не активно, а через недействование), обращает в ничто (nihilise), или делает бесплодными, божественные воздействия, которым оно подверглось.
Если в мире есть моральное зло и порочные свободные акты, то это объясняется тем, что существуют преодолимые божественные воздействия. Иными словами, от Первопричины нисходят в свободные существа побуждения или влияния, которые изначально заключают в себе попущение, или возможность, стать бесплодными, если воспринимающее их свободное существо проявит свободную инициативу уклонения от них, или бездействия и нерассмотрения, уничтожения под их воздействием. Если верно, что всякая сотворенная свобода по природе своей, не будучи правилом для себя самой, является погрешительной свободой[62] и что Бог делает все вещи активными сообразно с их типом и, следовательно, творческая Свобода приводит сотворенные свободы в состояние активности сообразно с присущей их типу погрешимостью, то становится понятным, что, сообразно с естественным порядком вещей, до непреодолимого божественного воздействия, посредством которого благая воля творческой Свободы непреложно производит свое действие в сотворенной воле, божественные воздействия, полученные свободным существом, должны быть преодолимыми.
Лишь от нас зависит, преодолеем ли мы их, творя ничто, или отрицая, по своей собственной ущербной инициативе. Но если мы ничего против них не предприняли, если мы ничего не сделали, т. е. не ввели ничего сопричастного небытию или отрицанию (поп), если мы не воспрепятствовали этим импульсам бытия, то тогда, сообразно с первоначальным начертанием Бога, преодолимые божественные воздействия приносят плод, сами по себе превращаясь в непреодолимое божественное воздействие. Оно есть не что иное, как воспринятое нами решающее fiat, посредством которого трансцендентная Причина заставляет явиться желательное для нее; благодаря ему наша воля, на сей раз с неизбежностью, осуществляет свою свободу в сфере блага, производит благой акт — жизненно созвучный правилу, или ты должен, — на который были направлены все побуждения к благу, полученные ею, все доброе в ее собственном внутреннем динамизме и глубинные стремления ее природы[63]. Бог возжелал этого благого акта, и возжелал его первым, он побудил волю свободно произвести его под непреодолимым воздействием. Как я отметил выше, первоинициатива этого акта всецело исходит от Бога и творческой Свободы, так же как вторичная инициатива всецело исходит от свободы сотворенной. Малейший благой акт сотворенной свободы сначала был желаем Богом, он всецело произведен Богом как первопричиной.
И я не отрицаю (хотя это превосходит чисто метафизические соображения, которых я решил придерживаться), что Бог может, если он этого пожелает, сразу же склонить сотворенное существо к благому свободному акту через непреодолимое, или непреложно действенное, влияние, или побуждение. Это — выражение его свободных предпочтений и цены, заплаченной за души в сообществе святых. Тайною тайн остается то, до какой степени мудрость Бога связывает его могущество, и то, какое правило установлено любовью Божией для проявления этого могущества. Как бы то ни было, сообразно порядку природы, преодолимые побуждения предшествуют непреодолимому побуждению как цели, которой они достигают сами по себе, когда отрицание со стороны сотворенной свободы не делает их бесплодными.
Но здесь следует со всей ясностью сказать, что сотворенное существо не привносит от себя, не делает, не дает, не прибавляет ничего (ни малейшего действия или исходящей от него самого детерминации), что превращало бы преодолимое побуждение в побуждение непреодолимое, или решительно влияющее на существование. Не подвергать отрицанию божественное воздействие, не делать его бесплодным, не проявлять инициативу творить ничто — это не означает брать на себя инициативу, полуинициативу или хотя бы малейшую часть инициативы акта, это не означает действовать своими силами, дабы довершить в каком-либо отношении божественное воздействие, это не значит дополнять его собственной активностью; это означает не противиться ему и дать ему принести свой плод — непреодолимое воздействие, благодаря которому воля, изначально не вводившая отрицание, будет действовать, эффективно сообразоваться с правилом в самом осуществлении своей власти над мотивами и свободно проявит себя в благом выборе и благом акте[64]. В таком случае она обретет и божественную поддержку, ибо не существует помощи большей, нежели та, которая обладает определенно экзистенциальной ценностью, которая определенно и эффективно переводит в плоскость существования свободно совершаемый акт, всесторонне сопричастный бытию и благу. Один человек может получить гораздо более высокие преодолимые побуждения, или воздействия, нежели другой. Если он делает их бесплодными в свободном отрицании, тогда как другой не делает бесплодными те, что он получил, и в нем они сами по себе приносят плод в виде непреодолимого побуждения, то этот другой более любим Богом. Он любим до того предела, который имеет наибольшую значимость, до предела коммуникации, или излияния блага в осуществлении существования и совершении действия.
Применяя в наших целях и в нашей всецело метафизической перспективе классическое различение, принятое у теологов[65], мы назовем первичной или изначальной волей волю Бога, рассматриваемую в отвлечении от всех частных условий или обстоятельств; ее можно было бы также назвать чистой (nue) волей Бога. Эта воля — не слабое желание: это подлинная и активная воля, которую проявляет Бог, изливая в мир сущих бытие и благость, проникающие в них, и поток побуждений, движений и активизирующих воздействий, которые заставляют их стремиться к своей завершенности и к общему благу творения. Через эту первичную волю созидательная Любовь желает, чтобы все свободные существа достигли своей надвременной цели[66]. Она желает этого независимо от всякого рассмотрения благих, или достойных вознаграждения, действий, которые они смогут совершить, — она желает этого из чистой щедрости. Но она желает этого сообразно с отличительным свойством их погрешительной свободы и, следовательно, сообразно с преодолимыми побуждениями, или воздействиями. И если воля, которую мы назовем «обстоятельственной», т. е. воля Бога, рассматриваемая с учетом частных условий и обстоятельств, или, иначе говоря, его окончательная воля допускает, чтобы свободные существа забывали о своей надвременной цели, то какое обстоятельство созидательная Любовь может при этом учесть, если не то отрицание, посредством которого — на протяжении всего их существования и в особенности в последний его момент — их свобода уклоняется от ее импульса и делает бесплодным божественное побуждение? Если же предположить, что свободное существо не проявило такую инициативу небытия, то тогда в отношении этого существа обстоятельственная воля просто подтверждает, и притом безусловно и непреложно действенным образом, первичную волю, которая, желая конечного блага для всех, направила его самого (условным образом) к этому благу. Свободные существа, которые достигают своей высшей цели, достигают ее лишь потому, что этого возжелал Бог прежде всякого рассмотрения их благих и достойных вознаграждения действий — возжелал своей первичной подтвержденной волей или, как я сказал выше, своей окончательной волей. Свободные существа, которые упускают из виду свою высшую цель, делают это, лишь поскольку они того пожелали и свободно уклонились от подчинения первичной воле. Бог попускает это по причине той инициативы небытия, посредством которой их свобода, в особенности в последний момент их жизни, сделала бесплодным божественное побуждение и, как следствие, ввергла их во зло. Они, как говорил св. Фома, предзнаемы (praesciti). Другие же предопределены. И все это установлено от века, ибо каждый момент времени присутствует в божественной вечности, в вечной воле и в вечном видении Бога.
Я знаю, что, употребляя эти два термина св. Фомы, я вступил в область, которую закрыл для себя. Я знаю, что в действительности, поскольку высшая цель свободных существ — это сверхъестественная цель, это само видение Бога, нужно говорить о спасении там, где я говорил о достижении надвременной цели, о предопределении там, где я говорил о направленности на конечное благо, подкрепленной окончательной волей, о предшествующей воле и воле последующей там, где говорилось о первичной воле и воле окончательной, о достаточной благодати и действенной благодати там, где говорилось о преодолимом и непреодолимом побуждении. И сколько же больших теологических проблем, в которых затронута вера, возвысят и усложнят простые воззрения разума, изложенные мною лишь под метафизическим углом зрения[67].
Но я полагаю, что чисто философское рассмотрение принципов естественного порядка, связанных с проблемой судьбы свободных существ, подобное тому, что я попытался здесь представить, может привести к некой рациональной схеме, которая не будет поколеблена и сохранит свое значение при переходе к более высоким, более сложным и более глубоким воззрениям теологии.
Божественное Знание
31. Шестое соображение: божественное знание свободных актов сотворенного существа. — Мы никогда не должны упускать из виду тот факт, что божественное интеллектуальное постижение, или божественное знание, чистый Акт познания, который и есть сам Бог и чистый Акт существования, является полностью и абсолютно независимым от вещей. Его объект — он сам. Сотворенные сущие не являются его объектом[68] и никоим образом не специфицируют и не детерминируют его: для него они — лишь terminus materialiter attactus[69] [62*], область изобильного и преизбыточного бескорыстно щедрого проникновения. Они изменяются, рождаются и гибнут, а знание, или интеллектуальное постижение, которым обладает относительно них Бог, неизменно. Этому божественному знанию открыто все. Но если бы Бог ничего не сотворил и не было никаких вещей, само по себе оно оставалось бы совершенно неизменным: ведь именно Бог составляет его объект, наполняет и насыщает его. Представим себе поэта, который впадает в экстаз абсолютного постижения собственной души: будет ли сверхизобильность этого познания выражена в поэме или нет, слова, изреченные или неизреченные в поэме, не изменят его как таковое, созданные в поэме сущие постигнуты, проникнуты и пронизаны им — и созданы им — как бы через щедрое сверхизлияние, они не изменяют, не затрагивают это бытийствующее озарение самопознания. Бог знает и любит все существующие образования. Они не влияют как специфицирующие объекты на его познание и его любовь. Он воспринимает их свободно в своем акте самопознания и любви собственной благости как следствия бесконечной щедрости, которой преизобилует этот акт[70].
Бог познает все вещи в себе самом, или в своей сущности, в несотворенном свете, в своей собственной бесконечной интеллигибельности, бесконечно более ясной и богатой, нежели интеллигибельность вещей.
В своей сущности он познает возможное и обладает необходимым знанием возможного (столь же необходимым, как и то, каким он обладает о самом себе); в этом познании не участвуют — сообразно с нашим человеческим способом представления и виртуальными различениями, к которым мы должны прибегать, — ни его воля, ни его свобода, и по этой причине его называют «знанием простого интеллекта».
В своей сущности он познает также существующее (но как щедрый преизбыток, как я только что сказал) посредством творческого познания, в котором воля и свобода соединены с интеллектом и которое свободно делает познанным, точно так же как и свободно делает существующим, то, что оно творит. Все случайное присутствует здесь как предел. Это то, что именуется «знанием-видением», поскольку оно выходит за рамки простого интеллектуального постижения сущностей и простирается на существование и существующее.
Я сказал, что Бог знает в своей сущности все вещи. Я не говорил того, что было бы неугодно Богу: будто он знает в своей сущности не вещи, а образы вещей, с которыми вещи сходны и которые превращают божественную сущность в мозаику изображений конечного. В интеллигибельности бесконечной сущности в чисто актуальном состоянии, которая есть самый акт его существования и объект его знания, он знает в качестве сопричастных ей множество конечных вещей; он проходит сквозь бесконечность, чтобы постичь конечное; он постигает само конечное — необходимо исчерпывающим образом, ибо в нем бытие столь же творится, сколь и познается.
Познавая свою сущность, Бог познает все возможности во всех тайниках их интеллигибельности. Познавая свою сущность и свою волю, посредством которой он необходимо желает своей благости и свободно — <существования> вещей, он знает все существующие образования во всех тайниках их бытия. Знание-видение постигает существующее в самом осуществлении существования. Оно поддерживает сотворенные сущие и проницает их, поскольку творит все, что в них есть, и поскольку творит их именно в процессе их постижения. Свободно создавая их в качестве результатов (беспричинных), или в качестве познанного (с преизбытком), акта самопознания Бога, оно одновременно свободно полагает их в качестве результатов творческой деятельности и сущих в их собственном существовании. Оно обладает изнутри миром существования и существующего, субъектов и субъективности;, оно видит случайное существование, поскольку его порождает и поскольку порождает его, познавая.
Оно постигает свободу сотворенного существа в самом действии свободной воли. Мы знаем, что свободный акт абсолютно непредсказуем. Знание-видение постигает его в вечности в тот самый момент, когда он осуществляется, в самом его присутствии.
Все существующее ведомо Богу, ибо он — его причина. Так обстоит дело со свободным актом сотворенного существа. И когда этот акт является благим, он ведом Богу, поскольку все, что в нем есть, производно от божественной сверхпричинности, от первой трансцендентной причины.
Но каким же образом Богу ведомо зло свободной воли, зло, делающее свободный акт порочным? Св. Фома сформулировал в связи с этим два принципа, над которыми следует подумать. Прежде всего: Бог никоим образом и ни в каком отношении не является причиной морального зла[71]. Стало быть, есть нечто, что Бог знает, не будучи его причиной (нечто, являющееся не вещью, а лишенностью). И далее: В божественном интеллекте нет идеи зла, поскольку божественная идея означает способ, каким можно быть сопричастным божественной сущности, и, следовательно, она является сама по себе источником интеллигибельности или причинным источником (causatrice) бытия[72]. Чистота Бога, безвинность Бога заключается в следующем: он обладает лишь идеей добра; он не обладает идеей зла. Идеей зла обладаем мы. Бог знает зло таким, каково оно есть, — как лишенность, как небытие, уязвляющее бытие, и там, где оно есть, — в бытии или благе, которое оно уязвляет.
Зло свободного акта имеет своей первопричиной (причиной отрицающей, а не действующей) не Бога, а свободную волю сотворенного существа. Каким же образом оно было бы ведомо божественной воле (хотя бы даже попускающей), которая предшествовала бы его порождению существом, подобно тому как божественное воление благого действия предшествует этому действию? Есть два попущения со стороны Бога, без которых зло не появилось бы в области существующего: это допущение возможности зла, изначально заключенное в отсутствии непреложности в том, что мы назвали преодолимым божественным побуждением, которое сотворенная свобода при желании может сделать бесплодным; это допущение осуществления зла[73], когда сотворенная свобода уже фактически ввела ничто, но еще не совершила действия, в момент невнимания к правилу, нерассмотрения правила, что предшествует выбору в пользу зла. Но сам этот момент, когда существо принимает на себя инициативу свершения ничто и тем самым требует, так сказать, дозволения сотворить зло, предшествует этому дозволению — нежеланию отменить это отрицание — и, следовательно, не познается в этом дозволении. Он может познаваться лишь в свободной воле, актуально ущербной, или несущей ничто.
Как это осмыслить? Разве Бог не знает в своей сущности все? Я отвечаю, что он знает в себе самом то, что порождаемо или порождено им самим, даже если это происходит случайно (подобно природному злу[74]). Но ни порождаемое, ни порожденное им самим, то, причиной чего он безусловно не является, — зло свободного акта и свободное отрицание как его предварительное условие — Бог знает не в божественной сущности самой по себе, а в божественной сущности постольку, поскольку в ней зримы сотворенные существа, а в них — то отрицание и та лишенность, первопричиной которых является их свобода. Иными словами, он знает это отрицание и эту лишенность в сотворенных существах, которые он знает в собственной сущности. Вот в каком смысле я сказал, что «нерассмотрение правила», предшествующее выбору в пользу зла, это отрицание, очень важное для настоящего обсуждения, так как оно есть чистое небытие, обусловленное одной свободой существа, известно Богу в актуально ущербной, или отрицающей, воле[75].
Божественное знание детерминировано и специфицировано только Богом. Ему (знанию простого интеллекта) открыты возможные существа лишь в Боге, т. е. в божественной сущности как таковой: их возможность не может быть устранена, так же как и сама божественная сущность, которой они сопричастны как вечно и необходимо зримые в интеллектуальном постижении Богом самого себя. И сотворенные существа открыты ему (знанию-видению) — в их бытийности и активности — лишь в Боге, я хочу сказать, в божественной сущности, рассматриваемой не только в качестве основания всех возможностей, но и в качестве заключающей в себе божественную волю, которая свободно определяет некоторые из них к существованию, отличному от божественного. И в актуально несущей ничто воле сотворенных существ, ведомых Богу, — в божественной сущности вместе с достигнутой в ней щедрой избыточностью — божественному знанию открыты разлом или отрицание, пустота, чистое отсутствие, момент нерассмотрения правила, имеющий своим источником единственно их свободу. Все это открыто божественному знанию в сотворенных существах, которые постигнуты в божественной сущности всецело, ибо постигнуты в процессе их творения, которые полностью явлены ему, вплоть до последних глубин и малейших колебаний их субъективности и их деятельности.
Божественному знанию это открыто, хотя и не обусловлено им причинно; при этом оно ничего не получает от сотворенного существа. Каким образом небытие могло бы что-либо детерминировать или специфицировать, а тем более — чистый Акт, который затрагивает все, но сам ничем не затронут? Оно ведомо Богу как terminus materialiter attactus, как то, что не является бытием, а представляет собою пустоту или отрицание, действительно образованную в бытии лакуну, всецело явленную знанию-видению; как то, что само по себе формируется этим знанием и совершенно его не формирует, подобно глине в руках горшечника. И именно потому, что Бог знает в сотворенном существе, ведомом ему в Его сущности, эту трещину небытия, первопричиной которой служит свобода сотворенного существа, он не мешает, или дозволяет, осуществиться в свободном акте злу, условием которого является эта трещина небытия, если он не желает дать средство исцеления.
Само это зло, являющееся не просто лакуной или чистым отсутствием, а лишенностью, осуществляется в свободном акте, который оно превращает в моральном плане в нечто попросту порочное, но который в меру того, сколько он содержит в себе бытия и энергии, сохраняет метафизическую благость и постольку зависит от божественной причинности. Но если рассматривать его именно как моральное зло, Бог ни в коей мере не является его причиной. О нем, следовательно, надо сказать то, что мы сказали о моменте предшествующего ему отрицания: Бог знает его в сотворенном существе, которое он знает в божественной сущности. Именно потому, что в божественной сущности зримы сотворенные существа, именно благодаря достигнутому знанием-видением созерцанию этих существ, которого могло бы не быть, эта лишенность — моральное зло, поражающее действие существа, — ведома Богу, не будучи им причинно обусловлена. Он не изобрел моральное зло — его изобретаем мы. Мы его первопричина (уничтожающая, а не действующая). Оно — наше творение.
План вечности
32. Седьмое и последнее соображение: вечный план Бога и свободные существа. — Теперь мы можем сделать заключение. План Бога вечен, как и сам акт творения, хотя этот акт есть его следствие во времени. План Бога определен от вечности, но вечность не есть нечто вроде божественного времени, предшествующего времени: она есть миг без границ, который нераздельно охватывает всю последовательность времени и в котором физически присутствуют все моменты этой последовательности. Если все вещи явлены божественному знанию, то это означает, что они зримы Богом как присутствующие. «Предвидеть» — неподходящее слово, применяемое нами к Богу, поскольку мы проецируем на его вечность предшествование знания (по отношению к будущим событиям), которым мы обладали бы относительно этих событий, тогда как он их «уже» знает, т. е. знает всегда, и видит как действительно происходящие в определенный момент времени, присутствующий в его вечности. Все вещи и все события природы известны ему в их появлении и в вечном утре его видения, ибо он желает их в бесконечно возвышающемся над временем вечном мгновении, с которым сосуществует вся их последовательность.
Но если речь идет о мире свободы, а не просто лишь природы, если речь идет о свободных существах, о творениях, наделенных свободной волей, и неизбежно погрешимой свободной волей, то нужно пойти еще дальше и сказать, что они определенным образом участвуют в самом установлении плана вечности: определяя этот план, Бог учитывает их инициативы небытия. И это происходит не в силу их способности действовать, в которой они всецело ведомы Богом, а благодаря способности отрицания, творения ничто, где они выступают как первопричины.
Божественный план был всегда желаем. Если предположить, что Бог пожелал его, то необходимо, чтобы он желал его всегда[76]. Но если предположить, что он его не желал, тогда необходимо, чтобы он никогда его не желал. И он всегда желал его именно свободно, все случайное исходит от того, что направляемо и предопределяемо, а не от акта, который предопределяет и направляет. Я утверждаю, что поскольку предопределенное и направляемое действо (цель или содержание божественного плана), по сути, является в корне случайным, причем эта случайность никак не затрагивает ни сам божественный план, ни устанавливающий его божественный акт, постольку ничто не мешает тому, чтобы в эту случайность неизменно предопределенного и направляемого Богом действа вмешивалось свободное отрицание сотворенного существа, так как само это отрицание вечно и неизменно зримо Богом, что не полагает в его знание ни тени случайности, и так как вытекающее отсюда следствие вечно и неизменно допускается либо не допускается Богом, что не полагает в его волю ни тени случайности и обусловленности[77], — так как действо предопределено и направляемо от вечности не заранее (как если бы сама вечность пребывала во времени, а вечный акт принадлежал прошлому), а в вечном сегодня, в котором нераздельно присутствуют все моменты последовательно существующего.
Божественный план не представляет собою созданного заранее сценария, в котором бы свободные субъекты исполняли свои роли. Надо изгнать из нашего мышления эту идею пьесы, написанной заранее, во время, предшествующее времени, в которой бы время и персонажи времени разыгрывали и озвучивали роли. Все является импровизацией под вечным и неизменным руководством всемогущего распорядителя игры. Божественный план — это охват бесконечного многообразия вещей и их становления абсолютно простым взглядом созидательного знания и воли Бога. Он вечен и неизменен, но мог бы быть и иным (поскольку он мог бы и не существовать, если бы не было вещей): он неизменен, ибо установлен от века или предположительно установлен от века тем или иным образом. И он незыблемо установлен свыше от века именно в вечном присутствии времени (даже до появления времени) в вечности, так что вечный момент объемлет историю, которая вершится в постоянной свежести новизны, т. е. (в том, что касается свободных актов) непредсказуемости. Он направляет историю к желательным для Бога целям и ориентирует на эти цели всех актеров драмы и все порождаемое в них Богом благо, заставляя служить достижению этих целей даже зло (допускаемое Богом, но не обусловленное им причинно), отрицательной первопричиной которого служит их свобода.
Именно по причине этого свободного отрицания сотворенное существо обладает в разыгрывающейся драме первичной инициативой. Если только оно не получает с самого начала непреодолимого побуждения к благу, лишь от самого свободного существа зависит, проявит ли оно инициативу отрицания, нерассмотрения правила, находясь под влиянием побуждений, направляющих его к благу. Проявит ли оно такую инициативу под рукой гончара? Что касается его благого или порочного действия и его влияния на дальнейший ход драмы, то неизменный план установлен от века одновременно с этим моментом времени, моментом всей ведомой Богу вечности. Предположим, что свободное существо не обладает в этот момент инициативой небытия. Так как подобная инициатива небытия не явлена знанию-видению в свободном существе, и не явлена от века, то первичная воля, которая возжелала благого акта этого существа, акта, направленного к той цели, к которой она его предназначила, от века подтверждена окончательной, или обстоятельственной, волей — и от века свершение этого благого акта этим существом незыблемо предустановлено в вечном плане. Предположим, напротив, что свободное существо обладает в этот момент инициативой небытия. Это от века явлено знанию-видению в свободном существе, и от века окончательная, или обстоятельственная, воля, если она не желает препятствовать естественному результату этого негативного действия, допускает порочный акт, в котором это сотворенное существо обладает первоинициативой, — и от века допущение этого порочного акта, подчиненного высшему благу, которое желаемо само по себе, будь то обусловленно или необусловленно[78], незыблемо предустановлено в вечном плане. Таким образом, мы в состоянии представить при помощи мысленных моментов, различаемых при нашем человеческом способе понимания в божественной воле, что многообразная драма истории и человечества с ее бесконечной запутанностью незыблемо предустановлена от века совершенно и бесконечно простым доминирующим актом божественного знания и божественной свободной воли, с учетом всех свободных существ и свободных негативных действий, где им принадлежит первоинициатива, на протяжении всей временной последовательности, каждый миг которой присутствует в вечности. Разве можно говорить, что человек видоизменяет вечный план! Это было бы абсурдом. Человек его не изменяет: через свою способность сказать «нет» он входит в саму его композицию и его вечную заданность.
По правде сказать, я не вижу, каким образом можно было бы представить вещи иначе. Предположим, что божественный план — заранее созданный сценарий. Предположим, что в этом сценарии будет записано, что Брут убьет Цезаря[79]. Итак, когда Брут выйдет на сцену мира, то либо ведущий игру оставит его подлинно свободным в смысле проявления или непроявления первоинициативы греха, и тогда может случиться, что Брут не убьет Цезаря и, таким образом, нарушит вечный план, что является нонсенсом; либо ведущий игру каким-то образом, через предшествующие попускающие решения или через сверхсложные сцепления причин, устроит так, что Брут действительно убьет Цезаря, и совершит убийство свободно, — в таком случае как, при помощи каких тонкостей избежать того, чтобы Бог обладал первоинициативой зла и, пусть даже через попущение, заставлял сотворенное им существо пасть?
Именно Брут обладал первоинициативой свободного отрицания, через которое, с позволения Бога, решение совершить убийство вошло в его волю и в мировую историю. Если бы в определенный момент времени, вечно присутствующий в вечном мгновении, он не обладал этой инициативой небытия, то неизменный план от века предустановил бы все иначе, падение Цезаря произошло бы по-иному и иначе были бы осуществлены замыслы Бога относительно Рима и мира, к которым это падение имело отношение и для которых оно было желательно.
Я сказал, что Бог не обладает идеей зла. Он создал Бегемота и Левиафана и все ужасные виды, населяющие природу и мир живого, кровожадных рыб, ядовитых насекомых. Но он не создал морального зла и греха. Не ему принадлежит идея всего грязного и отвратительного, пренебрежительно бросаемого ему же в Лицо, — предательств, сладострастия, жестокости, трусости, животной злобы, изощренных извращений, духовных уродств, которые он позволил созерцать своим созданиям. Они рождены одним лишь негативным действием человеческой свободы. Они вышли из этой бездны. Бог допускает их как создание нашей способности творить ничто.
Он допускает их, ибо, как говорит св. Августин, он обладает достаточной силой, чтобы обратить все то зло, которое мы пожелаем ввести в мир, в большее благо, скрытое в тайне трансцендентного, — ничто в природе не дает нам возможности предположить, в чем оно состоит. Чтобы хоть как-то представить себе его величие и восхищаться им, верующий человек измеряет величину зла, которую с избытком возмещает такое благо.
Наше несчастье состоит как раз в том, что не существует сценария, заранее написанного Богом (он был бы не таким мрачным), в том, что роковой элемент драмы исходит от нас самих — сотворенных существ, и в том, что Бог ведет честную игру. Так как зло свободного акта есть наше собственное творение, то, позволяя нашим монстрам множиться до предела, позволяя нашей способности отрицания с ее неистощимыми ресурсами развивать все формы деградации и разрушения бытия, божественная свобода явит высоту своего всемогущества, извлекая из всего этого высшее благо, которое она полагает своей целью, но не ради себя, а ради нас[80]. В ожидании этого, несмотря на всю энергию блага, которая воздействует на человека, природу и историю и побуждает их двигаться вперед, оставляя позади свои руины, «весь мир лежит во зле»[81], и страшная, беспорочная божественная fair play оставляет нас влачащимися в грязи. Таково по крайней мере дозволительное воззрение философа на порядок природы. К счастью, существует также порядок благодати, и сила крови Христовой, страдания и молитвы святых, и скрытые милосердные деяния, — все это, не покушаясь на законы божественной fair play, вводит в самое потаенное содержание интриги видоизменяющие ее данные, обнаруживает божественные предначертания, согласно которым души предназначены к вечной жизни, а тела к воскрешению и зло, причиняемое свободным существом, есть цена за славу; благодаря всему этому любовь (если только у нас есть глаза, чтобы видеть) уже в этой жизни преобладает над грехом. Все это во имя вышнего незримо приходит на помощь каждому, в то время как над ним вершатся обычные скорбные законы этого мира и все его беды; заставляет все сущее содействовать благу ради любящих Бога и покровительствовать тем, кто отдал ему все; поддерживает силы и ресурсы природы и, несмотря ни на что, дает пощаду; несмотря ни на что, оказывает помощь; дарует, несмотря ни на что, некоторое отдохновение народам и нациям и вопреки всему ведет историю к исполнению ее предназначения. Более высокое, нежели человеческое, величие скрыто в наших жалких земных судьбах. Нашему несчастному существованию придается смысл, и это, без сомнения, самое важное для нас. Оно остается несчастным — но прозябающее существо создано, чтобы стать Богом через сопричастность.
Глава V Ессеin pace[71*]
От экзистенциального экзистенциализма к экзистенциализму академическому
33. В последнем эссе, оставленном друзьям перед арестом и последовавшим затем смертным приговором в расистском застенке, Бенжамен Фондан[72*] писал, что для Кьеркегора и «первого поколения экзистенциалистов» ничто, открываемое нам экзистенциальной тоской, «не есть ничто существующего, а представляет собой ничто в существующем. Оно есть трещина в существующем: грех, "обморок свободы"…»[82].
Если таков, как полагаю и я, подлинный и глубочайший смысл Кьеркегоровой тоски, то следует сказать, что посредством мучительного духовного опыта Кьеркегор открыл современной философии истину, которая, без сомнения, всегда была известна святым и более или менее внимательно рассматривалась теологами, но оставалась далеко за пределами философии, истину, которой современная философия не могла понять и которая ее дезорганизовала. Небытие, порождаемое мной самим, опустошающее мое бытие и убивающее моего Бога, крик из бездны, ужасы Страстной Пятницы, драма infelix homo[73*] — «а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»[83], - жертва Авраама, язвы Иова и его роптание на Бога, более прославляющее Бога, чем все теодицеи, не находящий ответа вопрос существующего о тайне твердыни и путей господних — все это внезапно проникло в современную философию, поколебало ее самоуверенность и нарушило ее спокойствие. Правда, ненадолго. Она быстро пришла в себя.
Обычно, в соответствии с законами, являющимися неотъемлемой частью нашего бытия, в людях, и даже в одном и том же человеке, в котором они могут и должны сосуществовать, необходимо присутствуют два отношения или, точнее, два устремления, два состояния духа, которые коренным образом отличаются друг от друга. Первое я назову состоянием поиска причин, отношением теоретической всеобщности или самоотрешения во имя познания, познавательной (sapientiale) позицией — позицией интеллекта, который хочет познать и постигнуть бытие, подобно Минерве перед лицом космоса. Второе я назову состоянием спасения моей уникальности, отношением драматической единичности или высшей борьбы за свое спасение, позицией молящего (imprecatoire) — позицией человека, взыскующего Бога или, скорее, взысканного им; такова, например, позиция Иакова в его борьбе с Ангелом.
Первое отношение, состояние или устремление является по сути своей философским, оно составляет философию. Второе отношение по существу религиозно, оно творит человека веры (или же отчаявшегося в Боге). Бессмысленно пытаться представить образ действий или состояние Иакова в ночь его противоборства с Ангелом как метафизическое отношение, с присущим ему способом проникновения в законы вещей; абсурдно пытаться представить образ действий или состояние Минервы в ее поиске причин как религиозное отношение, с присущим ему способом установления диалога с Богом. Нельзя философствовать в состоянии драматической единичности. Нельзя спасти свою душу в состоянии теоретической всеобщности или самоотрешения во имя познания.
Итак, ясно, что второе из выделенных мною двух отношений, состояний или устремлений, а именно состояние спасения моей уникальности, и было присуще экзистенциальному экзистенциализму, экзистенциализму как переживаемому или осуществляемому акту. В этом именно и заключались значимость его свидетельства, могущество его разрушительной силы и ценность его интуиций. Экзистенциализм Къеркегора, Кафки[84], Шестова, Фондана был по своей сути излиянием и протестом религиозного порядка, мучительной тревогой веры, криком субъективности, взывающей к своему Богу, и одновременно открытием личности в ее тоске по ничто, которое представляет собою небытие в существующем, «трещину в существующем».
Но несчастьем этого экзистенциализма — по причине исторических обстоятельств, в которых он был порожден, в особенности из-за Гегеля и непреодолимого очарования гегелевского тоталитаризма разума, — явилось то, что он возник и развился в лоне философии, неотделимой от той философии, с которой он находился в непримиримом конфликте, цепко удерживаемый и теснимый философией, которую он хотел поразить в самое сердце — я подразумеваю принцип противоречия, — подобно человеку, барахтающемуся в объятиях гигантской рептилии. Из-за ужасной ошибки и вследствие неизбежной иллюзии этот протест веры, подвергшейся «вавилонскому пленению», явился в мир в вавилонском облачении и в виде философии — философии, направленной не только против профессионалов-философов (о чем не следовало бы сожалеть), но также — в этом-то вся трагедия — и против философии.
Профессионалы всегда берут реванш. Партия была заранее проиграна. Экзистенциальный экзистенциализм должен был стать жертвой удава. Современная философия должна была принять его, сделав предметом своего рассмотрения, «переварить», ассимилировать, обновить благодаря ему старый каркас своих обветшалых понятий. Должен был появиться философский, или академический, экзистенциализм, экзистенциализм как обозначенный акт, как машина, формирующая идеи, как аппарат изготовления тезисов. И действительно, ошибка экзистенциального экзистенциализма, за исключением экзистенциализма Кафки, заключалась в том, что он принял себя за философию. Философское состояние, которое я не решаюсь назвать познавательным, должно было естественно и неизбежно сменить состояние молящего, мучительную тревогу и тоску человека веры: или, точнее, однажды приняв философское отношение, благородное и необходимое, если человек чтит разум, благодаря которому он живет, но бесплодное и порочное, если он насмехается над разумом, должны были бережно сохранять эту тревогу и тоску, но теперь уже не как то, что заставляет говорить или бредить, а как то, о чем говорят или письменно рассуждают, как новые принципы для построения систем и новые темы для искусной разработки. Крик, исходящий из глубины пропасти, стал философской темой. Минерва — но какая Минерва! — перенесла лестницу Иакова в свои владения. Она разделила ее на части, с тем чтобы употребить для декора академического театра и кресел.
Эта выгодная работа не оказалась безвредной для самой Минервы. Она предстала совершенно истерзанной. Восстание души и отчаянные поиски Царства Божия в конечном итоге лишь развратили разум. Великий экзистенциальный экзистенциализм, проникнув однажды в стан своего врага, преуспел лишь в том, что спровоцировал в самой философии философское разрушение разума, и интеллектуальный эффект этого, кажется, обеспечен на годы: философское искусство, умело укрепившееся за фрейдистским анализом и феноменологическими скобками, распространение идеологии абсурда и полная философская ликвидация глубинных реальностей и основополагающих требований личности и субъективности.
Все, что было сущностно связано с высшей борьбой за свое спасение, с устремлением молящего и состоянием веры, с неизбежностью исчезло. Душа была удалена; призыв к Богу, заблуждение или отчаяние от избытка надежды, ожидание чуда, чувство жертвенности и чувство греха, духовная тревога, вечное достоинство существующего, величие его свободы, воздвигнутой на руинах его природы, были с необходимостью удалены. Удален был и сам Иов; остался нетронутым лишь тлен. Ничто в существующем было заменено на ничто существующего. Ужас свободного отрицания, разрушающего существование, уступил место констатации естественного небытия, которое является его пределом или поражает его антиномиями высшей диалектики; или переживанию угрозы, исходящей для Я от безличного субъекта (on); или же принятию — здесь по крайней мере замешана гордыня — неспособности «для себя» делать что-либо иное, нежели подтачивать и отрицать существование, и тошноты, которая охватывает дух перед нелепой беспочвенностью «в-себе» и полнейшей абсурдностью существования[85]. Моральная трагедия уступила место софистической метафизике.
Всякая философия обладает своими достоинствами; я не отрицаю этого и относительно тех философий, о которых говорю, не отвергаю тех элементов истины, которыми они овладевают. При всей их обманчивости они самим обращением к словам «экзистенция» и «свобода» продемонстрировали способность распознать то, чего более всего не хватает нашим современникам, а также стремление по крайней мере возместить на свой лад нечто, решительно забытое системами наших великих архитекторов. Я хотел лишь отметить, по какой четкой логической кривой современная мысль двинулась от экзистенциального экзистенциализма к экзистенциализму академическому, от экзистенциализма веры к атеистическому экзистенциализму.
Я знаю, что есть и другие формы философского экзистенциализма, и в частности христианский экзистенциализм, который выступает против атеистического экзистенциализма с тем более острой проницательностью и тем более живой воинственностью, что их борьба есть противоборство двух братьев-врагов. В сфере истинной феноменологии, где психологический и моральный анализ действительно является подходом к онтологическим проблемам, где сама чистота непредвзятого взгляда позволяет философу углубить человеческий опыт и извлечь из него значения и реальные ценности, этот христианский экзистенциализм хорошо себя зарекомендовал и приносит нам важные открытия. Тем не менее я не верю, что он, равно как и любая другая философия, которая отказывается от интеллектуальной интуиции бытия, когда-либо сможет прийти к метафизике в собственном смысле слова, разумно обоснованной, понимающей, четко сформулированной и способной служить мудрости так же, как и знанию. И по той же причине я не верю, что в процессе эволюции философской мысли христианский экзистенциализм сможет подняться выше второстепенного места и подавить исторический порыв, который дает сегодня атеистическому экзистенциализму и даст завтра новым системам, также исходящим из центральных принципов давней традиции, восходящей к Декарту, эфемерную, но широкую власть над умами. Для этого необходимо было бы очистить истоки и представить их в первозданном виде, покончить с приобретенными привычками и критической ленью, накопленной в течение трех столетий, порвать с ошибками, общими для экзистенциального иррационализма, идеализма, эмпирического номинализма и классического рационализма.
Положение экзистенциализма
34. «Мы думаем, что центральная интуиция, на которой держался экзистенциализм Кьеркегора, аналогична в конечном счете той, что составляет сердцевину томизма, — интуиции абсолютной ценности и примата существования, existentia ut exercita[74*], но возникла она в недрах истосковавшейся веры, лишенной своего интеллигибельного или надынтеллигибельного содержания, безнадежно ожидающей чуда и отказывающейся от мистического обладания, которого она жаждет. Она была порождена радикально иррационалистской мыслью, которая отвергает сущности и жертвует ими, нисходя во мрак субъективности»[86]. Мне кажется, что эти написанные мною некогда строки сохраняют свое значение. Но если верно, что мышление Кьеркегора и его отношение к миру прежде всего и по сути своей религиозны, то, возможно, правильнее было бы говорить, что экзистенциализму Кьеркегора придавало жизненность нечто большее, чем интуиция примата существования. Что же именно? Слово «интуиция» здесь не подходит; это, скорее, преобладающее, абсолютное, опустошающее чувство тайны бесконечной трансцендентности (засвидетельствованной патриархами и пророками) Того, чье Имя «непроизносимо, поставлено над всеми иными именами как в нынешнем веке, так и в грядущих»[87]; это, скорее, всегда противоречивое и тягостное ожидание, жажда — на сегодня, для этого жалкого существующего — уничтожения греха и смерти, избавления от рабства перед Законом и перед необходимостью сотворенного мира, уничижения «значащего» и предпочтения «ничего не значащего»[88], жажда волнующей свободы, о которой возвещает Евангелие.
Все это, впрочем, больше связано с жизненным отношением, нежели с доктриналъными положениями. Это чувство трансцендентности абсолютного, это ожидание избавления составляют жизненный принцип отношения молящего, отношения драматической единичности, о котором я говорил выше, упоминая о Кьеркегоре и Шестове. Я ни в коей мере не утверждаю, что их учение было более верно Библии и Евангелию, нежели учения других еврейских и христианских мыслителей, отнюдь нет! Они впали в величайшее заблуждение, фатальное для их учений; их ошибка, имевшая далеко идущие последствия, состояла в убеждении, что для возвеличения трансцендентного нужно сокрушить разум, тогда как в действительности необходимо принизить его перед создателем и тем самым спасти его. Даже если первую ошибку совершил Гегель, который утверждал, что философия — его философия! — есть Наука, прозревшая наконец добро и зло, то и в этом случае нельзя простить Шестову отождествление разума и Змия. Но я думаю, что Кьеркегор и Шестов испытали в большей мере, чем другие, испытали до глубины души то потрясение или терзание, которое не дает ни отдыха, ни пощады и которое, конечно, не тождественно с верой в Евангелие и порой даже, как у Шестова, показывает только жажду этой веры, но которое все же исходит от ностальгии, влиянной Евангелием в жилы человечества. За пределами божественных добродетелей в человеке нет ничего, что свидетельствовало бы о его величии больше, чем подобный трепет. Философия вершит свое дело с помощью чужих средств. Безумство дозволительно пророку, но недопустимо для философа.
Ни Кьеркегор, ни Шестов не воздали должного мистикам, они жестоко, и довольно банально, ошибались по отношению к ним. Однако именно опытом мистиков и их упорством они вдохновлялись, сами того не сознавая. Если мы попытаемся определить их подлинное место в царстве духа, то нам нужно будет обратить взор не к философии, а к тому апофатическому созерцанию, в котором Бог познается как непознаваемый и в свете которого их усилия и борьба обретают свое наиболее истинное значение. На их пути встретились преграды, которых они не смогли преодолеть. Это был путь духовного героизма; в конце его они должны были найти своих подлинных единомышленников. Они устремились сквозь мрак туда, где исповедуются души, охваченные и озаренные безумием креста.
Если обратиться теперь к экзистенциализму другого рода — экзистенциализму философскому, или академическому, в его наиболее типичных формах, и в особенности к атеистическому экзистенциализму, то он отбросил все то, что составляло жизнь «первого поколения экзистенциалистов». Из чего же он исходит? Какова его центральная интуиция, без которой он не был бы философией, достойной того, чтобы потратить на нее хотя бы час труда? Поскольку рассматриваемый в данном случае экзистенциализм является экзистенциализмом философским, или академическим, а следовательно, искаженным и искусственным, неудивительно, что он маскирует и скрывает эту интуицию, применяя все средства, чтобы защититься от нее. М. Хайдеггер, которому присуще чувство уместности, недавно отрекся даже от самого слова «экзистенциализм». В первой главе своего краткого очерка я отмечал то рвение, с каким атеистический экзистенциализм пытается приспособить человека к состоянию «бесполезной страсти». За разного рода оборонительными сооружениями, которые создает каждая отдельная система, остается центральная интуиция академического экзистенциализма — совершенно простая и проясняющая интуиция nihil, из которого мы происходим и к которому мы стремимся («все, что происходит из ничего, — писал св. Фома, — само по себе стремится к ничто»[89]), интуиция чистого ничто, единственного, что можно обнаружить в сотворенном существе, отвергнув Акт Творения, интуиция полнейшей абсурдности существования, оторванного от Бога.
Атеистический экзистенциализм является философией, он обладает реальным, хотя и смутным и обманчивым, опытом свободы, но духовный опыт и трансцендентные апперцепции не представляют его сильной стороны. Даже в продолжениях, которыми атеистический экзистенциализм обеспечивают литература и художественное воображение, его открытия в данной сфере лишены глубины, присущей произведениям Жуан-до[76*]. В то же время вся эта философия развертывается вокруг определенного духовного опыта. Если мы ищем то место в универсуме духа, где она получила бы свое наиболее истинное значение, то, по нашему мнению, надо сказать, что она занимает здесь отнюдь не ничтожное положение весьма разработанной метафизики условий существования человека, по доброй воле принимающего ничто, из которого он происходит, содействующего в себе самом разрушению бытия небытием, покорившегося небытию и делающего выбор в пользу несчастья, так как он предпочитает его, чтобы не быть первичной (отрицающей) причиной в осуществлении своей свободы. Подобно тому как у нас бывают (безотносительно к судьбе) предвосхищения вечной жизни, бывают и предчувствия преисподней. Эти последние играют в жизни человека, и в особенности современного человека, немаловажную роль. И мы должны осознать интерес философии, которая, несмотря на свои попытки всеми способами скрыть от себя свое подлинное значение, рассматривает положение человека и восстанавливает проблему бытия в перспективе этих предчувствий. Такая философия раскрывает пустоту, из которой, возможно, вновь появится подлинная метафизика бытия[90].
Принимая на себя роль единственного высшего знания, заменяющего теологию, философия в течение трех столетий освоилась с наследием и бременем теологии. Великие современные системы метафизики лишь внешне свободны от теологии; вопросы, которые она стремилась решить, по-прежнему не дают им покоя. И это нигде не проявилось с такой очевидностью, как в философии Гегеля. Нелишне отметить, что атеистический экзистенциализм также остается зависимым от теологии — от перевернутой теологии. Для него, как и для марксизма, атеизм является отправной точкой, принятой заранее; эти две противоположные философии, одна — рационалистическая, другая — иррационалистическая, развиваются в свете а-тео-логии, по отношению к которой они остаются ancillae[77*]. Отсюда следует, что пути бытия для них закрыты, поскольку они слишком рискуют вторгнуться в пределы трансцендентного Бытия: эти философии не могут, несмотря на их неприятие идеализма, конституироваться в качестве философий бытия, и даже само название «экзистенциализм» является для атеистического экзистенциализма узурпированным. Ни бытие, ни существование: и та и другая философия в реальности суть философии действия, будь то praxis[78*] и преобразующее мир действие или свобода для свободы и моральное творение a nihilo[79*]. Именно поэтому само понятие «созерцание» стало для них немыслимым, и им не. остается ничего другого, как только с невежественным презрением клеймить словом «квиетизм» самую высокую и самую чистую активность интеллекта, свободную активность наслаждения истиной.
Автономия философии
35. Св. Фома различал, чтобы объединить. И оттого он различал еще более ясно и четко. В определенный момент истории культуры, когда христианская мысль, подчиненная августинианской традиции, решительно не желала выделить место чисто рациональным дисциплинам, одна из главных целей его деятельности состояла в неопровержимом различении философии и теологии и установлении, таким образом, автономии философии. Эта автономия была установлена им в принципе. После него попытки действительного, фактического установления автономии философии не имели успеха; далеко до успеха и сейчас. Номинализм схоластиков, пришедших после св. Фомы, мог только скомпрометировать эту автономию, лишив метафизику ее достоверности, с тем чтобы представить таковую всецело достоянием сверхрациональной веры. Философский империализм великих мыслителей, которые пришли после Декарта, скомпрометировал ее иным, противоположным образом, лишив власти теологическую мудрость и возложив на метафизику и философию морали, как я недавно заметил, главные обязанности и высшую ответственность, которые прежде были уделом теологии и которые философия отныне брала на себя — сначала с торжествующим оптимизмом, а затем с мрачным пессимизмом великого разочарования. Система Мальбранша есть теофилософия. Учение Лейбница о монадах представляет собой метафизическую транспозицию трактата об ангелах. Мораль Канта — это философская транспозиция десяти заповедей. Позитивизм Огюста Конта вылился в религию Человечества. Панлогизм Гегеля был высшим напряжением современной философии, направленной на то, чтобы подчинить все сферы духа абсолютизму разума. После этого пришло разочарование в разуме, но в разуме все еще не свободном, все еще отягощенном теологической заботой, ставшей теперь заботой антитеологической. Когда Фейербах заявил, что Бог есть творение и отчуждение человека, когда Ницше объявил о смерти Бога, они выступили в роли теологов нашей современной атеистической философии. Не потому ли они охвачены горечью, что чувствуют себя помимо своей воли прикованными к трансценденции и к прошлому, которое им надлежит постоянно умерщвлять и в отрицании которого кроются их собственные корни?
Таким образом, есть странная аналогия между ситуацией нашей эпохи и XIII столетия. Если философия должна быть защищена от деформаций, которые происходят из-за ее рабской зависимости от теологического наследия христианства или антитеологического атеистического наследия, если она должна обрести собственную автономию на этот раз не только в принципе, но и фактически, то она сможет это сделать лишь благодаря Аристотелю и Фоме Аквинскому. Впрочем, следует подчеркнуть условный характер этого суждения. Ведь до настоящего времени — в том, что касается христианской мысли, — ни в сфере метафизики, ни тем более в сфере морали томисты не так уж старались полностью отделить структуру своей философии от методов и проблематики своей теологии. И очень часто первая оказывалась переносом в область чистого разума теологии, лишенной ее собственного света, которым является вера, без осуществления, однако, организационной перестройки, которая бы дала opus philosophicum структурную конституцию и внутренний порядок, присущие философии: подлинно философская душа оживляет, таким образом, тело, которому она не передала полностью собственную конфигурацию и которое не обнаруживает четко выраженной соразмерности с нею. С другой стороны, ничто не убеждает нас в том, что теологи нашего времени не совершат ту же самую ошибку, что и их предшественники в XIV столетии, и не попытаются сохранить на время свою власть над душами и определенный теологический империализм, включая в теологию и используя в ее целях надлежащим образом подслащенные и приспособленные к запросам веры философские темы нынешней эпохи, вместо того чтобы использовать методы и дистинкции св. Фомы и дать возможность философии с ее принципами свободно развиваться в своей автономной области и оберегать от новейших систем те истины, из которых они черпают свою сиюминутную силу.
Наконец, мы еще менее уверены в том, что философы — прежде рационалисты, сегодня атеисты, — следующие современной традиции, будут в состоянии возродиться в изначальных интуициях разума и в дисциплинах, принадлежащих к философии, раз и навсегда освободившейся от цепей всякой псевдотеологии и антитеологии.
Действительно — вот где обнаруживается уязвимое место, — порядок и законы духовного мира нерушимы, и философия не освободится на самом деле от всякой деформирующей зависимости по отношению к теологическому наследию или наследию антитеологическому, не станет подлинно автономной, если она не признает необходимость существования теологии и ее ценность и не сохранит в то же время свою автономию — которая не является высшей — путем свободного и естественного признания своей второстепенности по отношению к превосходящей ее мудрости. Св. Фома утвердил философию в ее собственной сфере, он четко и непререкаемо отграничил ее от теологии, при этом он доказывал связь в различии и провозглашал внутреннее превосходство теологической мудрости над метафизической мудростью, равно как и превосходство мистической мудрости над мудростью теологической. В этой сфере мы ничего не можем сделать, ибо она независима от нас. Признавая ее, мы спасаем на всех ступенях автономию каждой из форм познания.
Но эти соображения, которые касаются сущностей, или основных свойств, еще недостаточны. Условия или требования экзистенциального порядка также должны быть приняты во внимание. Томистские принципы не просто вносят в область познания различия и единство, но и демонстрируют живительную силу и поддержку, которую каждая из ступеней получает от других в экзистенциальном контексте и конкретной реальности жизни духа. Они ясно показывают нам, каким образом в нематериальном средоточии сил души мистическая и теологическая мудрость оживотворяют и подкрепляют мудрость метафизическую, так же как эта последняя оживотворяет и подкрепляет философскую деятельность более низкого уровня[91].
Здесь встает вопрос, оживленно дебатируемый вот уже несколько лет подряд, — о том, что приходится именовать двусмысленным выражением «христианская философия»: либо это философия христианская не по сущности своей, но лишь по своему статусу или по условиям своего существования, как обстоит дело в области спекулятивной философии; либо это философия христианская по использованию тех истин, которыми она оперирует в своем собственном контексте, заимствуя их из иной, теологической, сферы, благодаря экзистенциальному статусу самого предмета (человеческое поведение), который она рассматривает, — как обстоит дело в области философии морали. Ранее я уже обсуждал этот вопрос о христианской философии[92] и сейчас удовлетворюсь замечанием, что св. Фома, не рассматривая специально этого вопроса, придерживался здесь вполне определенной позиции. Он подтвердил ее не только своими принципами, но и собственной деятельностью — борясь и страдая, ибо вся его борьба была направлена на признание Аристотеля и опровержение Аверроэса, т. е. на то, чтобы одновременно обеспечить признание сущностной автономии философии и жизненно связать ее, в ее человеческом осуществлении, с высшим светом теологической мудрости и мудрости святых. «Если есть сегодня томистские авторы, для которых возмутительна даже сама идея христианской философии, то это лишь доказательство того, что можно повторять формулы учителя, не осознавая их духа, и того, что томизм, как и всякая великая доктрина, может быть препарирован, как труп профессорами анатомии, вместо того чтобы быть осмысленным философами»[93].
Философия и духовный опыт
36. Идет ли речь о примате существования в метафизике и в теории познания; или о глубоко экзистенциальном характере суждения совести и суждения практической мудрости в философии морали и об экзистенциальных конечных целях самой философии морали; или о центральном значении, отведенном существующему и субъекту в универсуме бытия; или о теории зла, виновности свободного существа и несовершенствах его свободы с открываемой нам томистскими принципами точки зрения вечных предначертаний, — в каждом из этих случаев, как было показано на предыдущих страницах, ясно, что экзистенциализм Фомы Аквинского отличается от современного экзистенциализма, поскольку он рационален и поскольку, основывая собственные суждения на интуиции чувства и разума, он повсюду связывает, отождествляет бытие и интеллигибельность. Декарт и вся рационалистическая философия, сформировавшаяся вследствие картезианской революции, полагают непреодолимую враждебность между интеллектом и тайной, и здесь, без всякого сомнения, кроется источник глубокой бесчеловечности базирующейся на рационализме цивилизации. Св. Фома примиряет интеллект и тайну в сердце бытия, в сердце существования. И этим он освобождает наш интеллект, он возвращает его к собственной природе, возвращая к своему объекту. Этим он также приводит нас в состояние внутреннего единства и позволяет нам, не отказываясь от разума и философии даже в тех областях, которые превосходят философию и к которым не могут привести никакие философские пути, достичь свободы и мира.
Здесь мы видим самое высокое и самое значительное стремление к бытию, одухотворяющее томистскую мысль и делающее ее столь отчаянно необходимой, но в то же самое время столь чужеродной и нетерпимой по отношению к больному, опустошенному и ожесточившемуся разуму наших дней. Она созидает единство, а мы любим рассеяние; она творит свободу, а мы предаемся поискам какого-нибудь вида коллективного рабства; она ведет к миру, а наш удел — насилие. Терзающие нас муки мы любим больше всего на свете. Нам совсем не хотелось бы избавиться от них.
Однако великий Немой Сицилийский Бык давно начал громогласно заявлять о себе в мире, и прекратится это нескоро. Каждый может его услышать. Если его дух и учение несут человеку единство, то секрет этого все тот же: понимание всего в свете щедрости бытия. Природа и благодать, вера и разум, теология и философия, добродетели сверхъестественные и естественные, мудрость и наука, энергия спекулятивная и практическая, мир метафизики и мир этики, мир познания и мир поэзии, а также и мир мистического молчания — за каждым созвездием нашего человеческого небосвода св. Фома старается признать его место и права, но он не обособляет их. В своей экзистенциальной перспективе он находит в различии единство, которым является Образ Бога, и объединяет все наши способности в совместном действии, спасающем и стимулирующем наше бытие[94]. Фома Аквинский противостоит Гегелю, который все разъединяет и приводит в состояние борьбы, принимая всеобщность бытия в антиэкзистенциальной перспективе абсолютного идеализма и желая все свести к единству Великого космогонического Идола, в котором противоположности соединяются для порождения монстров и в котором отождествляются Бытие и Небытие.
37. Воздадим должное Кьеркегору и его последователям за то, что, выступая против Гегеля, они вновь преподали тем, кто неустанно мыслит, великий урок тоски, и в особенности за то, что они напомнили этот великий урок приверженцам св. Фомы. Огромная опасность, подстерегающая тех, чья доктрина восходит к высотам единства и мира, состоит в том, что они могут счесть свой путь завершенным тогда, когда находятся еще в самом его начале, и забыть, что для человека и его мысли мир — всегда победа над раздором, а единство — цена выстраданного и преодоленного разлада.
Мир и единство томистов не имеют ничего общего с легкодостижимым равновесием и диалектическими примирениями разума, обосновавшегося в зоне безопасности, под защитой механизма готовых ответов, выдаваемых на любой вопрос. Они требуют постоянно преодолевать постоянно возникающие вновь конфликты; глубоко вникать в новые проблемы, с тем чтобы из скалы обретенного знания пробился источник новой интуиции неведомых истин или истин старых, заново понятых; присоединяться ко всем усилиям, направленным на поиски и открытия, с тем чтобы высветить истину, достигаемую благодаря этим усилиям обычно лишь при содействии некоторого заблуждения или в неудачном понятийном выражении. Они требуют от человека напряжения и широты, которые, по правде говоря, достижимы лишь в скорби креста. Ибо слова апостола Павла относятся и к сфере духовной: без пролития крови нет искупления. Примирение высших сил разума и жизни, которые по природе своей неистовы, как и всякое стремление к абсолютному, и притязают на все, есть ложное примирение, если оно не являет собою также искупление; и оно может свершиться лишь ценой страдания самого духа[95].
Тоска ничего не стоит как философская категория. Из такой материи не создашь философии, равно как и не изготовишь защитного скафандра. Оказывается, она внутри скафандра; она не входит в его составляющие. Тоска есть достояние субъективности. Она сосредоточена в философе, а не в его философии; и если она переходит в философию, то это значит, что философия его заражена его Я и что его Я находит в этом средство самоуспокоения; сделать тоску предметом мысли гораздо удобнее, нежели ее выносить.
У какого философа тоска не была спутницей его судьбы? К чему биться об землю, когда от вас ускользает суть? Когда даже работа по заключению истин в наши самые правильные слова кажется предательством истины, появляется вкус к смерти. Счастливы те, у кого тоска пролилась чистой слезой; биографы св. Фомы говорят о том, что он много плакал; высочайшее творение безмятежной объективности рождено в слезах святого. Фома Аквинский трудился не в мире, а в состоянии конфликта и нетерпения. Да и что такое мы сами, как не приговоренные к смерти, которые до странности торопятся сказать свое слово перед уходом туда, где не нужны никакие слова и где все очевидно? Он был до такой степени томим жаждой познания, что прикладывал лоб к алтарю, надеясь на озарение, и взывал к святым Петру и Павлу, моля их рассеять его сомнения. Это происходило оттого, что Фома Аквинский чувствовал себя ответственным за решение самой трудной задачи; ему нужно было сохранить, переустроить без потерь и ориентировать на будущее весь универсум христианской мысли: малейшая ошибка загубила бы все. Не говоря уже о бдительных собратьях, которые следили за всеми его действиями и искали случая похоронить его труд на кладбище ереси и которые добились осуждения его доктрины в Париже и Оксфорде, когда он уже не мог ее защитить. Не потому ли он плакал? Он плакал, наблюдая мистерию бытия, он плакал, ибо видел достаточно для того, чтобы изнемочь под наплывом невидимого им.
Но все это далеко не тоска. Тревога, тоска есть не что иное, как форма духовного опыта философа. На своем пути он испытывает и другие состояния, он познает интеллектуальную радость, в которую не проникает ничего человеческого, решающие интуиции и озаряющую уверенность, нечто вроде опьянения объектом, которое почти жестоко; иногда застывшую восторженность взгляда, который обнажает и разрушает; временами отвращение, когда приходится ворошить те остовы животных и кости умерших, о которых говорил Гёте; иногда всепоглощающую страстную увлеченность бесконечными исследованиями, осуществляемыми людьми, и всеми достигнутыми в них истинами; порой сожаление об ошибке с ее двусмысленностью и великое одиночество или отчаяние духа; порой сладость приближения к материнской ночи. Я хотел бы отметить, что духовный опыт философа — это питательная почва его философии и что без него философии бы не существовало, однако он не входит и не должен входить в интеллектуальную ткань философии: мякоть плода должна состоять только из истины.
И если верно, что философия стремится к самопреодолению, для того чтобы прийти к безмолвию единства, в котором она увидит все известное ей в более прозрачном и чистом свете, к какому же опыту может она таким образом привести человеческий дух, имея своим главным предметом мир и человека, как не к опыту дара знания? И тогда обретен будет мир, и тогда можно будет сказать: ессе in pace amaritudo mea amarissima[80*]. Дар знания, по словам Хуана де Санто-Томаса[96], порождает в нас тварный опыт или вкус, отдаляющий нас от тварей, духовный опыт сотворенного, который вызывает у нас тоску по Богу. «Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор… Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты — Господь Бог наш»[97]. На какое же более истинное знание мог бы претендовать философ? Он достигнет желаемого, когда однажды не дискурсивными средствами разума, а благодаря внутреннему и простому опыту, в котором, кажется, все сказано и соучастие нераздельно с отрешенностью, уяснит, что сущие при всей их красоте в большей мере отличаются от бесконечного Бытия, нежели похожи на него, и узнает, как велика заброшенность тех, кто, для того чтобы обозреть сотворенное, должен был подняться на ледник пустоты и увидеть всюду одну лишь пустоту. Тогда он узнает, что нет ничего более униженного у людей, чем любимая им истина. Он почувствует, что возможность ее постигнуть всегда упускается и что самое высокое ее содержание, если оно чисто человеческое, оказывает влияние на историю лишь подобно тому, как подгоняют слепых, и остается неразгаданным. Он постигнет подлинный смысл слов mihi videtur ut palea[81*], отдаст себе отчет в том, что все высказанное людьми о бытии и о Боге должно казаться святым ворохом соломы и что соломинка, которую каждый с великим трудом пытается к нему добавить, никого не спасет, ибо все будут судимы лишь в свете любви. Он поймет, что ценности интеллигибельного бытия — это величие существования и этот вкус существующего, который он так жаждал познать! — противостоят ему в своем бесконечном безразличии и никогда не стремились стать его достоянием. Это он, следуя закону человеческого интеллекта и нацеливая его на извлечение смысла, желает постигнуть их, проникнув на мгновение сквозь покров. И, следовательно, он изначально был готов к разочарованию, ибо мы неизбежно испытываем разочарование, когда желаем постигнуть то, что не хочет нам открыться. Если холмы были обманчивыми, это не означает, что они ему лгали. Однажды они раскроются ему, все станет доступным человеческому интеллекту, но лишь тогда, когда Существование, имеющее основание только в себе самом, раскроется в видении.
Величие и нищета метафизики
Посвящается Шарлю Дюбо1*
1. Казалось, можно было бы предполагать, что в эпохи спекулятивного оскудения метафизика блещет хотя бы скромностью. Однако то время, которое не знает ее величия, не знает и ее нищеты. Ее величие? Она есть мудрость. Ее нищета? Она есть человеческое знание. Да, она именует Бога. Но именует не его именем. Ибо Бога нельзя описать, как описывают дерево или коническое сечение. Поистине, Ты — Бог сокровенный, Ты — истинный Бог, спаситель Израиля. Когда однажды на заре Иаков спросил у Ангела: «Скажи мне имя твое», Ангел ответил: «Зачем ты спрашиваешь о имени Моем?»[98]. Нельзя произнести поистине чудесное имя это, вознесенное над всяким именем не только в сем веке, но и в будущем[99].
2. Кем бы ни был философ — неокантианцем, неопозитивистом, идеалистом, бергсонианцем, логистом, прагматистом, неоспинозистом, неомистиком, — его разъедает один глубокий порок, свойственный всем философам нашего времени. Порок этот — старое заблуждение номиналистов. Под разными обличиями, с разной степенью осознанности ставят они в упрек понятийному познанию то, что оно не дает интуиции сверхчувственного единичного сущего, подобно scientia intuitiva[2*] Спинозы или теософскому видению Бёме либо Сведенборга, об иллюзорности коего с таким сожалением объявил Кант. Все они не прощают понятийному познанию того, что оно не способно открыть, подобно познанию чувственному, непосредственный доступ к самому бытию, но — лишь к сущностям, к возможному, и не достигает действительного существования, коренящегося в чувственном. Они совершенно игнорируют ценность абстракции, этой имматериальности, более прочной, чем сами вещи, — пусть неосязаемой и невообразимой, которую разум ищет в сердцевине вещей. В чем причина этого неизлечимого номинализма? В том, что, имея вкус к реальности, утратили чувство бытия. Бытие как таковое, оторванное от воплощающей его материи, бытие с одними лишь объективными необходимостями, с невесомыми законами, неосязаемым принуждением, со всей своей незримой очевидностью для них — пустое слово.
Можно ли умозрительно изучать геометрию в пространстве, не видя фигур в этом пространстве? Можно ли рассуждать о метафизике, не видя умопостигаемых сущностей? Без сомнения, трудная гимнастика нужна поэту, но она нужна и метафизику. И все же в обоих случаях не обойтись без изначального дара. Один мой друг иезуит считает, что после грехопадения Адама человек стал столь непригоден к мышлению, что следует рассматривать интеллектуальную перцепцию бытия как мистический и сверхъестественный дар, которым наделяются немногие привилегированные. Благочестивое преувеличение. И тем не менее верно, что эта интуиция есть для нас пробуждение от снов и сновидений, решительный шаг за пределы сна и его звездных потоков. Ибо есть у человека несколько сновидческих планов. Каждое утро он выходит из сна животного. Из своего человеческого сна он выходит, когда раскрывается его интеллект (и из сна божественного он выходит от прикосновения Бога). Рождение метафизика, подобно рождению поэта, сопровождается чем-то вроде благодати природного порядка. Один из них, бросающий свое сердце в мир вещей, как стрелу или ракету, как бы гадательно, прозревает в самом чувственном неотделимый от него блеск духовного света, откуда сияет ему взор Бога. А другой, отвернувшись от чувственного, уже посредством науки видит в умопостигаемом, отделенном от преходящих вещей, тот же духовный свет, но уловленный в некоей идее. Абстракция, которая есть смерть для одного, для другого — воздух, которым он дышит; воображение, дискретность, неверифицируемость, гибельные для одного, животворят другого. Оба вбирают лучи, исходящие от творческой Ночи, один питается умопостигаемым, которое вещественно и столь же многообразно, как отсветы Божества в мире, другой умопостигаемостью в чистом виде, но столь же определенной, как само бытие вещей. Оба качаются на качелях, поочередно возносясь до неба. Зрители забавляются этой игрой; они сидят на земле.
3. Вы, говорят мне, похожи на толкователя черной магии, который, не дай Бог, еще прикажет нам летать, пользуясь руками, как крыльями. — Нет, я прошу вас летать на ваших крыльях. — Но у нас есть только руки. — Руки? Но это атрофированные крылья, нечто совсем особое. Они отросли бы, если бы вы были смелее, если бы вы поняли, что мы опираемся не только на землю и что воздух — не пустота.
Апеллировать в борьбе против философии к простой ее фактической невозможности, к конкретному историческому состоянию разума, говорить ей: то, что вы предлагаете на нашем рынке, может быть, и вправду истина, но структура нашей ментальности стала таковой, что мы не можем больше понимать вашу истину, поскольку дух наш «изменился, как и наше тело»[100], — все это, строго говоря, никакой не аргумент. Однако он лучший из всех, какие только можно противопоставить нынешнему возрождению метафизики. Слишком верно то, что вечная метафизика уже не вмещается в границы современного мышления или, вернее, это мышление уже не вписывается в нее. Три века эмпириоматематизма принудили разум интересоваться только изобретением приборов для уловления феноменов — понятийных сетей, которые обеспечивают разуму определенное практическое господство и некое иллюзорное постижение природы, так как мысль разрешается не на уровне бытия, а на уровне самого же чувственного. Продвигаясь, таким образом, вперед не путем присоединения истин новых к истинам добытым, а через замену изношенных приборов новыми, манипулируя вещами без их понимания, наступая мало-помалу, но неотвратимо на реальность, одерживая всегда частичные и временные победы, втайне все более и более проникаясь вкусом к материи, с которой оно хитрит, — современное мышление развило в себе, в низшей области научного миросозидания, некий многогранный и удивительно изощренный контакт с вещами и изумительный охотничий инстинкт. Но в то же время оно стало жалким, ослабло и разоружилось перед лицом своих собственных объектов; недостойным образом мышление отрекается от них и не способно теперь охватить вселенную разумных очевидностей иначе, как систему хорошо смазанных шестеренок. Вот почему ему ничего другого не остается, как выступить или против всякой метафизики (устаревший позитивизм), или на защиту псевдометафизики (позитивизм нового типа), или на защиту одной из ее подделок, где мы находим экспериментальный прием в самой грубой его форме, как у прагматиков и у плюралистов, или в самой тонкой — в целостном акте М. Блонделя и его усилии мистически пережить все вещи — чтобы захватить области чисто интеллектуального постижения.
Все это так: наклонность современного интеллекта — против нас. Но разве она не существует только для того, чтобы преодолевать ее новым подъемом? Интеллект не изменил своей природы, он приобрел лишь дурные привычки. Привычки могут быть исправлены. Вторая природа? Но первая все же остается; и силлогизм пребудет до тех пор, пока жив будет человек.
Философа гораздо менее, чем художника, стесняет расхождение с интеллектуальным ритмом его времени. Дело обстоит по-разному в первом и втором случаях. Художник изливает в свое произведение творческий дух, метафизик соизмеряет реальность с познающим духом. Художнику удается овладеть материалом лишь тогда, когда он сначала вверяет себя духу времени, доводя его до предела и, прежде всего, собрав воедино все свое томление и весь свой пыл, — чтобы затем выправить все целиком. Философ же должен, прежде всего, связать себя с объектом и держаться за него с таким упорством, чтобы в материале, который ему сопротивляется, произошел, наконец, прорыв, определяющий перегруппировку сил и новую ориентацию.
4. Верно и то, что метафизика не может нести никакой пользы для экспериментальной науки. Открытия и изобретения в царстве феноменов? Здесь ей нечем похвастаться: ее эвристическая ценность, как говорят, равна нулю. С этой стороны ничего ждать от нее нельзя. На небе не трудятся.
И в этом величие метафизики, мы это знаем уже в течение тысячелетий. Она бесполезна, ибо, как говорил еще Аристотель, она не служит никому и ничему, ибо она выше всякого прислужничества, бесполезна — потому что сверхполезна, потому что хороша в себе и для себя. Нетрудно понять, что, служи она науке, занятой миром феноменов и направленной на повышение производительности труда, она, метафизика, не соответствовала бы своему назначению, и в своем стремлении превзойти науку она никогда не смогла бы достичь этого.
Ложна в принципе всякая метафизика, будь то Декарта, Спинозы или Канта, если она оценивается не исходя из ее таинственной сущности, но исходя из состояния науки на тот или другой момент. Истинная метафизика в известном смысле также может сказать о себе: царство мое не от мира сего. Свои аксиомы метафизика добывает вопреки тому, что этот мир пытается их скрыть от нее: о чем свидетельствуют феномены, этот обманчивый поток голой эмпирики, если не о том, что то, что есть, того нет и что следствие больше причины. Ее выводы: она созерцает феномены, восходя от видимого к невидимому, она подчиняет их порядку разумной причинности и в то же время трансцендентна им, она ни в чем не противоречит той последовательности, которой придерживается экспериментальная наука при изучении эмпирической реальности, но при этом остается совершенно чуждой ей. Движения моего пера по бумаге — рука — воображение и внутреннее чувство — воля — интеллект и Перводвигатель, без воли которого все созданное бездействует, — такой ряд ни в чем не противостоит, но и не помогает определению сосудодвигатёльных изменений или ассоциативных образов, связанных с процессом моего писания. Метафизика нуждается в определенном очищении интеллекта; она предполагает также и определенное очищение воли и силу посвятить себя тому, что само ничему не служит, — бесполезной Истине.
Ни в чем, однако, не нуждается так человек, как в этой бесполезности. Не в истинах, которые служат нам, нуждаемся мы, а в истине, которой бы мы служили. Ибо в ней — пища для разума, а мы суть разум в лучшей части нашего существа. Бесполезная метафизика устанавливает порядок — не в стиле полицейских предписаний, а порядок, исходящий из вечности, — причем как для интеллекта спекулятивного, так и практического. Она возвращает человеку его устойчивость и его движение, назначение которых, как известно, в том, чтобы человек, упираясь обеими ногами в землю, головой тянулся к звездам. Она открывает ему во всей полноте бытия подлинные ценности и их иерархию. Она центрирует его этику. Она устанавливает справедливый порядок в мире своего познания, проводя естественные границы, гармонию и соподчинение различных наук. И это значит больше для человеческого существа, чем самые разнообразные достижения в области точных наук, — ибо что толку завоевать мир, но потерять доброкачественность своего разума. Впрочем, мы так немощны, что ясный мир, даруемый неповрежденной метафизикой, может оказаться менее благоприятным для экспериментальных открытий, чем мечтательность и страстность ума, погруженного в чувственный мир. Возможно, что науки о природе любят ловить рыбу в мутной воде; а возможно, и мы имеем право считать себя достаточно облагодетельствованными плодами рассеянного взгляда на мир.
Метафизика утверждает нас в вечном и абсолютном, заставляет перейти от созерцания вещей к разумному постижению — более прочному и верному в самом себе, чем все математические достоверности, хотя в нем мы менее преуспели, — к науке о незримом мире божественного совершенства, раскрывающего себя в тварных отражениях.
Метафизика — не средство, она — цель, плод, благо истинное и сладостное, познание свободного человека, познание самое свободное и, конечно же, царственное; это — вступление в область великой спекулятивной работы, где дышит один лишь интеллект, пребывающий на вершине всех причин.
5. Однако все это пока еще только весьма отдаленное предчувствие той радости, которую подарит нам встреча с отчизной. Мудрость эта приобретена посредством науки, и в этом основное огорчение и печаль для разума. Ибо древнее проклятие, maledicta terra in opere tuo[3*], более трагически тяготеет над нашим разумом, чем над нашими руками. Попробуйте — если вы не рассчитываете на особое покровительство фортуны, о которой не зря так много размышляли язычники, — заняться исследованием высших умопостижений, и это окажется трудом напрасным, причиняющим вам ужасную печаль, какую рождают непостигнутые истины.
Боги ревнуют нас к метафизической мудрости; что касается доктринального наследства, единственно благодаря которому мы можем ее обрести, не совершая ошибок, то оно постоянно игнорируется: человек пользуется этой мудростью лишь случайно. Да и может ли быть иначе? Какой прекрасный парадокс: наука о божественных вещах, завоеванная человеческими средствами, обладание свободой, доступной только духу, но добытой «столь рабской» природой! Метафизическая мудрость стоит на самой высокой ступени абстракции, поскольку наиболее удалена от чувств; она открывает доступ к нематериальному, к миру реальностей, уже существующих или могущих существовать независимо от материи. Но способ нашего восхождения указывает нам также и на нашу ограниченность. По природной необходимости абстрагирование как условие существования всякой человеческой науки влечет за собой, вместе с многообразием различных точек зрения и дополнений, суровый закон логического рассуждения, последовательную выработку концепции, всю сложность огромного производства крылатого аппарата речи, однако, более тяжелого, чем воздух. Метафизика ищет чистого созерцания, она хочет перейти от рассуждения к чистому мышлению; она стремится к единству непосредственного видения. Она приближается к нему по асимптоте, но никогда его не достигает. Кто из метафизиков, если не считать древних брахманов, сильнее, чем Плотин, жаждал этого высшего единства? Но экстаз Плотина не является высшим достижением, скорее, он достиг точки ниспадения метафизики, и одной метафизики недостаточно для того, чтобы этот экстаз удался. Счастливый случай, выпавший на долю Плотина четыре раза за те шесть лет, которые с ним прожил Порфирий, кажется нам как бы мгновенным соприкосновением с интеллектуальным светом, естественно более мощным, чем свет природный, как бы судорогой человеческого разума, вызванной прикосновением чистого духа. Если мы верим Порфирию, когда он говорит, что его учитель родился на тринадцатый год правления Севера, что он слушал Аммония в Александрии, что в 40 лет он прибыл в Рим, что умер он в Кампании; когда он рассказывает нам о его правилах гигиены, его распорядке жизни или благотворительности сиротам, доверенным его покровительству, или о его методе обучения, или о сочинении трудов, или греческом произношении, орфографии etc., — то почему нам не верить Порфирию, когда он говорит нам[101], что философ был внушаем неким высшим демоном, который обитал в нем и который в ощутительной форме ему показался в момент его смерти? «В этот момент под кроватью, на которой он лежал, проползла змея и скрылась в отверстии в стене; и Плотин испустил дух». Что могло бы удивлять здесь, так это то, что метафизический эрос, не имеющий источника во Христе, не нуждается в связи со сверхчеловеческими интеллектуальными сущностями, rectores hujus nrnndi[4*].
Но вернемся к нашей теме. Я сказал уже, что метафизика страдает не только от недостатка, свойственного абстрактному и дискурсивному мышлению. У нее есть недуг, присущий ей одной. Она есть естественная теология, ее объект по преимуществу есть Причина всех причин. Принцип всего, что существует, — вот То, Что она хочет знать. И может ли она не хотеть познать этот принцип знанием совершенным и законным, единственно удовлетворяющим, познать его в самом себе, в самой его сущности, в основе, на которой он покоится? Желание увидеть Первопричину, поскольку оно присуще человеку, будучи «условным» и «несовершенным», ибо оно не рождается в нас из естественного соответствия с объектом, естественно оно как раз для призвания метафизика, который — если он достоин этого имени — не может не испытывать его, этого желания, остроты.
Итак, метафизика позволяет нам познать Бога лишь по аналогии, а именно в том, что не составляет его существа, а является неким общим элементом Его трансцендентальных совершенств, которые проявляются бесконечно разнообразными способами — одновременно и в Нем, и в вещах. Познание истинное, определенное, абсолютное — самая высокая услада для разума, ради чего стоит быть человеком. Но познание это все же бесконечно далеко отстоит от созерцания и заставляет нас еще острее чувствовать всю безмерность тайны. «Per speculum in aenigmate»[5*]. Слишком понятно, что даже наиболее совершенные плоды интеллектуальной жизни оставляют человека все же неудовлетворенным.
Нужно признать за общее положение, что интеллектуальная жизнь недостаточна для нас. Она нуждается в дополнении. Познание вводит в нашу душу все формы и все блага, но лишенные присущей им жизни и низведенные на степень объектов мысли. Они присутствуют как привитые нам, но способ их бытия неполноценен. Они нуждаются в дополнении, они отягчают нас желанием присоединяться к ним в их собственном и реальном существе, овладеть ими не только в идее, но и в реальности. И вот тут-то и является любовь. Она влечет душу к соединению уже действительного характера, что интеллект сам по себе, за исключением особых случаев созерцания Бога, дать не может[102]. Мы обречены, если не считать некоторых неестественных отклонений, на то, чтобы наша интеллектуальная жизнь в конце концов признала свою нищету и в конечном итоге скатилась до уровня желания. Это — проблема Фауста. Если человеческая мудрость не устремляется ввысь в любви к Богу, она ниспадает в своем влечении к Маргарите. Мистическое обладание святым Богом в Его вечной милости или физическое обладание бедной плотью в преходящем времени — таков удел каждого, каким бы волшебником он ни был. Это выбор, которого нельзя избежать.
6. Здесь нищета метафизики (но и ее величие). Она пробуждает жажду высшего единства, полноты духовного обладания в реальности, а не только в идее. Но не может ее удовлетворить.
Иную мудрость проповедуем мы, соблазн для Иудеев и безумие для Эллинов. Мудрость эта — дар обожествляющей благодати, свободный взлет несотворенной Премудрости, превышающий всякое человеческое усилие. В основе ее лежит безумная любовь к каждому из нас, стремящаяся в конечном счете к соединению с духом. Только тут открывается доступ ко Христу распятому, к неземному Посреднику между небом и землей. С пригвожденными руками и ногами, распятый на перекладине, он спрашивал, так же как спрашивали его: «Что есть тайна? — Наименьшую степень ее ты видишь здесь, — ответил аль-Халладж. — А высшую степень? — Это тебе недоступно. И, однако, завтра ты узришь ее. Ведь мистическое заключено в божественной мистерии, где коренится всякая тайна, о чем я свидетельствую, но что остается скрытым от тебя»[103]. Мистическая мудрость не есть блаженство, не есть совершенное обладание божественной реальностью. Но это ее начало. Это вхождение уже здесь, на земле, в непостижимый свет, вкушение, осязание и непреходящая сладость от близости Бога, ибо семь даров пребудут в видении такими, какими уже здесь их открывает нам вера.
Мы не можем извинить ни тех, кто ее отрицает, ни тех, кто ее искажает, ибо и те и другие впали в заблуждение из-за непростительного метафизического самомнения: познав божественную трансцендентность, они не хотят воздать ей должное.
Многие доктрины, предлагаемые нам на Западе под видом мудрости Востока[8*] (я не говорю о подменной восточной мысли, толкование которой требует учета массы дистинкций и нюансов), эти доктрины, вызывающие и легковесные, являются подлинным отрицанием мудрости святых. Думая достичь наивысшего созерцания на путях одной лишь метафизики, ища совершенствования души вне милосердия, тайна которого остается для них совершенно непроницаемой, подменяя сверхъестественную веру и откровение Бога, воплощенного в Слове — unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit[9*], — некоей так называемой тайной доктриной, унаследованной от каких-то неведомых учителей знания, они лгут, потому что внушают человеку, будто он может прибавить в своем росте и своими силами войти в пределы сверхчеловеческого. Их эзотерический гиперинтеллектуализм, созданный лишь для подмены подлинной метафизики, есть ложный и вредный призрак. Он заведет разум в дебри абсурда, а душу приведет ко второй смерти.
Претенциозная философия может быть врагом мудрости еще и в другом отношении: не упраздняя мудрости святых перед метафизикой, она в той или иной степени подмешивает ее к метафизике, а в наиболее трудных случаях прямо смешивает с ней — и этим совершенно искажает ее природу. Так, внимательный и проникновенный ум после пятнадцати лет пылких исследований и усилий со стороны самой въедливой и беззаветной эрудиции пришел к трагическому искажению мистического опыта героя, внутреннюю драму которого он пытался изобразить. Увы! Будто философ при помощи даже исчерпывающей исторической информации и самой интуитивной бергсоновской симпатии может проникнуть во внутренний мир святого, оживить Иоанна Креста! Все фальшивые ключи философии ломаются по той простой причине, что отсутствует замочная скважина; туда можно проникнуть только сквозь стены. Несмотря на мои дружеские чувства к Вам, мой дорогой Барюзи, мне приходится признать, что, освещая Иоанна Креста лейбницевским светом, отнимая у его созерцания то, что было жизнью его жизни, а именно: благодать, дарованную свыше, и пребывание Бога в нем, Вы делаете из него некоего неудавшегося гиганта будущей метафизики, находящегося еще во власти «условных» суеверий и стремящегося прежде всего добиваться все более и более тонкого интеллектуального постижения Бога при полной самоотдаче, где всю работу делает человеческий ум. Под Вашим пером он так хорошо преуспевает в этом, что выводит нас «некоторым образом за пределы христианства»[104]. Вы создали образ святого, который сам святой нашел бы отвратительным и явная фальшь которого в сочетании с таким усердием вызывает в нас удивление и боль[105]. Ваш праведник не живет верой. Этот теопат страдает не божественным недугом, но болезнью Сорбонны.
Созерцание святых находится не в русле метафизики, а в русле религии. Эта наивысшая мудрость не зависит от усилий интеллекта, алчущего совершенного знания, а зависит от готовности человека отдать себя целиком ради высшей правды как конечной Цели. Ей нечего делать с той «глупостью», которую Паскаль советовал обрести гордецам (если она есть, то гордость уже подорвана); но она хорошо понимает, что не должна грезить о понимании. Это наивысшее знание предполагает отказ от знания.
Не для познания созерцают святые, но для любви. И любят они не ради того, чтоб любить, а ради любви к Тому, Которого любят. К самому соединению с Богом, которого требует любовь, они стремятся ради превыше всего любимого Бога и себя любят только ради Него[106]. Цель целей для них не в том, чтобы услаждать свой интеллект и свою природу, — это значило бы остановиться на себе; Цель их — творить волю Другого, содействовать благу Благого[107]. Они не ищут душу свою. Они губят ее, они уже ее не имеют. Если, проникая в тайну божественного сыновства и как бы в чем-то обоживаясь, личность святого обретает трансцендентность, независимость и свободу, недоступные никому в мире, то лишь потому, что он все забывает и живет уже не он, а живет в нем тот, кого он любит.
Я охотно признаю, что антиномии, открываемые «новыми мистиками»[108] в традиционном мистицизме, — а они имеют о нем представление ложное, испорченное напыщенными современными предрассудками о духовной жизни, — на самом деле содержат удачную характеристику псевдомистических философий (новый мистицизм сам с трудом сможет их избежать). Но они теряют всякое значение в применении к подлинной мистической жизни. Здесь нет места ни «творческой воле», ищущей непосредственной экзальтации в чистой авантюре, или восхождении, не имеющем конца, ни «магической воли», ищущей своей собственной экзальтации во власти над миром и абсолютном обладании. Здесь только любовь. (Пусть наши философы не забывают, что любовь, одна лишь любовь делает все.) Это она пользуется знанием, которое черпает под воздействием Духа Божьего как сладостный дар — чтобы с еще большей полнотой соединиться с Любимым. Здесь душа не ищет ни экзальтации, ни уничижения: она ищет соединения с тем, Кто Первый полюбил ее. Потому что здесь — Бог не только имя, но и реальность, здесь Сама Реальность и даже Сверхреальность, изначальная, бывшая до нас, без нас, непостижимая ни человечески, ни ангельски, но божественно и поэтому нас обожествляющая, Сверх-Дух, постижение коего не только не ограничивает конечный дух наш, но делает его безграничным, Ты — Бог живой, наш Творец.
Источник созерцания святых не в духе человеческом. Источник этот — благодать, дарованная свыше. Это совершенный плод наш, всех рожденных от Воды и Духа. Явление, по существу своему сверхъестественное, проистекающее, конечно, нашей субстанциональной глубины и активности наших природных данных, но, поскольку данные эти наши, они пассивны перед всемогуществом Бога, они ниспосланы Им. Дары, которые Он запечатлевает на них, возвышают их, но возвышение это не может быть достигнуто одними лишь природными силами[109]. Явление это в наивысшей степени личное, свободное и действенное, жизнь, текущая в вечность, но являющаяся для нас как бы бездействием и смертью, потому что сама она сверхприродна не только объективно, но и по способу воздействия на нас. Она проистекает из нашего духа под воздействием одного лишь Бога и зависит от этой действующей благодати, в которой вся инициатива принадлежит Богу. И так как вера есть корень и основа всякой сверхъестественной жизни, то явление это непостижимо без веры. «Помимо веры нет способа наиболее близкого и соответствующего созерцанию»[110].
Наконец, святые созерцают не только ради божественной любви, но и посредством ее. Созерцание это предполагает не только теологическую добродетель любви и Веры, но также и теологическую добродетель Милосердия, врожденные дары Разума и Мудрости, вне любви в душе не существующие. Бог, которого познают верой во тьме и как бы на расстоянии, — ибо для интеллекта всегда есть расстояние, если нет видения, — Он же познается любовью непосредственно, в себе самом, соединяя нас в сердце нашем с тем, что в вере еще сокрыто. Мистическая мудрость под актуальным воздействием Духа Святого испытывает в любви и через любовь божественные предметы и самого Бога, внедренные в нас благоволением Бога, сделавшегося нашим через любовь, и знает их непосредственно «через непостижимое единение»[111], погружаясь в ночь, превосходящую всякое отчетливое познание, всякий образ и всякую идею, как бы переводя в бесконечность все, что сотворенные существа когда-либо могли помыслить. «Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel Salvator»[14*]. Она познает Бога как Бога сокрытого, Бога спасающего и спасающего тем более, чем больше Он сокрыт; познает тайную мудрость, очищающую душу. Оставаясь под контролем теологии[112], завися от ее условий и основ в земных пределах, от многочисленных понятий и законов, в которых божественная Истина обнаруживает себя нашему интеллекту, может ли она превзойти все наши отчетливые понятия и все выразимые знаки, чтобы слиться в опыте любви с самой реальностью, этим первичным объектом веры? Здесь мы являемся антиподами Плотина. Вопрос не в том, чтобы интеллектуально превзойти все постигаемое, чтобы дойти посредством метафизики и ее разумно построенной диалектической лестницы до уничтожения — пока еще природного — постижения в сверхинтеллигибельном, где она переживает ангелический экстаз. Вопрос в том, чтобы в любви возвыситься над всем тварным, чтобы под божественным воздействием, отрекшись от себя и всего в мире, вознестись любовью в пресветлую ночь веры до наивысшего сверхъестественного познания всего безгранично сверхъестественного и там любовью преобразиться в Боге. Ибо «только для этой любви мы и были созданы»[113].
Нет, метафизика не может быть дверью для мистического созерцания. Дверь эта — человечность Христа, Который дарует нам благодать и истину. «Я есмь дверь, — сказал Он, — кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет»[16*]. Войдя через Него, душа поднимается и проникает в ночное и чистое созерцание чистой божественности и оттуда снова опускается к созерцанию святой человечности. И здесь и там она находит пищу и насыщается Богом своим[114].
7. В каждом символе, понятии или имени нужно различать две вещи: объект, который они познают, и способ, каким познают. Во всех символах, которыми наш интеллект пользуется для познания Бога, способ, каким Его символизируют, недостаточен и недостоин Бога, так как он соответствует не Богу, а тому, как совершенства, пребывающие в вещах в чистом виде своем, предсуществуют в Боге. И так же как все тварные вещи лишь несовершенно отражают Бога, их создавшего, таким же несовершенным образом и наши идеи, познающие прежде всего и непосредственно все сотворенное, дают знание о Боге. Совершенство, ими отражаемое, которое может — если оно трансцендентного порядка — существовать в состоянии и тварном и нетварном, им свойственно обозначать в состоянии тварном, ограниченном и несовершенном. Также и все имена, которыми мы называем Бога, обозначая одну и ту же реальность, невыразимо единую и простую, не являются ли, однако, лишь синонимами, так как они обозначают ее тем способом, каким в тварях соединены и разделены совершенства, предсуществующие в Боге в состоянии наивысшей простоты. Бог есть непреходящее Добро, непреходящая Истина, непреходящее Бытие, но идея Добра, Истины, Бытия даже в чистом состоянии своем не была бы Богом.
Отсюда следует, что имена и понятия, соответствующие Богу, сохраняют, переходя на Него, всю свою умопостигаемую ценность и все свое значение: обозначаемое пребывает целостным в Боге со всем, что оно предоставляет интеллекту («формально», говорят философы). Когда мы говорим, что Бог добр, мы этим существенно обозначаем божественную природу и знаем, что в ней есть все, что необходимо предполагает добро. Но в этом совершенстве, в чистом акте его — который и есть сам Бог — заключено уже бесконечно большее, чем это обозначено в понятии о нем и имени его. Оно существует в Боге (в «наивысшей полноте», говорят философы) способом, бесконечно превосходящим наше понимание. Зная, что Бог добр, мы еще не знаем, что такое божественное Добро, ибо Он добр, как никто другой, истинен, как никто другой, Он есть, как ничто из всего, что мы знаем. «Итак, — говорит св. Фома, — имя Мудрец, когда оно сказано о человеке, описывает и выражает, до некоторой степени, обозначаемый предмет, но не тогда, когда оно сказано о Боге; в этом случае оно оставляет предмет невместимым, неописуемым и превосходящим значение имени»[115].
Всякое познание Бога посредством идей или понятий, т. е. идей, приобретенных метафизикой и спекулятивной теологией или внушенных как бы в пророчестве, — всякое чисто интеллектуальное познание Бога, вне блаженного Видения, если бы оно даже было абсолютно верно, абсолютно достоверно и являло бы собой подлинное и наиболее желанное знание, благодаря способу восприятия и обозначения его, все же осталось бы безнадежно неполным и бесконечно несоответствующим познаваемому и обозначаемому объекту.
Очевидно, если нам может быть дано познание Бога, хотя бы еще и не sic uti est[17*], не в Его сущности, не в видении, а лишь в трансцендентности Его божественности, пользуясь способом познания, соответствующим познаваемому объекту, то и такое познание не может быть достигнуто путем чисто интеллектуальным. Превзойти всякий способ познания, оставаясь в плоскости интеллекта, т. е. понятия, было бы противоречием в терминах. Нужно пройти через любовь. Одна лишь любовь, я имею в виду любовь сверхъестественную, может совершить этот переход. Земной разум может превзойти все обычные свои возможности, лишь отрешившись от познания, и тогда Дух Божий, посредством милосердия и божественной единящей способности воздействуя на нашу аффективность, даст душе в опыте любви познать то, что недоступно и недостижимо никакому познанию.
«Тогда, освобожденная от мира чувственного и мира интеллектуального, душа вступает в таинственную тьму святого неведения, и, отрешившись от всяких научных данных, она теряет себя в Том, Кто не может быть ни видим, ни осязаем. Всецело отдавшись этому объекту, уже не принадлежа ни себе, ни другим, соединенная с неведомым самой благородной частью своего "я", в силу отказа от познания, она черпает, наконец, в этом абсолютном незнании то познание, которое не может быть завоевано разумным образом»[116].
8. По-видимому, характер переживаемых нами времен стоит под знаком разделения тела и духа, или прогрессирующего распада человеческого образа. Слишком очевидно, что переход человечества под власть Денег и Техники[117] указывает на возрастающую материализацию интеллекта и мира. С другой стороны, и как бы в компенсацию этого явления, дух, в котором наша дискурсивная и социальная активность нуждается все меньше и меньше и с которого благодаря этому снимается необходимость обслуживания многих органических функций человеческой жизни, — дух этот как бы полностью или частично освобождается. «Фотография раскрепостила живопись». Эти слова Жана Кокто могут быть применены ко всем областям. Печатание раскрепостило пластические искусства от педагогических функций, выпавших на их долю в эпоху строительства соборов. Опытные науки освободили метафизику от заботы объяснять предметы чувственной природы и от многих иллюзий, явившихся последствиями греческого оптимизма. Надо радоваться этому очищению метафизики. Менее радостно констатировать, что в практическом плане управление тварным миром, требуя от интеллекта более тяжелой, материальной работы, все больше отрывает его от жизни, которую он теперь ведет, возносясь над временем. Земля не нуждается более в Ангеле, который бы ее вращал, человек толкает ее силою своих рук. Дух возносится к небу.
Но человек есть и тело и дух, связанные между собой не нитью, а единством субстанций. И если человеческие вещи перестанут быть измеряемы человеческим составом — одни в соответствии с энергиями материи, другие по требованиям развоплощенной духовности, то это будет для человека ужасающим метафизическим раздроблением на части. Можно думать, что образ мира «прейдет» в день, когда этот разрыв достигнет предела и сердце наше не выдержит.
Что касается вещей духовных, то их «освобождение» рискует остаться иллюзорным — что тяжелее рабства. Узы, налагаемые на них их служением людям, были для них легкими. Они хотя и стесняли, но придавали им их естественный вес. Ангелизация искусства и знания? Вся эта возможная чистота не будет ли утрачена в подобном неумеренном увлечении? Она обретет себя и будет сама собой лишь в ограде Духа. Там, где будет труп, там соберутся орлы. В то время как прежний христианский мир опускался, Церковь Христова продолжала возноситься как бы сквозь него, мало-помалу тоже освобождаясь от забот о городах, ее изгоняющих, и от земных попечений, которые по праву выполняла, чтобы исцелять наши раны. И когда она, нищая и лишенная всего, удалится в пустыню, она увлечет за собой все, что останется еще в мире не только от веры, благоволения и истинного созерцания, но и от философии, поэзии и добродетели. И они станут еще более прекрасны, чем когда-либо.
9. Огромное значение современного кризиса заключается в том, что, будучи более всеохватным, чем любой другой, кризис этот вынуждает нас сделать окончательный выбор. Мы достигли, наконец, линии водораздела. Благодаря измене Запада, злоупотребившего божественной благодатью и растратившего дары, которые он должен был возделывать для Бога, произошло то, что, выпав из порядка любви, порядок разума всюду исказился и более ни на что не годен. Зло рационализма породило раздор между природой и формой разума. Отныне стало очень трудно удержаться на одном человеческом. Нужно делать ставку или на то, что выше разума и за него, или на то, что ниже его и против него. Но одни лишь теологические добродетели и сверхъестественные дары превосходят разум. С другой стороны, те же новые гуманисты или приверженцы диалектического материализма (как в былые времена это делали приверженцы Барреса) поднимают крик: дух, духовность! Но к какому духу взываете вы? Если это не Дух Святой, то с таким же успехом можно было бы призывать дух дерева или дух вина. Все так называемое духовное или сверхразумное вне любви служит, в конце концов, лишь животности. Вражда против разума будет всегда восстанием рода против видового отличия. Греза противоположна созерцанию. Если чистота заключается в полном разнуздании жизни, согласно велениям чувств и их механизму, то такую чистоту мы найдем скорее у животного, чем у святого.
Мир, тот мир, о котором Христос не молился, свой выбор давно уже сделал. Освободиться от forma rationis[18*], бежать как можно дальше от Бога в невозможное метафизическое самоубийство, жестокий и спасительный порядок, установленный вечным Законом, — таково желание, от которого трепещет плоть ветхого человека. Этого желал и Древний из древних, низвергаясь, подобно молнии, с высоты небес. Чтобы выразить его в абсолютном измерении, в полноте, доступной существу, которое почти никогда не знает, что делает, — нужен некоторого рода героизм. (Дьявол имеет своих мучеников.) Свидетельство без обетования, воздаваемое тому, что более, чем мертво… Что касается большинства людей, то, судя по обычному состоянию человеческой природы, можно легко поверить, что она будет катиться по той же наклонной плоскости, без воли и мужества, убаюканная своим идеалом. Движение по наклонной плоскости так легко!
Но все же ошибочно судить лишь согласно природе. Есть же и благодать, которая готовит свои неожиданности. В то время как старый мир продолжает свое ниспадение, уже зарождается воистину новое — таинственное и непобедимое движение божественных соков в мистическом Теле, нетленном и не стареющем, благословенное пробуждение души под покровом Девы и Духа. О, Премудрость, связующая силой своей концы земные и объединяющая противоположности! О, обетование, дарящее красоту этому несчастному времени и вселяющее в нас радость! Пусть народы, принявшие крещение и не оставшиеся верными своему призванию, отделяются от Церкви, пусть всюду поносят имя Христово, предлагая вместо христианской цивилизации лишь труп ее… Церковь любит народы, но не нуждается в них, это они нуждаются в Церкви. Это для их блага с помощью одной только культуры, в которой человеческий разум более или менее преуспел, Церковь так долго пыталась навязать земной материи божественную форму и, возвысив до совершенства, поддерживать с помощью сладостной благодати жизнь человека и разума. Если европейская культура придет в упадок, Церковь сохранит самое главное в ней и сумеет поднять до Христа все то, что может быть спасено из других культур. Церковь слушает, как шевелится в глубинах истории непредсказуемый мир, который, без сомнения, будет преследовать ее так же, как и прежний мир (не являются ли вообще страдания ее уделом?), но в котором она обретет новые возможности для деятельности.
Желая подчеркнуть, что Европа без веры — ничто, и что смысл ее существования был и остается в том, чтобы распространять веру в мире, Хилэр Беллок[19*] совершенно прав, говоря, что Европа — это вера. Но в абсолютном смысле — нет! Европа не есть вера, а вера не есть Европа. Европа не есть Церковь, а Церковь не есть Европа. Рим не является столицей латинского мира, Рим — это столица мира, Urbs caput orbis. Церковь всемирна, потому что она родилась от Бога, в ней все нации чувствуют себя дома. Распростертые на кресте руки ее Владыки воздеты над всеми расами и всеми Цивилизациями. Она приносит народам не блага цивилизации, но Кровь Христа и сверхъестественное Блаженство. Кажется, в наши дни готовится что-то вроде дивного богоявления во всей католической церкви, постепенное распространение которой в миссионерских странах с местным духовенством и с местным епископатом можно рассматривать как предзнаменование.
Долго дремавший на краю истории и разбуженный нашими безумствами Восток так же болен, как и Запад. Но здесь и там, везде, где укоренится живая вера, мы увидим устремление к тому, что действительно превосходит разум, т. е. к дарованной свыше Истине, к мудрости святых. Мы увидим в то же время (конечно, не без труда) восстановление разума в его назначении, как условия сверхъестественной жизни. Таким образом заодно оказываются Евангелие и философия, мистика и метафизика, божественное и человеческое. Проект не европейца, но бенгальца. Великий проект Брахмананды, воспринятый его учеником Аниманандой: создание в Бенгалии созерцательного сообщества, члены которого, верующие нищие, распространяли бы по примеру индусских саньяси[20*] по всей Индии образцы католической святости и, не забывая веданты, опирались бы в своей интеллектуальной жизни на учение Фомы Аквинского[118]. Я отдаю эту дань уважения добродетели томизма. Дар, принесенный целому миру средневековым христианством, — это дар не одному континенту и не одному веку, он универсален, как Церковь и Истина.
10. Но те, кто чувствует, что все потеряно, и ждет неожиданного… — я никогда не буду презирать ни их отчаяния, ни их ожидания… Чего же они ждут? — вот что важно знать: Антихриста или Второго пришествия Христа? Что касается нас, то, мы ждем воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы знаем, чего ждем, и знаем, что то, чего мы ждем, превосходит всякое понимание. Есть разница между тем, когда не знают, на что надеяться, и когда знают, что то, на что надеются, — непостижимо.
Будучи еще язычником, Адриан[21*] спросил однажды мучеников: «Какой награды вы ждете?» «Нашим языком, — ответили они, — невозможно этого передать, а наше ухо не может этого слышать». «Так вы ничего об этом не узнали? Ни из закона, ни от пророков? Ни из какого-либо писания?» «Пророки сами не знали этого как следует; это всего лишь люди, поклонявшиеся Богу, и то, что они узнавали через Святого Духа, они сообщали устно. Об этой милости сказано: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»[22*].
Услышав это, Адриан тотчас пошел к ним и стал посреди них, говоря: «Отныне я среди тех, кто исповедует веру с такими святыми, вот и я теперь христианин»[119].
Об истине
I
Что есть истина? Пилат не ожидал ответа, он считал вопрос неразрешимым. Именно поэтому Истина и не дала ему ответа. Но философ — тот должен попытаться дать ответ.
Однако идеализм задает этот вопрос способом, который немногим лучше Пилатова. Начиная с Канта разум не устает повторять «quid est veritas?» — но так, словно речь идет о сомнении, одна формулировка которого требует необычайной смелости, о проблеме, сама постановка которой исключает возможность ее решения[120].
Самое уязвимое место основателя критической философии — недостаточная критичность. Ему не хватает критической смелости, смелости судьи. Пробужденный Юмом от «догматического сна», он не дошел до корней проблемы познания. Он не увидел этих корней. Он пользуется множеством общепринятых мнений, некритически заимствованных из философии своего времени, остатки Декарта — Лейбница — Вольфа образуют в его мысли некую громадную caput mortuum[1*]. До второго издания «Критики чистого разума» он даже не думал, что метафизический идеализм заслуживает серьезных возражений; он всегда верил, с полным на то основанием, в существование «вещи в себе», и наивная твердость этой веры была столь велика, что, как говорит Якоби, без этой веры нельзя постичь его систему, но, приняв эту веру, невозможно в его системе остаться. Его наивность оттенялась интеллектуальным педантизмом. Он был намного легковерней Паскаля — и много более робким, чем Фома Аквинский.
Он наивно верил в вечную ценность ньютоновской физики, в абсолютную, метафизическую необходимость физико-математических наук и их детерминизм (беспричинное событие, произойди оно в мире феноменов, стало бы величайшим скандалом, раздроблением всей науки), в геометрический мир, предшествующий миру чувственных восприятий (таким образом, мы вправе обвинить его в том, что в области математики он исповедовал преувеличенный догматизм и реализм).
Более всего легковерен он тогда, когда, будучи излишне почтителен по отношению к своей эпохе, принимает за образец и точку отправления для построения теории познания продукт столь искусственный, столь частный (local), столь сложный и такой же как то, что в наши дни называют многосоставным: «позитивной наукой» (наукой о феноменах). Большинство позднейших философов тут столь же легковерны, как и Кант; они не замечают, что исследуемые ими материи вводят в заблуждение, так как будучи слишком частными, могут привести лишь к ограниченным истинам. Французские позитивисты и английские эмпирики думают лишь об особенностях, присущих наукам о феноменах; Рассел думает лишь об особенностях, присущих чистой математике; Блондель и Бергсон (я уподобляю их лишь в этом отношении) берут для критики понятийного разума особенности, присущие определенному неудачному способу использования разума в науках. И на эти-то чрезмерно шаткие основания опирается метафизика истинного, именующая себя критикой познания подлинных оснований. В поисках, более первоначальных и универсальных, надлежит следовать естественному порядку вещей. Именно этот порядок мы и попытаемся отыскать вновь.
II
Что есть истина? Вот, кажется, первый вопрос, который задает себе философствующий разум, когда, уже пройдя путем познания и науки, уже доказав свою способность к логической рефлексии, он приступает к исследованию — с помощью критической рефлексии (рефлексии более возвышенной и принадлежащей метафизике) — природы и ценности самого познания.
Всякий раз, вынося суждение по поводу того или иного объекта, разум самим этим фактом и самим своим действием (in actu exercito) утверждает, что он истинен, в этом своем суждении, что он обладает истиной. И первый вопрос, которым задается критическая рефлексия, вопрос, предшествующий вопросу более глубокому, «Что есть познание?», — это как раз вопрос «Что есть истина?», истина, существование которой разум утверждает действием, всякий раз вынося суждение?
Мгновенный ответ здравого смысла гласит, что истина — это то, что есть; или, точнее, поскольку истина познания, о которой идет речь, должна быть сродни познающему разуму, должна быть связана с совершенством этого разума, то истина есть соответствие разума с тем, что есть. Именно этот ответ станет для нас необходимой отправной точкой; ибо везде, где речь идет об основополагающих вопросах, исходить надо из естественных утверждений здравого смысла, хотя бы для того, чтобы подвергнуть их всем испытаниям критической рефлексии.
Но пока речь еще не идет о научном использовании этой рефлексии, о том, чтобы следовать в рассуждении законам и методам научной критики. Речь идет как раз о том, чтобы пробудить самое критическую рефлексию, чтобы ввести разум в область критики как таковой.
Начав с гипотезы о законности естественной догматичности разума, поместив себя в недра самоочевидных убеждений здравого смысла, мы одновременно видим самозарождение проблемы критики и можем наметить некоторые пути ее решения. Эти решения, предполагающие ценность наших познавательных способностей, будут научно обоснованы и сами станут объектами познания, когда Критика, уже оформившая и осознавшая себя с помощью рефлексии и доведения до абсурда, установит в качестве научного заключения предшествующие ей предпосылки. И в самом деле, — там, где мы можем наблюдать историю развития философской мысли в почти чистом ее виде, т. е. в Греции, — именно там проблема истины породила критическую рефлексию.
Как только возникает учение о познании, теория истины становится его завершающей частью. Но именно с помощью теории истины, обретающейся первоначально в спасительной сени здравого смысла, зарождается и отпочковывается от общего ствола философских наук сама теория познания.
Итак, сохраним естественные утверждения здравого смысла и будем основываться на них с тем, чтобы определить, что именно надлежит позднее подтвердить критической рефлексии доказательствами от противного.
Итак, я по природе своей очень хорошо знаю, что есть истина, по крайней мере до тех пор, пока от меня не требуют объяснить это другому. А когда от меня требуют объяснений, что ж, я нахожу, что истина предполагает существование двух членов, познаваемого и познающего, и отношение согласованности между ними.
Но что я знаю? То, что есть. И когда здравый смысл говорит то, что есть, он подразумевает нечто, что само по себе не есть небытие. А нечто существующее вне моего разума и независимо от него. И то, что я очень хорошо знаю и называю истиной, лучше всего выражается, следовательно, такой формулой: согласованность разума с тем, что есть.
Но тут же придется потрудиться и уточнить этот тезис должным образом. Поначалу разум склонен слишком на себя полагаться: под тем предлогом, что между бытием и истинным мышлением нет разногласий, он утверждает абсолютное тождество бытия и мышления. Так говорил Парменид, древний и почтенный отец метафизиков: «Мышление и то, что мыслится, — одно и то же…»[121] Слова святые и проклятые, исполненные мудрости и безумия: то, о чем я думаю, когда я утверждаю истину, есть предмет, следовательно, мысль о предмете и есть предмет или, по крайней мере, точная копия предмета, и все условия их существования совпадают.
И тут же самые невероятные трудности встают перед философом. И вот он уже, помимо собственной воли, увлечен в глубины теории познания, хотя сам он еще не задавался вопросом о том, что такое познание. Хотя он еще покамест удовлетворен естественными представлениями здравого смысла и лишь рассматривает то отношение согласованности между познанием и его объектом, которое мы и называем истиной.
III
Душа — познает. Но можно ли сказать, что она во всех отношениях совпадает с тем, что она познает? Разве, когда я вижу дерево или камень, я становлюсь деревом или камнем? Неужели душа — просто смесь всех элементов бытия и всех свойств, доступных познанию, как то полагали первые «физиологи» Греции?
Но, помимо чувств, я обладаю и другими способностями к познанию. Разум, проницая чувственные видимости, открывает в вещах вневременное и необходимое, доступное лишь ему одному, и открытие это совершается посредством его собственных идей.
Разум постигает в предметах то, чем они являются, и открывает мир универсальных сущностей, подобный миру чисел в представлениях математика. Но стоит ли (если связь между бытием и мышлением сводится к абсолютному и полному тождеству) пифагоризировать и платонизировать, утверждать, что истинным существованием обладают лишь эти всеобщие и необходимые вневременные сущности, а чувственный мир — подобен лживой тени, сводящему с ума Гераклитову потоку?
Но куда бы ни обращался разум — повсюду он созерцает бытие. Всюду он в присутствии бытия; каждый акт познания стремится стать актом бытия. Идея бытия — вот сущность мышления, что же, стоит ли из этого заключать, что эта сущность присуща и вещам? Стоит ли внимать Пармениду, подтверждающему, что никакой множественности нет, что есть лишь единое, утверждать с древним Ксенофаном, с Лессингом и Гёте: εν και παν — «все есть одно»?
Теперь оставим в стороне простое восприятие вещей. Стану ли я счастливей, обретя способность к суждению, акту, знаменующему высшее достижение разума? Понятия, из которых слагается суждение, различны, иначе я бы не смог ничего сказать, вынося суждение. Понятие «поэт» не то же, что понятие «Эдмон Ростан». Тем не менее я говорю или могу сказать «Эдмон Ростан есть поэт». Высказать это суждение — то же самое, что сказать: «Один и тот же объект я именую Эдмоном Ростаном и поэтом», т. е., иными словами, отождествить «поэта» и «Эдмона Ростана». Как же это возможно при абсолютном совпадении бытия и мышления? Мысль о «поэте» и мысль об «Эдмоне Ростане» — две разные мысли. Как же я могу отождествить объект «поэт» с объектом «Эдмон Ростан»? И вот я уже — средь терний Мегарской школы. Ее адепты учили о несообщимости идей и невозможности суждений, провозгласив принцип: «То различно, о чем различны представления», как говорит Симпликий[122]. Понятие «Сократ» отлично от понятия «белое». И если я говорю «Сократ белый», я привношу в Сократа то, чем он не является, я отделяю Сократа от него самого; и если я говорю: «Эдмон Ростан есть поэт», я разделяю Эдмона Ростана с ним самим. Вы утверждаете, что «Кориск есть человек»? Но человек есть нечто иное, чем «Кориск», и значит, «Кориск» есть нечто иное, чем «Кориск». Мы не можем даже утверждать, что Кориск есть Кориск, что Эдмон Ростан есть Эдмон Ростан, что, по определению Корана, Господь есть Господь. Увы, горьки плоды твои, мудрость!
А умозаключение? Что дает нам третья операция, доступная разуму? Умозаключение по сути своей есть тип логического движения, имманентного разуму и исходящего из необходимых принципов. В умозаключении познание предстает перед нами как развитие мысли, повинующееся неумолимым законам сочетания понятий. Могу ли я — если бытие и мышление тождественны — сказать то же о бытии? Тогда я попадаю в сети Спинозы и Гегеля. Мир предстанет передо мной как саморазвитие имманентного ему принципа, Субстанции или Идеи, чистое раскрытие Логики, подчиняющейся абсолютной необходимости универсальной логической связи (путем аналитической дедукции) или же вечному развитию (путем противоречий и синтезов). Собственно, это современный способ возродить монизм Парменида, и способ этот уступает Пармениду ровно настолько, насколько умозаключение уступает интуиции, акт движения — акту неподвижности.
IV
Все это — отнюдь не малые затруднения. Сила, с которой они давили на разум, потребовала от античных философов долгих усилий и постепенно привела к тому, что, с одной стороны, они отделили от запутанных, в представлении первых мудрецов, теоретико-познавательных вопросов науку логику со всеми ее особенностями, а с другой — сформулировали одновременно свои собственные критические воззрения, более глубокие, нежели современные теории, но не выделенные в специальный раздел, смешанные с той же логикой, метафизикой и психологией. (Поэтому-то такое множество людей уверено, что критика способности познания начинается с Канта, как Свобода начинается с Французской революции.)
На что же, в сущности, были устремлены эти усилия философии? Как можно преодолеть трудности, обсуждавшиеся выше?
Нужно ли занести над Парменидом отцеубийственную, по выражению Платона, руку и просто-напросто отвергнуть идею всякого тождества между бытием и мышлением?
Но какова же тогда будет судьба истины, согласованности разума с тем, что есть? Если существует, с одной стороны, бытие, независимо от моего разума, и с другой — мой разум, и если между ними не возникает никакого тождества, тогда моему разуму доступны лишь подобия бытия, но не само бытие. И философ всегда будет вопрошать: кто поручится, что это подобие воистину подобно? Что гармония моего разума с бытием существует в действительности, а не только по видимости? Что истина, к которой я пришел, и в самом деле истинна?
Итак, я не отброшу принцип Парменида, но я его уточню и определю. Не отрицая принципа тождества бытия и мышления (хотя и не во всех отношениях), я должен прийти к идее определенной разобщенности между бытием и мышлением, с тем чтобы вычленить специфику одного и специфику другого; различить, что в моей мысли — от вещей и что — от моей способности к познанию вещей. Этот тонкий труд начат Платоном, создан в основе своей Аристотелем и завершен схоластикой.
V
Прежде всего надлежит различить сам предмет и его существование, вещь как таковую и способ существования вещи. Как только я замечаю, что одному и тому же предмету присущи разные модусы существования, разные способы находиться вне ничто, что он может существовать в себе и в сознании, — тогда-то я и приступаю к проблеме познания.
Материально сознание и предмет не совпадают. Когда сознание воспринимает камень или дерево, оно не становится камнем или деревом, не уподобляется этим вещам в их собственном существовании, но, напротив, включает их в свое существование. Итак, есть модус существования камня как камня; этот камень просто-напросто есть. И этому же камню присущ другой модус существования как воспринимаемому в моем сознании. Душа посредством познания становится причастной всем вещам, но особым способом, который мне еще остается уточнить и который я уже могу назвать невещественным способом, — если только подумаю о том, что собственное бытие камня есть вещественное бытие, а в моем сознании этот камень оторван от своего собственного бытия. Способ существования объекта в субъекте определяется способом существования самого субъекта.
VI
Чувственное познание познает предмет как таковой, со всеми особенностями его актуального существования, со всеми признаками его материальности hic et nunc[3*]. Разум познает в предмете все вневременное и необходимое, все, что утаено от чувства. Во вращающемся предмете чувства узнают колесо, разум узнает круг. Умопостигаемый предмет перестает быть предметом и становится сущностью. Он присутствует в разуме, отделенный от присущего ему материального существования и от индивидуализирующих признаков, связанных с этим существованием. Только такой ценой способны мы постичь его бытие как таковое. И это — следствие операции абстрагирования, посредством которой наш разум извлекает объект из чувственных данных, образует из него понятие, свыкается с этим понятием и видит в этом понятии объект.
Итак, я должен различить умопостигаемую сущность, природу вещей, абстрагированную сознанием, и существование этой природы либо в разуме, либо в вещном мире. Именно так я избегну платонизма. Универсальные сущности, к которым обращен разум, обретают статус универсалий лишь в разуме. Вне разума они не существуют иначе, чем в индивидуальных и конкретных объектах, воспринимаемых чувствами; мир универсалий оказывается миром интеллигибельным, но не миром существования; лишь в мире чувственном мир интеллигибельный существует вне разума, лишь в данном колесе существует круг.
Я говорю об интеллигибельных сущностях, которые и являются собственными объектами для человеческого разума и которые непосредственно доступны нам через абстракцию — ибо ничто не мешает другим интеллигибельным сущностям, представляемым по аналогии с вышеупомянутыми, — душе, чистому разуму, Богу — существовать вне нашего сознания, не имея, однако, материальной формы (хотя это по-прежнему существование не общего, а особенного). Так, по сравнению с индивидуальным объектом чувственного познания универсальный объект разума обладает бытием в большей степени относительно познания и в меньшей степени — относительно существования[123]. Отсюда собственное достоинство у одного и у другого. Мы говорим, что универсальное существует реально в мире сущностей, или универсалий, но они существуют не иначе как в уме, т. е. в универсальности как таковой.
Именно тут выступает на свет формирующая роль нашего разума, который исследует объект в качестве понятия, трудится над ним, расчленяет и дробит понятие для лучшего проникновения в объект. Изначально именно разум и его деятельность сообщают объекту тот модус универсального существования, который присущ самому разуму. Но если я ввожу определенную разобщенность между бытием и мышлением, то, с другой стороны, я должен отстаивать определенное их тождество — иначе истина станет невозможна.
И мне известна точка, где существует это тождество, где «познавать» и «быть» — едины. Это — сущность, у которой есть способ и универсального существования в духе и свой способ индивидуального существования в предмете. Так пусть эта сущность не берет из моего интеллекта ни одного из своих внутренних определений, абсолютно ничего из того, что является сущностью как таковой. И только в таком случае мой интеллект принимает ее безо всяких усилий. «Noli tangere»[5*]. Круг остается кругом, со всеми его геометрическими свойствами, и в колесе, и в моем разуме. Одна и та же человеческая природа существует вне моего ума, в человеке Пьере, и в моем уме как в знакомом объекте. Иначе говоря, то, что схоласты, имея в виду интеллектуальное восприятие, именовали термином quod, т. е. объект, постигаемый разумом с помощью понятия, который есть ни образ, или слепок предмета, ни пустая форма: это сам предмет, его природа, которая находится одновременно в предмете, для того, чтобы существовать, и в понятии, для того, чтобы быть воспринимаемым.
Это основное положение обойдено вниманием почти всех новых философов. Оно обойдено Декартом, который полагает, что достигаемое мыслью есть сама мысль, идея, рассматриваемая как образ или слепок вещи; обойдено Кантом, считающим, что разум не способен к познанию с помощью понятий как таковых, что он лишь прилагает пустые формы к чувственным представлениям; обойдено многими современными мыслителями, подобными Блонделю, которые, невольно поддавшись влиянию Декарта и Канта, принимают понятие или концепт за образ вещи, образ, обладающий коренным отличием от оригинала. Но не забудем, что, когда чувства наши воспринимают предмет в его актуальном существовании — это колесо, эту палку, — наше интеллектуальное восприятие, взятое само по себе (независимо от акта суждения), направлено на природу предмета, на его сущность. В актуально существующих объектах оно видит абстрактные сущности — круг, отрезок. Оно направлено на потенциальное, а не на актуальное. Конкретное же существование доступно нам лишь через чувства и через суждения, основанные на чувственных данных. Отсюда — громадная роль чувств и ощущений, телесного прикосновения к вещам. Я могу познать существование Бога с помощью моего разума — но лишь при том условии, что отправной точкой послужит осязаемое и видимое мною бытие.
VII
Понятие бытия, несомненно, есть материя, присущая мысли. Но понятие это, наполняющее собой все объекты интеллектуального познания, сказывается в этих объектах по-разному, и мы не можем думать о бытии без того, чтобы не думать о бытии какого-то определенного объекта, бытии Творца или твари, субстанции или акциденции. Поэтому мы не наследуем монизму, не делаем бытие единым и единственным во всех вещах. Наоборот, мы говорим, что только само слово «бытие» — единственно. Бытие, подобно любому объекту, обладает в разуме той универсальностью, которой оно не обладает в действительности. Более того, цельность, присущая ему в разуме, есть цельность лишь в одном, определенном смысле (это цельность соразмерности), понятие бытия есть понятие, составленное по аналогии и оттого обладающее имплицитным многообразием.
VIII
Что же сказать об акте суждения? Проблема предикации, приписывания субъекту предиката, разрешается без труда, стоит только понять, что одному и тому же существующему субъекту наш разум может приписать два понятия, приложить два различных способа описания. «Человек» означает: «обладающий человеческой природой», и если я не могу сказать «Кориск есть человечество», я могу сказать «Кориск есть человек». Один и тот же объект, существуя вне разума, может обладать и человеческой природой, и именем Кориска. Понятие «человек» отличается от понятия «Кориск», но объект, называемый «человеком», оказывается тождествен объекту, называемому «Кориск». Субъект и предикат тождественны по отношению к действительности и различны в качестве концептов: idem re, diversum ratione[124] [6*].
Вот и различие между бытием, в котором существует один и тот же объект, и мышлением, в котором существуют два понятия. Но оно не отменяет требуемого совпадения между бытием и мышлением. С одной стороны, акт простого интеллектуального восприятия, позволив мне обособить в Кориске тот или иной объект мышления: «человек», «белый» etc., отнюдь не дает мне права утверждать, что этому объекту мышления присуще обособленное существование; с другой стороны, акт суждения состоит как раз в воссоединении того, что было разделено в акте интеллектуального восприятия: он отождествляет субъект и предикат с помощью связки «есть». Суждение есть утверждение, когда два различных понятия отождествляются в качестве понятий, совмещенных в одном предмете. Это — еще один новый и основной принцип, которым современные философы стали пренебрегать после Лейбница. Ибо все утверждаемое ими о логическом мышлении сводится к идее «тождественности», словно заранее предполагается, что задача такого мышления — констатировать раз и навсегда заданное тождество самодовлеющих понятий, что сводит любое логическое мышление к утверждениям А=А и исключает из него самое мысль. Если бы Кант осознал этот принцип и воспользовался им в своей критике, последующие поколения были бы лишены «Критики чистого разума», всецело основанной на исследовании удивительного постулата о том, что акт суждения есть атрибуция субъекту, с помощью связки «есть», предиката, который не есть этот субъект.
Добавлю, что простое интеллектуальное созерцание, посредством которого я постигаю понятия «Кориск», «человек», «круг» и т. д., касается сущностей или природ. Суждение же, утверждающее «Кориск есть человек» или «круг есть площадь, описываемая отрезком, вращающимся вокруг одного из своих концов», утверждает: ita est, это так; оно касается существования (потенциального или актуального). Оно утверждает, что субъект и предикат высказывания отождествляются им в их существовании вне разума. Когда я говорю: «Кориск есть человек», я говорю: «Один и тот же объект, обладающий актуальным существованием, может быть представлен как «Кориск» и как «человек»». Когда я говорю: «Круг есть площадь, описываемая» и т. д., я говорю: один и тот же объект, обладающий потенциальным существованием, может быть представлен как «круг» и как «площадь, описываемая..». Суждение есть утверждение о существовании (потенциальном паи актуальном) одного и того же объекта, в котором одновременно реализуются два различных понятия.
IX
Наконец, необходимо как следует разделить логику и науку. Последняя имеет своим объектом действительное бытие; предметы, описываемые понятиями, а также связи между предметами во внешнем существовании. Первая имеет своим объектом умопостигаемое бытие, внутренние связи и отношения, образующиеся между предметами постольку, поскольку они познаны, поскольку они существуют в разуме. Логика не есть действительность, хотя и основывается на ней. Интеллигибельные необходимости, которые мы постигаем в абстрактных и универсальных естествах, существуют в вещах и управляют вещами, по крайней мере сущностью вещей, ибо индивидуальные установления относятся к области случайного, непостоянного. Но логическое движение и необходимости, присущие самому рассуждению, касаются лишь вещей, существующих в разуме, отделенных от их собственного существования.
Гипостазированная логика Спинозы и Гегеля, natura naturata[7*] y одного и «становление» у другого, с этой точки зрения, кажутся величайшим ребячеством.
X
Итак, все трудности разрешимы, если мы признаем определенную разобщенность бытия и мышления, не отбрасывая тем не менее их сущностное тождество, проявляющееся в самом акте познания. Мы не отбросили принцип Парменида «Мышление и то, что мыслится, — одно и то же», мы его уточнили и очистили. Нет, бытие и мышление не есть просто-напросто одно и то же, как считает Парменид. Их корелляция не отвечает модели слишком грубой «материальной кальки»: тождество бытия и мышления гораздо глубже, а различие их гораздо выраженней. Объект в его интеллигибельном существовании подчиняется условиям, которым он не подчиняется в существовании самостоятельном. Но именно в миг познания исчезает различие между предметом и знанием о предмете, между бытием и мышлением. «Действие воспринимаемого чувством и действие чувства тождественны, но бытие их не одинаково»[125] [8*]. Вот развернутое и очищенное изложение того, что Парменид не сумел выразить иначе, как смешав в своей формуле истинное и ложное.
Вместо того чтобы придерживаться уточнения Аристотеля, в чем проявилась вся осторожная мудрость античности, Кант с присущей ему прямолинейностью отделил бытие от мышления непреодолимой преградой и тем уничтожил саму возможность познания и истины.
Итак, чтобы лучше постичь, что есть истина, приведем еще раз классическую формулу Фомы Аквинского: «Адекватность между разумом и вещью…»[126] Философы нередко придерживаются мнения, что истина более присуща разуму, нежели чувствам, ибо разум, выносящий истинные суждения о вещах, способен к рефлексии и осознанию истинности суждения, в то время как чувство к этому неспособно; и что истина присуща суждениям, а не простому восприятию, ибо там, где нет ни утверждения, ни отрицания, там, где я просто воспринимаю существование «круга» или «человека», там в разуме еще нет ничего согласованного или несогласованного с тем, что есть. Но, как я только что показал, суждение по сути своей связано с существованием, актуальным или потенциальным; и точно так же истина по сути своей связана с существованием вещей вне разума, будь то «истина действительности», касающаяся актуального существования, как когда я говорю: «Кориск есть человек», или будь то «идеальная истина», касающаяся потенциального существования, как когда я утверждаю, что сумма углов треугольника равна двум прямым углам. «Verum sequitur esse rerum»[127] [9*].
Итак, очевидно, в самом точном смысле этого слова, истина есть соответствие между актом разума, объединяющим два понятия в одном суждении, и актуальным или потенциальным существованием объекта, в котором реализованы оба эти понятия.
Эта дефиниция педантична. Ее неудобство в том, что она применима лишь к человеческому разуму и к человеческой истине, бедной человеческой истине. Ее преимущество в том, что она настолько исчерпывающа, насколько это возможно. Если же давать определение, которое подходит к любому разуму, в том числе к чистым духам (суждения которых нельзя свести к созданию и различению понятий), тогда можно сказать, что истина есть согласованность сознания и бытия постольку, поскольку именно сознание называет бытие бытием и небытие — не бытием[128].
XI
Я говорил об истине, присущей разуму. Разум истинен постольку, поскольку постигает вещи такими, каковы они есть. Но и вещи истинны постольку, поскольку они соответствуют разуму, от которого зависят, — будь это человеческий разум (для творений искусства) или божественный разум (для природы). Истинность разума и истинность вещей остается всегда adaequatio rei et intellectus[11*].
В Боге бытие и мышление тождественны. Более того: «Применительно к Богу умопостигаемая деятельность совпадает с бытием. И его умопостигаемая деятельность есть мера и причина всякого другого бытия и всякого другого умопостижения. Он есть свое собственное бытие и свое собственное умопостижение. Откуда следует, что он не просто обладает истиной, но что сам он есть первичная и самодовлеющая истина»[129]. Так св. Фома отвечает Пилату.
Натурфилософия
I
Спор философии с естествознанием всегда сводится к одной, центральной, проблеме — вопросу о натурфилософии. Должна ли существовать эта философия природы, — или натурфилософия, — отличающаяся и от метафизики, и от частных наук? Каковы ее характерные черты, в чем ее суть, как определить ее, проникнуть в сущность? Вопросы довольно формальны, и только это может оправдать некоторую сухость стиля изложения. Они не так легки, потому что дошли до нас уже обремененными импликациями и хитросплетениями исторического порядка. Не натурфилософию ли Аристотель называл физикой? А физика эта, не включала ли она в себя, с точки зрения древних, всю совокупность естественных наук? Крушение Аристотелевых трактовок природных явлений не означает ли полного краха физики Аристотеля, а значит, и натурфилософии как таковой? И чем заменить нам сегодня физику Аристотеля — не физикой ли Эйнштейна, Планка и Луи де Бройля, а точнее, всем комплексом естественных наук, называемым современным ученым миром Наукой? Вот эти-то взаимные зависимости и значимые связи оказываются вовлеченными в теоретические вопросы, которые нам и предстоит рассмотреть.
Да, нелегки эти проблемы, ведь они фундаментальны. Без колебаний можно утверждать, что с точки зрения человеческой мудрости это проблемы первого ранга. Однако не будем пренебрегать и проблемой натурфилософии. Она — самое скромное и в прямом смысле непосредственное и несовершенное знание среди всех умозрительных знаний; она даже не является знанием в прямом и первоначальном смысле слова, она всего лишь из разряда познаний быстротекущих и преходящих вещей. Но как раз этот-то разряд наиболее соразмерен нашей мыслящей природе. А эта мудрость, которая собственно таковой и не является, первой предлагается нам в ходе прогрессивно-восходящего движения нашего разума; вот почему она так важна для нас, ведь она стоит на самой нижней ступени лестницы, ведущей к φιλία της σοφίας[1*].
Так каким же путем реальность может войти в нас? Пока нам известны два источника: один — естественный, другой — сверхъестественный: чувства и Божественный Дух. Если речь идет об откровениях, нисходящих на нас свыше, то это не метафизика, это есть наивысшая мудрость полностью духовного свойства, являющаяся изначальной. Именно через нее мы раскрываемся, и нечто входит в нас как благословенный дар. Если речь идет о знаниях, черпаемых снизу, то это тем более не метафизика, это — мудрость низшей ступени, связанная с восприятием и прямо зависящая от приобретаемого опыта, который тоже является первичным, потому что именно через органы чувств мы открыты вещам, входящим в нас в силу присущего человеку врожденного способа познания.
Метафизика находится где-то посередине, и, как бы ни хотели того платоники, ей недоступна интуиция божественного происхождения всего сущего. Интуиция, которой она располагает, находится в верхней точке процесса визуализации и абстракции — это созерцание и обобщение непосредственных ощущений. Метафизика сама по себе и, конечно же, формально не зависит от натурфилософии, так как она выше ее и обладает упорядочивающими функциями. Но снижаясь до материального мира, метафизика признает натурфилософию, разумеется, не полностью, но, по крайней мере, в ее основах.
II
Как можем мы представить себе начальные моменты умозрительных построений о природе, о которых свидетельствует, например, история философов досократовских времен?
Разум дан живому существу; человеческий разум должен искать сущее в преходящих явлениях. Он ищет его, наталкиваясь на некий странно изменяющийся чувственный поток, на едва уловимое становление. Какое разочарование! Гераклит и Парменид, каждый по-своему, возмущены этим. Платон — тоже, он отворачивается от обманувшего его ожидания потока. Взор разума поворачивается к миру сущностей, отделенному от мира вещей, и приходит, таким образом, к метафизике внереалъного, существующей по образу и подобию математики. Итак, метафизика вырисовывается; а натурфилософия? Нет ее и не может быть в такой системе, как система Платона. Мир восприятия отдается на суд δόξα[2*].
Но благодаря Аристотелю именно гений Запада сохранил в нас уважительное отношение к миру вещей, осязаемых и видимых. Его метафизика — это метафизика внутриреальности; находясь как бы в глубинном средоточии осязаемых вещей, она высвобождает чистую интеллигибельность существа как такового, лишая его чувственного аспекта. Если дело обстоит так для метафизики, то это потому, что умопостигаемость вещей является не трансцендентной, а имманентной им.
Таким образом, взор разума, прежде чем выявить в природных вещах сущее как таковое и его чистую метафизическую интеллигибельность, может и должен уловить в них интеллигибельность, содержащуюся в осязаемом, познать, не прибегая к суждению, непосредственно то, что видят наши глаза. Видят же они не призрак, а совершенно конкретный объект изучения. В сущности говоря, истинно научное знание возможно, как возможна и сама философия осязаемого мира, философия изменения, движения, становления. Оно возможно, поскольку в движении как таковом заложены центры и связи интеллигибельности. Так что философию природы, Φυσική, можно считать обоснованной.
Все вышеперечисленное стало для нас обыденным. Какой же фонтан надежд для человеческого ума бил тогда, когда делались эти открытия! В основе философии и европейской науки лежит акт духовного мужества Аристотеля, преодолевшего соблазн уныния и разочарования, вызванный быстрым темпом эволюции и противоречиями мыслителей-первопроходцев.
Известно, как логично эти положения выстраиваются в учении Аристотеля. Они воплотились в ставшую классической в философии теорию трех ступеней, или трех основных видов, абстрагирующей созерцательности[130].
На первой ступени ум познает объект, выделенный им из неожиданного и случайного момента чувственного восприятия, сама интеллигибельность которого предполагает обращение к чувственному. Эта первая ступень, самая низшая в научной абстракции, и есть ступень физики, натурфилософии; она определяет область чувственной реальности. Над ней располагается ступень математической абстракции, где ум познает объект, интеллигибельность которого уже не предполагает непосредственного обращения к чувственному, но только к вообразимому. Это — область математической внереальности. И наконец, на высшей ступени рассудочного созерцания, т. е. на метафизической ступени, интеллигибельность объекта изучения свободна от всех обращений к чувству или к воображению. Здесь находится область сверхчувственной реальности.
Аристотель не только заложил основы физики, он одновременно выявил очень важную особенность, отличающую ее от метафизики. Деление на три степени абстрактности является делением по аналогии; степени эти не относятся к одному и тому же виду, а виды существенно отличаются друг от друга; они не располагаются один над другим по одной и той же генеалогической линии, между ними существует подлинная разнородность в отношении способов познания. Вот почему св. Фома Аквинский в своем комментарии к «Троице» Боэция отмечает, что в метафизическом ряду мы не должны искать подтверждения нашим суждениям ни в чувстве, ни в воображении; в математическом ряду наши взгляды реализуются в сфере воображения, а не чувства; в физическом же ряду суждения реализуются именно в мире чувств. Вот почему, добавляет он, одинаковый подход ко всем трем частям наших умозрительных знаний был бы интеллектуальным грехом.
Физика, или натурфилософия, вместе с примыкающими к ней экспериментальными естественными науками составляет мир умопостигаемости, в корне отличающийся от метафизического мира. Это отличие следует рассматривать как фундаментальное, потому что оно имеет отношение к простейшей интуиции живого существа. Мы можем интуитивно постичь живое существо, свободное в своей интеллигибельной чистоте и универсальности, либо вовлеченное в сферу чувственного и отличающееся специфическими особенностями мира в ходе его становления. Это различие связано с самим зарождением натурфилософии.
Однако за эту неоспоримую истину древние философы, и сам Аристотель, и мыслители Средневековья, заплатили серьезными интеллектуальными ошибками, проистекавшими от поспешных суждений. Нельзя сказать, что древние ученые были нелюбопытны в отношении мельчайших природных явлений, но они не видели того, что эти явления требуют индивидуального научного подхода, своей науки, существенно отличающейся от натурфилософии. Философский оптимизм древних мыслителей, делавших порой гипотетические выводы касательно деталей природных явлений, приводил к выводу, что философия и естествознание — это одна и та же наука, а все остальные науки материального мира — всего лишь разделы одной и единственной особо специфичной науки, которую называли philosophia naturalis[3*], которая одновременно объясняла и субстанцию тел, и происхождение радуги или снежных кристаллов. Еще у Декарта можно найти такое понимание. Для древних, таким образом, натурфилософия вбирала в себя все естественные науки; для них онтологический анализ полностью поглощает любой анализ эмпирический.
III
В конце переворота, начатого Декартом и Галилеем, мы будем свидетелями противоположного заблуждения, являющегося платой за великие научные завоевания. Я только что сказал, что древние включали в натурфилософию все естественные науки; наши же современники кончат тем, что сделают натурфилософию частицей естествознания. Новая отрасль знания с неисчерпаемыми возможностями заставит признать свои права. Но эта дисциплина, не тождественная мудрости, заменит мудрость secundum quid[4*] философии природы и другие высшие познания. Именно под метафизической ступенью, в сфере первого ряда абстракций, разыгралась известная драма между физико-математическим Познанием и философским Познанием чувственной природы. Ее последствия оказались решающими и для самой метафизики, и для интеллектуального развития человечества. В этой драме присутствовали два основных момента: на первом этапе физико-математическое познание было принято за некую философию природы; на втором этапе это познание отказалось вообще от всякой натурфилософии.
Первый период длился два столетия — от эпохи Галилея и Декарта до эпохи Ньютона и Канта. Подготовленные открытиями крупных ученых — схоластов XIV и XV вв., возвещенные и предвещенные Леонардо да Винчи и другими мыслителями Возрождения, новые механика, астрономия, физика восторжествовали в начале XVII в. над объяснениями природных явлений от имени (увы!) философии Аристотеля. Новая эпистемологическая категория, концептуальный метод нового типа завладели умами, — метод, состоящий прежде всего в математическом прочтении осязаемого.
Можно сказать, что эта новая наука, отмеченная многими успехами на протяжении трех столетий, заключается в прогрессивной математизации чувственного. Достижения этой науки особо ощутимы в области физики. Тип познания, которому она отвечает, не был незнаком древним мыслителям, но они открывали его в ограниченных, отдельных науках, таких, например, как астрономия, гармония или геометрическая оптика. Во всяком случае, они подметили, что речь идет о том, что они очень верно назвали промежуточной наукой, scientia media. С точки зрения Аристотеля и св. Фомы Аквинского, подобное знание должно рассматриваться и как безусловно математическое, так как его метод анализа и дедукции является математическим, и как материально-физическое, так как физическая реальность анализируется с помощью чисел и мер. Впрочем, св. Фома в своем Комментарии ко второй книге «Физики» отметил, что эти науки, будучи безусловно математическими, больше тяготеют к физике, так как правильность их выводов проверяется на чувственной природе.
Таким образом, осязаемая реальность, чувственное и меняющееся существо как таковое это — исходная и конечная точка познания. Но чтобы ее рационально расшифровать с помощью интеллигибельностей, являющихся объектом науки о протяженности и числах, не в онтологическом аспекте, а в сугубо количественном, применяется новый тип познания, предназначенного для описания всего объема природных явлений. Совершенно очевидно, что это не Философия природы, а Математика природы.
Если правильно уяснить себе, что составляет основу этого физико-математического познания, мы поймем, что было большим безумием со стороны схоластов времени упадка ставить ему преграды, будто эта философия природы противоречила их собственной философии. И таким же безумием было со стороны современных ученых требовать от такого познания последнего слова о физической реальности и рассматривать это познание как философию природы, противоречащую философии Аристотеля и схоластов. Таким образом, великая эпистемологическая драма разыгралась на почве недоразумений. И перед схоластами, и перед их противниками стояла одна и та же ошибочная задача: выбор между старой философией природы и новой. Но в одном случае, действительно, речь шла о натурфилософии, а в другом — о дисциплине, которая ею не является. Это не соперничающие науки, а вполне совместимые.
Дело в том, что математическое прочтение чувственного может осуществляться только с помощью основных математических понятий, т. е. понятий объемов и чисел, а также, разумеется, движения (хотя само по себе движение не является математическим понятием, а является необходимым вторжением физики в математику, когда последняя используется применительно к природе). Как только физико-математическое познание природы принимается за философию природы и от него начинают требовать онтологического объяснения чувственной реальности, совершенно ясно, что становится неизбежным переход к механицистской философии. Строгий механицизм Декарта являлся совершенно сервильным приложением философии к динамике естественных наук и научных исследований того времени, и именно это его губит как философию.
Таким образом, физико-математическое познание превращается в натурфилософию. Оно сразу становится (в силу естественного места, занимаемого натурфилософией — как базовым знанием — в органической структуре человеческой мудрости) первым организующим центром всей философии, и вокруг этой философии природы, принятой за физико-математическую науку, будет строиться метафизика. Здесь становится понятно, почему, начиная с XVII в., метафизика пошла кружным путем, а все основные системы классической метафизики, развивающиеся начиная с Декарта, предполагали в качестве нижней ступени наших философских знаний так называемую философию природы, являвшуюся на самом деле механицистской ипостасью физико-математического метода.
Но должен был наступить и второй период. И он пришел вместе с XIX в. и длится поныне.
С самого начала был постигнут абсолютный спиритуализм мира мысли, знал об этом и Декарт, потому-то он и продублировал свой абсолютный механицизм мира тел. А после нескольких неудачных попыток создания целостного материализма стало ясно, что вещи духовного свойства и вещи (вопреки Декарту) органического мира не сводятся к механицизму. Такой дуализм, несмотря на многие усилия, никогда не был преодолен, что не очень хорошо для познания, претендующего называться философией.
С другой стороны, кантовский критицизм показал, что наука о явлениях природы не располагает никаким инструментом, способным открыты для нас вещь в себе, вещь в ее онтологической реальности. Кант прекрасно видел эту недееспособность экспериментального научного инструмента при переходе к метафизике, а если шире — к онтологии, к философскому познанию. Его заблуждение заключалось в том, что, преклоняясь перед наукой своего времени, он поставил ее в центр своих рассуждений, создавая свою философию познания.
Наконец, наука с течением времени мало-помалу сама осознала себя и свои методы. Этот закон осознания себя является всеобщим законом всякой духовной деятельности, но поскольку человек не является существом исключительно духовным, а чаще всего мыслит «чувствами», закону необходимо много времени, чтобы проявить себя. Не надо удивляться тому, что физико-математической науке потребовалось три века на раскрытие своей истинной природы; мудрость Аристотеля и св. Фомы, как мы уже отмечали, задолго до этого наметила ее определяющие черты. Итак, наука постепенно осознала себя и свои методы и тем самым она освободилась от философской, или псевдофилософской, оболочки, навязанной ей механицизмом. Осознав себя, она все больше убеждалась, что не была философией.
Каков же результат этих трех фактов? Физико-математическое познание природы, которое в XVII–XVIII вв. принимали за онтологию и натурфилософию, понемногу водворялось на положенное ему место, так что в XIX в. оно стало абсолютно тем, чем и было на самом деле, не зная того: наукой о явлениях природы как таковых.
В то же время избавление от философских предубеждений и притязаний, произошедшее под влиянием физики и под давлением математики, распространилось на всю эмпирическую область, даже на естественные науки, не предполагающие и не допускающие математического прочтения. Таким образом, создавался сам по себе и по своему закону универсум науки, который ни в коем случае, даже secundum quid, не является мудростью. В подобной дифференциации уже заложен значительный прогресс. Однако прогресс этот имеет и обратную сторону, за которую он дорого заплатил: в этот момент эти науки, о которых идет речь, только себя считали способными познавать чувственную природу. Итак, в результате длительной исторической эволюции интеллектуальные позиции перевернулись; в то время как у древних мыслителей онтологический анализ и онтологическая экспликация поглощали все, включая и сами науки о природе в их философской интерпретации, сейчас, наоборот, эмпирический анализ поглощает все, претендуя на замену собой натурфилософии. Физико-математическую науку больше не принимают за философию природы, как в XVII в., но она продолжает занимать ее место; сперва ее спутали с последней, а потом она вытеснила ее.
Теперь я хотел бы коротко остановиться на двух значительных последствиях этого забвения натурфилософии в пользу естествознания: первое интересно для самой науки, второе — затрагивает метафизику.
Что касается самой науки, можно было бы сказать, что осознание ею себя под пером философов (а благодаря философам также и под пером ученых) было ложно истолковано в XIX в., извращено и искажено как раз потому, что, заняв место философии, наука пыталась определить себя как антифилософия. С тех пор ей приходилось совершать над собой насилие, чтобы существовать не только ради себя, но и противостоять философии и занимаемому ею месту. Вооружившись средствами защиты и притязаниями эпистемологического порядка, чуждыми ее природе, она защищала занимаемое ею место от возможного агрессивного возвращения философии. Вот так и родилась позитивистская схема науки, которую разрушают на наших глазах феноменологическое движение в Германии, эпистемологическая критика Мейерсона во Франции, а также кризисы, перемежающиеся с успехами науки, особенно физики.
Что касается матафизики, совершенно очевидно, что пришествие критицизма и позицивизма не могло уничтожить естественного устремления мысли к первой философии.
Метафизика вынуждена была дать новые побеги. Но в каких условиях? Урок истории тут ясен и неоспорим.
К чему пришли мы после провала внушительных послекантовских идеалистических систем, когда — не будем забывать — разносторонняя деятельность философии природы — романтической Натурфилософии — оказалась связанной с метафизической деятельностью и разделила ее участь? Что мы можем констатировать после провала частичных и робких попыток французских мыслителей в области умозрительной метафизики, основанной на психологической интроспекции по методу Виктора Кузена и Мен де Бирана? Нет больше натурфилософии, все поле познания чувственной природы отдано наукам о явлениях природы, эмпирическому познанию. Философы прилагают усилия, чтобы создать метафизику. Но, находясь под более сильным, чем им кажется, влиянием позитивизма, они даже не осмеливаются подумать о возможности существования онтологии чувственной природы, дополняющей эмпирическое знание. Нет больше натурфилософии; но раз так, то нет больше и умозрительной метафизики.
Осталась лишь рефлексивная метафизика, рефлексивная и откровенно идеалистическая, как метафизика г-на Брюнсвика, ищущая духовный элемент в научном открытии, где дух бесконечно развивается; либо рефлексивная и скрыто идеалистическая, как метафизика г-на Гуссерля и немалого числа неореалистов, — либо рефлексивная и неэффективно реалистическая, как метафизика г-на Бергсона, ищущая внутри физико-математической науки метафизическую суть, не известную этой науке, но которая раскрывается только интуицией чистой изменчивости[131].
И наконец, трагически рефлексивная метафизика многих современных метафизиков, особенно немецких, в которой только в драме морального опыта или опыта душевной тревоги ум пытается постичь смысл бытия и экзистенциальности.
Упраздните натурфилософию — и вы лишитесь метафизики как умозрительного познания наивысших тайн бытия, естественным путем доступных нашему разуму. Здесь причины меняются местами, causae ad invicem sunt causae[5*]. Метафизика просто необходима для здравой философии природы, находящейся у нее в подчинении. Со своей стороны, метафизика может существовать только допуская натурфилософию в качестве своей материальной базы. Этого требует сама природа нашего разума.
Вступая в непосредственный контакт с реальностью лишь через наши чувства, чисто интеллигибельное познание, стоящее на самой высшей ступени естественной духовности, не сможет достичь универсума нематериальных реальностей, если оно не будет приникать к реальности материальной; а оно не могло бы приникнуть к ней, извлекать из нее присущий ей объект, если было бы невозможно познание сверхчувственного, окрашенного и разбавленного чувственным; низшее по своей духовности познание постигает, в первую очередь, сущность вещей изменчивых и тленных и, таким образом, подготавливает, предвещает, предвосхищает метафизическую истину в сумерках этой первой ступени философского знания. Без натурфилософии, стоящей над естественными науками и подчиненной метафизике, натурфилософии, поддерживающей контакт между философской мыслью и миром естественных наук, метафизика не была бы связана с миром вещей, а могла бы лишь тщетно замыкаться на человеческом разуме, который сам является познающим или ищущим. В ряду материальной и определенной каузальности мудрость secundum quid натурфилософии, взятая, по меньшей мере, в ее первоначальных позициях, является условием чистой и простой умозрительной мудрости естественного ряда, условием метафизики.
И наоборот, без натурфилософии, как бы регулирующей свыше мир естественных наук, метафизика не смогла бы исполнять по отношению к последним свою обязанность scientia retrix[6*]. Я имею в виду, что метафизика была бы неэффективна, и направляя к разумному познанию все то, что в естествознании тщетно стремится к овладению сверхчувственным в реальности, и определяя смысл и значение того, что в естествознании подвержено высшей регуляции со стороны математического механизма. Мощная лавина научной деятельности, вызывающие восхищение работы в области экспериментального и математического освоения природы человеческим умом были бы лишены указующего луча свыше, были бы отданы закону эмпирики и количества и полностью отделены от целостного порядка познания. И лавина эта катилась бы по истории, вовлекая в себя людей, игнорируя и умозрительную, и практическую мудрость.
IV
Напрасно мы пытались бы уклониться от вопроса о натурфилософии. Его необходимо тщательно исследовать и обсуждать с научной точки зрения ради него самого. Для метафизика, занятого познавательными проблемами, существуют два вопроса: должна ли вообще существовать философия природы, отличная от естественных наук? (Это вопрос an sit [7*]). В чем именно она заключается? (Это вопрос quid sit [8*])· Чтобы рассмотреть их досконально, потребовался бы внушительный том. Позвольте мне, по возможности кратко, обратиться к выводам, на которых, по моему мнению, стоит остановиться.
Чтобы ответить на первый вопрос, важно различать — на низшей ступени абстрагирующего созерцания, в ходе познания чувственной реальности — два способа образования понятий и анализа реального: анализ, уже названный нами онтологическим, и тот, который мы назвали эмпирическим анализом чувственной реальности. В первом случае мы имеем дело с решением, восходящим к интеллигибельному существу, в котором чувственное играет важную, но подсобную роль по обслуживанию интеллигибельной сущности; во втором случае мы имеем дело с решением, прямо нисходящим к чувственному, наблюдаемому как таковому. Это, конечно, не значит, что ум тогда перестает обращаться к сущности — что совершенно невозможно, — это значит, что сущность переходит в подчинение к чувственному, к наблюдаемому и, прежде всего, к поддающемуся измерению. Она становится искомой величиной, обеспечивающей постоянство некоторых чувственных детерминаций и изменений или значимости некоторых разумных существ, укорененных in re[9*].
В одном случае пытаются определить ее, прямо апеллируя к онтологии, а также к основным элементам природы или сверхприродной сущности; и делается это настолько вслепую, что иногда попытка удается. В другом случае используют возможности наблюдения и измерения, применяя методы физики; в этом случае возможность постоянного контроля и измерения чувственного играют для ученого ту же роль, что и сущность для философа.
Поняв это различие, легко усвоить, что знание эмпирического типа, т. е. науки о явлениях природы, требует дополнения знанием онтологического типа, т. е. натурфилософией. Как очень точно подметил Мейерсон, эти науки и в самом деле содержат в себе устремленность к онтологии, которую они не удовлетворяют. Они выбирают себе в качестве объекта живое существо (поскольку оно реально) и в то же время относятся к нему с недоверием (поскольку оно интеллигибельно), поэтому они обращаются к явлениям природы, так что для того, чтобы конституировать себя в согласии со своими эпистемологическими возможностями, они в каком-то смысле вынуждены идти против интеллекта.
Таким образом, науки о феноменах свидетельствуют, что природа познаваема и что они просто недостаточно познали ее. Так что они совершенно обоснованно требуют дополнить себя еще одним знанием той же чувственной области, которое было бы полностью онтологическим, а именно — натурфилософией. Мы не только говорим, что естественные науки усиливают и усиливают стремление интеллекта перейти к более высоким и глубоким истинам, подобно тому, как сама философия природы пробуждает стремление интеллекта перейти к метафизике, но мы утверждаем, что, будучи упорядоченной суммой знаний, экспериментальное естествознание нуждается в дополнении, конечно, не в области его собственных методов объяснения, не в сфере определенного объекта, являющегося его предметом познания, но в области, в которую оно устремлено, т. е. вглубь ощутимой реальности. Будучи изменчивой и тленной, реальность оказывается плохо поддающейся изучению с помощью методов, присущих эмпирическому познанию, поэтому крайне необходимо пополнить это познание другим, которое, также находясь на первой ступени абстрагирующего созерцания, достигло бы сверхчувственного элемента данной реальности.
Есть и обратная сторона. Натурфилософия требует дополнения экспериментальными науками. Она не дает нам полного знания о реальности, на которой заканчивается ее влияние, т. е. о чувственной природе, из-за самой своей структуры как знания онтологического типа, на что мало обращали внимание древние; оно должно отказаться от объяснения деталей природных явлений, от использования всего феноменального богатства природы. Можно сказать по этому поводу, что мощное движение современной науки со времен Галилея освободило философию, онтологическое познание от массы задач, которые она выполняла и которые к ней не относятся.
Не является ли она уже мудростью, хотя и на низшей ступени? Всякая мудрость масштабна, она не входит в детали материальных вещей; бедная в этом смысле, но свободная, как и любое истинное великодушие, эта самая мудрость обречена на бедность. В действительности сущность материальных вещей в основном скрыта от нас, я имею в виду их специфические детерминации. Вот на эти конечные специфические детерминации, правда, наугад, не раскрывая их в них самих, и направлено эмпирическое познание, не являющееся философией! А натурфилософия требует этого нефилософского познания для того, чтобы конечный итог, в котором находит подтверждение ее суждение, был достигнут исчерпывающе, ибо итог, к которому она приходит, должен распространяться на всю ощутимую реальность, а это не только телесная субстанция, время, пространство, растительная или чувственная жизнь и т. д., но это — вся совокупность специфического разнообразия вещей.
То, что натурфилософия именно в качестве науки требует дополнения экспериментальным естествознанием, это очень важный признак. Отметим, кстати, что и натурфилософия, и естествознание принадлежат к одному и тому же роду знания, что они имеют отношение — хотя и по-разному — к первой ступени абстракции. Важным является и то, что философия природы существенно отличается от метафизики. Метафизика не требует дополнения естественными науками, она выше их, она свободна от них.
Перейдем теперь ко второму вопросу: в чем же заключается суть такой натурфилософии, если исходить из более строгих определений, чем те, которые мы употребляли до сих пор, и в свете познавательных томистских принципов?
Томисты отвечают вместе с Каетаном: это — знание, объект которого неустойчив; как бытие, изменчивое и непостоянное само по себе, это сущее, впитывающее в себя все родовое и видовое разнообразие (потому это и есть философия), — а не бытие как таковое, со своей загадочной сверхчувственностью, являющееся объектом изучения метафизиков; объект натурфилософии есть сущее, пребывающее в условиях скудости и разобщения, присущих материальному миру; сущее со своей собственной загадкой становления и изменчивости, движения в пространстве, где взаимодействуют тела, движения их роста и сущностного распада, что является самым глубоким признаком структуры их вегетативного бытия, роста, — таким образом проявляется восхождение материи к жизни. Все это так, но нам необходимы дополнительные уточнения. Мы уже упомянули, что древние мыслители не делали различия между философией природы и естествознанием или делали его в недостаточной степени. Учитывая прогресс наук, мы должны теперь остановиться на этом различии, в то же время не преувеличивая его. Что можно сказать по этому поводу? Мне кажется, нужно осветить два теоретических пункта. Во-первых, натурфилософия стоит на той же ступени abstractio formalis[10*], или образующего идеи созерцания, что и естественные науки; и потому, как мы уже сказали, коренным образом отличается от метафизики. Во-вторых, она тем не менее существенно и специфично отлична и от естествознания.
Натурфилософия стоит на той же ступени (родовой) абстракции, находится в той же сфере (родовой) интеллигибельности, что и наука о природе, а это значит, что, как и естествознание, она имеет дело не с чистой интеллигибельностью, а с той, которая накапливает первичные данные чувственного восприятия, питающего человеческий разум. Текст св. Фомы, процитированный мной, касается основного отличительного способа, используемого всеми тремя частями умозрительного знания, и тут все ясно. Но я хотел бы сказать больше.
Я хотел бы настоять на том, что можно было бы назвать парадоксом онтологического анализа на первой ступени абстрагирующего созерцания, или парадоксом интеллигибельного существа, такого, каким его видит натурфилософия. Рассмотрим интеллигибельные объекты первого ряда созерцания. По своей сути, и будучи интеллигибельными, они, конечно, не являются объектом чувственных действий: мой глаз никогда не воспринимает качество цвета таким, каким мыслит его мой ум. Но тем не менее эти объекты принижают интеллект в том смысле, что данные, полученные от чувственного опыта, насильно включают в себя саму интеллигибельность. Как я уже сказал, цвет, будучи интеллигибельным, не попадает под действие чувств; так, ангел тоже имеет представление о цвете, хотя и получил его не через органы чувств! Но человеку невозможно получить понятие о цвете, не ссылаясь на опыт чувств. Слепой никогда не будет иметь понятия о цвете.
Вот почему, заметим в скобках, Декарт терпеть не мог идей первого ряда абстрагирующего созерцания. Он отказывал им во всякой объективной и выявленной ценности, поскольку они не являются чистыми понятиями, каковыми он считал понятия математические, несмотря на их связь с воображением. Он хотел сделать из физики знание, свободное от чувств, и, по правде говоря, требовал для нее чистой интеллигибельности, которая, впрочем, сразу переставала быть чистой, так как она была геометрической. Таким образом, он оставлял науку одну, отсекая от нее разнообразные и многоступенчатые познавательные миры, из которых она состоит.
Итак, онтологический анализ на первой ступени абстрагирующего созерцания не может освободиться от чувственной данности, он в конечном счете всегда в нее упирается. Так же все обстоит и с наивысшими понятиями этого плана, такими, как форма и материя, душа и тело. Сравним понятия, относящиеся к форме и материи, душе и телу. Я преднамеренно выбрал самые высшие понятия, самые философские, органически входящие в состав натурфилософии. Сравним эти понятия с понятиями метафизическими, такими, как действие и сила, сущность и существование. В обоих случаях интеллект стремится к интеллигибельному бытию, хочет понять его; но тут обнаруживается существенное различие в сверхчувственных восприятиях.
Что касается понятий, используемых натурфилософом, то ощутимое, единое для всех них, всегда лежит в основе идеи и неразрывно связано с ней. Понятие души не может существовать без понятия тела: это — коррелятивные понятия, поскольку душа есть сущностная форма тела; и мы не можем представить себе понятие тела без понятия организма — caro et ossa[11*]. Мы не можем представить себе понятие организма без обращения к понятию качественной гетерогенности, а последнюю не поймем без представления о специфике, связанной с органами чувств; и в результате мы приходим к цвету, к сопротивляемости, к твердости и т. д., — ко всему, что мы можем определить лишь взывая к опыту наших чувств.
В то же время, и это другой аспект парадокса, онтологический анализ на первой ступени абстрагирования, онтологическое знание натурфилософа, ожидает большего от восприятия чувств, чем если бы это было эмпирическое знание.
В натурфилософии чувственная интуиция сама вовлечена в движение интеллекта к интеллигибельному бытию; ее познавательная ценность, уточню, умозрительная ценность, достигает максимума. Когда философ рассуждает о самой скромной чувственной реалии, например о цвете, он не прибегает к измерению длины волн или степени отражения, но обращается к опыту зрения, чтобы получить обозначение некоторого качества, интеллигибельная специфическая структура которого ему не открыта. Так что он уважает этот опыт чувств, приносящий ему содержание, которое, будучи осязаемым как таковым, само не является интеллигибельным. Но в качестве осязаемого это содержание имеет некую умозрительную ценность. Именно благодаря этой умозрительной ценности, признаваемой им в опыте чувств, он сможет использовать данные чувственного опыта для постижения несовершенной интеллигибельности объекта знания. Как бы незначительно ни было познание, даваемое чувственным опытом, оно всегда ценно.
И наоборот, весьма примечательно, что при эмпирическом анализе, особенно физико-математическом, чувства используются там только для сбора показаний, доставляемых инструментами наблюдения и измерения; эмпирическому анализу, по возможности, отказывают в самой способности познавать, даже приблизительно отражать реальность. Как может быть иначе в мире без жизни, без души и плоти, без качественной глубины абстрактного Количества, пронизывающего Природу? У Декарта были свои основания для того, чтобы сводить восприятия органов чувств к простому субъективному уведомлению, исключительно прагматического порядка.
Аристотель же искал в опыте зрения первый пример радости познания. Таковы были с самого начала два прямо противоположных отношения к поведению интеллекта; но следует заметить, что позиция Аристотеля является единственно по-настоящему человечной. Истинная натурфилософия отдает должное тайне чувственного восприятия, она знает, что последнее существует лишь потому, что необъятный космос приведен в движение Первопричиной, импульсы которой проходят через всю физическую деятельность, заставляя ее пролить свет разума там, на краю пространства, где материя пробуждается, превращаясь в esse spirituale[12*]. Ребенок и поэт не ошибаются, думая, что в свете звезды, доходящем до нас через неисчислимые годы, мы из далекого далека получаем знак Разума, заботящегося о нас. Очень поучительно для нас было бы констатировать, что сегодняшнее возрождение натурфилософии в Германии обязано феноменологическому движению; оно содержит, например, у г-жи Хедвиги Конрад-Мартиус, у Плеснера, у Фридмана массу усилий, направленных на реабилитацию чувственного познания. Здесь я не берусь судить об отдельных результатах этих усилий, однако их наличие свидетельствует в моих глазах о крайне насущной потребности в натурфилософии, слишком часто пренебрегаемой современными схоластами.
Итак, я подхожу ко второму пункту. В чем заключается отличие натурфилософии от естествознания? Предыдущий анализ ясно показывает нам, что философия природы отличается от естественных наук и по существу, и по специфике.
Каков в действительности окончательный принцип спецификации наук? Логики-томисты отвечают нам, что это типичный метод, по которому формируются определения, modus defîniendi[13*].
Если это так, то вполне понятно, что в интеллигибельной сфере принадлежащие к первому ряду абстрагирования понятия и определения, которые относятся, с одной стороны, к эмпирическому анализу, где все, в основном, решается в области созерцаемого, а с другой — к анализу онтологическому, где все решается, главным образом, в области интеллигибельного бытия, — эти понятия и определения соответствуют специфически различным знаниям. Концептуальная лексика натурфилософии и лексика естествознания являются совершенно разными; даже если им случается пользоваться одними и теми же словами, то понятия, обозначенные одним и тем же словом, формируются в обоих случаях совершенно по-своему; натурфилософия специфически отличается от естествознания.
Попробуем теперь дать более точное определение, подсказанное томистской эпистемологией. Избавляя читателя от различий технического порядка, скажу только, что, по-моему, натурфилософия должна определяться так: 1) Зов интеллигибельного (ratio formalis quae[14*]), на который она отвечает, есть изменчивость; натурфилософия направлена на изменчивое живое сущее, изменчивое и непостоянное, ens sub ratione mobilitatis[15*]. 2) Ее объективное освещение (ratio formalis sub qua[16*]) есть метод онтологического анализа и концептуализации, способ абстрагировать и определять, который, относясь непосредственно к восприятию чувств, нацелен на интеллигибельную сущность. Именно этим она специфически отличается от естествознания.
Таким образом, объект натурфилософии не частности явлений чувственной природы, а само умопостигаемое сущее в его изменчивсти, т. е., в конечном итоге, в его способности зарождаться и погибать; а также различия сущего, которые натурфилософия может расшифровать на пути к познанию интеллигибельной природы, не отбрасывая при этом данные органов чувств из мира онтологической изменчивости.
Здесь, пожалуй, самое время охарактеризовать дух и метод натурфилософии. Я затрону только один аспект этого вопроса. Само собой разумеется, что философия природы должна пользоваться тем, что имеет отношение к философии, т. е. фактами, установленными и рассматриваемыми в свете философии; ибо один отдельно взятый факт может дать только то, что он содержит, а философские выводы могут быть сделаны лишь из философских посылок или фактов, имеющих философскую ценность. И обычное философски трактуемое наблюдение уже может открыть немало фактов такого рода.
Но каким должно быть соотношение натурфилософии и научных фактов? Тут следует тщательно избегать двух ошибок.
Первая заключается в том, чтобы от голых научных фактов (я называю голым научным фактом факт, не прошедший философской обработки) требовать философских оценок. Пока факты не высвечены и не распознаны в реальности, не использованы учеными, эти факты интересны только для ученого, но не для философа; ученый имеет право запретить философу касаться их, у него есть право востребовать их только для себя одного. Было бы иллюзией полагать, что, прибегая к научным фактам, не высветив их философией, можно упразднить философские дискуссии. В этом, мне кажется, заблуждается П. Декок (Descoqs) в своей книге о гилеморфизме.
Второй ошибкой был бы отказ от научных фактов, попытка построения натурфилософии, независимой от научных фактов, изолирование ее от естественных наук. Заметим, что это стало бы неизбежным, если бы путали натурфилософию с метафизикой; в таком случае возникло бы желание предоставить натурфилософии ту же свободу в отношении частных научных фактов, какая присуща метафизике[132]. В реальности не возникло бы метафизики ощутимого, а только возник бы риск метафизики неведения.
Истина состоит в том, что философ должен пользоваться научными фактами, при условии их философской оценки и интерпретации. Благодаря этому смогут быть подтверждены уже установленные философские факты или открыты новые. Сравнивая уже добытые научные факты, подлежащие проверке философией, с первыми ее принципами, объективно освещая эти факты с философских позиций, можно выделить из них некое интеллигибельное содержимое, пригодное для философии.
Так что же! Если верно, что натурфилософия требует дополнить себя естествознанием и черпать из него философские факты, подтверждающие или освещающие в материальном мире научные факты, то не должна ли она, соответственно, согласиться с неким законом старения и обновления? Конечно, нет никаких коренных изменений! Есть определенная преемственность между натурфилософией в представлении Аристотеля и той, какой она является нам; но на своем длинном пути она претерпела множество перемен — старений и обновлений; так что, будучи знанием как таковым, она при этом больше зависит от хода времени, чем метафизика.
Существует разница между простыми вещами и формальными ценностями. Скажем, к примеру, что некий трактат по метафизике, если только он подлинный (который, правда, всегда содержит намеки на существующее состояние наук, на мнение людей и т. д.), может просуществовать века. А сколько может просуществовать трактат по экспериментальной физике или биологии? Двадцать лет, десять, два года, время жизни лошади, собаки, личинки майского жука. А трактат по натурфилософии? Так вот, максимум он может прожить одну человеческую жизнь, и то при условии, что будет периодически пересматриваться и неоднократно переиздаваться. Ведь он должен находиться в тесном контакте с науками о природных явлениях, а науки эти обновляются намного быстрее философии.
V
Я говорил о натурфилософии, рассматриваемой в ее эпистемологически-абстрактном виде. Можно добавить, что в сущности мы являемся сегодня свидетелями фактического возрождения философии природы. Это возрождение сопровождается отходом от позитивистской концепции науки. Биологи понимают, что методы чисто материального анализа оставляют, по словам Гёте, некие обрывки, в которых нет самой жизни и духовной связи, fehlt leider nur das geistige Band[17*]; и ученые определенно начинают поворачиваться к философии, чтобы искать глубинный интеллект, Verstehen[18*], живой организм: мне достаточно упомянуть в этой связи работы Ханса Дриша, так много давшие для новой биологической ориентации, а также более поздние работы Бёйтендейка, Ханса Андре, Кено и Реми Коллена.
Чудесные обновления, которыми физика обязана, с одной стороны, Лоренцу, Пуанкаре, Эйнштейну, а с другой — Планку, Луи де Бройлю, Дираку, Гейзенбергу, обновляют и стимулируют в физике попытки раскрыть онтологическую тайну материального мира. Знаменательное свидетельство тому мы находим и в философских размышлениях Германа Вейля, Эддингтона, Джинса.
Большие диспуты и открытия современных математиков, касающиеся аксиоматического метода, бесконечности и теории чисел, протяженности и дифференциальной геометрии, требуют философской разработки, зерна которой едва просматриваются в трудах Рассела, Уайтхеда и Брюнсвика. Философские идеи Бергсона и Мейерсона во Франции, феноменологов в Германии, в частности Макса Шелера, а с другой стороны, возрождение томизма подготовили условия для нового исследовательского фундамента в области онтологического постижения ощутимой реальности. От активности томистов зависит, чтобы эти исследования шли в направлении солидно обоснованной натурфилософии.
Здесь следует остерегаться того, что мы в другом месте назвали опасными связями, а также — искушения легкодоступным соглашательством, при котором новые разноречия, возникая между эмпирикой и онтологизмом, были бы недооцененными. Особая опасность таится в том, что касается налаживания связей натурфилософии с физико-математическими науками, которые в теоретической области, в высшей степени концептуальной, перестраивают свой универсум с помощью заложенных in re математических сущностей, мифов и символов, не способных войти в непрерывную взаимосвязь с реальными причинами, т. е. объектом рассмотрения философа.
Учитывая вышесказанное, следует отметить довольно примечательные нюансы, которые, честно говоря, делают современные науки, несмотря на имеющиеся в них обширные темные пятна, более взаимодействующими, чем античная или средневековая, для аристотелево-томистской философии природы. Не будем говорить о гуманитарных науках, где доказательство этого тезиса было бы слишком легким. Картезианская концепция мира — механизма и материи, отождествленной с геометрическим пространством; Ньютонова концепция незыблемой пространственной среды и времени, независимого от остального мира, бесконечность мира, псевдофилософский детерминизм физиков (эпохи королевы Виктории) — все эти догмы приказали долго жить. То, как современные ученые представляют себе массу и энергию, атом, мутации, вызванные радиоактивностью, периодическую систему элементов и фундаментальное различие между семейством элементов и семейством растворов и смесей, все это вновь приводит к признанию ценности Аристотелева понимания природы, как радикального принципа активности, понимание сущностных изменений, основы учения о материальных формах, понимание восходящего ряда материальных субстанций, более глубокого и значительного, недоступного физике древности.
Наш мир, где все находится в движении — в невидимом атоме в большей степени, чем в видимых звездах, — и где движение является универсальным посредником взаимодействия, философ воспринимает как целостный и оживляемый неким воздействием духа, называемым интенциональностью, направленностью.
Иерархия мира перевернулась; теперь уже не мир небесных сфер отсчитывает время, а мир атома; это уже не подлунный земной шар, окруженный хороводом нетленных божественных тел, а человеческая душа, ведущая телесную жизнь на маленькой ненадежной планете, являющейся не материальным, а духовным центром физического мира.
И этот мир есть мир случайностей, риска, авантюр, необратимости; у него есть замысел и история во времени; гигантские звезды уменьшаются, истощаются, постепенно гаснут; за миллиарды лет громадный изначальный капитал движения и энергии стремится к равновесию, он изнашивается, растрачивается, но, умирая, творит чудеса. Философы очень злоупотребляли принципом энтропии, но мы, несмотря ни на что, имеем право восстановить глубокий смысл, так хорошо согласующийся с понятием — не астрономическим, но философским понятием — времени, оставленным нам Аристотелем, quia tempus per se magis est causa corruptionis quam generationis[19*]. Мы также имеем право задаться вопросом, каким образом исключение, сделанное для закона убывания энергии мельчайшим живым организмам (применимого, кстати, для всего материального мира), устанавливает грань, где нечто невесомое с необычайной метафизической судьбой, называемое душой, проникает в материю, открывая в ней новый мир.
Современная наука по-своему и с изумительной точностью подтверждает эту великую идею томистской философии природы, видящей в мире живого и неживого стремление к восхождению по онтологическим ступеням ко все более и более концентрированным формам сложной единицы и индивидуальности, одновременно к внутреннему и к внешнему; в конечном итоге — к тому, что в безмерной вселенной уже означает не часть, но целое, упорядоченный мир, открытый другим мирам через интеллект и любовь: личность, которая, как сказал св. Фома, есть наисовершеннейшее из всего, созданного природой.
Расшифровывая образ таинственного мира, предоставленный ей естествознанием, натурфилософия узнает в нем, в том, что можно было бы назвать трагизмом первоначальной материи, бесконечное движение к ответу — сначала неотчетливое, потом еще робкое, затем ставшее в человеческом существе словом — к ответу другому Слову, неведомому самой натурфилософии. Только метафизика его познает.
Выдавая миру наук высвеченную философским светом интеллигибельность, которую сами естественные науки не могут нам показать, и вскрывая в чувственном существе, известном как нечто подвижное, как начальная стадия более глубоких истин и реальностей, являющихся объектом метафизики, натурфилософия, эта шаткая мудрость secundum quid уже на первой ступени абстрагирующей созерцательности по ходу процесса мышления, наиболее близкой к чувству, берет на себя роль распорядителя и объединителя всей мудрости; в качестве необходимого посредника она примиряет мир отдельных наук, стоящий ниже ее, с миром метафизической мудрости, который над ней возвышается. Именно там, в отправной точки нашего человеческого познания, в чувственной и изменчивой многосложности вступает в действие великий закон иерархической и динамической организации знания, от которого зависит благополучие индивидуума.
(лат.).
Три реформатора
Лютер, им Пришествие «Я»
I Замысел автора
Аще Сын ecu Божий, верзися низу.
Мф 4:6
Прообраз современной эпохи. Фихте
1. Мы едины с прошлым и в интеллектуальном отношении, и во всех прочих, и даже если забыть, что уже по родовому определению мы — политические животные, нельзя не поразиться, до какой степени мы мыслим исторически даже тогда, когда намереваемся переделать все наново. Поэтому чтобы отыскать корни идей, правящих ныне миром, и силы, из которых они первоначально произросли, подобает отправляться довольно далеко. В момент, когда идея выходит из земли, когда она вся полна соками будущего, она для нас всего интереснее, мы лучше всего можем понять ее значение во всей подлинности.
Однако исследование, которое я намереваюсь предпринять, не будет относиться к ведомству истории. К историческим сведениям я буду обращаться лишь с тем, чтобы в нескольких показательных типах они представили нам те духовные принципы, которые важно выделить в первую очередь.
2. Три фигуры по совершенно разным основаниям властвуют над современным миром и задают тон всем тревожащим его проблемам: реформатор религии, реформатор философии и реформатор морали — Лютер, Декарт, Руссо. Они поистине отцы того, что Габриэль Сеай[1*] назвал сознанием Нового времени. Я не говорю о Канте: он находится в месте слияния духовных течений, у истоков которых стояли эти три человека, и создал, так сказать, схоластическую арматуру современной мысли.
К Лютеру я обращаюсь не ради всестороннего изучения этой фигуры, основателя протестантизма, а для того, чтобы найти в лице этого врага философии некоторые черты, важные для наших философских споров. Было бы, впрочем, странно, если бы небывалое расшатывание христианского сознания, произведенное его ересью, не отозвалось во всех областях, в том числе в области спекулятивного и практического разума. Повлияв на религию, на то, что определяет всякую человеческую деятельность, Лютеров переворот уже тем самым непременно должен был глубочайшим образом изменить отношение души и спекулятивной мысли человека к реальности.
II Духовная драма
3. Мартину Лютеру — тому, кто дал мощный толчок пробуждению великих подспудных сил, дремлющих в сердце плотского создания, — была дарована реалистическая и вместе с тем лирическая натура — могучая, порывистая, отважная и страдающая, чувствительная и болезненно впечатлительная. Этот необузданный человек был и добр, и щедр, и ласков, и наряду с этим неодолимо горд и неуемно тщеславен. Рассудочная сторона в нем была очень слаба. Если под умом понимать способность схватывать универсалии, различать сущность вещей, смиренно принимать околичности и тонкости, существующие в реальном мире, то он был не умен, а скорее ограничен и, главное, упрям. Но зато в необыкновенной степени в нем были развиты понимание частностей и практических средств, живая лукавая сметка, способность находить дурное в другом человеке, искусство придумать миллион способов выпутаться из затруднений и привести в замешательство противника — словом, он умел пользоваться всем, что философы называют «сообразительностью», «конкретным разумом».
В монахи он, по собственным словам, поступил под впечатлением ужаса — сперва от смерти друга, убитого на дуэли, потом вследствие страшной грозы, когда чуть не погиб он сам, — «не столько увлеченный, сколько похищенный», «non tarn tractus quam raptus», и в первую пору монашеской жизни был усерден, быть может, даже ревностен[133], однако уже тогда беспокоен и смятен[134]. В то время средний уровень духовенства, особенно в Германии, пал очень низко; Лютер присоединился к реформаторскому движению и, как он сам говорил, не давал глотке зарасти паутиной, если требовалось громко обличать злоупотребления. В двадцать пять лет он стал профессором Виттенбергского университета, в двадцать девять — доктором догматического богословия, и преподавательские обязанности, столь неосторожно ему порученные в его горячечном состоянии, разом бросили его в зачумленную атмосферу человеческих споров, так что ревностность его перешла в высокомерие и гордыню[135]. Из схоластики, изученной в спешке, поверхностно, Лютер извлек лишь набор ложных мнимо богословских идей и поразительную способность к лукавой аргументации.
Впрочем, то, каким он стал позднее, не должно помешать нам представить себе, каким он мог быть первоначально, когда еще оставался католиком, монахом, искренне со всем неудержимым рвением предавшимся поискам пути к совершенству, для которого предназначил себя. Более того — попытка вообразить, каким мог быть этот молодой инок, в высшей степени поучительна. Я отмечу здесь две черты внутренней жизни брата Мартина по его собственным свидетельствам и по исследованиям Денифле и Гризара.
Прежде всего, создается впечатление, что в первую очередь он искал в духовной жизни того, что духовные писатели называют «осязаемым утешением», и неудержимо предавался религиозному экспериментированию, добиваясь тех явственных и верных знаков, которые Бог подает душе, желая привлечь ее к Себе, но которых Он же, когда хочет, и лишает и которые служат лишь средством. Для Лютера же все дело в том и было, чтобы чувствовать себя в благодатном состоянии — как будто благодать сама по себе есть осязаемый предмет! Не потому ли учение богословов о том, что по очищении от греха в душу вселяется благодать, приводило его «едва ли не к отчаянию в Боге, во всем, что Бог есть и чем Он владеет»[136], потому что он на опыте не знал этой совершенной чистоты благодати? Так, извращая все уроки духовных наставников, страстная мистическая тоска в этой неуспокоенной и плотской душе переходила в грубое стремление наслаждаться собственной святостью. Лютер вкусил от потаенных плодов благодати Христовой, вошел в духовный вертоград Церкви; я даже склонен полагать, что он углубился в него довольно далеко, — но с самого начала ось его духовной жизни была смещена: человеческая личность, хотя и в самом высоком, самом утонченном понимании, на деле стала для него важнее Бога.
Далее, вследствие того же порочного предрасположения, Лютер, чтобы достичь добродетели и христианского совершенства, полагался лишь на собственные силы, гораздо более надеясь на свои молитвенные и покаянные труды, на дела своей воли, нежели на благодать. Тем самым он на деле исповедовал то самое пелагианство, в котором затем обвинял католиков и от которого сам в действительности так и не освободился. Фактически в своей духовной жизни он был фарисеем, уповающим на дела[137], о чем свидетельствует и его судорожное самоуничижение: ведь он в то время был к нему очень склонен, ставил себе в грех первые невольные чувственные помыслы, пытался достичь такой святости, откуда изгнаны малейшие черты человеческой слабости… И в то же время его смущал горделивый взор, который обращает сама на себя душа в таком положении. Очистятся ли его грехи таинством исповеди — и вот он уже лучше всех: «В безумии моем я не мог понять, почему, покаявшись и исповедавшись, я должен считать себя грешником, подобным прочим, и ни перед кем не превозноситься»[138].
Наступила ночь — та «ночь души», которая бывает тем темнее, чем больше душе необходимо очиститься от себя самой. Мартин Лютер потерял всякое осязаемое утешение, погрузился в пучину отчаяния; с безжалостной ясностью, которую Бог дает в таких случаях, он увидел тщету и порочность, живущие в его человеческом сердце. Все здание совершенствования, которое он пытался воздвигнуть своими руками, как будто обрушилось на него, обратилось к его осуждению. Эта ночь могла быть очистительной; возможно, именно в такие моменты выбирают свою судьбу в вечности. Что же делает Лютер? Покидает ли он сам себя? Устремляется ли к Богу? Говорит ли своему смятенному сердцу великие слова Августина: «Vis fugere a Deo, fuge in Deum»[2*]. Нет, он оставляет молитву, спасается бегством в деятельности. Он оглушает себя безумным количеством работы:
«Мне бы нужны два секретаря, — писал он в 1516 г. эрфуртскому приору Лангу. — Весь день напролет я только тем и занимаюсь, что пишу письма… Я проповедник в монастыре и трапезной, каждый день меня зовут проповедовать в приходской церкви; я управляющий учебной частью, окружной викарий, а потому одиннадцатикратный приор[139]; я квестор в Лейцкау; я поверенный в Торгау на процессе герцбергской приходской церкви; я читаю лекции об апостоле Павле и готовлю работу о Псалтири. Редко удается мне прочитать правило или отслужить мессу»[140].
У него почти не осталось сил бороться с гнилой горячкой своей натуры. «Я стал, — пишет он в 1519 г. Штаупицу, — просто человеком, которого постоянно увлекает общество, пьянство, телесные похоти… Не осталось во мне ничего потребного, чтобы жить воздержно»[141]. Совершал ли он, начиная с этого времени, какие-либо тяжкие внешние прегрешения? Похоже, что нет. Но он пал внутренне, отчаялся в благодати. Когда человек познает язвы и нищету сынов Адамовых, змей нашептывает ему: «Смирись же с тем, что ты есть, недоангел, неудачное творенье; дело твое — творить зло, ибо зла сама сущность твоя». Тут искушается прежде всего ум. И Лютер совершил это деяние извращенного смирения, отказался от борьбы, объявил, что борьба невозможна. Полностью погрязнув в грехах (или решив, что это так), он дал этому потоку унести себя. А отсюда он пришел к такому практичному выводу: похоть неодолима[142].
4. Все это — просто, классическая, если позволено так выразиться, история падшего инока. Конечно — но вот что примечательно: вы думаете, он пал духом? Нет, тут-то он и почуял свободу, тут и решил, что на всех парусах летит к святости. Именно в этот момент рождается Лютер-реформатор; тогда он открывает для себя Евангелие, Евангелие освобождает его, и в нем проявляется христианская свобода. Что увидел он в Евангелии и у апостола Павла? Именно то, что мы сейчас приняли было за вопль отчаяния: похоть неодолима. Это сдача позиций человека, пессимистическое предание его животному началу — предисловие к такому же оптимистическому преданию у Жан-Жака и к ложной «искренности» имморалистской аскезы. Вожделение Лютер отождествляет с первородным грехом. Первородный грех всегда в нас, он не оставляется, он сделал нас в корне дурными, испорченными в самой сущности нашей природы. Бог, дав нам Закон, требует от нас невозможного. Но вот Христос заплатил за нас — и Его праведность нас покрывает. Он праведен вместо нас. Оправдание для нас носит совершенно внешний характер, мы же остаемся до самых недр грешными; оно не сообщает нам никакой новой жизни, а лишь покрывает, как хитон. Чтобы спастись, делать ничего не надо. Напротив: кто желает содействовать Божьему действию, тот маловер, отвергает кровь Христову и проклят.
И тут перед ним «отверзлись небеса»[143]. Простите, муки и терзанья! «Дела совершенно не нужны; вера одна спасает» — спасает через порыв доверия. «Ресса fortiter, et crede firmius»[3*]. Чем больше согрешишь, тем больше будешь верить, тем паче спасешься.
Теперь у Лютера появилось учение; теперь он стал главой школы, учителем и пророком. Он может привлечь своим богословием всю алчность, всю нетерпеливую чувственность, все гнилостное брожение, какие ни есть в Германии его времени, вперемежку с надеждами на реформу, вскормленными больше гуманизмом и ученостью, чем сверхъестественной верой. Как ясно видно, учение это родилось прежде всего из его собственного внутреннего опыта. Конечно, следует учесть и чтение дурно понятого святого Августина, и указанное Гризаром влияние споров между августинцами-конвентуалами и августинцами-обсервантами[4*], и особенно воздействие так называемого августинианского течения в богословии[144]. Но это все вторично. Отныне вера, спасающая без дел, — уже не вера в смысле богословской добродетели[145], а чисто человеческий жест слепого доверия, в отчаянии передразнивающий добродетель веры, эта вот вера-доверие дает опустошенной душе Лютера состояние духовной эйфории, которую он уже не хочет переживать в осязаемой сладости благодати, но которая по-прежнему остается его главной целью[146]. В первую очередь учение Лютера выражает его внутреннее состояние, духовный путь и индивидуальную историю его самого. Будучи не в силах победить себя, он превратил свои потребности в богословские утверждения, а свое фактическое состояние во всеобщий закон человеческой природы. Надеясь тем самым получить гарантии и внутреннее удовлетворение, он избавился (думал, что избавился) от мучений совести, раз и навсегда разочаровавшись в любых делах и отдавшись доверию ко Христу, не исправляя себя. Он был просто фарисей наизнанку — человек, махнувший на себя рукой от самоуничижения.
Несчастный, он думал, что больше не может уповать на себя и уповает на единого Бога. Но отказавшись признать, что человек может быть причастен праведности Иисуса Христа и благодати Его (которая, по Лютеру, всегда остается для нас внешней и не может произвести в нас жизненного действия), он навсегда замкнулся в своем «я», лишил себя всех опор, кроме этого «я», возвел в ранг учения то, что поначалу было только личным грехом, сделал центром своей религиозной жизни не Бога, а человека. В тот момент, когда, после бурь, вызванных делом об индульгенциях, он в мире возвысил свое «я» против папы и против Церкви, переворот в его внутренней жизни завершился.
5. Последствия известны — они были роковыми. На ухабах и в бурях жизни, поглощаемой деятельностью, в результате чего Лютеру — неслыханное дело! — удалось противостать могуществу Церкви, до основания потрясти Германию и весь христианский мир, сохранив тоску по какому-то лучшему жребию, он поддался власти инстинкта, подчинился закону своих членов, а как он при этом постепенно менялся, можно проследить хотя бы по ряду его портретов, последние из которых передают поразительно скотоподобный облик[147]. Гнев, клевета, ненависть и ложь, любовь к пиву и вину, навязчивое пристрастие к нечистому и непристойному[148], — все полилось из него через край, и все это «в духе и истине», в жизни, в евангельской святости, в благоухании христианской свободы. Отныне он проповедует с кафедры: «Так же как не во власти моей не быть мужчиной, так же не зависит от меня жить без жены»[149]. Он всюду будоражит чувственность; в женских монастырях, чтобы побудить монашенок искать себе мужей, он распространяет воззвания — произведения самого нечистого воображения, так что перо отказывается их переписывать[150]. И при этом он говорит: «Мы все святы»[151]. О молитве, посте и умерщвлении плоти говорится так: «В таком-то благочестии, или вроде того, псы и свиньи тоже могут каждый день упражняться»[152]. Так откуда после этого возьмутся угрызения совести? Вера-доверие для того и нужна, чтобы разжать ее челюсти, хоть это бывает и нелегко. А что делать, когда слишком не по себе, когда бес смущает человека, разжигая в нем огонь совести? «В таком состоянии надобно еще больше пить, играть, смеяться и даже немного согрешать в знак отражения сатаны и презрения к нему»[153]; «Ах, придумать бы мне какой-нибудь славный грех, чтоб одурачить черта!»[154]. Надо возбуждать в себе яростный гнев, представлять себе папу «в язвах и червях» и проклинать его, поскольку молиться в таком состоянии невозможно[155].
Но важней всего сейчас указать не на результаты, а на их источник, а источник этот кроется в духовной жизни Лютера, так что можно сказать, что вся грандиозная разруха, которую произвела в человечестве Реформация, — лишь следствие духовного искуса, не пошедшего впрок лишенному смирения иноку. Прежде всего он пал с духовных высот — там он вел бой и был побежден. Драма его завязалась in acie mentis — на самой вершине души. Лютер рассказывает, что видел и отразил бесчисленное множество бесов, угрожавших ему и споривших с ним. У истока, в основании драмы Реформации была духовная драма и духовная брань.
Так и должно было быть; подобало, чтобы семя антихристианской революции было внесено в мир человеком, призванным к совершенству, посвятившим себя Богу, отмеченным для вечной жизни родом своего служения и извратившим Евангелие. «Accipe potestatem sacrificandi pro vivis et mortuis»[5*]. Ax, нам слишком понятно, почему в день рукоположения, он при словах епископа пожелал, чтобы земля поглотила его[156], почему при начале евхаристического канона его охватил такой ужас, что он бежал бы из алтаря, если бы его не остановил наставник послушников[157]. «Сердце мое, — говорил он, — обливалось кровью всякий раз, как я читал литургический канон»[158]…
Моррас любит пословицу: «Рыба гниет с головы». Если о Жан-Жаке Руссо можно вместе с Сейером сказать, что современный мир происходит от «ереси в мистике», то насколько же это вернее по отношению к Лютеру! Все начинается в духе, и все крупные события современной истории образовались в недрах души нескольких людей — в том νους[6*], который, как говорит Аристотель, есть совершенное ничто в отношении объема и тяжести. Келья, где Лютер спорил с бесом, очаг, у которого Декарт увидел свой знаменитый сон, то место в Венсеннском лесу, где Жан-Жак под дубом омочил жилетку слезами, открыв доброту естественного человека, — вот места, где зачался современный мир.
III Индивидуум и личность
6. Самым первым делом в персоне Лютера поражает эгоцентризм — нечто гораздо более тонкое, более глубокое и гораздо более тяжкое, нежели эгоизм: эгоизм метафизический. Собственное «я» Лютера становится практически центром притяжения для всех вещей, особенно духовного порядка. А притом Лютерово «я», самость — не просто его повседневные неудовольствия и страсти: оно представительствует за него, это «я» творения Божия, несообщимая глубина человеческой индивидуальности. Реформация разнуздала человеческую самость в духовном и религиозном плане, как Возрождение (я имею в виду тот тайный дух, который создал Возрождение) разнуздало эту самость в естественной и чувственной деятельности.
Когда Лютер решил отбросить послушание папе и разорвать общение с Церковью, его «я», вопреки душевным терзаниям, в последние годы лишь возросшим, стало главенствовать надо всем. Всякое «внешнее» правило, всякая «гетерономия», как позднее выразился Кант, с этой поры стала невыносимой обидой для «христианской свободы».
«Я не признаю над своим учением, ничьего суда, даже ангельского, — писал Лютер в июне 1522 г. — Тот, кто не принимает моего учения, не может достичь спасения»[159]. «Собственное «я» Лютера, — писал Мёлер, — было, по его мнению, центром, вокруг которого должно обращаться все человечество и в котором все должны обрести пример. Короче говоря, он поставил себя на место Иисуса Христа».
7. Как мы уже заметили, учение Лютера само по себе — не что иное, как универсализация собственного «я», проекция «я» на мир вечных истин. С этой точки зрения отца протестантства от других крупнейших ересиархов отличает то, что те исходили в первую очередь из догматической ошибки, из того или иного воззрения, ложного с точки зрения вероучения, и, каковы бы ни были психологические причины этого, причиной их ересей было уклонение разума, а их духовный путь оказывался важен лишь в той мере, в какой обусловил это отклонение. У Лютера все иначе. Учение явилось уже потом. Лютеранство было не системой, разработанной Лютером, а излиянием индивидуальности Лютера. То же будет и у Руссо — это глубоко романтический метод. Именно это объясняет глубочайшее влияние «реформатора» на немецкий народ. Вот почему такой лютеранин, как Зеберг, не может сдержать восхищения перед этим поистине «демоническим», по его же словам, человеком, перед этой колоссальной, сверхчеловеческой фигурой, претендовать на суд над которой — кощунство. Вопрос в том, всякое ли излияние благо и заслуживает ли нашей благодарности река только лишь потому, что она затопила поля и села.
Кто ищет догматического изложения этого эгоцентризма, тот найдет его в некоторых из характернейших черт лютеранского богословия.
Что такое лютеранский догмат «уверенности в спасении»[160], как не перенос на человека и его субъективное состояние того абсолютного ручательства за божественные обетования, которое прежде было привилегией Церкви и ее миссии?[161] Душе католика, поскольку центром ее был Бог, ничего не требовалось знать с уверенностью, кроме таинств веры, и еще того, что Бог есть Любовь, что Он милостив. Если же Он посылал душе знаки Своего благоволения, человек пользовался этими опытными сведениями[162] не для самоповерки, не для того, чтобы судить о своем состоянии перед Богом, но более для того, чтобы сильнее переживать несовершенные ручательства надежды — тем более драгоценные, чем менее совесть смела принять их. Но душа еретика не могла существовать иначе, как в узах отчаяния, если не имела совершенной уверенности в своем благодатном состоянии, ибо она стала для себя центром и искала гарантий в праведности, дающей оправдание, а не в бездне милосердия Другого, сотворившего ее.
Отчего учение о спасении поглотило все лютеровское богословие, если не оттого, что человеческое «я» стало самоцелью этого богословия?[163] Из всех вопросов для Лютера важней всего один: как избежать праведного гнева Всемогущего, невзирая на неодолимое греховное вожделение, полностью отравившее нашу природу. На самом деле нам так насущно необходимо спасти свою уникальную личность не столько для того, чтобы избежать бесовских когтей, сколько для того, чтобы видеть лик Божий, не столько из любви к собственной ипостаси, сколько из любви к Тому, Кого любим более самих себя. «Domine, ostende nobis Patrem, et suffïcit nobis»[7*]. Католическое богословие строится, исходя из Бога — потому-то оно и есть наука в первую очередь умозрительная[164]. Лютеранское богословие строится ради творения, поэтому имеет в виду прежде всего достичь практических целей. Изгнав христианскую любовь и, что бы он ни говорил, оставшись при рабском страхе, Лютер заставил науку о божественных предметах вращаться вокруг человеческой нечистоты.
Но ведь, казалось бы, спасение человека у Лютера — дело Бога и Христа Его? Не поддавайтесь обману: в Лютеровом богословии благодать — всегда и полностью вне нас[165]; человек — чадо гнева — замурован в собственной природе и никак не может ни принять семени, дающего ему действительное участие в божественной жизни, ни совершить какого-либо истинно сверхъестественного дела. «Я говорю, что в человеке, как и в бесах, духовные силы грехом не только испорчены, но и совершенно разрушены, так что от них остались только немощный разум и воля, враждебная и противная Богу, единственный помысел которой — бороться с Богом»[166]. «Истинное благочестие, угодное в очах Божиих, обретается в чужих [т. е. Христовых] делах — не в наших»[167]. Если же акт оправдывающей веры исходит от нас, как может он исходить и от Бога, и от Христа, действующего в нас? Получается, что мы сами и только сами присваиваем покров Христа, чтобы «покрыть срам свой», что мы пользуемся этим, «ловко перепрыгивая от нашего греха к Христовой праведности, и тем самым столь же уверены, что обладаем благочестием Христовым, как и в том, что имеем собственное тело»[168]. Поистине пелагианство отчаяния! Именно человек, в конечном счете, делает все для своего спасения, напрягаясь в безумном доверии ко Христу. Человеческой природе после этого оставалось лишь отбросить покров благодати как ненужную теологическую бутафорию, перенести веру-доверие на саму себя[169] и стать тем славным зверем, отпущенным на свободу, неотвратимый и неуклонный прогресс которого ныне завораживает всю вселенную.
Так в личности Лютера и в учении его мы видим — начиная с области духа и религиозной жизни — пришествие человеческого «я»[170].
8. Но не въяве ли мы, таким образом, видим на примере Лютера одну из тех проблем, которые тщетно пытается разрешить современный человек? Это проблема индивидуализма и личности. Посмотрите на кантианца, вцепившегося в свою автономию, на протестанта, озабоченного своей внутренней свободой, на ницшеанца, изготовившегося к сальто-мортале по ту сторону добра и зла, на фрейдиста, культивирующего комплексы и сублимирующего либидо, на философа, готовящего к очередному конгрессу небывалую концепцию мира, на героя-сюрреалиста, вошедшего в транс и нырнувшего в бездну, на последователя г-на Жида, мучительно и страстно созерцающего себя в зеркале немотивированности, — весь этот несчастный мир ищет своей личности; в противность евангельскому обетованию, они стучат — и никто не откроет ищут и не обретают.
Посмотрите, с какой религиозной торжественностью современный мир провозгласил священные права индивидуума и какую цену он за это заплатил. А между тем был ли индивидуум когда-либо столь закабален, с такой легкостью вымуштрован Государством, Деньгами, Общественным мнением? В чем тут тайна?
Никакой тайны нет. Современный мир просто путает две вещи, различавшиеся древней мудростью: путает индивидуальность с личностью.
Что говорит нам христианская философия? Она говорит нам, что личность есть «полная индивидуальная субстанция, имеющая интеллектуальную природу и господствующая над своими действиями» sui juris, autonome[8*] в точном смысле этого слова. Таким образом, личностью именуются только такие субстанции, которые обладают божественным качеством — духом, вследствие чего каждая из них сама по себе представляет собой мир более высокого порядка, нежели телесный, — мир духовный и нравственный, который, строго говоря, не есть часть сотворенной вселенной и тайна которого непроницаема даже для естественного взора ангелов. Личностью именуются только такие субстанции, которые выбирают для себя цель, а тем самым способны сами для себя определять средства и через свою свободу вводить в мир ряд новых событий, — такие, которые, на свой лад могут сказать: «да будет» — и станет. То же, что составляет их достоинство, их личностность, — это собственно как раз и есть неуничтожимость одухотворенной бессмертной души, ее независимость от любых мимоидущих подобий и механики явлений, ее господство над ними. Так и св. Фома учит, что слово «личность» обозначает наидостойнейшую и наивозвышеннейшую вещь из существующих во всей природе: «Persona significat id quod est perfectissimus in tota natura»[171].
Именование индивидуальности, напротив, для человека является общим и с животным, и с растением, и с микробом, и с атомом. В то время как личность покоится на неуничтожимости человеческой души (неуничтожимости, не зависящей от тела и сообщаемой телу, которое этой самой неуничтожимостью души и сохраняется в бытии), индивидуальность как таковая, говорит нам томистская философия, основана на необходимом для самой материи начале индивидуации, поскольку материя есть начало разделения, поскольку она должна занимать некое место и иметь некое количество, вследствие чего то, что здесь, отличается от того, что там. Таким образом, как индивидуальности мы — лишь обрывок материи, часть мироздания — конечно, определенная, но часть, точка в бесконечной сети сил и влияний, законам которых мы следуем, — физических и космических, растительных и животных, этнических, атавистических, наследственных, экономических и исторических. Как индивидуумы мы покорны светилам. Как личности мы властвуем над ними.
9. Что такое современный индивидуализм? Ошибка, недоразумение: возвеличивание индивидуальности, закамуфлированной под личность, и соответственное унижение настоящей личности.
В социальном плане современное гражданское общество (cité)[9*] приносит личность в жертву индивидууму: индивидууму оно дает всеобщее голосование, равенство прав, свободу мнения, личность же — уединенную, нагую, лишенную всякого социального костяка, поддерживающего и хранящего ее, — оставляет на произвол разрушительных сил, грозящих жизни души, беспощадных действий и противодействий враждующих интересов и вожделений, искусственного возникновения и удовлетворения бесконечных материальных потребностей. Ко всей алчности, ко всем язвам, которые человек несет в себе от природы, современное гражданство прибавляет непрестанное чувственное возбуждение, осыпает человека жалящим роем метеоров блистательных заблуждений всяческого рода, которым дозволяет свободно обращаться на небе разума. Притом оно говорит несчастным сынам человеческим, стоящим посреди этого вихря: «Ты — свободная индивидуальность: защищайся, спасайся сам». Это — человекоубийственная цивилизация.
Впрочем, когда из этих распыленных индивидуумов начинает выстраиваться государство, тогда вполне логично, что индивидуум (поскольку, как я сказал, индивидуум как таковой — всего лишь часть) будет полностью поглощен социальным целым, существовать лишь для гражданства, и на наших глазах совершенно естественным путем индивидуализм придет к монархическому деспотизму Гоббса, демократическому деспотизму Руссо или деспотизму Государства-Провидения, Государства-Бога у Гегеля и его учеников.
Напротив, по учению св. Фомы человек как индивидуум в обществе действительно всецело является ut pars[10*], подчинен гражданскому благу, как часть подчинена благу целого, общему благу, которое божественнее собственной жизни и потому должно быть каждым любимо больше[172]. Но если речь идет о личности как таковой, отношение обратное: здесь уже гражданство подчинено задачам вечной жизни человека и его собственному благу, которое, в конечном счете, есть «особенное общее Благо» всей вселенной — тем самым я говорю: Сам Бог, ибо каждая личность, взятая как таковая, обозначает целое и каждая человеческая личность подчиняется непосредственно Богу как своей последней и высшей Цели[173], а на этом основании по закону любви не должна предпочитать себе самой ничего, кроме Бога[174]. Таким образом, индивидуум в каждом из нас существует для гражданства и при необходимости должен жертвовать ему собой, что и бывает в справедливой войне. Но личность существует для Бога, а гражданство для личности — я имею в виду для того, чтобы ей были доступны нравственная и духовная жизнь, божественные блага, которые суть настоящее предназначение и конечный смысл человека как личности. Таким образом, христианство сохраняет и укрепляет социальный костяк и иерархию гражданства: оно не объявило рабство само по себе противным естественному праву. Но оно призывает раба, как и господина, к одной и той же сверхъестественной участи, к одному и тому же причастию святых; всякую душу в благодатном состоянии оно полагает жительством Бога Живаго; оно учит нас, что неправедные законы — не законы и что следует противиться повелениям государя, когда они противны Божьим повелениям. В нем право и юридические отношения основаны не на свободной воле индивидуумов, но на праведном отношении к личностям. Можно сказать, что христианское гражданство столь же принципиально антииндивидуалистично, сколь принципиально персоналистично.
В приложении к отношениям человека и гражданства это различение индивидуума и личности содержит принципиальное метафизическое разрешение многих социальных проблем. С одной стороны (и это объясняет саму фактическую основу политической жизни), общее благо гражданства — нечто совсем иное, нежели просто набор собственных выгод каждого индивидуума[175], но в то же время иное, нежели собственное благо отдельно взятого целого: оно, можно сказать, есть благо, общее для целого и для частей, и вследствие этого должно включать перераспределение в пользу частей, которые рассматриваются уже не как просто части, но как самостоятельные предметы и личности. С другой стороны (это относится к цели политической жизни), хотя земное и преходящее совершенствование разумного животного свой момент реализации находит в гражданстве, которое само по себе лучше индивидуума, однако гражданство по своей сущности предназначено обеспечить условия для правильной нравственной жизни — жизни собственно человеческой — и преследовать в качестве своей цели преходящие блага (свой непосредственный предмет), лишь неуклонно принимая во внимание их сущностную подчиненность благу духовному и вечному, к которым призвана всякая человеческая личность[176]. А поскольку в действительности, милостью Творца, это духовное и вечное благо — не просто цель всякой естественной религии, но цель существенным образом сверхъестественная (созерцание, вводящее в самую радость Господа), человеческое гражданство погрешает против самого себя и против членов своих, если ему убедительным образом представлена истина, а оно отказывается признать Того, кто есть Путь блаженства[177].
10. В духовном плане различение индивидуальности и личности не менее необходимо. Его значение показывает замечательное место из книги о. Гарригу-Лагранжа:
«Человек становится в полном смысле личностью, существом per se subsistens и per se operans[11*] лишь в той мере, в какой разумная и свободная жизнь в нем возобладает над чувственной и страстной. Иначе он останется подобным животному — простым индивидуумом, рабом событий и обстоятельств, всегда на привязи у чего-либо отличного от себя, неспособным управлять самим собою; он станет лишь частью и не сможет притязать на то, чтобы быть целым…
Развивать индивидуальность — значит жить эгоистической жизнью страстей, превратить себя в центр всего и в конце концов превратиться в раба множества мимолетных благ, приносящих нам жалкую минутную радость.
Личность, напротив, возрастает по мере того, как душа, возвышаясь над чувственным миром, умом и волей все теснее связывается с тем, что составляет жизнь духа.
Философы предощущали, но прежде всего святые постигли, что полное развитие нашей немощной личности состоит в том, чтобы как бы потерять ее в личности Бога, Который один обладает личностью в совершенном смысле слова, ибо Он один абсолютно независим в Своем бытии и действиях»[178].
Личность мудреца еще весьма нестойка и неоднородна. Сколько дешевого грима на суровой маске стоика! Возможности, доступные только личности — чистая жизнь ума и свободы, чистая подвижность духа, самодостаточная для действия и для бытия, — настолько скрыты от нас в материи нашей плотской индивидуальности, что высвободить их мы можем лишь при одном условии: согласившись пасть на землю и умереть в земле, дабы принести божественный плод, — настолько, что истинное свое лицо мы узнаем, лишь получив белый камень, на котором Бог написал наше новое имя. Только у святых есть поистине совершенная личность.
Святые в определенном смысле нечто стяжали: они приобрели благодатью то, чем Бог обладает по природе, — независимость от всякой твари, не только телесной, но даже и от умных сущностей. «У святых своя держава, своя слава, своя победа, свое сияние, и они отнюдь не имеют нужды ни в плотском, ни в духовном величии, которые не имеют к ним никакого отношения, ибо ничего не прибавляют и не убавляют; их видят Бог и ангелы, а не телесные очи и не любопытные умы: одного Бога им и достаточно»[179].
Но неужели святые сознательно решают «развить свою личность»? Нет: они нашли ее, не искав, именно потому, что искали не ее, но единого Бога. Они постигли, что личность их — именно как личность, именно как свободная — вся состоит в зависимости от Бога и что само то внутреннее господство над своими действиями, от которого мы не можем отречься ни перед людьми, ни перед ангелами, они должны отдать в руки Бога, в Чьем духе следует действовать, чтобы стать сынами Его. «Они поняли, что Бог должен стать их вторым "я", более тесно связанным с ними, чем их собственное "я", что Бог более них самих есть они, чем они сами, Он и есть их личность в высшей степени», и тогда они «искали совершить нечто Божие — quid Deus». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос»[12*]. Хотя в плане существования они по-прежнему обладают неким «я», отличным от Христова, но «в плане действия, познания и любви они, так сказать, заместили собственное "я" божественным»[180], отрешились от всякой личности или независимости по отношению к Богу, постигнув, что Перворожденный среди них, вечный их Образец, имел не человеческую личность, но личность Самого Слова Божия, пребывающую в Его человеческой природе.
Вот тайна нашей человеческой жизни, неведомая несчастному современному миру: мы обретем душу свою, только потеряв ее; прежде, нежели мы обретем сами себя, от нас требуется вполне умереть. Когда же мы совершенно нищи, заброшены, вырваны из самих себя — тогда все принадлежит нам, принадлежащим Христу, даже Сам Христос и Сам Бог — наше Благо.
Но если мы желаем обрести свою душу, а за центр принимаем свое «я» — наше существо рассыплется и мы перейдем на службу слепых сил мироздания.
11. История Лютера, как и Жан-Жака, — замечательная иллюстрация этого учения. Он не освободил человеческую личность, а сбил ее с пути. Освободил же он материальную индивидуальность, о которой мы только что сказали, что это — животный человек. Не убеждаемся ли в этом на примере его собственной жизни? Чем старше он становился, тем меньше и меньше его энергия становилась энергией души, а больше и больше — энергией темперамента. Движимый великими желаниями и бурными стремлениями, вскормленными инстинктом и чувственностью, а не силой разума, обуреваемый страстями, ломавший все препятствия, всякую «внешнюю» дисциплину, однако внутри себя имевший сердце, полное противоречий и нестройных скорбей, задолго до Ницше уже глядевший на жизнь как на трагическую по существу, Лютер поистине являл образ современного индивидуализма («прообраз современной эпохи», как сказал Фихте). Но в действительности его личность распалась, погибла. Сколько бы он ни громыхал, за этим стоит великая душевная слабость.
Примечательный аспект: чтобы освободить человека, он начал с того, что расторг монашеские обеты, а его «веселая весть», как говорит Гарнак, тотчас породила в Германии эпидемию отчаяния[181]. Немецкие протестанты требуют от нас признать «величие» Лютера. Величие материальное, количественное, животное — да; мы признаем его и, если угодно, восхищаемся им; но величие подлинно человеческое — нет. Смешение двух родов величия или силы, смешение индивидуума и личности лежит в основе германизма, что позволяет нам понять, почему немцы представляют себе личность как ураган, как буйвола или слона. Это объясняет нам также, почему во всех крупнейших деятелях, возбуждавших протестантскую Германию, — Лессинге, Фихте — вновь и вновь бьет старинный источник Лютерова духа; Фихте назвал Лютера еще и «немцем из немцев».
Счастлив народ, который высшим воплощением своего гения имеет не плотскую индивидуальность, а личность, сияющую Духом Божиим! Если мы хотим противопоставить эгоцентризму Лютера пример истинной личности, вспомним о том чуде простоты и прямоты, непорочности и мудрости, смирения и величия души, какое явила Жанна Д'Арк.
IV Ум и воля
12. В облике Лютера видна и еще одна поразительная черта: это человек, которым постоянно и всецело владеют аффекты и вожделения; он чистый Своевольник, главная характеристика которого — мощь действия.
Все историки напирают на его сокрушительную энергию. Карлейль назвал его «христианским Одином, истинным Тором».
О, конечно, здесь не идет речь о воле в ее собственно человеческом качестве, которая тем жизненнее, чем глубже она коренится в духовности ума; речь идет собственно о волевом произволе, о том, что древние обычно называли Влечением, — о влечении похоти и особенно о яростном гневе.
«Речи его подобны битвам», — говорили о Лютере. Когда он срывается с цепи, ничто не может его остановить. Известна великолепная запальчивость его фраз: «Будь в Вормсе столько чертей, сколько черепиц на крыше, я все равно явлюсь туда… Я видел множество бесов и сражался с ними. Герцог Георг не сравнится с бесом. Будь у меня дело в Лейпциге, я бы сел на коня и отправился в Лейпциг, хоть бы там девять дней подряд ливмя лило герцогами Георгами».
Обладая необычной силой воображения и выражения, он был, очевидно, обворожительным собеседником и громогласным оратором — часто, спора нет, грубым и непристойным, но неотразимым. Как весьма справедливо заметил Боссюэ, «в его гении была сила, в его речах страсть, живое и мощное красноречие, увлекавшее и чаровавшее народы, необычайная отвага, когда он видел поддержку и восхищение собой, внушительный вид, заставлявший учеников трепетать перед ним, так что они не смели противоречить ему ни в большом, ни в малом»[182]. В то же время он в исключительной степени обладал той богато оркестрованной чувствительностью, в которой звучит глубокая симфония бессознательных сил и которая создает поэтическое, сердечное очарование, по-немецки именуемое Gemiith. Сохранилось множество черточек его простоты в обращении, добродушия, доброты. Как и Жан-Жак (и, несомненно, гораздо больше Жан-Жака), он был одарен сильной естественной религиозностью, долго молился и любил молиться вслух, неудержимо многословно, чем восхищал людей; умилялся, видя жатву, небосклон, птенчика в саду. Он плакал над фиалкой, найденной им в снегу, которую не мог вернуть к жизни. Свыкшись с глубокой меланхолией, которая, несомненно, — самое великое и самое человеческое в нем (с той Сауловой меланхолией, видеть которую так страшно, ибо, не знай мы, что вечный жребий Саула — как и Лютера — подлежит неисповедимому суду Божию, мы бы видели в ней тоску человека, которому «лучше бы не родиться»), этот человек, положивший начало мировому перевороту, умирялся музыкой, утешался игрой на флейте. Бесы, говорил он, бегут от флейты.
Все это имеет ту же основу: полное преобладание Чувства и Влечения. Если рассудок сохраняет власть над напором инстинкта и мощью чувств, они дают человеку несравненные материальные и эмоциональные богатства, сами по себе служащие духовной жизни. С этой поправкой можно, если угодно, видеть своего рода романтизм уже у Сузо — но в рамках мировоззрения, остающегося вполне рациональным, упорядоченным, католическим. У Лютера дело иное: воля действительно и абсолютно первенствует, поражая самое мировоззрение. Можно сказать, что он был первым великим романтиком.
13. Вполне естественно, это расположение души сопровождалось глубоким антиинтеллектуализмом, к которому, кроме того, подталкивало и полученное Лютером оккамистское, номиналистское философское воспитание. Позволим себе процитировать здесь несколько характерных текстов.
Вначале послушаем, что он говорит об Аристотеле и о св. Фоме.
«Аристотель — нечестивое убежище папистов. В богословии он то же, что мрак среди света. Его этика — злейшая врагиня благодати»[183]. Это «прогорклый философ»[184], «мальчишка, которого надо бы посадить в свинарник или в конюшню к ослам»[185], «бесстыдный клеветник, лицедей, хитрейший развратитель умов. Если бы он не жил действительно во плоти, можно было бы без всякого стеснения принять его за самого беса»[186].
Что же до св. Фомы, он «так и не понял ни одной главы из Евангелия или Аристотеля»[187]. Лютер «с полным правом, то есть в христианской своей свободе, отвергает и отрицает его»[188]. «Короче, невозможно реформировать Церковь, если не вырвать с корнем схоластическое богословие и философию вместе с каноническим правом»[189].
«Сорбонна, сущая матерь всех заблуждений, — говорил он в 1539 г., — вынесла мерзейшее постановление, что любая вещь тогда верна, когда верна для философии и богословия. Кощунство с ее стороны осуждать тех, кто утверждает противное»[190]. Потому Парижский факультет — «проклятое сборище сатанинское, наимерзейшая потаскуха ума, какая только являлась под солнцем, поистине врата адовы» и пр.[191] Не лучше он отзывается и о лувенских богословах: «тупые ослы, окаянные свиньи, богохульные утробы, эпикурейские боровы, еретики, идолопоклонники, протухшие лужи, проклятое адское варево»[192].
Что же, Лютер нападает на какую-то определенную систему? Нет — на саму философию. «Он думает, что служит Богу тем, что ругается на философию…»; «Философию следует изучать только так, как изучают дурные уменья — чтобы расстроить ее, как познают заблуждения — чтобы опровергнуть их»[193].
Это от Лютера Карлштадт уже в 1518 г. позаимствовал дивную мысль, будто «логика в богословии нисколько не нужна, ибо Христос не нуждается в человеческих измышлениях»[194]. Разве кто посмеет связать такого свободного христианина, как доктор Лютер, законом противоречия? Нимало! Аргументация для него всегда была только приемом кулачного боя, в котором он был настоящим мастером, стараясь сокрушить противника любыми средствами. «Если бы я сейчас взялся за перо, — цинично говорил он Филиппу Гессенскому, — я бы уж как-нибудь выпутался, а Вашу высокую милость посадил бы в лужу»[195]. В конечном счете реформатор объявил войну не только философии, но и разуму вообще. Разум имеет значение исключительно в прагматическом отношении, для использования в земной жизни — Бог дал нам его лишь затем, «чтобы он управлял здесь — он, то есть, имеет власть уставлять законы и правила для всего, что относится к этой жизни, как-то: еды, питья, одежды, также всего, что касается внешней пристойности и честной жизни»[196]. Но в духовных вещах способность разума не просто обретается «в слепоте и во мраке»[197] — это поистине «б… диаволова[13*]. Она способна только богохульствовать и бесчестить все, что Бог сотворил и сказал»[198]. «Анабаптисты говорят, будто бы разум — это светоч… Может ли разум давать свет? Может, подобный свету нечистот, положенных в светильник»[199]. То же и в последней проповеди, произнесенной им в Виттенберге незадолго до смерти: «Способность разума — величайшая б… диаволова, вреднейшая б… и по природе, и по способу существования, распутница, штатная чертова б… пораженная паршой и проказой, которую подобает повергнуть и растоптать — ее и премудрость ее… Обезобразь ее, швырни ей кал в лицо. Должно утопить ее крещением, ибо вода крещения топит ее… Достойна эта пакость, чтоб ее послали в самое поганое место в доме, в нужник»[200].
Отвращение Лютера к разуму, впрочем, согласуется с его общим учением о человеческой природе и первородном грехе. Согласно Лютеру, грех испортил самую сущность нашей природы, и зло это непоправимо. Благодать и крещение покрывают, но не смывают первородный грех. Поэтому разуму в лучшем случае можно приписать чисто практическую роль в человеческой жизни и повседневных делах. Но познать первые истины он неспособен; всякая умозрительная наука, всякая метафизика — обман: «Omnes scientiae speculativae non sunt verae… scientiae, sed errores»[14*], — a употребление разума в предметах веры, желание создать посредством рассуждения и используя философию последовательную науку о догматах и о фактах откровения — короче, богословие, как его мыслили схоласты, — есть ужасный соблазн.
Словом, грубо, буквально и совершенно превратно приняв те места, где духовные писатели говорят об упразднении естественных способностей — извратив мысль Таулера[15*] и немецких мистиков, а также тексты ап. Павла и Евангелия, — этот прогнивший христианин объявил, будто вера направлена против разума. «Разум противен вере», — писал он в 1536 г.[201], а немного позже: «Разум прямо противоположен вере — итак, следует с ним расстаться. Для того, кто верует, он должен быть убит и в землю зарыт»[202].
Я привел эти тексты, потому что ложный антиинтеллектуалистский мистицизм, который в более утонченных и менее откровенных формах отравил столько умов в XIX в., поучительно увидеть при его зарождении, понять его подлинный тон и суть.
В общем, Лютер за двести тридцать лет до Жан-Жака принес человечеству освобождение, колоссальное облегчение. Он избавил человека от интеллекта — от этой утомительной и навязчивой необходимости все время мыслить, причем мыслить логически. Впрочем, это освобождение постоянно приходится возобновлять. Ведь, как писал Лютер в комментарии на Послание к Галатам: «Увы! Разум в этой жизни никак нельзя уничтожить»[203].
14. Проблема, которую ставит здесь перед нами Лютер, нам хорошо знакома — это проблема классическая и актуальная, которой мы уже пресытились: проблема интеллектуализма и волюнтаризма. Лютер стоит у истоков современного волюнтаризма. Чтобы доказать это подробно, следует подчеркнуть последствия антиинтеллектуалистского пессимизма, о котором я только что говорил. Разум у Лютера если не убит безвозвратно, то сослан в самое поганое место в доме, а так как простая скотина не может быть идеалом человека, то другая духовная способность — воля — если не в теории, то на практике должна цениться столь же высоко. Так у Лютера гипертрофированное чувство «я» в сущности есть чувство воли, осуществления свободы, как говорила позже немецкая философия. Итак, следует подчеркнуть эгоцентризм Лютера и показать, как у него «я» становится центром, — конечно, не как у Канта, не вследствие претензии человеческого разумения быть мерой умопостигаемых вещей, но вследствие претензии индивидуальной воли, отделившейся от вселенского тела Церкви, предстать одинокой и обнаженной перед Богом и Христом, чтобы обеспечить себе уверенность в оправдании и спасении.
Мне, пожалуй, достаточно будет указать на то, как именно у Лютера возникает мистика самости и воли. Его учение о ничтожестве дел — заблуждение отнюдь не квиетистское. Он не преувеличивает примат созерцания, который признает и католическое богословие, — наоборот, он ненавидит созерцательную жизнь, и, поскольку в его учении единение с Богом в любви совершенно невозможно, вся религия фактически сводится к служению ближнему[204]. Короче, действия и дела не имеют для спасения никакого значения — в этом отношении они дурны, испорчены. Но для здешней жизни они хороши — буквально чертовски хороши. Если же они служат не Богу — тогда чему, как не реализации человеческой воли? Руссо — мечтатель, Лютер же — деятель. Он не говорит, как Жан-Жак: «Я не могу противиться своим наклонностям, но я, Боже, благ перед Тобой — сущностно благ». Он говорит: «Адамов грех растлил меня в самой сущности, я гнусен, грехи мои сильны, но я уверен в Тебе, Боже мой, и, каков бы я ни был, Ты возьмешь меня и спасешь, покрыв хитоном Сына Твоего». Послушаем его самого.
Согрешил ли всю? «Иисус Христос, — говорит Лютер, — склоняется и дает грешнику вскочить Ему на спину, и так спасает его от смерти и темницы»[205] — вот зачем нужен Христос. «Какое утешение благочестивым душам так одевать и кутать Его в грехи мои, твои, всей вселенной, и видеть, как несет Он грехи наши!»[206] «Как только увидишь, что твои грехи пристали к Нему, так будешь укрыт от греха, смерти и ада»[207]. Христианство — всего лишь постоянное упражнение в том, чтобы чувствовать, что ты не имеешь греха, хотя и грешишь, но грех твой переносится на Христа[208]. Довольно признать Агнца, понесшего грехи мира, — и грех уже не может разлучить нас с Ним, хотя бы мы тысячу раз на дню блудили и столько же убивали[209]. Не благая ли это весть: некто исполнен грехов, но Евангелие обращается к нему со словами: «доверься и верь» — и все грехи его тотчас будут прощены? Только составлен список грехов — и все они прощены, и ждать более нечего[210]. Как только ты признал, что Христос понес твои грехи, он становится грешен вместо тебя[211]. «А ты становишься возлюбленным чадом, и все делается само по себе, и все, что ни сделаешь, будет хорошо»[212]. Помилуйте — да это же просто практично: иметь Христа! «Я посреди вас как служащий», «Ego in medio vestrum sum sicut qui ministrat» — сказал Господь[16*]. Правду сказал Ты, Спаситель, — отвечает Лютер, — вот и беру Тебя к себе в услужение. За призывами Лютера к спасающему Агнцу, за порывами доверия и веры в прощение грехов стоит тварный человек, задирающий нос и устраивающий свои грязные делишки, в которые его ввергло прегрешение Адамово. В мире-то он не пропадет: он будет влеком волей к власти, захватническим инстинктом, законом мира сего — мира своего; он будет творить в мире волю свою. Бог будет ему лишь союзником, сотрудником, богатым компаньоном. В итоге мы приходим к подлинно безумным формам волюнтаризма, проявившимся в наши дни у некоторых англосаксонских плюралистов[17*] или у Винцента Лютославского[18*], который восклицает (до того собою любуется!): «Меня никто не мог сотворить!», — а на Бога смотрит просто как на союзную своей воле державу: «У нас, в общем, одинаковые цели, — пишет он, — а следовательно, много общих врагов». Поэтому вполне оправданно искать у Лютера источник двух крупнейших идей, по-видимому, тесно связанных между собой в истории философии: идем радикального зла, перешедшей в немецкую философию к Бёме, к самому Канту, к Шеллингу, к Шопенгауэру, и идеи примата воли, торжествующей в немецкой же философии, особенно у Канта, Фихте, Шопенгауэра. Создается впечатление, что метафизически Пессимизм и Волюнтаризм — два лица одной и той же мысли.
С другой стороны, сильное течение современной мысли — на сей раз преимущественно французское, восходящее к Ренессансу и Декарту, а не к Лютеру, — направилось в противоположную сторону, к рационализму и оптимизму (Мальбранш, Лейбниц, просветительская философия), а Жан-Жак, вольно обращавшийся с метафизикой, нашел способ соединить оптимизм с антиинтеллектуализмом. Но никогда в философии Нового времени не удавалось соединить Разум и Волю, и столкновение этих духовных способностей болезненно разорвало сознание современного человека.
15. Решение этой проблемы, как хорошо знали уже древние, важно для всей человеческой жизни. Вот почему они посвящали ей тончайшие метафизические толкования. В надежде найти отважного читателя, способного одолеть две-три довольно специальные страницы, я попытаюсь кратко и суммарно изложить учение св. Фомы по этому вопросу[213].
Абсолютно, в себе, в порядке чистой метафизической иерархии, интеллект благороднее и возвышеннее воли: Intellectus est altior et nobilior voluntate, потому что обе способности нематериально рассматривают бытие и благо, однако рассматривают с разных сторон: предмет интеллекта (а только он и будет сущностью блага, взятого с умопостигаемой стороны, в качестве истины) как таковой и чисто формально проще и абстрактнее, чище и, так сказать, процеженнее, более совершенно духовен, нежели предмет воли как благо желаемое, взятое в его конкретном существовании, а не только в умопостигаемом «разуме», λόγος'е. Знак этого — в том, что хотя наш интеллект и должен необходимо пользоваться чувствами, но в своем движении к умопостигаемому он оставляет, насколько возможно, чувственные образы позади себя, воля же наша по природе в своем движении к тому, что она возлюбила, несет с собой аффекты чувственного увлечения.
Таким образом, всякий порядок и всякое соподчинение происходят от интеллекта, и Слово обретается в начале путей Божиих, и Дух Любви в Боге исходит от Слова, как и в нас желание — от мышления. Подобно и наше блаженство будет по существу состоять в зрении, в обладании Богом в боговидении, где само существо Бога составит одно с нашим интеллектом в познавательном плане, а любовь и наслаждение в воле будут лишь следствием этого, так что в конечном итоге наш интеллект до конца обретет свой метафизический примат над волей.
Власть интеллекта абсолютна не только в плане истин умозрения и чистого познания, так что и наука совершенна лишь тогда, когда, полностью абстрагируясь от всякого субъективного влечения, целиком предается власти своего предмета. Но и в практическом плане правота действия предполагает правое сознание, разум — ближайшее правило наших поступков, а всякий внутренний душевный акт, предполагающий порядок и контроль, относится к разуму.
16. И все же, если рассматривать с точки зрения превосходства не сами по себе интеллект и волю, а по отношению к степеням совершенства, которых они могут достигнуть, то их соотношение бывает и обратным: воля становится выше разума. Так происходит потому, что, по великому изречению Аристотеля, доброе и злое находятся в вещах, а истинное и ложное в уме[214]; воля стремится к предмету, каков он есть сам в себе, в его собственном существовании и способе бытия, в то время как интеллект стремится к предмету, как он есть в нем, в том способе бытия, которое дает ему сам интеллект, привлекая и «высасывая» его, чтобы нематериально стать этим предметом. Если так, то по отношению к вещам, стоящим выше нас, воля, переносящая нас в эти вещи, благороднее интеллекта, который втягивает эти вещи в нас; и если вещи телесные, стоящие ниже души, которые интеллект, познавая, одухотворяет, лучше познавать, чем любить, то Бога лучше любить, чем познавать, особенно в состоянии посюсторонней жизни, где мы познаем лишь в зависимости от множественности и материальности нашего восприятия. Вот почему есть премудрость Духа Святаго, стоящего настолько выше философской мудрости, насколько небо выше земли, — премудрость, в которой Бог узнается и впитывается не отличающимися друг от друга идеями, но любовной соприродностью, просто благодаря тому единению, которое дает любовь.
С другой стороны, в той мере, в какой в практическом плане мы рассматриваем не всеобщие истины, управляющие деятельностью, но то собственно, как мы конкретно употребляем наши действия, св. Фома приписывает воле столь господствующую роль, что видно, как «Часть нравственная» «Суммы» вся скрепляется Волей, так же, как «Часть метафизическая» — Интеллектом. В отношении знания св. Фома гораздо более интеллектуалист, нежели Скот, в отношении деятельности — гораздо менее. Именно от воли зависит употребление нашей деятельности и то, как мы идем к своему Страшному суду, так как именно от нее, а не от интеллекта, зависит, назовут ли нас попросту «добрыми» или «злыми». Именно воля своей свободой, своим властным безразличием ко всякому сотворенному благу делает нашу душу замкнутыми небесами, которые один Бог может разомкнуть, куда лишь Божий взор и взор Христа — Первосвященника — проникает. Наконец, именно от нее, от того, насколько правильно она изначально направлена, зависит сама истина практического знания, управляющая волей в каждом конкретном единственном случае: ведь непосредственный предмет интеллекта — лишь всеобщее, чистый предмет умозрения, поэтому о том, «что делать», о единичном и случайном он может хорошо судить лишь в порядке правильного расположения воли, так что истина практического разума, в данном случае не познающего, а направляющего, мыслится уже не в соответствии вещи, «per conformitatem ad rem», a в соответствии правильному устремлению, «per conformitatem ad appetitum rectum», откуда следует, что в плане деяния и также познания единичного и операбельного воля, по выражению Каетана[19*], вертит интеллектом, как хочет, а практическое суждение и указания интеллекта могут быть устойчиво благими только тогда, когда устремления в корне очищены нравственными добродетелями.
17. В конечном счете св. Фома в каждом духовном существе показывает две принципиально различные действующие силы, равно требовательные и всепоглощающие. Одна из них полностью обращена на бытие объекта, на другое как таковое и сама по себе интересуется только им, живет только для него — это интеллект; другая сила всецело занята благом субъекта или вещей, с которым субъект един, и сама по себе интересуется только этим благом, живет только им — это воля. Каждая доминирует в своей сфере: одна абсолютно, ради познания, другая в том или ином отношении, ради действия. Горе человечеству, если одна из них заберет себе все соки за счет другой! Чисто и исключительно волюнтаристское человечество презирает истину и красоту, становится моралистически-фетишистским чудовищем, некоторое представление о котором могут дать Руссо, Толстой или Уильям Джемс; чисто и исключительно интеллектуальное человечество презирает свою постоянную пользу — и что ему собственное существование? Оно наслаждается зрелищами, становится своего рода метафизическим или эстетским чудовищем. И, конечно, чем сильнее влекут в какую-либо сторону человека его дарования, тем труднее ему поддерживать в себе равновесие: «прекрасная опасность» гения — всегда страшный риск. Чтобы интеллект, столь сильно привлекаемый радостью чистого познания, возрос на правом пути святости, потребовалось, чтобы у Фомы Аквинского исключительная сила нравственных добродетелей обеспечила правильное направление воли…
Это учение объясняет противоположные крайности абсолютного интеллектуализма и абсолютного морализма и в то же время примиряет, превосходя их, все истинное, что могло войти в мысль Гёте и Спинозы, Толстого и Руссо. Ибо оно — и только оно — отдает должное собственной природе и законам как интеллекта, так и воли, не объявляя ни влечения недопроясненными «идеями», как это делает рационализм, ни действия интеллекта искажением реальности, как философии чувства.
Это учение, в частности, объясняет известную на опыте двойственность, весьма примечательную из-за своей практической важности. С одной стороны, установлено, что, лишившись истины, особенно какой-либо из великих метафизических и религиозных истин, та или иная цивилизация на среднем уровне претерпевает моральный разброд, упадок воли и крупные катастрофы, так что знакомство с высокими истинами умозрения нередко бывает действенней для реформы нравов, чем взывания к самым ощутительным, самым полезным для здоровья и общества добродетелям. Но нельзя, с другой стороны, не констатировать, что при прочих равных условиях сила интеллекта и сила добродетели не всегда совпадают. Не будем соблазняться тем, что столько благородных и чувствительных душ имеют слабую способность суждения, а столько ученых и светлых умов — слабую нравственность, что есть много людей добродетельных, но не слишком хитроумных и много сообразительных, но вовсе не добродетельных. Хотя предполагается, что мы знаем великие истины умозрения, руководящие нашей деятельностью, но далее правильность нашего практического суждения, поскольку она касается нравственного употребления собственной нашей деятельности, зависит не от проницательности спекулятивного разума, не от глубины познания, а от правильного направления воли в сфере наших личных целей — особенных оснований нашей деятельности, а это направление может быть совершенно правильным и у человека, весьма дурно судящего о роли власти в государстве, или о различии сущности и существования, или о правильности модусов силлогизмов darapti и baralipton, или об очищении страстей в трагедии, хотя все эти вопросы сами по себе следует считать весьма существенными. Вот почему св. Фома учит, что нравственные добродетели могут существовать без интеллектуальных достоинств, таких, как мудрость, ученость и умение, но не могут существовать без разумения первоначал и без благоразумия, впрочем, неотрывного от первоначал, так что употребление разума необходимо находится в действии у всякого добродетельного человека, «usus rationis viget in omnibus virtuosis», но только «quantum ad ea, quae sunt agenda secundum virtutem»[215] — в том, что касается вещей, требуемых с точки зрения нравственности. И у мечтателей, и у филистеров могут быть прочные добродетели. Это философское утешение немало стоит во времена, подобные нашим.
Наконец, учение св. Фомы об интеллекте и воле показывает нам, почему любая философия, основанная на абсолютном примате воли или чувства, т. е. способности, занятой по сути исключительно тем, что касается субъекта, будет неизбежно склоняться к субъективизму, почему, вместе с тем, вследствие нее воля выпадет из своей собственной сферы и роковым образом перейдет на службу низшим аффективным силам и инстинктам (ведь метафизическое достоинство и духовность воля имеет только потому, что она есть стремление, коренящееся в интеллекте), почему, наконец, принятие такой философии некоторой частью человечества (уже оттого, что она обращается за светом и руководством к силе, которая сама по себе слепа) равнозначно для последней переходу от беды к беде. «В начале было дело» — этот девиз, которым столь гордится германский Фауст, написан на знамени Смерти.
ν Принцип имманентности
18. Всякое заблуждение лишь потому проникает в умы, что пользуется какой-то истиной, которую искажает. Значит, в сердцевине Лютеровой реформы должна существовать некая коренная иллюзия, которую и следует отыскать. Для этого нет лучшего способа, нежели расспросить самих реформаторов.
Что же они нам говорят? Они говорят нам, что сущность Реформации — восстание Духа против Авторитета, внутренней энергии человека, властвующего над своими суждениями, против мертвых идей и лживых условностей, навязанных извне. Карлейль видит в Лютере «человека, имеющего в себе опору — подлинного, оригинального, искреннего». «К чему можно было прийти, — пишет этот наивный гегельянец, — со лживыми папами и с верующими, не имеющими своего частного мнения, с шарлатанами, претендующими на власть над простаками? Только к нищете и бедам… Во всей дикарской революционной работе, начиная с протестантизма и вплоть до наших дней, я вижу подготовку благословеннейшего результата: культ героев не уничтожится, но возникнет, я бы сказал, целый героический мир. Если "герой" означает "искренний человек", отчего каждый из нас не может быть героем?» И отчего это, в самом деле, все искренние читатели Карлейля не стали героями? Отчего искренность труса не делает его мучеником? Процитированный сейчас отрывок — хороший концентрат англо-модернистской глупости. Но я выберу сейчас из него лишь то, что нам, собственно, нужно: великие идеи, обращенные заблуждениями лютеран в иллюзии, — это идеи свободы, внутреннего мира и духа.
Здесь мы подходим к сути имманентистского заблуждения. Оно состоит в вере, будто свобода, внутренний мир, дух человека состоят в принципиальном противоположении «не-я», в разрыве «внутреннего» и «внешнего»: истину и жизнь надлежит искать исключительно во «внутреннем» мире человека как субъекта; все в нас, а что происходит от того, что не суть мы (можно сказать, «от другого»), есть покушение на наш дух и «искренность»[216]. Итак, все «внешнее» по отношению к нам есть разрушение и смерть нашего внутреннего мира. Всякое же опосредование, которое здравый смысл считает объединяющим внутреннее с внешним, благодаря чему они вступают в общение, есть в действительности «посредник», разделяющий их. И вот для протестантского индивидуализма Нового времени Церковь и Таинства отделяют нас от Бога, а для философского субъективизма Нового времени впечатление и идея отделяют нас от реальности. Я не хочу сказать, будто Лютер формулировал такой принцип — отнюдь нет! Лично он, напротив, имел крайне догматический и авторитарный взгляд на жизнь — ничего либерального в нем не было. Но я говорю, что на практике именно он в весьма своеобразной, еще вполне теологической форме внес этот принцип в мысль Нового времени, противопоставив веру делам, Евангелие Закону и тем самым извратив ту самую веру, от которой он ждал спасения, — получилась еретическая лжевера, которая роковым образом постепенно свелась к тому, чем стала у многих протестантов наших дней, — к порыву отчаянного доверия неизвестно чему, исходящего из глубин своего «я».
Замечательно здесь то, что современный миф об имманентности с его превозношением достоинства духа основан как раз на радикальном непонимании истинной природы духа. Да, в телесном мире — мире преходящей деятельности — получать нечто от иного, извне означает чистую страдательность, разумеется, противоположную жизненной спонтанности — именно потому, что здесь дело касается вещей, не имеющих жизни, не способных самосовершенствоваться, а потому служащих только местом приложения мировых энергий, их изменяющих. Но в мире духовном получать от другого первоначально также есть, конечно, акт страдательный, но лишь в силу некоего предполагаемого условия, сущность которого в акте действия, внутреннего совершенствования и проявления автономии истинно живого. Ведь особенность духовного состоит в том, что оно не замуровано в своем отдельном существе и способно к внутреннему росту, именно поскольку принимает то, что не есть оно. Закон объективности, закон бытия потому и имеет силу для интеллекта, что интеллект жизненно завершает себя в действии, являющемся чистым нематериальным качеством, в котором именно то, что составляет «другое» как таковое, становится его собственным совершенством. А закон Высшей цели, закон блага имеет силу для воли потому, что любовь, делая нас едиными с Творцом всякого блага, становится для нас глубочайшим и сокровеннейшим влечением, которому мы следуем, следуя Его закону, ставшему нашим. Это и есть собственная тайна имманентной деятельности, совершенная интериоризация в знании и любви того, что есть «другое», или того, что исходит от «другого» по сравнению с нами.
В еще более трансцендентном плане, перед лицом еще более глубокой тайны — тайны действия творящего Духа на духи тварные — Лютер также непоправимо отделяет «нас» от «другого», наш духовный корабль от обстоящего этот корабль океана. Праведность нашу он превращает во внешнюю облицовку, за которой мы продолжаем совершать злые дела, потому что «дела человеческие, если бы и были по видимости всегда прекрасны и по всей вероятности казались бы благими, суть смертные грехи», в то время как дела Божии, если бы и были безобразны и казались бы злыми, вовек благословенны[217], — «не принимая во внимание, — говорит Боссюэ, — что благие дела человеческие суть вместе с тем и Божии дела, ибо Он производит их в нас Своею Благодатию»[218]. Этим все сказано. Ведь бесконечный Бог, находящийся в сокровеннейшей глубине всех вещей, ибо Он сотворил их, господствующий над самим бытием, действует во всякой твари, как подобает согласно данной Им природе, в духе производит духовное действие по способу, присущему духу, — со всей спонтанностью, самостоятельностью и свободой, подобающими его природе. Тщетно полагает Лютер, занимая абсурдную позицию овнешнения, что все предоставил благодати: считая невозможным, чтобы дело человеческое было вместе с тем и Божиим, он на деле заложил основы разнузданного натурализма, спустя два с небольшим столетия разрушившего западную мысль, а затем расцветшего пышным цветом в современном имманентизме. Может ли отныне идти речь о жительстве божественных Лиц в нашей душе? Она замыкается в одиночестве, становится непроницаема для всякого иного, помимо себя.
19. Тайна божественных действий, тайна имманентной деятельности тварного духа и духовных способностей — в эти две тайны уперся Реформатор, а с ним и весь мир Нового времени. То, что прежде было прозрачным, потому что эти тайны принимали, стало вдруг темным, потому что их отвергли. Отныне в духовном удается уловить только акцидентальное и второстепенное — его материальную и человеческую обусловленность. Интеллектуальное наставничество, как человеческое, так и божественное, Церковь и догматы Откровения, более того — непреложность объективного существования и нравственного закона отныне в конечном счете могут мыслиться лишь как внешняя, механическая узда для природы, страдающей от этого насилия. Война началась.
Взгляните: ради общественного спасения, чтобы не погибнуть в анархии в немецких протестантских странах сразу же после Лютера воцарилась авторитарная реакция в самой тиранической общественной форме. Какая внешняя узда хуже власти князей, издающих законы в духовной области, и церквей, отделенных от Духа Христова? Какая дисциплина материальнее и механистичнее протестантской схоластики? Какой буквализм тягостнее буквализма мертвого богословия и «супернатурализма», основанного не на Первой Истине, но на человеческом разуме проповедников — толковников Писания на казенном жалованье? Какое иго тяжелее их морали, десяти заповедей, устрашавших Лютера — и вправду страшных, если наше внутреннее начало благодати не дает силы и склонности жить согласно им?
Но дух Лютера продолжал прокапывать путь к новым потрясениям и новым кризисам. И по мере того, как мир и мысль Нового времени наполнялись этим духом, он беспрестанно подтачивал и беспрерывно пожирал их, потому что материя всегда бессильна против всякого духа и бессильны материальные запреты, на время стесняющие его. Принципиальный конфликт духа и авторитета, Евангелия и Закона, субъекта и объекта, имманентного и трансцендентного — это специфически протестантский конфликт, не имеющий силы для порядка вещей, соответствующего духовной реальности, и модернизм совершенно безуспешно пытался внести его в католическое сознание.
Мало того! В силу принципа имманентности — если все, привнесенное извне, полагать угнетением и насилием, — придется, в конце концов, замкнуться в нашем духе так, чтобы он не имел уже ничего внешнего, заключить в человеке все, вплоть до самого Бога; человек тогда станет высшей точкой эволюции, в которой достигает самосознания природа (она тоже мыслится спящей), в которой приходит к становлению Бог.
И «благословеннейший результат», который готовила великая «дикарская революционная работа, начиная от Реформации вплоть до наших дней», оказывается просто-напросто ерундой.
Только в борьбе противоречий эта работа обещает успокоить ум — она переносит в нас вселенский раздор. Она все растревожила и ничего не исцелила. Она оставляет нас без надежд перед лицом великих вопросов. Разрешенные Христом и учителями Его Церкви для искупленного человечества, пока оно пребывало верным, вопросы эти вот уже скоро четыре века, как вновь вторглись в сердце человека, став пыточными орудиями бесплотных духов.
Декарт, или Ангел во плоти
I Что открылось Декарту
Сия вся Тебе дам.
Мф4:9
Между веком Аристотеля и веком Декарта вижу я двухтысячелетнюю бездну. В этом всеобщем оцепенении должен был явиться человек, восставивший род людской, давший новые пружины разумению; человек, имевший довольно смелости, чтобы разрушить, и довольно гения, чтобы вновь построить; человек (и проч.).
Тома. Похвальное слово Декарту[20*]
«Я, то есть мой дух», — сказал он. Он действовал не как Лютер или Руссо — разливая волны чувствительности в душах и безудержную смуту своего сердца, — но соблазняя дух, пленяя разум изгибами мысли и ясностью идей.
Надменное, тяжелое, агрессивное лицо, низкий лоб, осторожный, упрямый, отрешенный взгляд, гордая складка землистых губ; странная жизнь — таинственная, скрытная и все же имевшая силу и величие, — от начала до конца Декарт прошел ее с одним намерением, на редкость рано и проницательно поняв, что первое условие интеллектуальной жизни среди людей — скрываться от них; загадочное начало, краткое, как взмах крыла: сон, увиденный в Германии у очага, призывавший его посвятить всю свою жизнь философии ради обновления человечества… От изучения биографии и нравственного облика Декарта нам будет мало пользы. Все дело только в его системе — на ней завязана и судьба его.
Здесь я попытаюсь вычленить духовную направленность этой системы, а не дать ее аналитическое исследование. Я обращаюсь к читателям, знакомым с Декартом, в уверенности, что они по ходу дела поймут, какие положения его учения я имею в виду.
Итак, я хотел бы, оставив в стороне субъективную примесь, которая у любого философа — а у Декарта, пожалуй, особенно — отвлекает от абсолютного характера идей и ослабляет их ясную достоверность, представить обнаженный, более непосредственный, чем само его оригинальное выражение, образ не столько философии, сколько духа Декарта.
2. Леон Блуа в каждом общем месте обиходного языка видел сфинкса, возлежащего на тайне творения, — чудный способ впадать в восторг от каждой фразы консьержки или депутата. Общие места философии, точнее, истории философии, заключают не меньше сокрытой мудрости. Что они говорят нам о Декарте?
Как Лютер открыл «Человеческую личность», а Руссо — «Природу и Свободу», так Декарт открыл «Мысль». «Он поистине открыл мысль как таковую», — писал г-н Амлен[219].
Мы не протестуем — в том смысле, как понимал это утверждение Амлен, оно совершенно верно. Скажем так: Декарт открыл лицо того чудовища, которому поклоняется идеализм Нового времени под именем Мысли.
II Ангел и разум
3. Попробуем называть вещи своими именами: грех Декарта — это грех ангелизма. Он потому превратил Мысль и Познание в безысходное Недоумение, потому поверг их в пучину неуспокоенности, что человеческую Мысль понимал по образцу Мысли ангельской. Все заключается в трех словах: независимость от вещей — вот что он усмотрел в мысли человека и что насадил в ней, вот что через его посредство открылось ей в ней же самой. Казалось бы, — чисто умственное прегрешение в крайне абстрактной области и никого не касается, кроме маниакальных педантов в долгих мантиях — тех, кто одел себя в книжный переплет, как сказал про своего сына советник Жоашен де Карт. Но под его влиянием оказалось несколько столетий человеческой истории, оно причинило ущерб, которому не видно конца. Прежде, чем указать на следствия этой ошибки, рассмотрим ее как таковую, стараясь отметить все наиболее характерное.
Согласно учению св. Фомы, человеческий интеллект — последний из духов, самый удаленный от совершенства Божественного Интеллекта. Как зоофиты служат переходом от растительного царства к животному, так разумное животное есть переходная форма от телесного мира к духовному. Над ним, бесчисленные, как песок морской, теснятся на ступенях своей иерархии бесплотные духи. Эти мыслящие сущности в истинном смысле слова, чистые формы, имеющие бытие, разумеется, получили его, а не суть, как Бог, само бытие, но они не включены в состав материи, свободны от превратностей времени, движения, размножения и разложения, от раздробленности пространства, от всех скорбей «запечатленной материи», materia signata; каждая из них заключает в себе больше метафизической основательности, нежели весь человеческий род вместе взятый, — исчерпывает, как неповторимый в себе тип, все совершенство своей сущности, — а потому с самого мига своего сотворения они предназначены к завершенной полноте своих естественных способностей; они воздымают у нас над головою знамя безмерности; им присущ бесконечный по сравнению с нами диапазон устойчивости и силы. Каждая из них прозрачна для собственного взгляда, каждая исчерпывает в восприятии свою собственную сущность и так же с одного взгляда естественно знает Бога, — конечно, по аналогии, но их интеллект — зерцало сияния — всегда пребывает деятельным относительно познаваемых ими предметов и свои идеи, в отличие от нашего ума, извлекает не из вещей, но прямо принимает от Бога: Он их вложил в эти сущности при создании, а они этими врожденными идеями, которые в них суть как бы производные идей Бога, познают сотворенные вещи прямо в творческом свете, служащем правилом и мерой всего. Итак, жизнь бесплотных духов — непогрешимых и даже безгрешных в естественном плане, взятом отдельно от сверхъестественной цели, автономных и самодостаточных, насколько может быть самодостаточной тварь, не знающих усталости и сна, — представляет собой неиссякаемый источник мысли, знания и воли. Проницая в совершенной чистоте своей познающей способности, конечно, не тайны сердец и даже не череду еще не явившихся существ, но все сущности и все законы, всю субстанцию мироздания, «зная силу и действие огня, воды, воздуха, светил, небес и всех прочих тел столь же ясно, как мы знаем различные ремесла наших мастеровых», они, не имея ни рук, ни орудий, суть в конечном счете «как бы господа и владетели природы»[220] и могут произвольно влиять на движение атомов, играя на природе, как на гитаре. Притом все это относится к атрибутам ангельской природы, взятой самой по себе, независимо от ее положения в сверхъестественном плане — так, как она пребывает не только в верных духах, но и в падших. Вот образец, по которому сын Турени[21*] решил переделать дух человеческий.
4. Стоит взглянуть на три основные отличительные черты познания, свойственного бесплотным духам: оно интуитивно по способу, врождено по происхождению, не зависит от вещей по природе — и мы увидим, что те же три черты (конечно, транспонированные, но оттого не менее коренные и явные) Декарт приписал и человеческому познанию.
5. Как известно, первым побуждением Декарта было избавить философию от избыточного груза дискурсивности — противопоставить схоластической словесной груде, требующей массы труда, и нагромождению множества силлогизмов науку непосредственную, четкую, одномерную, прозрачную, как стекло. Посмотрите же, куда он в поисках простоты зашел на самом деле! У него наш разум, воспринимающий, судящий и рассуждающий, действует уже не в рамках этих трех операций неустранимо различной природы. У разума остается только одна функция: видеть. Чистая, внимательная устремленность интеллекта на тот или иной предмет мышления — четко очерченный, не имеющий ничего внутренне потаенного, ничего имплицитного или виртуального, схватываемый целиком и полностью, одним совершенно первичным, ни от чего не зависящим взглядом, — вот что Декарт называет «интуицией», intuitus[221], вот к чему у него сводится все познающее разумение.
Ведь для Декарта суждение — действие согласия, внутреннее решение, — принадлежит не к разумению, а к воле, которая одна активна: это волящее решение, соглашающееся с идеей как с точным представлением того, что есть или может быть. После же «интуиции» он, правда, признает другую операцию — «дедукцию», операцию рассуждения, но она у него лишь конструирует новые объекты восприятия путем комбинации интуиции. Это вынужденная уступка дискурсивности, причем неловкая и противоречивая, разрушающая собственное единство рассуждения, непрерывность логического движения, вместо которой является прерывистая последовательность неподвижных созерцаний[222]. Рассуждать для Декарта значит не быть движимым первоначалом к созерцанию следствия, но одновременно видеть и первоначало, и его связь со следствием. За банальными нападками «Правил…» на силлогизм надо видеть упорное стремление отбросить труд терпеливой выработки достоверности, составляющий жизнь рассудка как такового, посредством которого, когда мыслим одну истину в свете другой, в нас рождается и вырастает новый свет, а в нем то, что хранила в тайне виртуальность уже известной истины, предстает как очевидность.
6. Значение отказа от логической мысли трудно переоценить. Покуситься на силлогизм — значит покуситься на саму человеческую природу. Не имея терпения сносить повинности дискурсивного умственного труда, Декарт в действительности воюет с потенциальностью нашего интеллекта — с его специфически человеческой немощью, с тем, из-за чего он и есть собственно рассудок. Таким-то примечательным образом первым движением рационализма стало заблуждение относительно разума, насилие над его природой, уничтожение нормальных условий его деятельности. Разум перестроен по образцу интуиции, обряженной в мишурное платье «чистого интеллекта», и разбит на неподвижные моменты восприятия.
Свести все к простому видению — сокровенное желание интеллекта, стремящегося превзойти условия человеческого существования, но удовлетворяется это желание лишь благодатью, в сверхсветозарной ночи Боговидения. Декарт же относит его к себе с самого начала, причем связывает с работой самого разума. Он хочет иметь дело с такой концентрацией очевидности, чтобы вся цепь выводов схватывалась уже в интуиции первоначала: только это достойно Науки! А поскольку Декарт этого не достигал, он мог бы впасть в отчаяние, признать себя побежденным «лукавым гением», но он полагал, что в первоначальной достоверности «cogito» и в онтологическом доказательстве имеет столь же прямую и непосредственную аргументацию, как и в простом интуитивном созерцании. А еще он чаял, утверждая, что мысль и божественная достоверность соприсущи всему движению знания и полностью его покрывают, что философ озарен всегда наличной в нем Божией идеей[223], найти средство против нашей неспособности (с ней он никак не мог смириться) в тот самый момент, когда мы составляем заключение, иметь актуальную и актуально принудительную очевидность всех прежде установленных положений, служащих нам предпосылками, в едином и неделимом настоящем, где вовсе нет места памяти.
Что же это значит, если не то, что единственно подлинным и законным прообразом нашего познания для Декарта служит познание ангелов? Ангел не рассуждает и не излагает мысли: ему присущ один-единственный недискурсивный акт интеллекта, одновременно видящий и судящий; он видит следствия не последовательно, исходя из первоначала, но непосредственно в первоначале; он не переживает последовательной актуализации знания, которая и составляет собственно логическое движение; если мысль его и движется, то интуитивными скачками, от одного совершенного акта к другому, от одной полноты разумения к другой, соответственно чисто духовной прерывности времени — не последовательности (также прерывной) точек, лишенных длительности, которую приписывает нашему миру Декарт, но постоянной наличности устойчиво длящегося мгновения, которое неподвижно, пока не сменится другим неподвижным мгновением созерцания. Это и есть идеальный предел, чистый тип разума, понимаемого по-декартовски.
7. Ангельский интеллект, в отличие от разумения у Декарта, образован не фиктивными интуициями — он изначала интуитивен. Верно при этом, что он непогрешим (по крайней мере, в сфере естества), и этот вывод настолько необходим, что факт заблуждения для картезианского оптимизма — самое неприятное, едва приемлемое, весьма труднообъяснимое унижение.
Как возможно, чтобы я заблуждался, если я — дух? Как сущность, вся природа которой в мышлении, может мыслить превратно? Это такая серьезная аномалия, что подобный соблазн, кажется, порочит самого Творца. Значит, я ошибаюсь только потому, что так хочу: повинна лишь моя свободная воля, так что человеческое заблуждение у Декарта объясняется таким же образом, как в богословии ангельское — я хочу сказать, что картезианская теория заблуждения, весьма непоследовательная в плоскости его рассуждения, стала бы связной и логичной лишь в том случае, если бы в нее было введено, с должными поправками, учение о заблуждении падших духов. Он говорит о «поспешности суждения». Когда заблуждаются духи (что возможно для них только в сфере сверхъестественного), они видят объект с полной ясностью, и их понимающий взгляд исчерпывает всю его естественную реальность, причем они с не меньшей ясностью видят и случайную, предполагаемую связь этого объекта с каким-либо иным — например, с еще ненаступившим событием, — который их зрению недоступен. Лишь увлеченные злой волей, они, не будучи в силах сдержаться, распространяют свое суждение за пределы видимого и, закрыв глаза, то есть произвольным небрежением, дают согласие на то, что для них не очевидно: «Sciens et volens non se detinet, sed judicat ultra quam potest»[224]. Таков, по Декарту, и человек, утверждающий и судящий погрешением своей свободной воли, увлекаясь за пределы того, что видит ясно и отчетливо, а за это ответственна только воля и притом именно постольку, поскольку она свободна[225]. При всех необходимых поправках, трудно не отметить странное сходство психологии заблуждения падшего ангела с психологией нашего заблуждения, по Декарту.
Вследствие своей ангелистской психологии, наш философ требует в качестве критерия достоверности, чтобы мы, если действительно хотим не ошибаться, в любой момент могли обозреть поле наших представлений: лишь так можно избежать заблуждений. Заглядывать в себя, отделять свет от тьмы, отчетливое от смутного, принимая при этом только ясное и отчетливое, так что от нашего свободного выбора будет в равной мере и в одном смысле зависеть безошибочность в умозрениях и отсутствие греха в действиях — вот искусство непогрешимости, которому должен научить нас критерий «ясных идей»[226]. В пределе везде получается моментальное знание — по крайней мере, знание легкое и скорое, которое будет тем лучше, чем быстрее будет достигнуто и чем меньше людей над этим потрудится. А может быть, хватит и одного человека? Не может ли сам Декарт, располагай он только возможностью поставить все необходимые опыты, завершить здание мудрости, основы которого он же заложил на новом месте? Время терять ему некогда — он человек занятой (как все современные люди)! Вырви он только у смерти несколько десятилетий — и совершится великое дело, от которого зависит счастье и совершенство человечества. Двух-трех столетий на это хватит во всяком случае — в чем мы и имеем сейчас удовольствие убедиться.
Картезианство потому проявило себя в плане интеллекта как беспощадный разрушитель прошлого, что с самого начала не признало в самом индивидууме принципиальной внутренне присущей ему зависимости актуального знания от прошлого, вследствие которой человеческий путь к утверждению в истине, по самой сути чрезвычайно долог и требует множества труда. Говоря в общем, идет ли речь о ничтожном усилии каждого из нас или об общем труде многих поколений, для картезианского «ангела» время — лишь внешнее препятствие, отвратительное его природе насилие. Он не понимает существенной роли времени в созревании человеческого познания.
8. Идеи ангела, как мы говорили, — врожденные; они не исходят от вещей, как наши отвлеченные идеи: они в ангела внедрены, получены изначала, как дар света. Конечно, это акциденции, реально отличные от ангельской субстанции и его умной способности, дары дополнительные, но по праву востребованные природой бесплотного духа.
Поскольку Декарт не желает признавать реальности акциденций, отличных от субстанции, его иннативизм запутывается в неразрешимых противоречиях. То врожденные идеи получаются прямым расположением души к той или иной мысли, которое, впрочем, смешивается с самой мыслящей природой, а это вносит в нее как бы скрытые прообразы вещей, в которых уже видны «виртуальности» Лейбница. То душа отличается от своих мыслей так, как пространство отличается от образующих его фигур, и для Декарта, который с нередкой у него небрежностью неправильно применяет здесь схоластическое понятие модуса[227], это означает, что мысль определяется в акте как такая или иная уже не акцидентально, а субстанциально, будучи завершением действия мыслящей субстанции в субстанциальном же плане, как будто действие может быть субстанциальным в чем-либо, помимо Чистого Акта. Таким образом, Декарт представляет модус как завершение деятельности в субстанции. Спиноза подхватил это незаконнорожденное понятие и вылепил из него нечто чудовищное.
Так или иначе, картезианские идеи исходят (что для нас и важно) от Бога, а не от вещей — так же, как идеи ангелов. Таким образом, человеческая душа не просто бессмертна, как учили древние, и не просто позволяет существовать телу, передавая ему собственное существование, но и получает непосредственно от Бога, помимо тела, все подобающее ей совершенство деятельности. И тогда, оторвавшись от тела, самый разум разрушается или, вернее, опрокидывается. Ведь если тело и чувства для такой души перестают быть необходимыми средствами приобретения идей, то есть орудиями, посредством которых она возвышается до состояния собственного совершенства, заключенного в жизни интеллекта и созерцании истины, тогда у тела и чувств (поскольку необходимо, чтобы тело служило душе и никак не наоборот, а душа для мышления нуждается только в себе самой и в Боге) не может быть иного назначения, как только дать душе практические средства покорить себе землю и всю материальную природу, а тогда уже благо души получается в обладании физическим миром. Мир, который весь не стоит духа одного человека, дорого заставил людей заплатить за это бесчинство. Ангел в железных рукавицах, самовластно действующий в телесном мире, помогая себе бесчисленными руками Механики, — несчастный ангел этот стал вертеть жернова, поработился закону материи и быстро изнемог под страшными колесами пошедшей вразнос машины…
9. Но вернемся к Декартовой теории познания. Если в нашем познании видеть как бы истечение божественной достоверности Творца в наш сотворенный дух, если мудрость, все врожденные семена которой мы по природе носим в душе, есть чистое раскрытие нашего разумения, то вследствие единства разумения и наука у человека должна быть только одна: всякое различие видов наук исчезает. Далее исчезает и различие видов умственного света, определяющих суждение, и разница в степенях достоверности[228]. То же самое и у ангелов, для которых все в сфере естества достоверно в одной и той же степени, поскольку одинакова степень совершенства их собственной нематериальности и врожденного им света. Из этого у Декарта получается радикальнейшая нивелировка всего духовного: мысли предписан один-единственный, самый жесткий тип достоверности — Закон; все, что не подходит под него, отметается, то есть полностью исключается все, что не является или не считается математически очевидным. Каким нечеловеческим получилось знание из-за того, что пожелало стать сверхчеловеческим! Здесь начало не только грубого презрения, которое Декарт изъявлял к гуманитарным дисциплинам: к греческому и латинскому языкам («знать греческий и латынь для порядочного человека ничуть не обязательней, чем швейцарский или бретонский»), к истории, к изучению древностей[229], ко всей необъятной области позитивных и нравственных исследований, причем его последователи дошли до такого безумия, что пожелали превратить эти науки в исчисление вероятностей. Здесь начало и основание глубочайшей бесчеловечности науки нашего времени.
Кроме того, иннативизм, превращая интеллект в силу, по природе предопределяющую все предметы знания, не может признать, что наше разумение не сделает ничего совершенного в каком бы то ни было плане — ни в умозрительном, ни в практическом, — если не будет иметь внутренней определенности, возрастая, как привитая лоза, от объекта к познанию и от цели к ее достижению. В картезианском же интеллекте, как и у ангела в сфере естества, нет внутренней определенности (habitus), нет способности к возрастанию.
Амлен резонно заметил, что одной из причин страсти к методу во времена Декарта — времена, когда человек Нового времени, готовясь штурмовать мир, отбросил ветхие опоры интеллектуальной традиции, — была потребность оправдать уверенность в себе, заменив эти опоры гарантией против заблуждений. На самом деле тогда собирались не только и даже не столько оставить спасительную помощь via disciplinae[22*], сколько заменить силу внутренней определенности каждого человека гарантированным успехом, обеспеченным технологией и коммерческой выручкой. Тогда можно обойтись одним здравым смыслом[230]. Магазин «простых идей» — это дешевая распродажа Премудрости. После Декарта цены опять выросли; на место чудной всеобщей легкости пришли самые устрашающие сложности. Но с этих пор мерой строгости знания всегда уже был метод или методы, а не духовные качества, возвышающие интеллект. В наши дни мы можем от души порадоваться следствиям этой материализации науки — можем видеть, как прогресс технической специализации и средств производительной деятельности (сам по себе замечательный) рождает, оказывается, поразительную умственную немощь: огонь, закиданный зелеными ветками, не способен разгореться.
10. Самая глубокая характеристика ангельского знания — не интуитивность и не врожденность, а независимость от вещей. Идеи бестелесных духов не имеют общей меры с нашими. Разрешаясь не в истине вещей, но в самой Божией Истине, эти внедренные идеи суть тварное подобие и как бы отражение в ангельском интеллекте Божиих идей и нетварного света, в котором все — жизнь. Представляя, таким образом, вещи именно так, как они исходят из Божиих идей, ангелы изначала получили «печать уподобления», сделавшую их «полнотой мудрости и венцом красоты»: «Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia et perfectus décore»[231], и Бог, по слову Августина, прежде творения вещей действительных в собственном их существе сотворил их умственно в разуме духов.
Таким образом, эти идеи, в отличие от наших абстрактных идей, являются всеобщими не потому, что непосредственно представляют интеллекту всеобщий объект, а только потому, что они суть способ охватить под одним углом зрения множество природ и индивидуумов, каждый из которых по отдельности воспринимается как совершенно отличный от других. Их всеобщность — не всеобщность представления, получающаяся вследствие операции абстрагирования, а всеобщность причинности или действия, свойственная творческим идеям, низводящим вещи в бытие. Идеи же ангела — подобие этих идей, созданное по их мерке: они, учит нас Хуан де Санто-Томас, суть как бы запечатленные в ангельском интеллекте копии или модели (но копии, сияющие духовной жизнью), в которых изображается бесчисленное множество тварей, произведенных искусством Творца, такими, как Бог видит их еще прежде, нежели дал им существование. Конечно, это множество видится здесь не в абсолютном единстве, как видит его Бог: каждый из сотворенных духов согласно своим способностям видит его, обобщая под тем или иным углом зрения, объединяя вещи либо по отношению к той или иной цели, либо по способу, которым они происходят от своих образцов в Боге. Подобно божественной причинности и божественным идеям, идеи ангела нисходят до существования самого по себе, прямо достигают единичного существа, которое бесплотный разум понимает и знает в той мере, в какой оно получает бытие и в конкретности актуально данной материи достигает соответствия своему вечному прообразу, отраженному в бестелесном духе.
Так, завися только от божественного знания, познание ангельское независимо от вещей, из которых не извлекает своих идей и которые не устанавливают для него формальных правил. Об этой независимости можно, по крайней мере, говорить, поскольку речь идет о низшем мире, о познаваемых предметах самих по себе, которым ангельское знание предшествует, которые ожидает, измеряет, исчерпывает, опираясь на действенность знания, присущего самому Творцу, и степень постижимости которых оно не должно соразмерять со степенью нематериальности своих идей. Мы видим, в каком высоком смысле ангел знает все вещи тварного мира a priori, согласно их божественным причинам: ведь он знает эти вещи благодаря причастности к самим сотворившим их идеям, ведь и произведение высочайшего искусства — я имею в виду всю вселенную — он знает в доверенной Художником тайне Его творящего знания — причины бытия и всякой красоты.
11. Теперь переведите взор на познание по Декарту: разве и оно не прямо опирается на Бога, не господствует надо всей материальной природой, измеряя ее, ничего от нее не получив? Как обычно, подменяя понятия вследствие намерения поскорее приступить к делу, Декарт прилагает к рассудочной достоверности и знанию классические формулировки традиционного учения, относящиеся к формальному мотиву веры: «Veritas prima revelans» — непреложность Бога («первой Истины») в Откровении. Поскольку Бог не может лгать, наши ясные и определенные идеи заслуживают быть принятыми, а кто не знает о божественной достоверности, тот, собственно, и ничего не знает. Если бы мы не имели от Творца, создавшего вещи и наш ум, гарантий достоверности, на которые можем положиться, мы ни из какого надежного источника не знали бы ни того, что есть материальный мир, ни того, что вне нашей мысли существуют вещи, соответствующие нашим идеям, ни даже того, что эти идеи дают нам верное уразумение и вечные истины, что они не обманывают нас даже в том, что нам представляется наиболее очевидным. Это показывает, что рассудочное знание для Декарта есть как бы естественное откровение[232], что правило наших идей находится непосредственно в Боге, а не в вещах, как и правило идей, внутренне присущих ангелам.
Но ведь познание, по Декарту, в отличие от ангельского интеллекта, не доходит непосредственно до индивидуальности и единичного существования? Не обольщайтесь! Хотя об общих идеях Декарт говорит поспешно и дурно[233], кажется ясным, что они в его глазах остаются существенно неполными («неадекватными», скажет позже Спиноза): чтобы достичь совершенства, человеческое знание должно дойти непосредственно до единичных сущностей. Дать всеобщее средство мышления по ангельскому образцу — это пожалуйста. Но всеобщий предмет мысли, абстрактная чтойность, возврат от которой к образному представлению только и дает нам знание о единичном модусе осуществления, — это недостойно ума, которому покорна вся материя. У Декарта подобное неприятие ценности и природы всеобщего in praedicando[23*] (собственно человеческого всеобщего) — своеобразный интеллектуалистский номинализм — едва намечается. Он полностью разовьется у Лейбница и Спинозы, станет у них одним из знаков притязания на ангелоподобность, характерного для абсолютного интеллектуализма, а затем, попав в английские головы и соединившись со старым сенсуалистским номинализмом, он способствовал полному разрушению здравого понятия абстракции.
Что касается восприятия существующего как такового, можно сказать, что проблема перехода к существованию, схватывание существования при помощи одного интеллекта, исходя только из чистых идей, как раз и дает решающую поверку картезианской философии. Ведь поскольку для нее наши идеи не разрешаются (материально) в вещах, при посредстве чувств, данные которых имеют отныне только прагматическую и субъективную ценность, то и существование, извлеченность вещей из небытия, дается нам не прямо при первом телесном соприкосновении с миром. К бытию надо прийти — достичь его, или дедуцировать, или породить, исходя из идеального принципа, установленного или открытого в недрах мысли. Вот невыполнимая работа, на которую осудила себя метафизика Нового времени от Декарта до Гегеля.
Декарт сохранил схоластическое учение, что взгляд человеческого интеллекта прямо достигает только сущности, а значит, не может сам по себе преодолеть безбрежную ширь, отделяющую возможность от действительного существования. Но вместе с тем чистая мысль для него должна быть самодостаточна, философствующий интеллект даже в порядке resolutio materialis[24*] не может иметь принципиальной нужды в помощи чувств, которые как таковые показывают нам лишь видоизменения нашего сознания, кажимость, недостоверность. Итак, приходится раз и навсегда отказаться от того, чтобы достичь бытия? Нет, ибо есть привилегированные случаи, когда его может достичь чистый интеллект: случай «cogito», в котором прозрачная для самой себя мысль познает собственное существование не посредством эмпирической констатации, но непосредственно схватывая свою субстанциальную основу в акте умопостижения, и случай доказательства бытия Бога через идею о Нем, когда мысль должна только сосредоточиться на отпечатке Совершенства в себе и ясно увидеть его действительное существование. Вот два вида откровения существования, данных интеллекту, в которых человеческий рассудок только и достигает полной меры разума, аналогично тому, как ангел знает себя и своего Творца.
Есть моя мысль, и есть Бог. Отсюда все и исходит. От Бога картезианская наука нисходит к вещам и дедуцирует Физику. Только совершенное знание, знание причин соразмерно притязаниям философа. Ему также известна вся вселенная a priori и согласно самому порядку творческого Разума. (Если же у него это не выйдет, Декартово знание протянет руку метафизике Спинозы.) А чего он ожидает от чувств — ведь не совсем же, в конце концов, забыл мыслитель, что мы люди? Чувства играют лишь привходящую роль — в частности, осуществляют выбор между различными равно возможными идеальными комбинациями, показывая нам, которая из них осуществляется на деле.
Таким предстает перед нами в первом своем проявлении независимость картезианского разума от вещей: интеллект отделяется от чувств, посредством которых он находился в соприкосновении с вещами, с единичным существующим. Телесность в деле познания презрена; животное знание, изначально связывающее нас с тварным миром, отринуто. Отринута и собственно человеческая особенность — невозможность познавать иначе, как интеллектом и чувствами совместно, то, что ангел познает одним интеллектом. И эта славная наука отправляется в путь. Занимать ли ей уверенности в себе? Она собралась далеко… Но за поворотом ее ожидает Кант и говорит ей: если чувства дают нам только чистую кажимость, а не переносят в наш ум то, что есть, — значит, тебе, гордячка, для перехода к бытию нужна сверхчувственная интуиция — та самая, которой наделены бестелесные духи, по образу коих тебя переделали. Но у тебя в поклаже такой интуиции нет. Ergo ты никак не можешь познать то, что есть, и все твои a priori — только костяк для явлений.
12. У картезианской независимости от вещей есть и другой аспект — пожалуй, более характерный для нее. Он относится не столько к чувственным вещам как таковым, сколько к заключенной в них интеллигибельности, а значит, к предмету, свойственному самому интеллекту.
Для св. Фомы из абстрагирующей природы нашего интеллекта логически следует, что единственный абсолютно первичный объект, которого он может достичь, — это Бытие вообще; в Нем он разрешает все свои представления, научаясь, под диктовку опыта, эксплицировать содержащиеся в нем самом различия. Но более чем очевидно, что Бытие, пропитывающее все вещи, не враждебно никакой реальности: оно принимает любую; для всей, если можно так выразиться, фауны творения, для всех форм, источаемых Творчеством Божиим — благородных и редких, убогих и роскошных, — оно лоно Авраамово, в котором они покоятся. Отсюда явствует, что исследование, проводимое в соответствии с бытием, вырабатывающее понятия нашего сознания согласно требованиям действительности, покорное аналогии трансценденталий, верно и послушно, любовно и благочестиво следующее контурам того, что есть, сможет проникнуть внутрь вещей и установить с сущностями умопостигаемое общение, ни в чем не вредя их неповторимости и единству, их собственной тайне. Вот почему, хотя рассудок томиста, как всякий человеческий рассудок, может быть узок и негибок, совершенно несоразмерен защищаемой им мудрости, он все же может сказать себе в утешение, что, согласно учителю, нет ни единой вещи на небе и на земле, которая в богословии была бы не дома.
Напротив, для Декарта — и это логически следует из его иннативизма — мысль находит в себе множество готовых идей, нередуцируемых и неразрешимых, каждая из которых ясна сама по себе, является предметом первичной интуиции, — умопостигаемых элементов, к которым должно сводиться все, что относится к познанию. Это «простые природы» — как бы атомы очевидности и интеллигибельности[234]. Упразднив материальное разрешение наших понятий в вещах, Декарт точно так же упразднил и их формальное разрешение в бытии.
Ангелы тоже не вырабатывают своих идей из общей ткани бытия, но потому, что одной-единственной своей понимающей идеей они исчерпывают всю действительность того или иного разряда тварного мира. Если же не искать разрешения вещей в бытии, а редуцировать их к простым сущностям — все душевное к мысли, все материальное к пространству и движению, — это может привести лишь к неисчислимому ущербу для разумения, которое, так или иначе, остается дискурсивным и вся работа которого состоит в сочетании все большего числа понятий.
Картезианский переворот в данном случае привел ни больше, ни меньше, как к радикальному изменению самого понятия постижимости и, соответственно, самого типа научного мышления и «объяснения».
Картезианское исследование, в принципе неспособное понимать бытие по аналогии и пользоваться этой аналогией, а тем самым изначально закрытое для постижения божественного, раздробляющее и нивелирующее предметы, может лишь разбивать внутреннее единство сущего, уничтожать как неповторимость, так и разнообразие природ, грубо сводить все к однотипным элементам, которые ему заблагорассудилось избрать в качестве простых основ. С этих пор «понимать» — значит «разделять», а «быть постижимым» — подлежать математической реконструкции. Разобрать и вновь собрать механизм — вот чем обернулось живое дело интеллекта. Механистическое объяснение становится единственным мыслимым типом объяснения в науке.
Критерий очевидности?! Нет ничего более двусмысленного, менее честного, чем картезианские «ясность и отчетливость». Надо хорошо понимать, что очевидность по Декарту — совсем не то, что очевидность, которую древние и общечеловеческий обычай считали критерием достоверности. Та очевидность — свойство бытия, fulgor objecti[25*], и представляется нашему уму в виде положений, которые известны сами по себе, — первоначал нашего знания. Чтобы верно хранить эти начала, притом ничего не выбрасывая из опыта, чтобы не погрешать ни против рассудка, ни против реальности, она понуждает нас к трудной кропотливой работе; чем больше благодаря ей растет наше знание, тем больше оно дает нам чувствовать, что мера для нас — бытие и что мы ни о чем не знаем всего. В конце концов, идет ли речь о силе, о материи, о случайности — о том, что менее всего постижимо из себя, — или о духовных вещах, или о божественных, постижимых в себе в превосходной степени, но нашему зрению являющихся, как солнце глазам совы, — такая очевидность везде приводит нас к темным (для себя или для нас) предметам, подводит к тайне. Тайне несовершенства или тайне совершенства — неважно: это светозарная ночь, и постижимая необходимость прокладывает нам в ней путь более верный, чем орбиты планет.
Картезианская очевидность, напротив, — очевидность субъективная, качество тех или иных идей и является нашему разуму не в предложениях, соответственно которым растет уверенность нашего знания, а в предметах понятия, являющегося пределом познания вещей. Есть якобы идеи, очевидные сами из себя, совершенно проницаемые для нашей мысли. Эти-то идеи и суть материал науки; все остальные должны быть сведены к ним или исключены. И вот ангелу Декарта предстоят обнаженные вещи; в телесном мире вовсе не остается места для относительной непознаваемости: этот мир совершенно проницаем для нашего человеческого взгляда, поскольку он — всего лишь геометрическая протяженность, совершенно подчиняющаяся нашему разуму в познании прежде, чем совершенно подчинится ему на практике. Происходит роковой синтез пантеизма с абсолютным интеллектуализмом — и вот уму, возомнившему себя чистым актом умопостижения, мироздание тотчас представляется как бы в чистом акте умопостижения. Так что на деле все вещи насильно сводятся на уровень человеческих идей, сокровищница опыта разоряется, творческое искусство опошляется, и место творения Божия занимает бессмысленный мир рационализма.
На самом деле наш рассудок, как отделенный от бытия, произволен и не имеет правила в себе самом; ясные идеи, понимаемые в Декартовом смысле, вовсе не дают ему однозначного критерия. В действительности они сводятся к самым примитивным, «легко понятным» идеям, и картезианская ясность — иное название для поверхностности. А почему, собственно, наука не должна быть для человека так же легка, как для ангела? Вот из-за чего Математика становится царицей наук и нормой всякого знания. Во всех остальных областях, по каждодневно и очевидно подтверждающемуся закону иронии (чему прекрасный пример явила немецкая экзегетика XIX в.), под прикрытием этой мнимой строгости вселяется произвол. «Под тем предлогом, — пишет Боссюэ в одном хорошо известном тексте, — что принимать следует только то, что ясно понимаешь (и в определенных границах это совершенно верно), каждый дает себе вольность говорить: это я понимаю, а того не понимаю, и на этом единственном основании утверждают и отрицают что хотят»[235]. На практике картезианская очевидность неизбежно подменила истину, соразмерную бытию, поверхностной рациональностью и сподручностью идей. Таким образом, просветительская философия, освещая небо свечками Энциклопедии, совершенно естественно продолжала философию ясных идей.
Заметим, что всеми этими средствами картезианская гносеология отстаивает независимость от своего предмета: не только от вещей — объекта чувств, но и от вещей — объекта науки. Декарт — крайний догматик и с этой точки зрения не субъективист, а как раз напротив. Но после него человеческая наука, упоенная математикой, перестала соразмерять себя с объектом. Желая конституироваться, стать наукой, она уже не просит, чтобы объект дал ей свой закон, но сама дает объекту меру и правило, которое она, по ее мнению, находит сама в себе. Таким образом, если ангельское знание, хотя и независимое от вещей, не искажает постигаемого объекта, поскольку постигает его через подобие творческим идеям — причине и мере этого предмета и его бытия, — то картезианская наука совершает над реальностью насилие, сводя ее к предопределенному модулю «научного» объяснения. С этой поры человеческий ум становится законодателем в области умозрения: он сам вырабатывает свой предмет. Можно сказать, что картезианский образ мысли использовал еще не созданный (in actu exercito[26*]) кантовский априоризм. Когда настал черед самого Канта, ему оставалось лишь заметить, что, логически рассуждая, познание, которое производит свои предметы, но не создает их в реальности, предметом может иметь только явления, а не вещи в себе. Описав красивую дугу в небесной синеве, картезианский догматизм упал на землю и обернулся агностицизмом.
13. Ангел знает самого себя непосредственно в своей субстанции при помощи совершенной интуиции, дающей ему основание для его бытия. Его естественное богопознание совершается не только через созерцание вещей, но также и прежде всего через созерцание самого себя — в чистейшем зеркале собственной сущности. Собственная сущность ангела — первый предмет его умопостижения, и его непрестанная деятельность — умопостижение самого себя. Все вещи, которые знает ангел, он знает прежде всего познавая себя и как продолжение самопознания.
В транспонированном и уменьшенном виде все то же обретается и в картезианском Мышлении. Но почему, собственно, душу легче познать, чем тело? Почему все, что она знает, первоначально открывается ей через ее собственную природу? Не потому, что ее сущность — прозрачный предмет, через который она видит все вещи, а потому, что взгляд ее останавливается на ней самой, ограничивается той или иной идеей, входящей в нее саму, застывает в самопознании. Мой акт восприятия, взятый как таковой, схватывает только мою мысль или представление, нарисованную ими картинку, которой, как оказывается (вследствие божественной достоверности), находящийся вовне образец соответствует. Таким образом идея становится единственным пределом, который непосредственно достигается мыслью, той вещью, которую познают прежде любой иной вещи — ее «портретом» или «картиной»[236]. Это овеществление идей, смешение идеи с «орудийным знаком» и «объектом quod», как мы показали в другом месте[237], представляет собой первородный грех современной философии. Им определены и все учение Декарта о познании, и его первое доказательство бытия Бога, и его теория о вечных истинах. Без него Декарт-философ вообще непонятен.
И здесь вновь любопытно отметить совпадение с ангельским миром. Божественные идеи, в свете которых познает вещи ангел, — это идеи производящие или оперативные, идеи художника, то есть образцы, в подражание которым творится вещь (forma intelligibilis ad quam respiciens artifex operatur[27*]). Объект, видимый в такой идее, — не природа, извлеченная из вещей и перенесенная в познающий разум, а образец, исходящий из творческого разума, согласно которому вещь полагается в бытии. Если же смешать эти идеи божественного искусства с концептами человеческого познания, придется и там и там идти от идеи к вещи, от мысли к бытию, и вместо предмета, непосредственно схваченного в понятии, вы получите не то, что есть, а совершенно иное: образец или образ того, что есть. Так вы придете к картезианским идеям, то есть к основанию всего идеализма Нового времени.
В теории идей-картин претензия картезианского разума на независимость от вещей доходит до последнего предела: мышление порывает с бытием. Оно образует замкнутый мир, вступающий в общение лишь с самим собой. Его идеи, превратившиеся в непрозрачные изваяния, стоящие между ним и вещами, для Декарта еще остаются как бы подкладкой реального мира. Но, как сказал Амлен, подкладка неизбежно пожрала материю. И здесь Кант завершил дело Декарта. Если мыслящий интеллект непосредственно познает лишь саму мысль или свои представления, вещь, стоящая за этими представлениями, навеки останется непознаваемой.
14. Итак, замыкание человеческого духа на самом себе, независимость разума от чувственного истока наших идей, от объекта, служащего правилом для нашего познания, от реальных природ — непосредственной цели нашего умопостижения, — абсолютный интеллектуализм, математизм, идеализм и, наконец, безысходный разрыв интеллекта и бытия — вот каким образом Декарт представил Мысль себе самой.
Подобное выхолащивание человеческого разума, которое произошло от узурпации особых достоинств ангельской природы, подобное греховное вожделение чистой духовности уже не могло не идти до бесконечности: выйдя за пределы мира собственно сотворенных духов, оно неизбежно привело нас к притязанию на совершенную автономию и имманентность нашего интеллекта, его абсолютную независимость, на самосущность (aseitas) интеллекта несотворенного[238]. Несмотря на все опровержения, на все неудачи уже достаточно обескураживающего опыта, это притязание, схоластически сформулированное Кантом, но имеющее гораздо более глубокие корни, до сих пор остается тайным началом распада нашей культуры — того недуга, от которого добровольно умирает отступивший от веры Запад.
Древняя философия ведала и о достоинстве разума, и о высочайшей природе мысли. Она знала, что мысль, взятая в чистом состоянии, освобожденная от всех условий, не присущих ее формальному понятию, всецело осуществляется лишь в бесконечно святом Боге. Она знала, что, хотя человеческий интеллект — низший из интеллектов, он тем не менее причастен жизни и свободе, присущим духу; что он хотя и зависит от чувств, но ради того, чтобы извлечь из них нечто, превосходящее весь чувственный мир; хотя и зависит от предмета, служащего ему мерой, но ради того, чтобы дать исток свободной деятельности; хотя и зависит от бытия, его оплодотворяющего, но затем, чтобы стяжать самое бытие и лишь в нем упокоиться. За отказ от этих истин приходится платить дорого.
Измеряющее как таковое полностью господствует над измеряемым, навязывает ему свою особенность, держит его связанным и покоренным. Так как после Декарта человеческая мысль утратила понимание своей собственной жизни тварного духа и, вобрав свою меру внутрь себя, нашла в этом рабстве подлинную свободу, так как она возжелала для себя свободы полной и неограниченной, естественно, что она уже не соглашалась подходить под меру объекта и подчиняться умопостигаемой необходимости. Свобода от объекта — мать и кормилица всех современных свобод, величайшее из достижений Прогресса, которое позволяет нам ни с чем не соразмеряться, но зато и покоряться чему угодно. Такую интеллектуальную свободу Честертон сравнивал со свободой репы — но он еще обидел репу: собственно, это всего лишь свобода первозданной материи.
Таким образом, реформа Декарта не только стоит у истоков вихря иллюзий и вымыслов, в который два с половиной столетия тому назад забросила нас так называемая «непосредственная достоверность». Она несет и тяжкую долю ответственности за безмерную пустопорожность современного мира, за то странное состояние, в котором мы видим ныне человечество — господствующее над материей, весьма сведущее и хитроумное, чтобы властвовать над физическим мирозданием и в той же мере слабое и растерянное перед умопостигаемыми реальностями, с которыми некогда было связано смирением мудрости, подчинявшейся бытию. Чтобы сражаться с телами, оно снаряжено как бог; чтобы сражаться с духами — потеряло все оружие, и безжалостные законы метафизического мироздания рвут его в клочки.
III Продолжение и окончание
15. Прошу извинить меня за то, что я, пытаясь очертить дух картезианства, так подробно остановился на ангелологии. Необходимо было показать, что слово «ангелизм» — не просто красочное сравнение, но в метафизическом плане как раз характеризует реформу Декарта, что между человеческим познанием по Декарту и ангельским познанием можно установить множество весьма явных и строгих параллелей.
Когда Ангельский доктор в одном из самых блестящих разделов «Суммы» (том, над которым философ «cogito» насмехался в разговоре с молодым Бурманом, полагая себя весьма остроумным, на деле же, если говорить его собственным языком, показывая лишь свою «неспособность к предмету»)[239] рассуждал как метафизик, знающий, что такое мысль и свойства чистого разума, он не только давал нам введение в наилучшую философию умственной жизни, но и заранее готовил средство постичь наиглубочайшее значение умственной реформы, проведенной Декартом, и показать истинное лицо того, кто явился тогда на мировой сцене под личиной разума[240].
По свидетельству Лютера, в никчемности мессы его убедил дьявол собственной персоной. «Гений», наставлявший Декарта, был не столь откровенен. Но какой здравомыслящий человек может думать, будто бесплотные духи одним колдунам дают управлять собой, а философами не интересуются? Чрезвычайно любопытно усмотреть в начале заблуждений, выношенных Декартом у очага в Германии, простое приложение к человеческому разуму тех свойств и качеств, которые на самом деле верны для физиологии форм, отделенных от тела.
Не забудем, что ставка была высока; не забудем, что в конечном счете Декарт перевернул весь порядок человеческого познания, сделав из метафизики введение в механику, медицину и этику, из которых мы и должны брать животворящие плоды знания. Но в плане высшего познания картезианская реформа дала нравственной позиции, направленной на преходящие блага, столь же безысходную прочность, что и всему духовному. Посмотрите же, что сделалось с этих пор с великим именем Науки! Ныне оно применяется почти исключительно к познанию материи, а науку из наук большинство мыслителей Нового времени считают экспонатом кунсткамеры. Повернувшись спиной к нетленному, разум в современном мире покорился тварному. Математику явлений он предпочитает богословию, науку — мудрости. С высокой горы своего превосходства он увидел все царства мира и славу их — и спустился долу, чтобы овладеть ими.
16. Я не хочу сказать, что к «ангелизму» можно свести или вывести из него все учение Декарта. Столь сложная система включает и много исходных точек зрения, много начал. Не будем говорить о вкладе, который внесла туда схоластика (впрочем, лишь относительно подлинная). Любовь к простоте и строгости изложения, к сильному, разумному и отважному изыскательству, здоровое отвращение к педантизму и пустым словопрениям, смелый замысел спасти запас естественно христианских истин силою здравого смысла, отважившись дать нечто простое и хорошо сконструированное, — все это близко роднит Декарта с лучшими умами его страны и его времени. А натуралистическая и утилитаристская направленность его мысли, его жгучая и ревнивая страсть к любимой Физике, радикально механистические концепции, его блестящая и безрассудная космология, которую ньютонианцы называли «романом о природе», связаны и с мощным движением физики и математики, уже полстолетия будоражившим ученый мир Европы, и с поразительным аналитическим гением Декарта, что и сделало его основоположником и главой не экспериментальной физики (тут Паскаль его превосходит), но всего теоретического естествознания Нового времени. Ангелизм Декарта, на мой взгляд, — всего лишь глубочайшая из духовно-метафизических интенций его мысли. Тем не менее нетрудно показать, как из этого сокровенного принципа выводятся все составные части его системы. В частности, его дуализм, вследствие которого (несмотря на тщетные попытки удержать древнее понятие субстанциального единства сложного человеческого естества) человек становится целостной, как с точки зрения видовой природы, так и с точки зрения существования, духовной субстанцией, совершенно непостижимым образом соединенной со столь же целостной протяженной субстанцией, существующей и живущей без души, — это просто перевод в план бытия учения, которое в плане познания приписывало человеческой душе деятельность чистого духа. А что касается механицизма Декарта, можно заметить, что для ангелизированного человеческого разума, перед которым все тайны материального мира лежат, как на ладони, единственной возможной физикой будет физика, сведенная к геометрии.
17. Но больше всего печать картезианского ангелизма обозначилась на его отдаленных последствиях, явившихся как плод процеженной временем идеальной логики.
Само понятие «разумного животного» после Декарта накренилось в сторону божественного. Бесчеловечный раскол современной эпохи, из-за которого она чувствует словно бы наваждение «освободиться» от прошлого, нельзя объяснить, не осознав, что на заре этой эпохи из куколки человечества выпорхнул ангел.
К тому же если новшества Возрождения и Реформации вводились именем благочестивой привязанности к древнему, к чистым истокам классической античности или же первенствующей Церкви, то толчок сознанию ценности и прав новизны самой по себе дал именно картезианский переворот. Хорошо известна роль, которую картезианцы играли в Споре древних и новых[28*], а Жорж Сорель прекрасно показал картезианское происхождение догмата о Прогрессе.
Человек — животное общественное, ибо он есть животное разумное. Если же для того, чтобы сколько-нибудь продвинуться в своем главном деле — деле разумения, — он по природе не нуждается в наставлении, а, будучи совершенной умной природой, следует лишь путем изобретений, то самый глубокий и духовный корень общежития вовсе исчезает. Несмотря на сильное личное пристрастие к дисциплине и власти в области политики, в высшем смысле Декарт стоит у истоков индивидуалистического понимания человеческой природы. Весьма издалека, однако наверное, он готовил пути человеку Жан-Жака. Его «рационалистический натурализм» отчасти также предвозвещает натурализм отрицательного воспитания. Не довольно ли Природы (правда, с помощью полного собрания сочинений философа), чтобы выстроить все Познание? А здравого смысла — чтобы постичь самую замысловатую науку? И вот с той поры человеческая природа полностью обнажена — обнажена, как бесплотный дух, — а разум, приведенный к «природному состоянию», не получая извне помощи от человеческого опыта а наставления, верного преданию, а изнутри от своей внутренней определенности и от добродетелей, возрастающих в лоне интеллекта, обязан карабкаться на небо метафизики, пока не научится управлять собственной историей и не водворит в мире царство счастья и доброты[241].
Наконец, как в акте переноса на нашу способность суждения ангельской независимости от вещей не обнаружить духовного первоначала не только идеализма, но и собственно рационализма? Сущность рационализма состоит в том, чтобы сделать человеческий разум с его идейным наполнением мерой всего существующего — поистине предел безумия, поскольку в человеческом разуме не содержится ничего, не полученного из вещей. Эти дутые котировки разума — знак и причина великой немощи. Обезоруженный разум выпускает из рук реальность и, погордившись некоторое время, приходит к необходимости самоотречения, впадая уже в противоположную крайность — в антиинтеллектуализм, волюнтаризм, прагматизм и пр. Нужно иметь крайне поверхностные познания, чтобы, как попытался недавно Луи Ружье[29*], занести эту болезнь в одну рубрику с великим реализмом philosophia perennis[30*], одинаково разбивающей как рационализм, так и антиинтеллектуализм, признающей естественное смирение разума и тем дающей ему возможность победоносно идти вперед в познании бытия.
18. Я уже говорил, что Лютерова реформа — великий германский грех, а Декартова — великий французский грех в истории современной мысли. На самом деле философски-рациональную форму и в то же время духовную устойчивость, а также способность к неограниченному распространению Декарт дал таким тенденциям, которые под совершенно иными видами царили в Европе задолго до него. Тем не менее это мы способствовали успеху картезианской философии, чем и позволили этим тенденциям проникнуть внутрь католической мысли; тем не менее, хотя тончайшая и глубочайшая первооснова картезианства, как я пытался представить его в этом очерке, пришла из страны бесплотных духов (не стоит говорить, что страна эта по самой сути космополитична), но упало в почву и прозябло это семя в нашем климате.
Я твердо знаю, что торжество картезианства во Франции обозначило первую трещину в нашем доме, только что заново отстроенном и обдуваемом всеми ветрами Европы. Притом картезианство гораздо в большей степени, чем философия XVIII в., в которую сильно подмешивались сначала английские, потом германские влияния, являет образ не французского духа — я бы воздержался от такого пустословия, — но некоторых типичных искажений, против которых нам всегда следует быть настороже, образ не того, в чем наша жизнь и мера, а в чем наши излишества и немощи.
Мы не должны терпеть, чтобы на Декарта указывали как на образец французского мышления: он сохранил немало от его производящей силы, но источил его и довел его черты до гримасы. Так же не следует, подобно Лансону[31*], легкомысленно усматривать в нем животворное начало нашей классической словесности. Здесь прав был Брюнетьер[32*]: «Влияние картезианства на семнадцатое столетие — одно из измышлений, одно из заблуждений, которыми Виктор Кузен заразил историю французской литературы»[242]. Влияние какой бы то ни было философской системы на искусство вообще может быть лишь весьма спорадическим и поверхностным, она отражается в них всегда косвенно, через посредство перемен, которые произвела в мышлении всего общества, а значит, с существенным опозданием. Поэтому признаки картезианства в литературе следует искать в последние годы XVII и начале XVIII в. — в тот момент, когда Ла Мот жалел, что Гомер и Вергилий писали стихами, когда этот поэт — на взгляд Фонтенеля, г-жи де Тансен и аббата Трюбле, один из величайших гениев Франции — воспевал:
Вождь единый мой Природа —
Пустотою небосвода
Наполняй мне ум и взор
Что в себя ни примет зренье
Представляю протяженье, .
Созерцаю лишь простор!
И везде, где мнится тело,
Протекает, словно ртуть,
Выражая все, что цело,
Пустоты прекрасной суть
А чуть позже аббат Террасой объявил: «Тот, кто о материях словесных не мыслит так, как Декарт предписал мыслить о материях физических, тот недостоин нынешнего века».
Можно, самое большее, согласиться с тем, что вследствие общих причин существуют соответствия между картезианской философией и наименее долговечными, наименее глубокими сторонами искусства, субстанция и достоинство которого восходят к антично-христианской сокровищнице. Если картезианство и присосалось к чудному деловитому разуму века Людовика XIV, то было его паразитом. Молоком Декарта вскормлены не Расин, не Лафонтен, не Буало, но их противники. Это Перро, всерьез писавший: «Платон осужден — он не нравится дамам» и натравливавший прекрасный пол на Буало (Расин говорил своему другу: «Не тревожьтесь: вы напали на весьма многочисленную корпорацию, но у нее есть только язык; эта гроза пройдет»). Это те «господа», которых Расин призывал уважать античность: «Я посоветую этим господам впредь не судить так легко о произведениях древних. Такой человек, как Еврипид, заслуживает хотя бы допроса, если уж им так хочется осудить его. Им следовало бы припомнить мудрые слова Квинтилиана: "Modeste tamen et circumspecto judicio de tantis vins pronuntiandum est"». Это академические «гуроны» и «топинамбуры»[33*], собиравшиеся разорить кладовые классики («Довольно сказать, что там согласились с наскока осудить Гомера, Вергилия, а особенно здравый смысл, потому что он стар — гораздо старше Гомера и Вергилия»[243]). Справедливо или нет приписаны Буало следующие слова, они с этой точки зрения очень показательны: «Я часто слышал от господина Депрео, — писал Броссету Ж.-Б. Руссо 14 июля 1715 г., - что философия Декарта зарезала поэзию». А сколько бездыханных жертв тогда уже лежало кругом!
19. Декартов ангел сильно постарел, утомился, не раз поменял перья. Но дело его достигло великих успехов, стало всемирным и держит нас под законом отнюдь не мягким. Этот упрямый раскольник отделил не только новое от древнего — он сделал противным друг другу все: веру и разум, метафизику и науки, познание и любовь. Ум, по его наущению обратившийся к материи ради практического ее использования, растекся в деятельности внешней, преходящей, материальной же. И этой скудостью ум заменил нормальную полноту своей собственной жизни — внутренне ему присущую духовную деятельность любви: ведь знание лишь тогда совершенно, когда свободно изливается в боголюбии. Мир стенает, ожидая освобождения, ожидая Премудрости — Той, от которой Декартов дух нас отвратил, той Премудрости, примиряющей человека с самим собой, венчаемой божественной жизнью, которая завершает познание в духовной любви.
Жан-Жак, им Святой от природы
I Святой
Рцы, да камение сие хлебы будут.
Мф 4:3
Если мой муж не святой, то кто же тогда святой?
Тереза[34*]
1. Ангелы, видящие в идеях Творца все события этого мира, знают «философию истории» — философы ее знать не могут. Ведь история сама по себе — не наука, поскольку имеет дело лишь с индивидуальными и случайными фактами: она память и опыт, которыми надлежит пользоваться благоразумным. А если мы хотим различать причины и верховные законы, действующие в ходе событий, нам для удостоверения в этом необходимо либо участвовать в замыслах Творца-Вседержителя, либо прямо просвещаться Им. Вот почему дать человечеству философию истории — дело, собственно, пророческое. Гердер и Кине, восходя на треножник, хорошо это знали, и даже удивительно, до какой степени XIX век, на первый взгляд кажущийся веком позитивной науки, был пророческим, поскольку его просвещали «философы Истории».
Поэтому философ, согласный быть «не более, чем человеком», как сказал Декарт, метя в святых богословов, может рассматривать философию истории, только сознавая неадекватность ее средств предмету исследования. Трактуя историю человечества, он возвышается над простым рациональным эмпиризмом, который ограничивается констатацией ближайших причин и относится не столько к философии, сколько к политической науке, однако к достоверным выводам такой философ надеется прийти лишь в той мере, в какой события, о которых он судит, получили форму в ходе истории идей и, таким образом, оказались осмысляемыми, как и она, ибо именно так, следуя по направлению интеллектуальных течений, можно выработать логически необходимые и объективно значимые понятия, дающие возможность для абсолютно однозначных суждений разума.
Скажем сразу о возможном недоразумении. Ясно, что при желании обнаружить в истории линию развития той или иной духовной силы ее следует рассматривать как семенной логос, дающий начало становлению разнообразных форм, обусловленных как собственной внутренней логикой этого становления (формальная причинность), так и случайными событиями в жизни людей, от которых оно зависит (материальная причинность). Таким образом, установить духовные силовые линии, проходящие через людей, со всевозможными неожиданными повторениями и завихрениями, с учетом их чрезвычайной видимой бессвязности, здесь гораздо важнее, чем исследовать непосредственные отношения между людьми.
Например: Руссо много лет был католиком, проникся католическим образом чувств, а г-жа де Варанс влила в его жилы двусмысленный сок квиетизма, ею самой еще и опошленный. Кроме того, есть очевидная противоположность между руссоистским оптимизмом и лютеранским пессимизмом. Все так — но это не отменяет глубинной аналогии, вследствие которой дух Руссо, несмотря на совершенное различие способов и условий действия, был новым проявлением духа Лютера. Видеть тут духовное преемство гораздо важнее, чем историческую связь Руссо с кальвинизмом через первоначальное его воспитание.
Когда совершилась «евангелическая» революция и духовная власть вместе с церковным имуществом перешла к князьям, дух Лютера в Германии вскоре был обуздан внешней, чисто утилитарно-государственной дисциплиной. Но в глубине протестантских сердец он продолжал жить. У Лессинга он перешел в контратаку, у Руссо заполонил все. На самом деле Руссо по отношению к естественной нравственности совершил дело, подобное тому, что Лютер — к Евангелию. Немцы правильно это поняли, и «Sturm und Drang» возродил те заблуждения, ту горячку, с которыми было встречено начало Реформации. Но натиск Лютера был направлен на высшую область Благодати. Руссо нанес удар по чувственно-животной основе человеческого существа.
Явно нелепо представлять Возрождение, протестантскую Реформацию, картезианскую реформу, философию просветителей и руссоизм как одномерный ряд, прямо приводящий к апокалипсису Французской революции. Эта схематическая конструкция, применявшаяся историками-рационалистами, которые воспевали этапы пути к великому освобождению человека в Новое время, произвольно затушевывает существенные различия и моменты глубокой противоположности между ними. Но закрывать глаза на то, как все эти движения в конце концов совпали в одной точке, тоже значило бы отворачиваться от действительности. Мы видим здесь и разрывы в самых разных пунктах, и разнообразные силы, которые сталкиваются, переплетаются, но в действительности направлены на разрушение одного порядка вещей, одной и той же жизни. Поэтому они солидарны по крайней мере в отрицании. При условии, если иметь в виду лишь сходство по аналогии, а не совпадение, вполне возможно даже найти между этими различными духовными течениями общие характерные черты и принципы. Можно видеть, как через них (в весьма различном соотношении и нередко в прямо противоположных проявлениях) проходят натурализм, индивидуализм, идеализм и субъективизм — все «измы», украшающие фасад современного мира.
2. Жан-Жак Руссо не просто проповедовал теоретическую философию чувства, как английские моралисты его времени, — те еще оставались интеллектуалами и теоретиками, пишущими о природе чувств ученые рассуждения. Он, как часто замечали, всегда и даже отчасти нарочито был самим собой; он весь был чувство, всеми фибрами своего существа он с каким-то особенным героизмом жил приматом чувствительности.
Можно ли сказать, что разум в его жизни вовсе не принимал участия? Нет, конечно. У такого человека разум играет двойную роль. Иногда он становится на службу страстям, и тогда он с поразительной виртуозностью выстраивает ряды софистических аргументов. Таков Руссо — моралист, стоик, плутархианец, весь исполненный добродетели, обличитель пороков своего века, Руссо «Рассуждений», «Письма к Д'Аламберу» и «Общественного договора». Иногда же разум, как фонарь, бессильно освещает упоение дурными вожделениями, проницательно указывает, что они злы, но, подобно фонарю, ни во что не вмешиваясь, оставаясь целиком во власти этого зрелища, он лишь усиливает его привлекательность, придает ему некий привкус интеллектуальной и художественной извращенности, поскольку, по слову Аристотеля, свойство художника — оставаться художником, когда он вольно грешит. Тогда является Жан-Жак «слабодушный», «ленивый» — подлинный Жан-Жак, который не избегает ни одной приманки, гнется во все стороны, который предается удовольствиям, и видит, что поступает дурно, и по-прежнему возводит очи к образу добра — Жан-Жак, получающий удовольствие и от добра, которое любит, но не делает, и от зла, которое делает… но не ненавидит. Такой Жан-Жак, хранимый «доброй маменькой» из Ле Шармет[35*] от опасностей своего возраста, принимает от этого милого наставника уроки невинности, и в то самое время, когда добросердечная дама его наставляет, он распинается перед Богом в излияниях веры и любви к добродетели. Пораженный врожденными нравственными недугами, о которых повествуется в «Исповеди», супруг Терезы перед Природой, пламенный конфидент г-жи д'Удето и ее романа с Сен-Ламбером, он с чистой совестью объявляет себя учителем нравственности, встает на защиту семьи и домашнего очага, красноречиво клеймит прелюбодеяние и пороки своего века. Породив самые разнузданные революционные мифы, он в ужасе обличает бедствия революции; заронив «Новой Элоизой» в сердца заразу сладострастия, преспокойно вкладывает в уста Юлии, когда уже слишком поздно, максимы совершенно разумной и рассудительной этики. «Зачем вам надобно, чтобы я всегда был последователен? Хотя бы одно из этих сочинений даст добрые плоды»[244], — писал он сам об «Элоизе» и стоическом «Письме о спектаклях», противоположных, как белое и черное, но написанных одновременно.
Не будем его осуждать. «Отец современного мира» за все это не в ответе. Причина этих противоречий — духовный распад, а ни в малейшей мере не расчет — разве что иногда бессильная хитрость больного, ублажающего и использующего свою немощь.
И разве мы, судящие его secundum hominem dico[36*], меньше привыкли к контрастам, меньше готовы на сумасбродства? Посмеем ли мы сказать «Я лучше этого человека», на что он коварно вызывает нас, прикрывая чужим смирением собственную гордыню? Позорище, на которое он выставил себя перед всеми, отталкивает нас своим бесстыдством, но оно же вызывает в нас и какое-то невольное греховное умиление, и не только благодаря замечательной ритмичности, изумительному лирическому дыханию его откровений, но и потому, что он и в нас, как в себе, обнажает человеческое начало, тем пробуждая естественную симпатию всякого существа к себе подобному. Вопрос в том, не побуждает ли он нас симпатизировать как раз самому низкому в нашей душе, самому испорченному, что может быть в нашей привязанности к чувствам.
3. Особенное свойство Жан-Жака, его уникальная способность — покорность его самому себе. Он принимает себя с самыми кричащими противоречиями, как верующий принимает волю Божию. Он готов быть утверждением и отрицанием сразу, и ему это удается постольку, поскольку он готов ниспасть из разумного состояния и дать разрастись, как придется, разрозненным членам своей души. Это и есть «искренность» Жан-Жака и его друзей. Она состоит в том, чтобы не трогать ничего, что находишь в себе в тот или иной момент жизни, лишь бы не изменить что-нибудь в своем существе. А потому всякая нравственная работа принципиально и по определению уже запятнана фарисейским лицемерием. Дальше «спасению без дел» идти некуда. И вот дурные софисты начинают смешивать ловкое умение казаться тем, что ты не есть, с ревностным желанием сильнее быть, то есть быть более духовным, и вносят бесконечную смуту из сферы того, что меньше нас, в закон того, что нас больше.
Мы тоже знаем, что в наших испорченных сердцах на той добродетели, которая есть дело только разума — горделивой стоической добродетели, — обычно паразитирует ложь. Но мы знаем также, что простодушное лицемерие, вскормленное руссоистской искренностью, по крайней мере, не менее глубоко и живуче, нежели повапленное лицемерие фарисеев, а прежде всего, знаем, что истинная добродетель — та сладчайшая добродетель, которую первоначально в нас производит благодать, — по мере возрастания сама по себе изгоняет из души всякую ложь. Искренность — качество того, что чисто и без подмеса. Есть «искренность» материи, которая, в пределе, достигает совершенства лишь в отделении от всякой формы, в чистом рассеянии, чистой потенциальности. Если верно, что человека делает человеком то, что в нем главное, то есть дух, а его особенная, человеческая искренность состоит в чистоте духовного зрения, которым он неложно узнает себя (так что искренность — не просто чистота, но чистота знания, сообщенного себе самому или другому, — и пониматься не может иначе, как по отношению к духу), то надо сказать, что эта «искренность материи», погружающая нас в ночь и отдающая в полную власть разлада сновидений, прямо противоположна истинной.
«Надо быть собой». В последние годы жизни Жан-Жак любил повторять это изречение[245]. В его устах оно означало: надо быть своей чувствительностью, как Бог есть Его бытие. Бог, Который весь действие, нуждается ли в оформленности? Итак, должно почитать за грех всякую попытку себя формировать или давать формировать, исправляться, приводить свои диссонансы к единству. Всякая форма, налагаемая на внутренний мир человеческой души — и от закона, и от благодати, — кощунство против природы. Способ Жан-Жака быть самим собой есть решительное отречение от личности. Скользя по бесконечной наклонной плоскости материальной индивидуальности, он полностью утратил единство духовного «я». Ткань порвалась — чтобы остаться самим собой, человеку придется разложиться.
Рационалистическое «я» возжелало самодостаточности. Но раз оно отказалось затерять себя в бездне Бога, где могло бы отыскаться, ему осталось только искать себя в бездне чувственной природы, где оно не отыщется никогда. Любовь, которая была духовным трепетом, для которой, чтобы отдать себя, необходимы были «я» и его имманентная жизнь, ушла — остался один эгоизм; не стало и «ego», a лишь поток призраков. Человек Руссо — это оскотинившийся ангел Декарта.
Руссо ввел в нашу литературу и в действительность тот тип «неповинного», в котором Достоевский г-на Жида (говорю лишь о нем: чтение настоящего Достоевского вряд ли столь опасно) станет искать всевышнюю благодать; он издалека предвозвещает то великое разложение, которое нам ныне выдают за мудрость Востока, но не имеющее ничего общего ни с индуистской метафизикой, ни с древней китайской моралью, — это просто духовный крах отказавшейся от себя человечности.
4. Если декламации Руссо навевают леденящую скуку, то жизнь его всегда насущно интересна. Что же было самой характерной чертой этой жизни, столь щедрой на психологические уроки? На мой взгляд, эту черту можно было бы назвать имитацией святости. Я веду речь не о какой-то сознательно рассчитанной комедии — я говорю об имитации непроизвольной, наивной, изливающейся из сердца — о той искренней двойственности, которая Жан-Жака первого же и провела. Взглянем же с должным вниманием на нашего героя с этой точки зрения.
Руссо целиком унаследовал, вобрав в себя, нестроения, вошедшие в мир с Реформацией. Он был неисцелимо болен глубоко «астеническим» неврозом; в замкнутом пространстве его сознания сталкивались контрасты наследственности. С удивительным художественным дарованием, с живым умом и, подчас, замечательным инстинктивным здравым смыслом, с чрезвычайно обостренной чувствительностью, стремлением к возвышенному, пламенем гения, являющимся в его необыкновенных глазах, он сочетал редкостную немощь способностей, дающих человеку разумную власть над действительностью. В плане рассуждения всякая попытка выстроить что-то логически связное для него — мука[246]; «все его разнообразные рассуждения гармонируют лишь в одном — жалобном тоне»[247], но главное — в практическом плане воля как разумная сила у него совершенно отсутствует.
Осуществить на деле главенство разума, перенести в жизнь — собственную жизнь деятельного существа — решение, которое он сам считает благим, для него невозможно: налицо почти полная неспособность к тому акту практического разума, который томистская психология называет «империем»[248] — акту, которым интеллект, движимый волей, решительным «да будет» повелевает исполнительным способностям совершить в страшном мире существования то, что он счел должным[249]. Само же по себе моральное суждение у него часто бывает очень хорошим, даже превосходным — во всяком случае, «умозрительное» суждение, которое он выносит, соотнесясь со своей любовью к добродетели, а какой же человек не любит добродетели, не считает ее благой и прекрасной? Ведь это одна из основных наклонностей человеческой природы, и именно поэтому мы так естественно склонны требовать добродетели от других. Вот и Жан-Жак, никогда не смущавшийся суждениями мирской мудрости и предрассудками ложной рассудительности, добрый, естественный Жан-Жак, как никто, наивно (не то слово: цинично) взращивает эту теоретическую любовь к добродетели. Но едва приходится вынести «практическое» суждение, определиться в отношении к собственным целям, самому перед лицом действительности выбрать, что сделать именно сейчас, разум его спотыкается, а воздействие минуты на Жан-Жака оказывается таким могучим и безраздельным, что ему сразу кажется, будто подняться к небесам умозрения и высшим правилам поведения на земле совершенно невозможно; это воздействие избавляет его даже от тени усилия или внутреннего раздора[250].
Иными словами, у Жан-Жака воля совершенно не исправляется. Отсюда и его низкие поступки, и нравственная дряблость. Трусливая покорность действительности, в сущности, объясняет и то, как он бросил пятерых детей, и его любовные перипетии, его разрывы с друзьями, бессильные увлечения, двусмысленный нарциссизм его чувств, все позорное, все несчастья в его жизни.
И что же? Да ведь мы приходим не к нравственности и не к святости, а к их прямой противоположности! Положим — но посмотрите, что будет дальше. Этот совершенный мечтатель, неспособный встать над действительностью посредством того высшего акта требовательности разума, без которого нет нравственной добродетели, останавливается и пребывает в плоскости искусства и художественной добродетели, которая становится завершенной в тот момент, когда верно судит о том, что следует делать. Итак, он судит (и судит верно, поскольку речь не идет о самоопределении здесь и сейчас), но ничего не делает. И тогда, избавившись от заботы об исполнении, он доволен тем, что мечтает о своей жизни, строит ее в мире художественных образов и суждений — а поскольку художник он чарующе возвышенный, имеет любовь к добродетели и созерцает себя в образе добра, то и жизнь его получается удивительной, исполненной доброты, чистоты, простоты, легкости, святости без несения креста. Можно ли после этого удивляться, что он всегда жалеет сам себя, что Сен-Прё с Юлией — то есть все тот же Жан-Жак — проливают слезы искреннего благочестивого восторга по поводу добродетели в ту самую минуту, когда предаются совсем не добродетельным склонностям? Это не лицемерие, а раздвоение, однако оно еще гораздо пагубней и извращенней.
5. Мало того: теперь довольно, чтобы сошлись благоприятные обстоятельства или чтобы прогрессировал невроз, — и этот воображаемый мир, в котором Руссо проводит лучшую часть своей жизни, сам станет действительностью — но он проскользнет в действительность, так сказать, обманно, не путем нравственной воли, а, напротив, вследствие наиполнейшего потакания автоматизму вымышленных образов, непоправимого психологического разрыва[251]. И тогда Жан-Жак позволяет мечтам устраивать зрелище из той самой жизни, которую он не пожелал строить тяжким усилием нравственной воли; он катится по наклонной плоскости величайшей внутренней легковесности и позывов воли художника. Сначала отдельными мазками, потом систематически и постоянно он само свое существо превращает в муляж, имитацию совершенства, картинку святости. «Природа его сотворила всего лишь добрым мастеровым — правда, чувствительным до самозабвения», — говорит он о самом себе[252]. Следует понимать, что доминанта искусства, при помощи бреда целиком овладевшая полем его духа, в итоге полностью вытеснила все человеческое на его духовном пути.
Смотрите, как, написав первое «Рассуждение», Руссо поселяется в одиночестве и работает переписчиком нот по десять су за страницу. Превратив свою робость и природную необщительность в средство приобретения той самой славы среди людей, о которой он прежде тщетно помышлял, Жан-Жак обрел своеобразное внутреннее равновесие; он преобразил себя, то есть начал мечтать не только в воображении, но и в действии, отпускать мечтательные образы на свободу не только в книгах, но и в жизни. «С этого времени я стал добродетелен — во всяком случае, упоен добродетелью». «Все сходилось к тому, чтобы порвать мои привязанности в этом мире… Я оставил свет и его пышность… во мне совершился великий переворот; перед глазами моими расстилался иной нравственный мир… С этого времени я полагаю начало своему совершенному отказу от мира»[253].
Это было, конечно, преображение, но по сути чисто художественное, а не нравственное: основа была по-прежнему испорченной и косной, прогнившей от чувственного самолюбия и самолюбования. Руссо решил «приложить все силы души, чтобы разбить оковы общего мнения, и отважно делать все, что кажется добром, ничуть не заботясь о людском суде»[254], но тотчас же он объявляет, что это было, «быть может, величайшее или, по крайней мере, самое полезное для добродетели решение, которое когда-либо принимал смертный», и тем самым — расчетливой рекламой своему предприятию — показывает, что новый образ создавался для публики, а не для него самого[255]. Он подчеркивал плебейские повадки и разыгрывал христианина-киника, но притом был как никогда озабочен впечатлением, производимым на мир знатных и богатых, беспрестанно навещавших его каморку и уже вскоре рукоплескавших «Деревенскому колдуну». Словом, он стал примером для человечества, преподавателем добродетели, реформатором нравов — и как раз в это время будущий автор «Эмиля» сдает в приют своего третьего ребенка.
Теперь поглядите на него в последние годы, после изгнания, после великих огорчений и терзаний. В припадке настоящего приступа безумия, как сам Руссо признался Корансе[37*][256], он бежал из Англии, от Юма, и три года скитался по городам и весям, одержимый бесами величия и преследования. И вот он опять в Париже, пишет «Мечтания» и «Диалоги». Он чувствует, что кругом него сплошной «заговор тьмы», в котором участвует «все ныне живущее поколение» и «ужасающий мрак» которого он никакими способами не может рассеять; он окружен «тройною стеною мрака», заключен «в громадном здании мрака», воздвигнутом вокруг него[257]. Он точно знает, что весь мир вступил в союз против него, что заговор философов осудил его на погибель, что ему остается жить «вымаранным из людского общества»[258]. «Этот союз обнимает весь мир без исключения и без исхода; я уверен, что закончу дни в таком ужасном положении вне закона и никогда не проникну в эту тайну»[259]. Ну что ж — он всем прощает, не отвечает своим гонителям, проявляет великодушие к Давиду Юму[260] и только оплакивает свои беды, «добрые дела», которые ему «не дали совершить»[261], свою несравненную доброту. Бернарден де Сен-Пьер умиляется простоте и покою его скромного жилища на улице Платриер. Бескорыстный, трезвый, ласковый, снисходительный, смиренный, бедный и любящий бедность, он живет в уединении, наотрез отказавшись ходить к сильным мира сего, собирает гербарии — совершенно оставил свет. Себя самого он, конечно, не оставил, и все-таки в этот момент на нем лежит отсвет величия и истинной доброты. Что же случилось в действительности?
В действительности Руссо окончательно скатился в мир мечтаний. Тяжесть страданий и мук — впрочем, совершенно реальных — и, с другой стороны, старость, отчасти притушившая желания, дали душевной болезни докончить свое дело. Руссо порвал не только всякую нравственную связь с миром, но и всякую психологическую связь с реальностью. Теперь он мог (во всяком случае, он сам так думал) оставаться нечувствительным к внешним вещам, как ничего не значившим для него; его фиктивное «я», не связанное больше реальностью, — я бы сказал, «рассвободившееся», — «я» его доброты, воображения и чувства, «я» его артистических мечтаний, стало вольно витать на просторе. «Если мой муж не святой, кто же тогда святой?» — воскликнула Тереза после его смерти[262]. Теряя рассудок, входя в гавань Безумия, Жан-Жак на всех парусах летит к святости! И вправду он святой своего века — разве паломничества на его могилу этого не доказывают?[263] Сама королева совершила такое паломничество. Сначала чувствительные души, затем «добрые республиканцы» отправлялись на Тополевый остров в Эрменонвиле проливать слезы на могиле «святого мученика», «мужа, всегда ступавшего стезями добродетели», «мужа истины и природы» и поклоняться его реликвиям — табакерке, башмакам, колпаку. «Колпак — знак свободы, — восклицал в 1791 г. Шерен, показывая колпак Руссо толпе в Монморанси, — а этот колпак покрывал главу знаменитейшего ее защитника»[264].
В этом-то гениальном больном, в этой восковой персоне восемнадцатое столетие нашло подходящий для себя образец добродетели, меж тем как истинная святость скиталась по дорогам в лице другого странника, действительно нищего[38*].
Есть ли более поразительный случай, когда болезнь подменяла человека? Живой, призрак добра и мудрости во плоти — а в нем угасающий разум, уничтоженная воля, неспособная даже на малейший разумный подъем; беспримерно прекрасное дарование художника, полная отдача себя на волю волн воображения, душа полностью, совершенно, в высшей мере заполоненная себялюбием.
6. Он святой, а святость его в том, чтобы «любить себя и ни с кем себя не сравнивать»[265]. Происходит что-то вроде акробатического трюка из тех, на которые способна только болезнь: всегда относясь к своей нравственной жизни как к представлению и лишь представлению, Жан-Жак перестает думать о мнении других, как только остается единственным зрителем в зале, перестает что бы то ни было приказывать своему «я», как только это «я» поглощает все. Так же и эгоцентризм, дойдя до высшей точки, приобретает способность передразнивать бескорыстие любви: «я» Жан-Жака становится для него столь насущным само по себе, в такой превосходной степени утешительным, что заслуживает созерцания и любви ради него одного, во всех своих частях и делах, благородных и подлых, просто потому, что оно есть; столь безмерным, что не может столкнуться ни с каким препятствием; столь богоподобным, что ничто не в силах ему противиться; таким образом, Жан-Жак слишком безраздельно любит себя, чтобы иметь еще и самолюбие[266], то есть завидовать другим или чего-либо от них требовать. «Заботясь о скромности не больше, чем о почестях, он доволен чувством того, что он есть»[267]; «Я слишком люблю себя, чтобы кого-либо ненавидеть. Это значило бы сузить, ограничить свое существование, а я предпочел бы распространить его на всю вселенную»[268].
Смотрите, как Руссо создает ореол вокруг себя. Он пишет: «Не думаю, чтобы какой-либо смертный когда-либо лучше и искреннее говорил Богу: Да будет воля Твоя»[269]. Он убежден, что он (подобно бесплотным духам) — единственный в своем роде, что он человек, преимущественно перед всеми добрый, лучший из людей не потому, что добродетелен (от этого притязания он отрекся с тех пор, как полностью поддался своему мечтательному «я» и разом стал святым), а потому, что он добр[270], потому, что воплощает в себе Добро Природы (этого различия не поняли эрменонвильские паломники и другие почитатели «святого мученика»). Перечитаем необыкновенный пролог «Исповеди»:
«Я начинаю предприятие, которое никогда не имело примера и в исполнении никогда не будет иметь подражателей» (вот вам скромность). «Я хочу показать себе подобным одного человека во всей истине природы» (а вот и природа), «и этим человеком буду я.
Я один. Я чувствую свое сердце и знаю людей. Никто из тех, кого я видел, не создан таким, как я; смею думать, что и никто из живущих таким не создан. Может быть, я не лучше их, но я другой. Хорошо ли, плохо ли сделала природа, разбив форму, в которой меня отливали, — можно судить, лишь прочитав меня».
Вот вам ангелическая концепция индивидуума. А вот, наконец, и святость:
«Пусть вострубит когда угодно труба Страшного суда — я приду с этой книгой в руке и предстану перед Всевышним Судией. Я скажу Ему вслух: Вот что я делал, что думал, чем был. Я одинаково откровенно рассказал о добром и о дурном… Я показал себя таким, каким был: презренным и низким, когда бывал низок, добрым, великодушным, величавым, когда бывал таким, — я обнажил свое сердце так, как Ты сам его видел, Предвечный. Собери вокруг меня бесчисленное множество подобных мне; пусть они выслушают мою исповедь, пусть восстенают о моих недостоинствах, устыдятся моих немощей. И пусть каждый из них затем с тою же искренностью обнажит свое сердце у подножия Твоего престола — и пусть хоть один скажет Тебе тогда, если посмеет: "Я был лучше этого человека"».
Полюбуемся на его исповедь и поймем, во что превратилась у него христианская идея исповедания грехов. Он обвиняет себя — но только для того, чтобы самому себе тотчас дать отпущение, венец и награду. Он, если можно так сказать, поднимает христианское смирение, как брошенную перчатку. Не правда ли, он чувствует себя со Всевышним Судией по-свойски? Это потому, что в действительности Всевышний Судия стал не более чем псевдонимом Совести, не более чем имманентным Богом романтической философии…
Угодно ли еще текстов? В 1763 г. Руссо писал, имея в виду планы самоубийства: «Я ушел бы спокойно, если бы знал человека лучше себя»[271]. И еще, после разговора о своих неправдах: «При всем том я совершенно уверен, что из всех людей, каких я знал в жизни, никто не был лучше меня»[272].
Да и что сказать? Он прав, говоря о своей доброте, тут ему надо верить — он действительно естественно добрый человек. Разве он не остается всегда невинным, даже делая зло, раз он никогда не желал зла, как, впрочем, и добра? Никто в такой мере и в таком чистом виде не проявил того типа доброты, на которую способна человеческая природа, когда раскрывается в чистой аффективной спонтанности, в чудесной отъединенности и от разумного, и от благодатного порядка. Руссо очень точно показывает нам, на что способна и на что неспособна эта «доброта». С этой точки зрения, он — уникальный, бесценный экземпляр. Мы только скажем вместе с женой садовника из Монморанси: «Как жаль, что такой добрый человек сочинял евангелия!»[273]
В конце концов он приписывает себе особое свойство — быть Естественным Человеком, который сохранился неповрежденным, без единой царапины, без единого пятнышка первородной порчи, насылаемой цивилизованностью (что г-н Сейер называет его «непорочным зачатием»)[274]. Наконец, он становится как Бог: «На земле для меня все кончено. Мне невозможно причинить ни добра, ни зла… И я успокоен в бездне — бедный несчастный смертный, но бесстрастный, как сам Бог»[275].
О бедный Жан-Жак, поистине отлученный от всего, кроме своей не знающей меры Индивидуальности! Невозможно отделаться от величайшей жалости и к нему, и к Ницше — оба они жертвы, потому что до конца, до основ пережили безумие, которое получили от своего века (и с лихвой веку возвратили). Однако остережемся такого сочувствия. Оно не должно скрыть от нас ни чудовищной аберрации, когда «гнусное я» ставит себя «праведным судьей всего мира», ни катастроф, за которые ответственна эта «негодующая плаксивая чувствительность, вмененная, как закон» и «призванная в качестве последнего средства» против миропорядка[276]. Каждый из нас смутно чувствует, что весь физический мир имеет меньшую ценность, чем одно духовное существо, — вот почему можно соблазниться человеческим несчастьем. Человеческое сердце забывается: оно думает, что слышит стенание духа — мало того, некий отзвук того несказанного стенания, вселенного в нас Духом святости, которым стенает вся тварь, — а слышит только злой гул плоти и крови.
7. Имитируя святость, перенеся принципы героической жизни на религиозное почитание самого себя, возымев претензию достичь Бога и Божественной жизни чувствительностью и чувственным воображением, не стал ли Жан-Жак высочайшим образцом натуралистической мистики чувства?
Так ныне воспоем: явился Чувствительности новый бог, —
восклицал Бомье[39*] в «Гробнице и апофеозе Руссо»[277].
Сейеровское определение мистицизма («аффективный иррациональный восторг от уверенности в единении с Богом») придумано специально для Жан-Жака Руссо. Только для него и подобных ему оно и годится. Слово, конечно, все стерпит. Но нет более опасной двусмысленности, чем просто объединить под именем «мистицизма», не отмечая никакой принципиальной разницы, любовь святого Иоанна Креста и любовь Амадиса[40*], восхищение святой Екатерины Генуэзской и бред Жан-Жака, Байрона, Фурье или Кине, а также выдавать эстетическую или лирическую эмоцию за какой-то «зачаток» духовного опыта святых[278]. Это значит подделывать знаки языка, а значит и монеты разума[279].
Один великий духовный писатель говорил о душах, достигших высочайшего подъема отрешенности и вследствие неясного побуждения, исходящего от Духа, о Котором не знаешь, откуда приходит и куда уходит, действующих по меркам, отличным от человеческой добродетели: «Я слышу, как все добродетели стенают, что я удаляюсь от них. И чем приятней кажутся мне эти добродетели, чем более меня привлекают, тем больше мне представляется, что некое смутное воздействие толкает меня прочь от них. Я люблю добродетель, но уступаю влечению»[280]. Представьте себе на месте влечения Духа Божия влечение чувствительности, аффективного мечтания — вы получите Жан-Жака и его жуткого «двойника». Скажем так: Руссо не имеет ничего общего с истинным мистицизмом, но он, конечно, мистик в самом пошлом значении этого термина: по совершенно точному выражению г-на Сейера, он обмирщил квиетизм, и его странные «Диалоги», написанные в конце жизни, — не что иное, как мирское переложение заблуждений Молиноса и г-жи Гюйон[41*]: в них Руссо развивает применительно к себе самому странную доктрину абсолютного «непротивления» импульсам Чувства — доктрину полной пассивности, только при условии которой якобы может полностью раскрыться первоначальная Доброта. Это и есть натуралистский квиетизм.
Тогда он признает, что «Жан-Жак не добродетелен»[281], но самое это признание для него становится освобождением, открывающим путь к святости, как для Лютера признание, что его похоти неодолимы. (Правда, в прегрешениях, совершенных столь добрым сердцем, виновато человеческое общество, ставящее его в «тягостные положения».) Он признает, что Жан-Жак, «ленивый Жан-Жак» — «раб чувств» (прибавляя, впрочем, что «чувственный человек — это человек природы, размышляющий — человек мнения; последний опасен, первый опасным быть не может, даже если и впадет в излишество»). Но он потому перестает облачаться в добродетель, потому оставляет прежние притязания на стоическую нравственность, что он более чем добродетелен, — он добр, он «первозданный человек». Итак, Руссо более, чем когда-либо, стремится к добру, и весь его секрет — противопоставить мимолетным побуждениям, сбивающим нас с пути (впрочем, о деятельной борьбе с ними речь не идет), самую потаенную, сокровенную склонность — склонность самой Природы[282], которую, как мнит Руссо, он непосредственно ощущает, к которой обращается как к Господу внутреннего мира, под божественным водительством которой он, по его убеждению, находится. Хотя он очень и очень часто бывал «виноват», он никогда не был «зол» (так Лютер мог «грешить», но не переставал «уповать»). Доброта соединяет его с Природой, как г-жу Гюйон благодать соединяла с Богом; естественная доброта и есть благодать Руссо. Он следует сладостным побуждениям природы и «внутреннему чувству», как г-жа Гюйон полагала, что следует божественному наитию; он уверен, что обладает благодатным даром чувствительности, как она была уверена, что обладает любовью; он убегает от реальности посредством воображения, как она посредством молитвы. Его посещают «насельники»[283], как г-жу Гюйон, по ее убеждению, посещали горние светы.
8. Так, распространяя в душах заразу извращенной религиозности, Руссо передал современному миру одну из его самых характерных черт. Мы прекрасно знаем, что взял у него романтизм[284]. «Irrequietum cor nostrum»[42*]. Руссо предал сердце бесконечной смуте, ибо освятил отказ от благодати. Отвергнув вместе с философами дар Того, Кто первый возлюбил нас, он дал выход религиозному чувству, обратив наше алкание Бога на священные таинства чувствительности, на бесконечность материи.
Но если так, значение руссоизма идет гораздо дальше такого эпизода в истории, как романтизм. Все смертоносное, что есть в современной мысли, до сих пор связано с ним. Поиски мистического наслаждения в том, что не есть Бог, — поиски бесконечные и остановиться не могут нигде.
Только Божие дело настолько «ювелирно», что может повсюду, даже в самых отбросах человеческого сердца, прилепиться к бытию и благу — абсолютно ко всему, что есть бытие и благо, не имея притом ни малейшего касательства ко злу. В нас же тотчас пробуждается попустительство. Есть такие области бытия, которые — поскольку они суть бытие — благи, желанны, и познание их плодотворно, однако наслаждаться ими нам запрещено из-за разъедающего их зла. Святые отказываются не от какой-то видимости — они знают, на какие утраты идут, и эта утрата должна быть действительной, чтобы действительным было и обетованное воздаяние сторицей. В конце все будет восстановлено; нет никакой радости или любви, совершенством которой не дано будет насладиться сердцу в красоте Божией. А пока надо возненавидеть собственную душу и принять сладчайший крест. Желание, отпущенное Руссо на волю, бросает интеллект в бесконечный мир апперцепции, пристрастий, изысков, духовных опытов и экстазов — в конечном счете мрачных, как смерть, но в каждый данный момент реальных, — открывающихся нам лишь во грехе. Есть духовность греха, которая коварнее вульгарной страсти к чувственному удовольствию. Духовная сладость плода познания зла — вот что привязывает к себе потомков Жан-Жака.
Ныне глубинное влечение тянет их в нижние области, которые они считают более плодоносными, чем вершины, не понимая, что в вещах духовных плодоносно только девство. Правда, что в этих нижних областях, в «подземном мире», где сталкиваются великие нестройные силы иррационального и инстинктивного, есть еще и бытие, и действительность, и жизнь; правда, что эта жизнь сурово обуздана сферой разума, и так и должно быть. Ибо пока человеком управляет только закон природы и разума, бунт живет в нем вместе с законом, и одна из частей его существа должна испытывать насилие. Мы род неверный и развращенный; те же истины разума, от которых наше существование зависит, нашему существованию в тягость — они приводят в отчаяние, не освобождают, как должно быть, а сокрушают. Как вынести их, если бы более высокая Истина и незаслуженный благодатный дар не обоживали нашей жизни? «Наилучшая участь — не родиться», — говорила высочайшая эллинская мудрость именно тогда, когда утверждала бессмертие. «Жизнь всего свободнее от огорчений, когда не знает о свойственных ей бедах. Итак, лучше всего для человека — не родиться, и тем быть причастным природе того, что всего превосходнее; а после этого первое из других возможных благ, из всех же благ второе — родившись, умереть как можно скорее… Потому что существование в смерти лучше, чем существование в жизни»[285].
Строй чисто человеческий, строй одного только разума — жестокий строй: истинный и праведный, спасительный и необходимый, сохраняющий бытие, но кровавый. Повсюду в нем — под страхом бесконечно более жестокого нестроения — ограничения, стеснения, бремена, жертвоприношения благу человеческого рода или общему благу. Такому строю необходим палач.
Строй Любви не разрушает его, а исполняет, но сверхъестественно совершенствует и пронизывает добром без всякого ущерба для праведности. Тогда все преображается и возрождается, всякое ограничение оборачивается полнотой и всякая жертва — любовью; хотя очаг греховного вожделения не угасает и требует неусыпного бдения, человек им более не разорван: когда он предал себя Духу Божию, великие очистительные жертвы и великая ночь, в которую этот Дух погружает, несут божественный огонь и освобождающую силу искупительной любви, проникающую до самых «подземелий» души, до ее темных окраин, до внутреннего ада, дно которого лишь святые по временам могут узреть. Человек получил мир, превосходящий всякое чувствование, — значит, у него есть надежда.
Увы, возглас Лютера на утрене призвал на брак Агнца тварь без брачной одежды. На вечерне, которую служил Жан-Жак, она уже стояла во тьме внешней, нагая, со скрежетом зубовным, потерявшая себя в самопотреблении.
9. Древние считали возможным, чтобы некоторые люди были одарены естественной способностью прорицания в том смысле, что они расположены получать и ощущать в душе влияния высших космических деятелей. Мы скажем, что это пророки духа мира сего, дольние пророки, собирающие в своем сердце влияния, в течение целого исторического периода разъедающие глубины души раненого человечества. Потому они предвозвещают век, наступающий после них, и в то же время с могучей силой посылают в будущее те самые влияния, которые обрели в них свое единство. В этом смысле Лютер и Руссо действительно предстают пророками.
Отчего же? Из-за интеллектуальной проницательности, духовного озарения, как примеры героической личности? Нет, оба они действуют на людей, пробуждая аффективные симпатии, удивительным образом разливая кругом свою плотскую индивидуальность. Они распространяют вокруг себя вирус собственного «я», волны своих чувств и инстинктов, затягивают людей своим темпераментом — с этой точки зрения, Жан-Жак тем легче проникает в других, чем более разложился сам. Весь девятнадцатый век испытал это патологическое наитие. Дивный совратитель, Руссо метит нам не в голову, а под сердце, бередит в нашей душе рубцы естественного греха, возбуждает силы анархии и томления, дремлющие в каждом из нас, — все чудовища, подобные ему самому. Каждым из дефектов разума, в столь ужасающей форме проявившихся в современном мире, он пользуется, чтобы наше уныние подлежало воздействию не благодати, а низшей нашей природы. Главное — Руссо приучил наше миросозерцание потакать нам самим и становиться соучастником того, что он наблюдает, а также находить прелесть в тех тайных болячках индивидуальной чувствительности, на которые во времена не столь нечистые с трепетом предоставляли взирать только Богу. «Все завесы сердца были разодраны, — писала г-жа де Сталь о "Новой Элоизе". — Древние никогда бы не стали делать из своей души сюжет для вымышленной повести». Современной литературе и мысли после ран, нанесенных им Руссо, будет чрезвычайно трудно вновь обрести чистоту и прямодушие, прежде известные интеллекту, направленному на бытие. Есть сокровенное в сердцах, закрытое для ангельского взора, доступное лишь первосвященническому знанию Христа. Ныне Фрейд психологическими уловками пытается взломать этот тайник. Христос заглянул в глаза женщины, взятой в прелюбодеянии, и все постиг до конца: Он один мог сделать это без греха. Ныне каждый романист без стыда читает в этих несчастных глазах и приглашает читателя к этому же.
II Отшельничество и гражданство
10. «Я глубоко люблю в нем "одинокого мечтателя" и терпеть не могу теоретика». Эти слова Ш.-Ф. Рамю[286] объясняют тягу многих благородных душ к Жан-Жаку, отклик, который он всегда находил у тех, кто, даже ненавидя его, будучи свободен от его психопатии, оставался его собратом в лирике — подобным ему «чувствительным мастеровым». Что внушает эту симпатию? Грезы, слезы, бред, сентиментальная мишура в роде Дидро? Помилуйте — я говорю о подлинных лириках. Дикий гений настоящего лесного жителя? Свободно льющаяся песнь, поистине звучащая из глубины чащоб, ясный ритм, легко согласующийся с движениями души, — то единственное, в чем Руссо и вправду остается невинным? Даже это дело второе. Главное, как замечает тот же Рамю, в том, что Руссо прежде, чем стать антиобщественным теоретиком, родился внеобщественным человеком и несравненным образом выразил особенности созданной так души.
Люди по природе почитают пустынников. Они инстинктивно понимают, что отшельническая жизнь сама по себе более всего избавлена от истощающей суеты, ближе всего к божественному. Не это ли чувство более всего проявилось в трагическом бегстве старого Толстого перед смертью? А сколько было других беглецов и бродяг! «Quoties inter hominis fui, minor homo redii»[43*]. Философы, поэты, созерцатели — те, кто руководствуется главным образом интеллектом, — в разной степени, но все знают, что общественная жизнь — это не героическая жизнь духа, а юдоль заурядности и, чаще всего, лжи. Под давлением ее случайностей и уродств поэты и художники, как наименее отрешенные от чувственного, страдают наиболее ощутимо, хотя, пожалуй, не более всех жестоко. Несмотря на это, жить общественной жизнью необходимо всем в той мере, в какой сама жизнь духа должна вырастать из жизни человеческой, «рациональной» в точном смысле слова.
Отшельническая жизнь не человечна: она или выше человеческой, или ниже ее. «Есть два способа для человека жить уединенно: или потому, что он не выносит человеческого общества по причине дикости своего естества, propter animi saevitiam, a это принадлежит к скотскому порядку. Или потому, что он целиком прилепился к божественному, а это принадлежит к сверхчеловеческому порядку. Кто не общается с другими, говорил Философ, тот или скот, или бог»[287]. Крайности сходятся! Скот и бог — беспокойные существа, являющиеся лишь обрывками мира, а существо совершенное, имеющее весь мир в себе одном, — живет сходной жизнью, в то время как человек стоит между ними, будучи индивидуумом и личностью одновременно. Руссо — параноик и гений, поэт и сумасшедший — все приводит к одному знаменателю, сладострастно путая жизнь по закону скотства и жизнь по закону разумения. Поскольку физические изъяны принуждают его жить одиноко, его болезненная неспособность соответствовать общественному порядку, бунтующая и стенающая неустроенность в мире имитируют господствующую неустроенность — неустроенность духа, «отъединенного, чтобы властвовать», как говорил Анаксагор об Уме, в мире сем. В самой своей дикости, в болезненном анахоретстве он являет нам лирический образ, блестящий и коварный, потаенных поползновений духа в человеке.
11. Но не забудем и о теоретике. Превратив свой личный недуг в родовое правило, Руссо стал считать уединенную жизнь естественной для человека. «Дыхание человека смертельно для подобных ему — это одинаково справедливо и в буквальном, и в переносном смысле»[288]. Следовательно, основные склонности человеческой природы — а значит, непременные условия нравственного здоровья — требуют блаженного состояния отшельничества, которое Руссо, олицетворяя собственные грезы, воображает как жизнь непрерывно снующих по лесам мечтательных и жалостливых животных, которые сходятся при случайных встречах, а затем опять возвращаются к невинному странничеству. Такова в его глазах божественная жизнь.
Сдвиг происходит немедленно. «Сверхчеловеческое», слегка окропив «скотское» райским благовонием, тотчас в него же и превращается. Конфликт общественной и духовной жизни превращается в конфликт общественной жизни и дикости, а все это вместе становится конфликтом общественной жизни и человеческой природы. Тем самым этот конфликт превратился в принципиальный антагонизм, в жестокую, абсолютно неразрешимую антиномию.
А что же говорит об этом христианская мудрость? Она прекрасно знает, что жизнь согласно интеллекту ведет к отшельничеству и что чем она высокодуховней, тем более одинока в своем отшельничестве. Но она знает и то, что такая жизнь есть сверхчеловеческая, — применительно к рациональному созерцанию в определенных границах, а применительно к созерцанию в Любви безусловно сверхчеловеческая. Это наивысший предел, которого можно достичь, непревосходимое совершенство, крайняя точка возрастания души. Для того же, чтобы человек мог достичь ее, его путь должен совершаться среди людей: как ему достичь сверхчеловеческого, не пройдя через человеческое? «Надобно принять во внимание, что состояние пустынножителя есть состояние существа, которое должно быть самодостаточным, иначе говоря, такого, которое ни в чем не имеет недостатка, что входит в определение совершенства. Итак, пустынножительство подобает лишь созерцателю, уже достигшему совершенства или единственно щедротами Божиими, как Иоанн Креститель, или через упражнение в добродетелях. Человек же не может упражняться в добродетелях без подмоги со стороны общества себе подобных: в отношении интеллекта для наставления, в отношении сердца для того, чтобы его вредные желания были уничтожены примером и исправлением, исходящими от других. Отсюда следует, что общественная жизнь необходима для упражнения в совершенствовании, а пустынножительство подобает душам уже совершенным»[289]. Вот почему, без сомнения, в древнейшие времена толпы людей устремлялись в пустыню и силой забирали оттуда пустынников, чтобы поставить себе в епископы… В конечном счете, заключает св. Фома, «пустынножительство, если его принимают согласно должному порядку, превосходнее общественной жизни, но если его принимают без предварительного упражнения в таковой жизни, оно как нельзя более опасно, если только благодать Божия не восполняет, как у блаженных Антония и Бенедикта, то, что у других достигается упражнением».
Итак, отшельничество — цвет гражданства. Итак, общественная жизнь есть все-таки естественная жизнь человека, вытекающая из глубочайших требований его видовых особенностей. Ее условности и немощи, стеснение и истощение, которые она приносит жизни интеллекта, все ее «насмешки», так поражавшие Паскаля, — все-таки лишь акцидентальные изъяны, выражающие коренную немощь человеческой природы, выкуп — подчас невыносимо тяжкий — за самое главное благо: за то, что именно общественная жизнь подводит к духовной. Но сама она, именно из-за этого иерархического порядка, стоит ниже отшельнической жизни, как и движение рассудка стоит ниже непосредственного акта умозрения; общественная жизнь ниже и несовершенного отшельничества мыслителя и совершенного (по крайней мере, внутреннего) отшельничества святого[290].
Таким образом, на место неразрешимой антиномии приходит гармония. Конфликт не устранен (для этого пришлось бы устранить человека), но преодолевается: в принципе — совершенно, в силу же присущего нам состояния — до определенной степени. Страдание остается, но противоречие исчезает. Где можно видеть это лучше, нежели там, где чище всего совершается согласие духовного и общественного, — в том состоянии жизни, которое специально установлено для достижения человеком совершенства? В монашестве самые недостатки общественной жизни способствуют духовному благу. Каким же образом? Благодаря послушанию и неограниченной жертвенности. Ошибки начальствующих, заурядность среды, все, на что способен человек, что может претерпеть босой кармелит от обутого, — все эти неприятности служат ли чему другому, как только скорейшей мистической смерти сердца, стремящегося сокрушить себя? Они лишь подталкивают его вперед на пути жизни с Богом. Вот насколько верно, что человек не примиряется с самим собой иначе, как на Кресте Христовом.
12. Не таким образом Жан-Жак (он ничего не боится) приступает к разрешению антагонизма, который сам же превратил в абсолютный и неразрешимый.
Он начинает с кричащей нелепости и вместе с тем с подлого соблазна: считает людей совершенными, а совершенство, которое необходимо стяжать и от которого большинство так и останется весьма далеко, — неотъемлемой частью самой природы. Ведь именно таково основное положение Руссо, его непреложный постулат. Его метод — поразительный метод очищения пустотой, совершенно типичный для его астении, — состоит в том, чтобы тотчас перейти к состоянию абсолютного совершенства, то есть Чистого Акта. Геометр очищает идею палки или кольца, чтобы получить понятия прямой и окружности. Руссо очищает человеческое существо от всякой потенциальности, чтобы созерцать идеальный мир, единственно достойный его мысли, — мир, который позволит ему, как святому, осудить неправедность мира существующего. Перед началом игры он умышленно помещает себя в неосуществимом — так он может дышать и может поведать о себе, как Бог повествует о Себе в творении. Он грезит и рассказывает о своих грезах, а если действительность им не соответствует — он ни при чем: виновата действительность. Он любил повторять метафизически отвратительное выражение: «Прекрасно лишь то, чего нет»[291]. В 1765 г. в Страсбурге некто г-н Ангар пришел к нему и сказал: «Перед вами, сударь, человек, воспитывающий сына согласно принципам, которые имел счастье почерпнуть в вашем Эмиле». — «Очень жаль, сударь, — ответил Руссо, — жаль Вас и Вашего сына!»[292] Вот оно что: он лучше нас знает, что вся его идеология — просто иллюзорная игрушка, греза для препровождения времени: он нарочно так сделал.
Итак, первоначально Руссо предполагает, что человек — это чистый акт человечности. Все решения выводятся отсюда сами собой, и высокие мысли текут потоком. Вы в затруднении, какое правительство будет наилучшим? То, которое годится для совершенных людей[293]: regimen perfectorum, ergo regimen perfectum[44*], святая Демократия. Вы ищете здравую методу воспитания? Это будет такая метода, которая требует: 1) царского богатства и царских возможностей уединения; 2) одного воспитателя для одного воспитанника; 3) идеального воспитателя и сущностно доброго воспитанника. Получается лицемерное «отрицательное воспитание», где действует лишь Природа (при надобности ловко подделанная), внутри же нее все совершенно.
Что касается общества, его необходимо построить из индивидуумов, которые сами по себе самодостаточны и которым до сих пор никак не удавалось собраться вместе без грехопадения. Напрасно Дидро будет уличать его, указывая, что «одиноко живут злодеи» — Жан-Жак, невинная жертва, будет страдать, но крепко держаться своей аксиомы: человек был бы добр, будь он одинок. Поскольку же наша природа, испорченная изобретением цивилизации, должна быть исправлена неким более высоким изобретением, то у него, Жан-Жака, есть тайна совершенного гражданства, созданного в его голове из совершенных граждан, которое в самых недрах общественной жизни воссоздаст нового человека, со всеми благами отшельничества.
13. И вот перед нами вырастает густая идеологическая чаща «Общественного договора». Перечислим и постараемся выразить главные мифы, которыми современный мир обязан этому прославленному произведению, в краткой формулировке, которая позволит понять их основной дух.
1. Природа. В ясном и проницательном «Трактате о Законе» св. Фома объясняет нам, что слова «естественное право» могут пониматься в двух совершенно разных смыслах: нечто может быть названо «по праву естественным» либо потому, что к тому склоняет природа (например, не обижать другого), либо только потому, что природа не сразу внушает противоположное стремление. «В последнем смысле можно сказать, что человеку по праву естественно, de jure naturali, быть нагим, ибо искусство, а не природа дает ему одежду; в этом смысле должно понимать и слова Исидора, называющего "по праву естественным" состояние общего владения и единой и одинаковой свободы для всех: действительно, разделение собственности и подчинение господину не даны природой, но присовокуплены разумом людей для пользы человеческой жизни»[294].
Иначе говоря, слово «природа» может быть взято в метафизическом смысле сущности, предполагающей некоторую конечную цель. Тогда естественно то, что соответствует требованиям и склонностям сущности, — то, в зависимости от чего вещи располагаются в соответствии со своими видовыми особенностями, а в конечном счете — по воле Творца. Или оно может быть взято в материальном смысле фактически данного первобытного состояния. Тогда естественно то, что оказывается фактически существующим прежде всякой перемены, произведенной интеллектом.
Ослабление метафизического разума неизбежно понемногу затемнило первый смысл слова «природа». В радикально номиналистической и эмпирической теории Гоббса, за которой здесь следовал Спиноза, остался лишь второй смысл; будучи плохо вычленен, он привел философа к логическим аберрациям. Согласно Гоббсу, «естественны» абсолютная изоляция индивидов и война всех против всех, которую он воображает первобытным состоянием человечества. Спиноза же в своем уникальном пессимизме мистика-рационалиста объявил: «Естественное право каждого распространяется дотоле, доколе распространяется его власть… Тот, кто предполагается живущим единственно под властью природы, имеет полное право желать всего, что сочтет полезным, понуждаем он к тому здравым разумом или силой страстей; имеет право присваивать это себе любым способом: силой, хитростью, просьбой или любым средством, которое сочтет наилегчайшим, и, следовательно, считать врагом всякого, кто хочет помешать ему удовлетворить свое желание»[295]. Ясней не скажешь.
Что же делает Жан-Жак? Поскольку по темпераменту он религиозен и поскольку, между прочим, то, что осталось в нем от здравого смысла, строго традиционалистично, он возвращается к понятию природы в первом смысле слова: природы, устроенной согласно некоторой цели Премудростью всеблагого Бога. Но, будучи не в силах показать интеллектуальную реальность этого понятия, восстановить ее ценность и метафизическое значение, он растворяет его в представлении о некоем первобытном, так сказать, докультурном состоянии, в точности соответствующем второму смыслу слова «природа». Он смешивает эти два различных смысла, заключает в одном двусмысленном псевдоконцепте «природу» метафизиков и «природу» эмпириков. Отсюда руссоистский миф о природе, который достаточно ясно выразить, чтобы ощутить его абсурдность: «Природа есть первобытное состояние вещей, в котором они должны оставаться или которое должны восстановить, чтобы удовлетворять своей сущности». Или: «Природа есть сущностное, от Бога вложенное в вещи, требование некоторого первобытного или докультурного состояния, для осуществления которого вещи и созданы».
Из мифа о Природе родился и догмат Естественной доброты. Для этого довольно было заметить, что природа в метафизическом смысле — неизменяемая сущность вещей, в частности, сущность человека, а также ее особенные способности и склонности — блага; отсюда можно заключить, что первобытное состояние и первобытные условия человеческой жизни, состояние, предшествующее культуре и установлениям разума (представляют ли его себе исторически существовавшим или только предполагают абстрактно), необходимо было благим, невинным, счастливым, что человечеству подобает состояние добра, прочно усвоенное качество невинного и счастливого…
Руссо открыл догмат естественной доброты, когда писал «Рассуждения», — после откровения в Венсенском лесу и орошения жилетки слезами. В «Общественном договоре», написанном позже, однако на основе старых венецианских тетрадей, этот догмат не формулируется, а иногда утверждается даже противное. Однако и там есть миф о Природе, содержащий догмат в зародыше. В этом можно убедиться, если учесть, что именно миф о Природе порождает миф о Свободе, безусловно основополагающий в «Общественном договоре».
2. Свобода. «Человек рождается свободным» (дикарь в лесу). Иначе говоря, состояние свободы или полнейшей независимости есть первобытное состояние, так что сущность человека и богоустановленный чин требуют, чтобы оно было сохранено или восстановлено.
Если так, то недопустимы никакое подчинение какому-либо господину и никакая власть над субъектом. Состояние, по богословскому учению, царившее в Земном раю, где все были бы на положении свободных, то есть никто бы не работал на службе у другого и для частного блага другого — как «орудие, принадлежащее другому», — ибо в безгрешном состоянии не было бы рабского труда, у Руссо превращается в состояние, требуемое человеческой природой. Мало того: в то время как, согласно св. Фоме, непогрешившее состояние включало тот род господства над свободными людьми, которое направляет их к общему благу, «потому что человек по природе обществен и потому что общественная жизнь невозможна, если кто-либо не первенствует, направляя всех к общему благу, ибо многие сами по себе стремятся к многому, один же к единому — multi enim per se intendunt ad multa, unus vero ad unum, — и потому что, с другой стороны, само по себе правильно, что если один человек выдается среди других праведностью и познанием, он служит пользе других»[296], то есть повелевает, — то по Жан-Жаку этот род власти также исключен природой. Человек рожден свободным; Свобода — абсолютное требование Природы; всякое, любого рода подчинение власти человека противно Природе.
3. Равенство. Равное для всех положение тоже требуется Природой. Мы все равно рождаемся людьми, а значит, равно «свободными», равными в отношении видовой сущности, а значит (вот в чем огромная путаница, присущая эгалитаристскому мышлению), равными в отношении состояния, осуществления которого наша сущность и богоустановленный чин требуют для каждого индивидуума. Конечно, есть так называемое «естественное» неравенство между индивидуумами — одни более, другие менее сильны или умны. Но они противны воле Природы, и кто знает — не происходят ли они от какого-то давнего ее искажения?
Природа требует, чтобы среди людей осуществлялось наистрожайшее равенство, так что во всяком политическом устройстве, которое не будет прямо противно Природе и ее Творцу, абсолютное социальное равенство как раз и исправит естественное неравенство.
Почва для этого мифа о Равенстве — два удивительно грубых софизма.
1. Смешение равенства со справедливостью, разрушающее справедливость. Справедливость[297] действительно предполагает некоторое равенство, но равенство геометрическое, или пропорциональное (с каждым должно обращаться по заслугам), а не арифметическое, или равенство абсолютных величин (обращаться с каждым одинаково независимо от заслуг), так что смешение справедливости с этой второй разновидностью равенства (простым равенством) справедливость именно и разрушает.
2. Смешение (из-за которого становится невозможно установить никакой социальный строй) того, что относится к распределению между частями, и того, что относится к устроению целого. Св. Фома убедительно говорит об этом, возражая Оригену — метафизическому патриарху эгалитаризма, утверждавшему, будто Бог должен был сотворить все вещи равными (потому что до творения все они равно были ничем), а различие вещей и мироустройство происходят от греха твари. В плане распределения (воздаяния) справедливость осуществляться должна и требует, чтобы равным воздавалось в равной мере, поскольку везде необходимо предполагается такая или иная заслуга, но в плане устроения или первоустроения вещей такое требование справедливости выполняться не должно, потому что здесь нет необходимости принимать во внимание чьи-либо заслуги, а есть лишь действие, приводящее к существованию, задача сотворения целого. «Не погрешает против справедливости художник, помещая в разных местах здания камни, первоначально предполагаемые одинаковыми, и не потому, что он предполагает в них некое предсуществующее различие, но потому, что имеет в виду совершенство целой постройки, которого не могло бы быть, если бы камни не были расположены в здании разнообразно и неравным образом. Так же без несправедливости, однако не предполагая никакого неравенства заслуг, Бог ради совершенства мироздания Премудростью Своею искони создал различные и неравные творения»[298]. Точно так же, даже если предположить гипотетически всех людей равными по достоинству, они ради установления политического строя (а иначе он и не установится) без всякой несправедливости будут размещены по разным сторонам этого строя и, следовательно, будут иметь неравные функции и состояния.
4. Задача политики. Миф о Свободе и миф о Равенстве привели Руссо к тому, чтобы сформулировать задачу политики полностью, до абсурда утопическим образом. Как создать общество из индивидуумов, которые все совершенно «свободны» и «равны»? Как, пользуясь формулировками самого Руссо, привести в согласие людей (какими их желает видеть Природа) и законы (какими их требует общественный строй)? Как «найти форму ассоциации… в которой каждый, соединясь со всеми, в то же время повиновался бы лишь себе самому и оставался бы таким же свободным, как и прежде»?
Речь идет попросту вот о чем: устроить органическое целое, части которого не подчинялись бы друг другу. Это абсурд, но Жан-Жаку только того и надо. Чем труднее задача, тем больше будет его заслуга, если он найдет решение. Его миссия пророка в том, чтобы обличать и проклинать существующее несправедливое гражданство и показать людям единственно мыслимый тип гражданства справедливого. А если такого гражданства быть не может? Тогда пускай несчастные, осужденные на существование, выпутываются, как могут; один выход у них всегда останется: «Повалиться на землю и рыдать, что ты человек», по примеру самого Жан-Жака, когда он разочаровался в демократии и мечтал о Калигуле.
5. Общественный договор. «Решение основной задачи», о которой сейчас говорилось, дает общественный договор. Общественный договор — это пакт, сознательно заключаемый волей суверенно свободных индивидуумов, прежде разъединенных природой, когда они соглашаются вступить в общественное состояние.
Происхождение мифа о Договоре связано с длительным процессом деградации от Альтузия и Гроция до Руссо, но во всяком случае такой договор совершенно отличен от «согласия» («консенсуса»), которое древние связывали с началом человеческого общества. То согласие было выражением природного стремления. Первоначало же руссоистского договора — не в природе, а в рассудочной воле человека, и порождает он продукт человеческого искусства, а не что-то, созданное самой природой: он предполагает, что «только индивидуум произведен природой».
Отсюда следует, что первоначально общество создано не Богом — Творцом природного порядка, а человеческой волей, и что создание гражданского права разрушает право естественное. Древние учили, что человеческий закон исходит из естественного права как уточнение того, что в естественном законе оставалось неопределенным. Руссо начал учить, что после заключения договора естественных прав больше не существует, и с тех пор стало принято, что в общественном состоянии любое право может происходить только из соглашения свободных воль…
Но это еще не все содержание руссоистского понятия договора. Ведь это не просто договор: он обладает совершенно определенной природой; он включает некоторые пункты, без которых не может существовать и из которых Жан-Жак выводит всю свою систему. Все эти пункты при должном понимании сводятся к одному: полное включение каждого участника договора вместе со всеми своими правами в общину.
И где же свобода? И как же решается «основная задача»? О, вот тут-то настоящие чудеса. «Каждый, отдавая себя всем, не отдает себя никому» — он подчиняется целому, но не подчиняется ни одному человеку, и в этом вся суть: никакого человека над ним нет. Более того: с того момента, когда договор порождает социальный строй, каждый до такой степени поглощается этим общим «я», которого он пожелал, что, покоряясь ему, покоряется также и себе. Итак, чем больше мы подчиняемся не человеку — не дай Бог! — а общей воле, тем более мы свободны. Замечательное решение! В природном состоянии мы существовали только как личности и никоим образом не как части — в общественном стали существовать только как части. Вот как чистый индивидуализм — именно потому, что не признает как таковой реальности социальных связей, накладываемых на индивидуумов требованиями природы, — роковым образом приходит к чистому этатизму, едва принимается конструировать общество.
6. Общая воля. Это прекраснейший из мифов Жан-Жака, наиболее благоговейно разработанный: можно сказать, миф политического пантеизма. Общая воля (которую нельзя смешивать с суммой индивидуальных воль) есть собственная воля общего «я», рождаемая в результате принесенной каждым жертвы себя самого и своих прав на алтарь гражданства.
На самом деле речь здесь идет о своего рода имманентном боге, чудесным образом явившемся в результате договора, причем большинство голосов — лишь знак его заповедей: священный знак, правомочность которого зависит от некоторых условий; в частности, как учит Руссо, в едином обществе не должно существовать никаких особых обществ.
Имманентный социальный бог, общее «я», которое в большей мере есть «я», чем я сам, в котором я теряю себя, чтобы обрести, которому я служу, чтобы быть свободным, — любопытнейший пример коварного мистицизма! Заметьте, как Жан-Жак объясняет, почему гражданин, подчиняясь закону, против которого он голосовал, остается свободным и по-прежнему подчиняется только самому себе: голосуют-де не для того, чтобы высказать свое мнение, а для того, чтобы в результате подсчета голосов явилась Общая воля, чего каждый более всего и желает, потому что благодаря ей гражданин и свободен. «Поэтому если побеждает мнение, противоположное моему, это лишь значит, что я ошибался и то, что я считал общей волей, ею не является. Если бы победило мое частное мнение, я не сделал бы того, что хотел, — тогда я и был бы несвободен». Что же нам тут предлагают, как не абсурдное переложение ситуации верующего, который просит в молитве того, что считает подобающим, но прежде всего просит и желает, чтобы совершилась воля Божия?[299] Руссо понимает голосование как своеобразный просительно-поминальный обряд, молитвенно обращенный к Общей воле.
7. Закон. Миф об Общей воле занимает в политике Руссо центральное и главенствующее место, как понятие общего блага — в политике Аристотеля. Поскольку общее благо — цель, к которой стремится общество, оно существенным образом предполагает направленность интеллекта, а закон древние определяли как неправленное к общему благу предписание разума, исходящее от того, кто несет попечение об общине. Общая воля — одушевляющее начало и двигатель социального организма — обязательна для всех в силу самого своего существования; ей довольно быть, а являет ее Число. Итак, закон определяется как выражение Общей воли, а исходит он не от разума, а от числа.
Главное в законе, как его понимали древние, — чтобы он был справедлив. Современный закон может быть несправедлив, но он требует, чтобы ему подчинялись. Закон в понимании древних исходил от некоего распорядителя, современный закон всем распоряжается сам: подобно Богу Мальбранша, который один имеет власть действовать, этот мистический знак, селящий на престоле на небесех абстракции, один имеет всякую власть. Под ним, на земле, люди с точки зрения отношений власти и подчинения становятся однородной и вполне аморфной пылью.
8. Суверенитет народа. Закон существует лишь постольку, поскольку выражает Общую волю. Но Общая воля есть воля народа. «Народ, который подчинен законам, должен их и создавать» — именно таким образом он подчиняется только самому себе, а мы все одновременно «свободны и подчиняемся законам, поскольку они лишь регистрируют нашу волю».
Таким образом, носителем суверенитета по сути и безусловно является народ в бесформенной массе всех индивидуумов, взятых вместе, а поскольку общественное состояние — не естественное, а искусственное, свой первоисток он имеет не в Боге, а в свободной воле самого народа[300]. Всякое государство, не построенное на этом основании, не есть государство, управляемое законами, или законное государство: это продукт тирании, чудовище, силой попирающее права человеческой природы.
Это и есть собственно миф, духовная основа современной Демократии, совершенно противоположное христианскому праву, утверждающему, что суверенитет исходит от Бога как из первоистока и лишь проходит через народ, а пребывает в том или в тех, кто несет обязанность печься об общем благе.
Заметим, что обсуждаемый здесь вопрос не имеет ничего общего с вопросом о формах правления. Хотя они сами по себе не равны достоинством, в христианской системе находят себе место все три классические формы, причем при демократическом строе суверенитет пребывает в лицах, избранных большинством[301]. Точно так же все они, по крайней мере теоретически, находят место в системе Руссо — и все три извращены. «Республикой я называю всякое государство, управляемое законами», то есть такое, где законы суть выражение Общей воли и где, следовательно, сувереном является народ, «при какой бы то ни было форме управления…». Таким образом, «всякое законное правительство есть республиканское… Чтобы правление было законным, требуется, чтобы оно не смешивалось с правителем, но чтобы правитель служил ей — тогда даже монархия будет республиканской». Государь осуществляет акт не суверенитета, а «магистратуры»; он не создатель, а служитель Закона; в нем не пребывает ни единой частицы власти — вся власть в Общей воле; нет ни единого человека, облеченного попечением об общем благе, — для этого достаточно Общей воли. В руссоистской системе это относится к аристократическому или монархическому строю так же, как и к демократическому.
Однако на деле и у самого Руссо, и в порожденном им мире существует неустранимое смешение Демократии как мифа и демократии как особенной формы правления. Можно спорить по поводу вопроса, хороша или дурна демократическая форма правления для такого-то народа в таких-то условиях, но миф о Демократии как единственно законном Суверене — духовная основа современного эгалитаризма — это, бесспорно, кровавый абсурд.
9. Законодатель. Народ всегда хочет блага, но он не всегда достаточно информирован. Нередко его даже обманывают, «и только тогда кажется, будто он желает дурного». Общая воля нуждается в просвещении. Имманентный бог Республики — это бог в колыбели, который, как и бог прагматистов, нуждается в помощи.
Законодатель — сверхчеловек, направляющий Общую волю.
Законодатель — не правитель (ибо правитель исполняет уже существующий закон) и не суверен (ибо суверен — носитель закона — это сам народ). Чтобы писать и предлагать законы, он должен находиться выше всей человеческой сферы, в чистых эмпиреях. «Законодатель — человек в государстве во всех отношениях из ряда вон выходящий. Он должен быть таким по гению своему, но не менее того и по должности, а должность его конституирует республику, но не включена в ее конституцию — это особое верховное предназначение, не имеющее ничего общего с человеческой властью».
Этот миф, имеющий столь странные очертания, отнюдь не безвреден. Прислушавшись к Руссо, мы поймем, что он лишь развивает совершенно логичные следствия из своих основоположений — из учения, отрицающего, что человек есть по природе общественное животное. «Тот, кто возьмет на себя устроение народа, должен почувствовать в себе способность переменить, так сказать, человеческую природу, переделать каждого человека, который сам по себе совершенен и отделен от всех, в частицу большего, чем он, целого, от которого этот человек, в некотором роде, получит жизнь и бытие — изменить устройство человека, чтобы сделать его сильнее… Одним словом, он должен отнять у человека его собственные силы, и дать ему иные силы, чуждые, которыми тот не сможет пользоваться без помощи других людей. Чем полнее умрут и уничтожатся эти естественные силы, тем больше и долговечней будут силы приобретенные, тем прочней и совершенней будет устроено общество (sic!), так что если каждый отдельный гражданин превращается в ничто и не может сделать ничего без всех остальных, а сила, обретенная всеми, равна или превосходит сумму естественных сил всех отдельных людей, можно говорить, что законодательство достигло наивысшей возможной степени совершенства».
В этом драгоценном тексте стоит хорошо запомнить и обдумать каждое слово. Но кто же этот из ряда и из мира вон выходящий законодатель? Далеко ходить не придется: это сам Жан-Жак — Жан-Жак, почитающий себя совершенным Адамом, завершающий воспитанием и политическим наставничеством свое искусство быть отцом, делающий себя воспитателем Эмиля и законодателем Республики в утешение за то, что дал лишних питомцев Воспитательному дому. Но это и Учредительное собрание[45*], и вообще всякий, кто строит государство революционным образом, и — в точности! — Ленин.
Таковы основные принципы «Общественного договора», по возможности кратко отмеченные. Их якобы дедуктивно-рациональный «мистицизм» не менее безумен, чем сентиментально-страстный «мистицизм» «Эмиля» и «Новой Элоизы». Примечательно, что первый из них пользовался популярностью прежде всего во Франции, где мы и экспериментировали на свою голову, второй же снискал неслыханный успех в Германии, где нанес огромный ущерб в иной сфере.
III Порченое христианство
14. Жан-Жак мало что взял у Кальвина и кальвинистского богословия, по крайней мере впрямую. Гораздо больше он обязан Женеве и женевскому гражданскому устройству[302], а еще больше — воздуху Лемана[46*], тому особенному смешению близкой природе простоты, чувственности и квиетизма, страстной восприимчивости и инертности, что, по-видимому, и определяет тот нравственный темперамент, который характерен для этой области (ведь Руссо, хотя его предки были родом из Франции, всегда был до глубины души романдцем[47*]). У Кальвина же он заимствовал притязания на добродетельность, морализм, пристрастие к традиционной суровости, столь жестоко опровергавшееся его подлинной природой, а больше всего — позу постоянного протеста, прирожденную манию судить чужую нравственность. Отсюда же и отказ от помощи благодати и истины — они, если бы не кальвинистская ересь, поддерживали бы наследственные качества Жан-Жака в большем равновесии.
С другой стороны, его обращение в католицизм в жутком туринском «приюте оглашенных», описание которого, надо надеяться, представляет некоторое очернительство, было, конечно, искреннее, чем он сам утверждает в «Исповеди», — именно искреннее, но не реальнее и не глубже. В католической вере и церковной жизни ему всегда нравилась только внешность, все ощутимое и наглядное; нимало не укрощенная алчность его чувств, томившихся от неудовлетворенности в пору кальвинистского детства, полностью пресытилась этой внешностью в двусмысленной атмосфере вокруг г-жи де Варанc. Обратно в кальвинизм Руссо перешел только в 1754 г. — стало быть, двадцать шесть лет он пребывал в лоне католической Церкви. Без обращения в католичество, без злоупотребления святынями и божественными истинами, данными католической культурой, Руссо был бы неполон, а Жан-Жака вовсе не было бы — с этим я согласен. Но скажу при этом, что жил он в католичестве так, как некоторые болезнетворные ферменты живут в организме или питательной среде, чтобы стать еще ядовитее.
Руссо по темпераменту религиозен. Он всегда сильно нуждался в религии; можно сказать, что от природы он был более предрасположен к религии, чем большинство его современников (но что такое самая похвальная предрасположенность к религии без сверхприродной жизни?). Этот мощный религиозный потенциал, заложенный в нем, и действовал в мире: при всем том, что сам по себе Руссо был слишком занят своим «я», слишком рассеян и ленив, чтобы добровольно взять на себя ответственность за какую-либо роль, — в сущности и в действительности был религиозным реформатором.
Бот почему он не мог как следует развернуться, не пройдя через Церковь и не похитив у Нее глаголы жизни вечной. Именно Евангелием, именно христианством он манипулирует и повреждает их.
Руссо увидел, что великие христианские истины забыты его веком, и сила его в том, что он напомнил о них — но при этом извратил их природу. Вот отличительный знак его и всех настоящих руссоистов." все они — извратители священных истин. Ах, как они — «блаженные воры», по славному выражению Лютера, сказанному и про них, — умеют отделять истины от своих желаний! Когда Руссо восстает против философии просветителей, когда вопреки атеизму и цинизму философов утверждает существование Бога, души, Провидения, когда призывает на помощь против критического нигилизма их тщетного рассудка достоинство природы и ее изначальных склонностей, когда защищает добродетель, непорочность, семейный уклад и гражданский долг, когда утверждает исконное достоинство совести и человеческой личности (что имеет с тех пор такой продолжительный отклик в Кантовом духе) — он выставляет против своих современников христианские истины. Но эти истины лишены содержания — от них осталась лишь блестящая внешность, и при первом потрясении они разлетятся вдребезги, ибо их бытие не держится на объективности разума и веры — они сохранились только как производные субъективности стремления. Это истины, взятые понаслышке, безрассудные, поскольку они объявляют природу во всех отношениях и абсолютно благой, разум — неспособным достичь истины, а способным лишь развратить человека, совесть — непогрешимой, человеческую личность — настолько «достойной» и настолько божественной, что по заслугам она может подчиняться только сама себе.
В особенности — и это главное — Жан-Жак извратил Евангелие, оторвав Его от сверхъестественной сферы, переведя некоторые основные положения христианства в чисто природную плоскость. Совершенно основополагающим для христианства является сверхъестественный характер благодати. Отнимите эту сверхъестественность, и христианство сразу исказится. Что же мы находим у истоков современного разлада? Натурализацию христианства. Ясно, что Евангелие, став чисто естественным (а значит, совершенно искаженным), становится и невероятно мощной революционной закваской. Ведь благодать в нас — особый порядок, прибавленный к естественному, восполняющий его, но не разрушающий, поскольку она сверхъестественна; отбросьте благодатный порядок как сверхъестественный, но сохраните призрак благодати и потребуйте ее от действительности — и порядок естества потрясется, а на его место встанет совсем иной «новый порядок». Так Лютер, совершенно смешав, как номиналист, в своем богословии природу и благодать, желал «истребить разум», чтобы спасти веру. То же скажет и Кант: «Чтобы дать место вере, мне пришлось упразднить знание».
Есть аксиома перипатетиков, что всякая высшая форма содержит в себе в состоянии единства все совершенства, по отдельности распределенные в низших формах. Приложите эту аксиому к форме христианства — и вы поймете, что едва христианство умалится и исказится, как в мир будут вброшены полуистины и «обезумевшие истины», как говорит Честертон, прежде жившие согласно, с этой же поры ненавидящие друг друга. Вот почему повсюду в современном мире мы встречаем аналоги деградированной католической мистики и отрепья обмирщенного христианства.
15. Рассмотрим руссоистский догмат о природной доброте. Я знаю, что у Жан-Жака тут нет ничего, кроме пучины противоречий и двусмысленностей[303]: сам несчастный «мыслитель» никак не может разобраться в разных значениях слова «природа» — тут у него и метафизическая сущность человеческого рода, и индивидуальность каждого из нас[304], и неповрежденная природа Адама в Земном раю, — вместе с тем он впадает в заблуждение относительно самой человеческой личности, которая у него характеризуется жалостью и чувством, а не разумом. Но при всем том такой догмат у Руссо имеет совершенно отчетливо практическое значение (чтобы достичь блага, необходимо избегать всякого принуждения и усилия)[305], и вполне возможно вычленить его богословское значение.
Этот догмат означает, что человек первоначально жил в чисто естественном раю среди блаженства и блага и что сама природа исполняет ту службу, которая в католическом мировоззрении отводилась благодати. Он означает также, что подобное состояние блаженства и блага, избавленное от рабского труда и от страдания, естественно для человека, то есть сущностно потребно нашей природе. Стало быть, не только нет первородного греха[306], последствия которого мы несем от рождения и язву которого сохранили, не только нет в каждом из нас очага греховных помыслов и болезненных наклонностей, устремляющих нас ко злу: состояние страдания и скорби вообще по сущности противоестественно, привнесено цивилизацией, и наша природа требует, чтобы мы любой ценой освободились от него. Вот что такое, по логике Руссо, догмат о доброте от природы.
Но каково происхождение этого антихристианского догмата? Хотя он тесно связан с философским мифом о Природе[307], но не имеет ничего общего с гедонистическими мотивами, например у Дидро. У Жан-Жака он складывается лишь по линиям, намеченным древней богословской истиной. Это всего лишь низведение христианского догмата о первозданной Адамовой непорочности в литературно-натуралистический план[308].
И конечно, почтенная старая истина о первозданной доброте, которая, когда правильно понимается, первая утешает несчастное человечество[309], — также и самая коварная, самая опасная. Жан-Жак не первый извлек из нее безумные выводы. Не потому ли гораздо раньше, почти за две тысячи лет до него, в 231 г. до Р. X., император Цинь Ши-хуанди издал приказ сжечь все книги и жестоко казнить ученых, пытавшихся воспротивиться этому уничтожению, что прочел у Конфуция и Менция эту самую почтенную истину: что «изначально человек был добр», — и, как до времени явившийся просвещенный деспот-руссоист, вывел отсюда, что ученье и цивилизация — причина порчи народа?[48*] Но Руссо имел за своими плечами всю мудрость христианства, и тем тяжелее было его падение.
Рассмотрим и руссоистский догмат о Равенстве. Он также связан с «натурализацией» Евангелия. В Новом Завете есть своего рода божественный — единственно истинный — эгалитаризм: имею в виду ту божественную свободу всемогущей Любви, перед которой не идет в счет никакое человеческое величие и никакая малость (потому что всякая тварь равно ничтожна перед Богом), которая созидает среди нас высшую иерархию, не имеющую отношения ни к каким нашим неравенствам. Все положения перевернуты, смиренные вознесены, люди возведены в ангельское достоинство, filii resurrectionis erunt aequales angelis in coelis)[49*], — но все это лишь благодатно, в сверхъестественном порядке, чем ничуть не поражаются порядок и иерархии естества. Теперь перенесите призрак этого евангельского эгалитаризма в естественный порядок: вместо утверждения равного подчинения всех одному Господу, трансцендентному и совершенно свободному Богу, явятся равно заявленное всеми притязание на независимость во имя имманентного бога Природы и высокомерное презрение к естественным иерархиям и чинам, равно сведенным на нет перед идолом Справедливости — этой души демократического эгалитаризма. «Не люблю попов, — говорил Луи-Филипп, — зачем они поют "Низведе сильные со престол"?» Жан-Жак — гениальный лакей, — чтобы стать на предназначенное ему место, перевернул весь мир вверх дном; Бенуа Лабр[50*], занимая свое место, укрепляет миропорядок.
Наконец, рассмотрим и сам миф Революции. Откуда происходит и он, как не от «натурализации» христианства? Ожидать воскресения мертвых и Суда над миром, который установит волю Божию яко на небеси и на земли, ожидать явления небесного Иерусалима, где все — свет, порядок и радость, но ожидать всего этого в условиях самой нынешней жизни, от силы человеческой, а не от благодати Христовой; веровать, что мы призваны вести жизнь божественную, жизнь самого Бога (ego dixi: dii estis[51*]), но веровать так о нашей естественной жизни — не о благодатной; провозглашать закон любви к ближнему, но отделяя его от закона любви к Богу, что низводит любовь, крепкую, как смерть, и лютую, как преисподняя, до самого глупого и трусливого, что есть на земле — до гуманитаризма; понимать, что в мире сем есть какой-то разлад и нечто ужасное, но не понимать, что ветхий Адам падает все ниже, Новый же возносится на Кресте, привлекая к Себе души, и желать, чтобы мир стал на место могуществом человека или усилием природы, а не при помощи и поддержке смиренного усердия добродетелей и тех целебных средств, которыми располагает Невеста Христова, пока Сам Жених Ее не пришел с огнем и не сотворил все новое, — словом, обмирщать Евангелие и сохранять человеческие стремления христианства, устраняя Христа, — не в том ли вся суть Революции?
16. Именно Жан-Жак довершил неслыханное дело: измыслил христианство, отделенное от Церкви Христовой. Начал это дело Лютер, но именно Руссо завершил натурализацию Евангелия. Ему мы обязаны явлением трупа христианских идей, страшное зловоние которого ныне отравляет весь мир. Руссоизм, говорит г-н Сейер, — это «христианская ересь мистического характера». Да, я согласен: именно ересь, в корне и от основания, осуществление ереси пелагианской в мистицизме чувствительности; точнее можно сказать, что руссоизм — это радикальное натуралистическое извращение христианского восприятия.
Одно это, кажется мне, показывает, сколь полезно для нас изучение Жан-Жака Руссо: оно дает нам основание для надежного различения вещей. Если мы обнаружим в себе или встретим в мире тот или иной принцип, восходящий к руссоизму, мы будем знать, что это не какой-либо новый, свежий принцип, который мы могли бы искуситься принять, чтобы его христианизировать, а старый, уже распадающийся — разложившееся, порченое христианство, — и мы выбросим его вон, ибо нет ничего нелепей желания соединить и примирить живую форму с ее же извращением.
Поймем же наконец: евангельскую закваску, которую усердная жена положила в три меры муки, доколе не вскисло все тесто, одна Церковь может сохранить в чистоте. Всякая другая жена испортит ее, ибо употребит ее без мудрости, а поистине ужасно без мудрости употреблять энергии божественной закваски.
Христос не может быть отделен от Церкви Его. Христианство живо только в Церкви; вне ее оно умирает и, как всякий труп, разлагается. Если мир не живет живым христианством в Церкви, он умирает от порченого христианства вне Церкви. Избежать же его, избавиться от него мир никак не может. Чем больше род человеческий отвергает своего Царя, тем суровей Он над ним господствует.
17. Исследование религиозных взглядов Руссо как таковых позволяет отметить весьма показательные связи. Будет небесполезно распознать учения или, по крайней мере, тенденции, которые могут по праву прибегнуть к его покровительству.
По Руссо, как хорошо известно, «состояние размышления противоестественно. Размышляющий человек — это испорченное животное»[310], «общие и абстрактные идеи — источник величайших человеческих заблуждений; никогда жаргон метафизиков не помог открыть ни единой истины»[311], «рассуждение отнюдь не просвещает нас, а ослепляет, нисколько не возвышает нашу душу, а раздражает и, собираясь усовершенствовать суждение, портит его»[312]. Так все «искусство рассуждать» разом лишается доверия, и только сердце «призвано в свидетели»: «Если только вы почувствуете, что я прав, мне нет нужды вам это доказывать»[313]. И наконец, знаменитый текст, на подлинный смысл которого нам указывают предыдущие отрывки: «Я ни за что не стану рассуждать о природе Бога, если меня к тому не понудит переживание его отношений со мной. Сын мой, держите всегда свою душу в состоянии желания, чтобы Бог был — и вы никогда не усомнитесь в этом»[314]. В этой сентенции, поскольку она относится к расположению субъекта — к тому, что мы называем материальной причинностью и remotio prohibentium[52*] — есть доля истины. Но Жан-Жак подразумевает, что только это и есть единственный формальный способ иметь действительное и твердое убеждение в существовании Бога[315].
На деле, следовательно, его единственным критерием было следование похотям, чувство сродства, всеопределяющие всплески чувств. Иначе говоря, он судит с точки зрения своего желания per ordinem ad appetitum[53*], a не с точки зрения действительности. «Истина, мне известная, — пишет он дону Дешану, — или то, что я за нее принимаю, весьма приятна»[316]. К несчастью, интеллект даже в нем с таким трудом отказывается от своих основных требований, что, при всем при этом, не может не замечать недостаточности подобной аргументации. Отсюда примечательная лазейка для сомнения, которую Руссо, как и Кант, всегда держит на заднем плане своей философской веры. Когда сомнение становится слишком очевидным, он укрывается в теорию утешительной иллюзии: «Если бы Безмерного Существа, о котором печется мое сердце, и не существовало, все же было бы хорошо непрестанно печься о Нем, чтобы лучше владеть собой, стать сильнее, счастливее и мудрее»[317]. «Я хочу жить добрым человеком и добрым христианином, — говорил он г-же д'Эпине, — потому что хочу умереть спокойно, потому что, кроме прочего, это чувство нисколько не мешает мне жить и дает мне сладостное для меня понятие о надежде после кончины… Иллюзия? — быть может, но другую иллюзию, утешительней, я принял бы, если бы таковая была»[318]. Теория эта по справедливости кажется нелепой, но с такой психологией, как у Жан-Жака, трудно избежать ее. «Он никогда не достигал небес истины, приводящих в смятение и страх… Для него главное — не объективность веры, а успокоительная уверенность, которую он в ней находит»[319]. Если человек таков, если он всерьез погружает свое сердце в грезы и химеры, услаждающие воображение[320] и на его взгляд «прекрасно только то, чего нет», вполне «приятный» вымысел должен для него возрасти в цене и, в конце концов, стать на практике почти столь же достоверным, как и все то, истина чего ему известна. Угодно ли наклеить ярлык? Скажем, что Жан-Жак, как и Лютер, — совершенный, законченный, чистый образчик антиинтеллектуализма в религиозной мысли.
Был он и прагматистом[321], разумея под этим его чувства и тенденции (я не навязываю тем самым Руссо теоретических взглядов прагматистов нашего времени). Только «практические истины» интересуют его — иначе говоря, он желает истины не ради нее самой (ее он скорее боится — страшится, что найдет ее «холодной»), а только в отношении к благу человека, к тому, что дает цену человеческой жизни. «Он любит не столько метафизическую истину, сколько нравственную»[322].
Трудно здесь не заметить, что он выражается совершенно как Уильям Джемс: «Я верю, что мир управляется могущественной и мудрой волей, — это я вижу или, скорее, чувствую, и это мне важно знать. Но вечен этот мир или сотворен? Есть ли единое начало всех вещей? Или их два, или несколько, и какова их природа? Не знаю — и что мне за дело? Я не хочу этих праздных вопросов, которые, может быть, щекочут мое самолюбие, но бесполезны в жизни и превосходят мой разум»[323]. Или еще: «Я хочу узнавать лишь то, что полезно в жизни. Догматами же, не влияющими ни на поступки, ни на нравственность, которые тревожат столько людей, я нимало не озабочен»[324].
Наконец, Жан-Жак — сознательный имманентист (это слово я также понимаю в самом общем смысле, как выражение глубинной тенденции, а не той или иной особенной системы). Только в спонтанных всплесках природы, только в потребностях чувства, только в непосредственном опыте может, как он думает, явиться человеку Бог.
Тем самым и объективное откровение сверхъестественной истины, и вера в догматы — для него ничто. «Легко ли, натурально ли представить, — вопрошает он, — чтобы Бог изыскивал Моисея для разговора с Жан-Жаком Руссо?»[325]
И тогда этот антирационалист (фатально, ибо ему нечего противопоставить, кроме чувства), исполненный софизмов ложного рассудка, декларативно им отвергаемого, отрицает таинства веры, поскольку «все это никакие не таинства», а просто «ясные и ощутимые нелепости, очевидная ложь»[326]. «Признаюсь Вам даже, — пишет он в письме, где содержится апология религиозного чувства и естественного христианства, — что любые определения в делах веры кажутся мне лишь какими-то узами неправды, фальши и тирании»[327].
Что касается нравственного поведения, каждому совершенно достаточно его совести и нет никакой нужды в помощи и в наставлении — божественных или человеческих, — чтобы просвещать и исправлять ее. Всякая «гетерономия» исключена! Совесть — не только ближайшее правило наших свободных решений, действовать наперекор которой ни в коем случае не дозволено — она непогрешима, непосредственно открывает божественные прорицания, исходящие из субстанциальных глубин нашего сердца. «Я предпочитаю обращаться к этому неподкупному судии внутри меня, не попускающему ничего дурного и не осуждающему ничего хорошего, который никогда не ошибается, если обратиться к нему чистосердечно»[328]. Было замечено, что Жан-Жак весьма усердно советовался с этим «божественным инстинктом», с этим «непогрешимым судией добра и зла, делающим человека подобным Богу», когда бросал своих детей. Нет, он не преминул «исследовать» это дело «согласно законам природы, справедливости и рассудка, и еще согласно законам той чистой, святой, вечной, как ее Творец, религии, которую люди запятнали» и т. д. «Такое решение дела, — продолжает естественный человек, — показалось мне таким хорошим, таким разумным, таким законным»… «Если я и ошибся в итоге, нет ничего поразительней, чем душевное спокойствие, с которым я это делал»[329]… Дидро говорил ему: «Я хорошо знаю: что бы вы ни сделали, у-вас всегда будет разрешение от совести».
Может ли благочестие Жан-Жака нуждаться в помощи от трансцендентного Бога? Савойский викарий «разговаривает» с Богом, но «не молится ему». «Я не прошу у Него… сил на добрые дела: к чему просить того, что Он и так дал мне?» А Руссо если и молится, то «как ангелы, славословящие Бога у престола Его»[330]; он говорит: «Да будет воля Твоя» — а скорее (как говорит г-н Массон, видящий в такой формуле «типичную молитву» Жан-Жака) восклицает так: «Приди ко мне, Боже, поговори со мной, утешь меня и будь достоин хвалы моей!»[331]
Главное, надо понять, какова конечная цель человека в руссоистской религии. Быть с Богом? — да, конечно. Но не возвысясь Богом к участию в Его жизни, не укрепясь в Нем созерцанием Его сущности. Напротив — впитав в себя, поглотив собой божественность. Я, я, божественное я, снова и снова я — Жан-Жак всегда видит блаженство в себе самом: «Высшая радость в довольстве собой. Чтобы заслужить это довольство, мы и поставлены на земле, и наделены свободой…»[332] «Лишь в той мере можно быть счастливым на земле, в какой удаляются от вещей и приближаются к себе; тогда мы питаемся собственным существом, но никогда его не истощаем»[333]. «Нет, Боже души моей, никогда не упрекну Тебя, что сотворил меня по Твоему образу, чтобы я мог быть свободен, благ и блажен, как Ты»[334]. И впрямь: быть блаженным — значит быть как Бог, «не наслаждаясь ничем, кроме самого себя и своего собственного существования», быть самодостаточным, как Бог[335]
«В раю Жан-Жака, — согласно прекрасному описанию г-на Массона[336], — сам Бог скромно стушуется и даст место Жан-Жаку. Рай, о котором он грезит, — такой рай, который он весь заполнит собой, который даст ему наивысшее сладострастие в довольстве и наслаждении собой, потому что он ощутит себя Самим Богом, свободным, благим и блаженным, как Он. "Чаю того мига, — пишет Руссо, — когда, избавленный от телесных уз, я стану самим собой бесспорно, безраздельно, и лишь в себе самом буду нуждаться для блаженства"»[337]. Бесспорно, здесь перед нами самое средоточие безумия Жан-Жака. Но здесь же и средоточие Эдема имманентности.
18. И вот при всем этом, отрицая первородный грех и искупление, Руссо верит в Евангелие и объявляет себя христианином. Мало того: он наставляет духовно, им осолится соль земли, он утешает в сомнениях смятенных аббатов и смущенных семинаристов, обращающихся к нему. «Как? — восклицает он в письме к одному из них. — Вы можете отказаться принять благородную должность служителя нравственности?.. И все это лишь из-за нескольких загадок, в которых ни вы, ни я ничего не смыслим? Вам надо просто взять да и отдать их за настоящую цену, потихоньку опять вернув христианство к его настоящему предмету»[338]. Это-то и возложил на себя Савойcкий викарий, который, отрекшись от веры, со спокойной совестью остается в Церкви и продолжает отправлять свое служение, как раньше — да что! — лучше, чем раньше: «Прежде я служил мессу с легкомыслием, которое в конце концов примешивается к самым важным вещам, если делать их слишком часто, — обретя новые принципы, я служу ее с большим благочестием, я проникаюсь величием Верховного Существа» и пр.[339]
Этот тон мы прекрасно знаем: уже не раз замечали, что Савойский викарий был первым священником-модернистом. Но откуда Руссо усвоил модернизм, каковы его непосредственные истоки? В Ле Шармет, у г-жи де Варанc. Г-н Сейер справедливо и весьма определенно указал, как важно, что Жан-Жак воспринял от «дорогой маменьки» квиетизм, сильно деградировавший даже по сравнению с временами г-жи Гюйон. Заметить этот момент падения ложного мистицизма чрезвычайно любопытно.
Жан-Жак сформировался в духовной атмосфере вокруг г-жи де Варанc и навсегда сохранил ее отпечаток. Эта милая дама — в протестантстве пиетистка, после обращения квиетистка — не только с возвышенной уверенностью в неважности внешних поступков приобщила Жан-Жака и садовника Клода Ане к радостям полового коммунизма, но в то же время и наставляла Жан-Жака в духовной жизни, стала его «теологом освобождения»[340]. Отметить соприкосновение Руссо в решающий момент его нравственного становления с извращенным спиритуализмом крайне существенно. Можно сказать, что если дело Божие всегда имеет мистические черты, величайшие дела беззакония всегда имеют черты ложного мистицизма. Именно рядом с г-жой де Варанc развивал Жан-Жак натуралистическую религиозность, когда во время утренних прогулок по саду в Ле Шармет он любовался собой, своим «ощущуением добродетели», и неясными эмоциями, и возвышенными славословиями Творцу «любезной природы»[341]. Она его научила диковинному смешению плотского и божественного, которым он всегда увлекался, и нарочитому возбуждению любви к невинности посредством греха[342], словно бы в насмешку над словами апостола Павла: «Virtus in infirmitate perfïcitur»[54*]. У г-жи де Варанc научился он не страшиться ада и не верить в первородный грех, слишком явно противоречащий его сердцу, такому, как он чувствует, доброму по природе[343]. Послушаем его: этот отравленный сироп весьма поучителен. Г-жа де Варанc, толкует он, не верила в ад: в него верят только злые люди. «Злые, желчные ханжи повсюду видят только ад, потому что хотели бы весь мир осудить. Души любящие и нежные в него не верят, и меня изумляет до беспамятства, когда вижу, что добрый Фенелон так говорит о нем в «Телемахе», словно вправду верит в него — но я надеюсь, он лжет, потому что, как ни будь правдив, а приходится иногда и солгать, если ты епископ. Маменька мне не лгала; ее беззлобная душа, которая не могла себе представить гневливого и мстительного Бога, видела только милосердие и прощение там, где ханжи видят лишь суд и наказание». По этому поводу Руссо замечает, что этой системой учение о первородном грехе и искуплении разрушено, «основа обыкновенного христианства», как он выражается, потрясена и католическая вера обречена. «Однако, — пишет он далее, — маменька была или считала себя настоящей католичкой — и считала от самого чистого сердца. Ей казалось, Евангелие толкуется слишком буквально и слишком жестоко. Все, что там говорится о вечных муках, представлялось ей назиданием или иносказанием. Словом, будучи верна избранной ею вере, она искренне принимала ее исповедание, но, когда доходило до споров по каждой статье, оказывалось, что она верит совсем не так, как Церковь, однако всегда покоряется ей»[344].
Какая изумительная формулировка модернистского духа! Прямо стоит рекомендовать священнослужителям, смущающимся присягой Пия X[55*]. Если Жан-Жак — отец модернизма, то г-жа де Варанc — его достойнейшая «маменька».
Заметим, впрочем, что Жан-Жак не имел обыкновения заботиться о потомстве, и всякое отцовство было ему в тягость. Помимо воли стал он отцом Революции — ведь какие бы чувства он демагогически ни изъявлял во времена «Рассуждений» и дружбы с Дидро, в глубине души он всегда был склонен желать мира и сохранения общественного строя, благоприятных для его безмятежных мечтаний. Помимо воли стал он и отцом модернизма — я имею в виду, отцом тех религиозных идей, что восходят к Лейбницу и Лессингу, приспособлены для решения некоторых специфических затруднений протестантского богословия, а на католической почве, куда их занес Руссо, после целого столетия эволюции привели к модернизму. У него эти тенденции идут от попытки отстоять религиозное, христианское отношение к жизни против отрицательного духа философов — обходясь притом и без помощи разума, который у него и впрямь был весьма слаб, и без помощи благодати, которой некуда было внедриться в человека, столь наполненного собственным «я». Значит, ему, чтобы обосновать религиозность и возродить христианство, ничего не оставалось, как только прибегнуть к чувствам, а если уж такой религиозности и такому христианству при таком их обосновании пришлось отлиться в католическую форму, они могли там только превратиться в модернизм.
Жан-Жак сам прекрасно видел это: ложь философов он «чувствовал, но не мог доказать». И такой бунт инстинкта против ложного разума сам по себе не был дурен: ведь, в конце концов, если Жан-Жак обладал разумом, физически неспособным к философствованию, это была не его вина и не резон сдаваться Вольтеру. Беда в том, что он не воздержался от философствования, раз уж был к нему не способен, а пожелал философствовать пуще того, все спасти сам, устранить разрушения, причиненные ложным разумом, одними своими силами. Конечно, разум, слишком ослабленный заблуждением, никак не может исцелиться сам — ему нужна gratia sanans[56*]. Но поистине устранить разрушения, причиненные ложным разумом, может только здравый разум. Ничто ниже разума на это не способно.
Следует согласиться с Пьером-Морисом Массоном, что благодаря Руссо многие обрели религиозное чувство — да, но какое? Конечно, сердцам, обреченным просветительской философией на смерть от истощения, и многим «слабым душам», подобным душе самого Жан-Жака, можно было помочь и в противостоянии атеизму, и в желании нравственного блага — помочь теми средствами, которые помогли ему. Ведь наша природа столь немощна, столь нелогична, неустойчива и многосложна, способна на столь неожиданные повороты; с другой стороны, столь правдоподобно, что нравственное имитаторство Жан-Жака в его учениках (не столь ненормальных, как он) могло пробудить поистине здравые духовные стремления и побуждения совести; наконец, благодать столь умело пользуется наималейшими деталями нашей внутренней жизни, проникая и возрастая в нас, что на деле Руссо вполне мог иметь на многих тот род влияния, который ему приписывает г-н Массон. Но это лишь одна из сторон его влияния, причем наименее важная, наиболее случайная. На развитие мысли Нового времени в целом он повлиял совсем иначе. Да, благодаря ему иные надломленные трости не переломились окончательно, зато бесчисленное множество других мыслящих тростинок надломилось и сгнило внутри. Да, влияние Руссо сохранило (временно) некоторые частицы истины в человечестве, зато извратило саму истину, которую Руссо хотел сделать общеприемлемой, и в том его величайший грех.
Руссо был гораздо менее подл и противен лично, чем Вольтер (которого, к чести своей, ненавидел), но в действительности нанес неизмеримо больший вред — ведь у него не просто отрицание веры, а утверждение религии вне неделимой Истины. Он «сохранил католическую чувствительность» во французской интеллектуальной элите лишь ценой извращения и разве что внешним образом (materialiter) подготовил католическое возрождение времен Шатобриана (признаюсь, впрочем, что оно унаследовало от Руссо и немало слабостей). Непосредственно он шел сам и повел за собой современную мысль к чудовищной сентиментальности — адской пародии на христианство, — к вырождению христианства и ко всем болезням, ко всем видам отступничества, отсюда вытекающим.
19. Не будем обманываться насчет оптимизма и натурализма Руссо. Последний гласит: «отказ от сверхъестественного», первый: «природная доброта» — то есть доброта потаенного первоначала, имманентного нашей природе и побуждениям, которым отдается искреннее сердце. Да, в этом смысле у Руссо мы найдем и оптимизм, и натурализм.
Но в таком оптимизме больше отчаяния, больше манихейства, чем в тоске Шопенгауэра, ибо он осуждает все сущее, ненавидит существование: ведь он объявляет благим не реальную природу — творение Божие со всеми ее иерархиями и законами, а природу мечтательную, которую индивидуум носит в укромных уголках своей исключительности, — природу, раскрывающуюся лишь в «наших насельниках» и протестующую против природы действительной.
Так что такой натурализм, такая верность природе не только антисоциальны, но и антифизичны. Они считают ложью и кощунством не только социальные стеснения, подчинение индивидуума общему благу семьи и гражданства, но прежде и глубже всего — стеснения нашей природы как вида и подчинение индивидуума родовому благу. Ведь исключительный мир каждого из нас, его ощутимая индивидуальность — это и есть божественная Личность! Так Жан-Жак довел до предела старый конфликт Евангелия с Десятословием в лютеранстве[345], превратившийся в конфликт имманентной Нравственности и внешнего Закона. Кант только и стремился к тому, чтобы найти разрешение этого конфликта, оставаясь в одной плоскости с Лютером и Руссо. Вся его тщательно выстроенная система: автономная законополагающая воля, человек как ноумен, творящий закон, которому повинуется человек в эмпирии, — оказалась эфемерной, и остались от нее только еще более жестокое требование иллюзорной свободы и убийственное человекопоклонство.
В качестве теоретиков Лютер и Руссо не восхваляют свободы плоти — они требуют свободы духа (и как им без этого обойтись?). Оба они не церемонятся с логикой. Лютер признает, что вера-доверие хотя и оправдывает «без дел» природу, остающуюся до основания испорченной, все же венчает надстройкой из добрых дел. И вот он стенает при виде того, как дьявольским лукавством это изящное увенчание рушится по мере того, как распространяется в народе истинное Евангелие. Так же и Руссо признает, что святая Природа, которую чистые души обретают в глубине самих себя, своим самопроизвольным цветением производит добрые дела; он искренне проклинает «отвратительные максимы» сенсуалиста Дидро. Лютер и Руссо учили злу? Что вы! Намерения у них благие — просто они забыли о действительности, Божеской и человеческой.
Найти условия свободы — для человека, действующего в практической сфере, вопрос основополагающий; Жан-Жак видел его до жути ясно, но ответил на него совершенно превратно. Человек не рождается свободным[346], а становится; и стяжает он свою свободу лишь при условии служения.
Думаете, мы не знали, что закон порабощает человека, вынужденного терпеть его принуждение? Это-то состояние рабства и есть наше естественное состояние. Но святые взяли ключи от врат и научили нас тайне, как обрести свободное — сверхъестественное — состояние. Средство это — Любовь.
Поскольку мы не добры в сущности, наша лоза не даст плода без обрезки. Мы привиты к Единородному Сыну, к самой божественной Истине в лице Сына Человеческого, мы — ветви усыновления, и рука, обрезывающая нас, нам родная. «Pater meus agricola est»[57*].
Свобода достигается исполнением любви. Любовь, то есть любимый, присутствующий в любящем, как увлекающий его груз («Amor meus pondus meum»)[58*], — это наиглубочайшее стремление любящего; кто действует любовью, действует без принуждения; любовь прогоняет страх. Восполняя закон любовью, святость уже не принуждается законом. Есть лишь одна свобода — свобода святых.
Мудрость христианства не избегала проблемы свободы — она брала ее прямо и во всем объеме. Рассуждением о ней и подобает заключить книгу, главный предмет которой на самом деле — не что иное, как проблема свободы.
«Необходимо принять во внимание, что сыны Божии, ведомые Духом Божиим, поступают не как рабы, но как свободные. И действительно, свободным называют того, кто есть «причина себя», так что свободно нами делается то, что мы делаем от самих себя (ex nobis ipsis), a это есть то, что мы делаем по собственной воле. Но то, что мы делаем против нашей воли, мы делаем как рабы, а не как свободные, наложено ли на нас абсолютное принуждение или принуждение, смешанное с добровольностью, как у человека, который желает делать или терпеть то, что меньше его принуждает, дабы избежать большего принуждения. Однако, вселяя в нас любовь к Богу, Дух Святой тем именно склоняет нас к поступку, что заставляет нас действовать под давлением нашей же воли. (Ибо свойство дружбы есть то, что друг единодушен с возлюбленным в его пожеланиях.) Итак, сыны Божии поступают в Духе Божием свободно в любви, а не рабски в страхе: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем: "Авва, Отче!"[59*]».
Однако поскольку воля по природе подчинена тому, что истинно благо, то когда человек под воздействием страсти, порока или дурного расположения отвращается от того, что истинно благо, то этот человек, если рассматривать его в отношении сущностного порядка самой воли, поступает как раб, поскольку тогда он дает некоему постороннему началу склонить себя против этого порядка. Но если рассматривать акт его воли в том отношении, что актуально она склонена к некоему мнимому благу, то он, следуя страсти или порочному расположению, поступает свободно, а рабски поступает, если воля его сохранит такую наклонность, он же воздержится от того, чего желает, противонаправленным тому страхом закона.
Но это Дух Святой любовью склоняет волю к истинному благу, любовью делает так, что воля актуально вся оказывает давление в том самом направлении, куда устремлены и глубочайшие ее желания. И так Он разом снимает два вида рабства (на современном жаргоне сказали бы: два вида гетерономии): то рабство, когда человек, рабствуя страсти и греху, поступает противно естественному направлению своей воли, и то рабство, когда он — раб, а не друг закона — поступает согласно закону против побуждений своей воли. «Где Дух Господень, там свобода», — сказал апостол Павел, и еще: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом»[60*][347].
Итак, когда благодатью Христовой мы стали друзьями Божиими, Любовь делает нас свободными. «Велика любовь! Любовь рождена от Бога, и только в Боге может утвердиться. Кто любит, тот окрылен, тот в радости своей, он свободен, ничто не держит его. Он отдает все за все и все за все имеет, потому что покоится выше всего в том державном единстве, откуда всякое благо истекает и происходит. Ничем любовь не тяготится, не ведает никакой невозможности, все ей дозволено, все возможно. И ее для всего довольно. Любовь осмотрительна, смиренна и праведна, не слаба, не легкомысленна, не занята суетным; трезва, целомудренна, постоянна, спокойна, стоит на страже всех чувств. Любовь бодрствует и сном не засыпает. В тяготах не утомляется, в унынии не мятется, в страхе не смущается. Скора, откровенна, благочестива, мила и весела, сильна, терпелива, верна, благоразумна, всегда мужественна и никогда не ищет своего…»[348] Сердце разрывается, когда видишь, как столько разумных созданий ищет свободы вне истины и любви. Не диво, что теперь они ищут свободы в разрушении — и не обрящут. А между тем по всей земле святые и мистики возвестили свидетельство освобождающей Любви. Избавление, которого жаждет всякий человек, достигается лишь в конце духовного пути, когда через Любовь — безмерную, ибо «мера любви к Богу — любить Его безмерно»[349], — единым станет дух в Боге и в Его творении.
Тайна Израиля
Предисловие
Одна из неотложных обязанностей христианской совести — как можно полнее свидетельствовать о заблуждениях и преступлениях расизма и антисемитизма. Я со своей стороны в меру сил старался выполнить эту задачу. Уже давно у меня родилась идея объединить в одном томе разрозненные тексты из многих книг, в которых я говорил о судьбах Израиля и о преследованиях, выпавших на его долю. Но я все откладывал это дело на будущее.
Многие из моих друзей, в особенности Жак Дешанель, литературный директор издательства «Desclée De Brouwer», советовали мне больше не медлить. Учитывая мой возраст, совет был, безусловно, своевременным. Во время отбора нужных текстов мне было позволено их быстро просмотреть[350] и внести некоторые изменения[351].
По правде сказать, я надеялся, что еще до объединения этих текстов я смогу сказать нечто серьезное о государстве Израиль, так как впредь будет невозможно обсуждать что-либо, связанное с еврейским народом, не касаясь темы государства. Однако состояние моего здоровья, а также предстоящие работы, от которых я не мог устраниться, явились препятствием для исполнения задуманного. Я был вынужден удовлетвориться лишь тем, чтобы в Постскриптуме подготовленного сборника дать необходимые объяснения на этот счет, и прошу извинить за излишнюю краткость в столь важной теме.
Ж.М.
1965
Имя Израиль
Израиль же будет спасен спасением вечным. Ис 45: 17; 54: 8
…Вечною милостию помилую тебя.
Имя крылатое, со всеми отсветами радуги.…
Раскаты грома, дробящегося о камни.
Имя милости и небес —
Израиль! Израиль! Имя истинное,
Эхо слез и плача,
Звучащего с божественной нежностью.
Чаша даров Духа Святого
Знамение Его обетований
«Израиль спасен спасением вечным»
}Израиль! Израиль!
Раиса Маритен Июнь, 1947
I «Абрам! Абрам!» (1926)
Ответ Жану Кокто (Paris, Stock, 1926)
Мы не можем не признавать духовную исключительность народа Девы Марии и Иисуса. В прошлом году «благонамеренные» молодые люди, желая освистать неугодного министра, кричали во все горло: «Абрам! Абрам!», не понимая, что они оскорбляли небеса, черня имя великого святого, отцовство которого обнимает всех верующих. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…» Вот генеалогия нашего Бога. Приведем одиннадцатую главу Послания к Римлянам: «В отношении к благовестию они [евреи] враги ради вас; а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов».
Именно к ним мы привиты. Как же не быть нам внимательными к жизни того самого старого ствола? Нам следует с большой любовью, вниманием и почтением следить за волнениями, будоражащими еврейскую молодежь. Израиль — это народ-иерей. Его пороки — это пороки дурных священников; его достоинства — это достоинства святых священников. Я знаю евреев надменных и развращенных, но куда больше среди этого народа я знал людей благородных, с сердцем наивным и возвышенным, рожденных бедными и умерших еще более бедными, не страдающими ни алчностью, ни расчетливостью, для которых большее счастье — давать, нежели получать. Всегда есть евреи чувственные, но есть также и истинные израильтяне, в которых нет лукавства. Не могли бы они спросить себя, как некогда раввин Самюэль де Фез[352], какое сердце, какие уста восприняли песнопение утратившей власть Синагоги.
II Третий возраст (1936)
Целостный гуманизм (Paris, Aubier, 1936)
Не сказал ли нам ап. Павел по поводу временного отвержения и конечного принятия еврейского народа, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать?[353] Если бы мы знали, что новый преходящий порядок в полноте и долговременности возникнет лишь после того, как «непослушание» и «грех», в которые «заключен» христианский мир с начала антропоцентрических времен, даст импульс новому излиянию «милосердия», то мы имели бы, возможно, представление о значимости исторического поворота, с которым связано возникновение нового христианства.
* * *
Эпоху, в которую мы сейчас вступили, можно было бы назвать «новым Средневековьем». Но это понятие может создать некоторые иллюзии. Скорее ее следовало бы назвать третьим возрастом, рассматривая в качестве первого христианскую античность, продолжавшуюся приблизительно восемь веков и характеризующую Средние века как время становления, воспитания и исторического созревания христианской Европы (как в добре, так и во зле). Новое время представляется прежде всего как время явного распада с огромным высвобождением энергии, накопленной за долгую предыдущую эпоху. О третьем этапе нашей цивилизации можно, конечно, сказать, что он уже начался, но в еще большей степени — что мы находимся на длительной подготовительной стадии, возвещающей его наступление. Такое деление церковной истории на три эпохи приводит св. Фома (или же автор, писавший под его именем, если данный комментарий, в противоположность мнению Мандонне, является апокрифом) во втором комментарии на Песнь песней[354]. Церковь тринадцатого века для него уже есть «современная Церковь», и он видит в воссоединении Израиля характерный признак третьей эпохи в истории Церкви и христианства.
Что касается перспектив нашего времени, то можно полагать, что данный, третий этап будет прежде всего содействовать повсеместному преодолению постсредневекового гуманизма, и никто не знает, сколько еще это продлится. Мы ни в коей мере не представляем новую эпоху как золотой век, на манер некоторых мечтаний милленаристов. Человек останется таким же, каков он есть, но он будет существовать при новом временном порядке и новом историческом климате, который также должен окончиться перед лицом новых перспектив, потому что все временное истощает свои силы. Только при этом порядке начнется расцвет целостного гуманизма, гуманизма Воплощения, о котором речь шла в предыдущих работах и который не предполагал бы никакой иной теократии, кроме теократии Божественной любви.
III Тайна Израиля (1937)
[В начале своей статьи[355], появившейся впервые в 1937 г. под названием «Странный антисемитизм», я решил поместить несколько строк, написанных на 25 лет позже[356]: «Об Израиле никогда не будут говорить достаточно вдумчиво или деликатно, и если бы мне пришлось переиздать мою статью "Странный антисемитизм"[1*], я исправил бы некоторые из моих высказываний, сделав их более точными. Когда весь народ был вознесен на крест, когда шесть миллионов из этого народа были зверски уничтожены, невозможно найти достаточно скорбные и участливые слова, чтобы коснуться вопросов, относящихся к этому событию».
Я хочу привести некоторые предварительные замечания, сделанные мною в 1941 г. для английского перевода той же самой главы[357]:
«Эссе, легшее в основу этой главы, было написано в 1937 г. В это время, несмотря на недостойную кампанию в некоторых расистских изданиях, проведение антисемитских мер, таких, какие вменялись правительству Виши во время немецкой оккупации в побежденной Франции, было неприемлемо. Огромное большинство французов игнорировало и даже презирало антисемитские брожения. В то же время было принято рассматривать проблему евреев на чисто философский манер, с некоторой долей равнодушия, присущего строгой интеллектуальной объективности. Я не знаю, мог ли бы я сейчас поступать подобным образом и позволительно ли после стольких преступлений, совершенных против евреев, говорить об антисемитизме бесстрастно.
Во всяком случае, остается несомненным, что именно великая любовь к еврейскому народу составляет основу независимости суждения, выраженного в моем эссе. Добавлю также, что оно написано не в психологическом, но в философском и религиозном плане. Я стремился охарактеризовать не эмпирический аспект событий, но главным образом их скрытый и сакральный смысл.
Наконец, я хотел бы добавить, что некоторые наиболее поразительные утверждения, относящиеся к духовной сути антисемитизма, можно найти в изданной в 1940 г. книге еврейского автора, который, что любопытно, оказывается сам очень невнимателен к глубочайшему христианскому смыслу, связанному с этой проблемой. Я не знаю, исповедует ли автор, Морис Сэмьюэл, иудаизм; быть может, это душа, ищущая Бога, но лишенная какой-либо определенной веры и рассматривающая себя «свободной» от веры в Божественное откровение, Ветхий или Новый Завет. Между тем свидетельство этого автора необычайно важно:
«Мы никогда не поймем без переосмысления терминов, — пишет Морис Сэмьюэл, — всей безмерности безумия, порожденного антисемитизмом. Именно Христа боятся национал-фашисты, именно в Его всемогущество они верят, именно Его в своем безумии они решили уничтожить. Даже сами слова «Христос» и «христианство» слишком могущественны, и привычка уважать их слишком глубоко укоренилась в сознании за прошедшие века. И нацисты хотят нанести удар по тем, кто ответствен за рождение и распространение христианства. И они решили оплевать евреев, как предавших смерти Христа, при том, что на самом деле их неотступно преследовало желание оплевать евреев за то, что они дали миру Христа, оплевать их, как христородцев»[358].
Сам по себе факт антипатии к евреям или повышенной восприимчивости к их недостаткам, нежели к их достоинствам, не есть антисемитизм. Антисемитизм есть страх, презрение и ненависть по отношению к еврейскому народу и желание подвергнуть его дискриминации. Существует множество форм и степеней антисемитизма. Не говоря о тех чудовищных формах, свидетелями которых мы сейчас являемся, заметим, что он может принять форму гордыни и высокомерного предрассудка, националистического или аристократического, или простого желания освободиться от мешающих конкурентов, или принять форму скверной привычки светского тщеславия, или даже невинного пристрастия к словопрениям. На самом деле никто не виновен. В каждом скрыт более или менее активный зародыш духовной болезни, распространяющейся сегодня по всему миру в виде навязчивой и смертоносной фобии, тайная сердцевина которой — злоба против Евангелия, христофобия».]
1. В свете предвидения апостола Павла
Приступая к исследованию истоков и различных форм антисемитизма, следовало бы вспомнить, что в центре всего стоит проблема рассеяния Израиля. Здесь мы хотели бы показать, что, каковы бы ни были внешние экономические, политические и культурные формы, связанные с этой проблемой, реально существует тайна сакрального порядка, о которой нам говорит ап. Павел в главах 9, 10, 11 Послания к Римлянам: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано:
Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится[359].
Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит:
Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.
А Исайя смело говорит:
Меня нашли не искавшие Меня;
Я открылся не вопрошавшим о Мне;
Об Израиле же говорит:
Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному..[360]»
«Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их.
Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви.
Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня из сока малины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: "Ветви отломились, чтобы мне привиться" <…> не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией: иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: "придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их".
В отношении к благовестию, они враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать»[361].
Евреи — это не «раса» в биологическом смысле этого слова; известно, состояние человечества таково в настоящее время, что среди многочисленных групп, находящихся в достаточно благоприятных условиях, нет чистых рас, и евреи не составляют исключения: смешение различных кровей, этнический водоворот в ходе истории был так же значителен, как и для других национальностей. С точки зрения этико-исторической, в соответствии с которой понятие «раса» характеризуется прежде всего общностью ментальных и моральных структур, опытом преемственности, общими воспоминаниями и устремлениями (причем наследственность, родовые особенности, соматический тип играют более или менее важную роль, но это — лишь в плане естественном), с этой точки зрения евреи — это раса, подобная иберийцам или бретонцам. Однако они и нечто гораздо большее. Они не «нация», если под этим словом подразумевать историческую общину, связанную единым происхождением или рождением (расу или соединение рас, связанных с прошлым в этико-историческом смысле слова «раса») и ведущую единую политическую жизнь или стремящуюся к единой политической жизни. Идиш ни в коей мере не носит характера национального языка[362]. Это язык нищеты и рассеяния, арго святого града, разбросанного по частям среди других национальностей и ими попираемого. Небольшая часть евреев (380 тыс. в 1938 г., в год, когда появилась моя статья «Вопросы совести») собралась в Палестине, образовала нацию и сделала национальным языком иврит. Это случай особый, из ряда вон выходящий; речь идет о том, что все остальные (в мире 16 миллионов евреев) не принадлежат к нации.
Евреи же палестинского региона не только нация, они стремятся стать государством во всем политически полноценным и «совершенным». Значительная масса Израиля подчиняется противоположному закону[363]. Она не претендует на право объединиться во временном граде.
Основное призвание Израиля противоречит тому (по крайней мере, пока он не выполнит своей мистической, исторической задачи), чтобы стать единой нацией и тем более образовать единое государство. Жестокий закон Исхода разрушил в евреях диаспоры всякое стремление к политическому воссоединению.
Если придавать слову «народ» смысл простого множества похожих друг на друга людей, населяющих определенный географический регион (Daseinsgemeinschaft), то евреи не есть народ. Если слово «народ» есть синоним слова «нации», они тоже не «народ»; если это — синоним слова «раса» (в смысле этико-историческом), то они — народ, и более, чем народ, они образуют историческую общину, характеризующуюся в отличие от нации не тем, что они ведут (или стремятся вести) общую политическую жизнь, но тем, что их питает одна и та же духовная и моральная традиция, и они отвечают одному призванию. Евреи — народ, и по преимуществу — народ Божий. Они — род освященный; они — дом, дом Израилев. Раса, народ, род — все эти понятия в приложении к евреям должны быть сакрализованы.
* * *
Израиль являет собой тайну, в глубине своей тайну того же порядка, что и тайна мира или тайна Церкви, — это тайна искупления. Философия истории, применяемая к теологии, может пытаться совершить некоторые интеллектуальные усилия для разрешения этой тайны. Но эта тайна будет всегда превосходить всякое разумение, наши идеи и наше знание могут погружаться в эту тайну, не ограничивая ее.
Здесь следует добавить, что если ап. Павел прав, в этом случае то, что называется еврейским вопросом, есть вопрос неразрешимый, по-видимому, до великого воссоединения, о котором говорит ап. Павел и которое будет подобно их воскресению из мертвых. Стремиться найти простое и окончательное решение проблемы Израиля — это значит искать способ остановить мировой процесс.
То, что делает такой слабой либеральную позицию XIX в., несмотря на ее большие исторические заслуги, это как раз то, что она претендовала на разрешение этой проблемы. Практическое ее решение означает прекращение раздоров и конфликтов, преодоление противоречий, установление мира. Заявить, что, строго говоря, не существует решения проблемы Израиля, — это значит вызвать конфликт и даже своего рода войну. Есть два способа это сделать: один, на зверский манер — дать выход насилию и ненависти, открытой или замаскированной, сдержанной или бешеной, развязав физическую войну, направленную на истребление, на лишение евреев имущества или на порабощение их, войну мира и животного человека против Израиля. Это антисемитская позиция. Другой способ — христианский. Он состоит в том, чтобы через соучастие в страданиях Мессии и с помощью милосердного разума включиться в духовную борьбу ради освобождения человеческого рода, в борьбу Церкви и духовного человека за спасение мира и воссоединение Израиля. Это позиция католическая, или позиция ап. Павла, которая, кроме того, стремится вовлечь людей в постоянную конкретную интеллектуальную работу и которая не решает, не устраняет окончательно противоречий, но в каждый момент времени находит, как их преодолевать и смягчать.
2. Народ божий
Трудно не поразиться крайней низостью приемов антисемитской пропаганды. Люди, которые заявляют о международном заговоре Израиля с целью порабощения других народов, о ритуальных убийствах, полной развращенности евреев, следующих Талмуду; или те, которые считают, что еврейская истерия и есть причина всех зол, переносимых длинноголовыми блондинами с голубыми глазами — признаками высших рас (где черные глаза и темные волосы «к несчастью» встречаются гораздо чаще); или те, кто утверждает, что евреи действуют сплоченно, как один человек, намеренно развращая морально и подрывая политически христианство; как и те, кто распространяет такую явную подделку, как Протоколы Сионских мудрецов, короче, всех тех, кто уверен, что евреи — это денежные мешки и что все пошло бы прекрасно на земле, если бы раз и навсегда покончили с этой нечистой расой, — все эти люди, кажется, рождены для того, чтобы свидетельствовать, что невозможно ненавидеть еврейский народ, оставаясь при этом разумными людьми. При более внимательном рассмотрении проблемы это низменное сознание оказывается порожденным тревогой и должно иметь мистический смысл. Нечестивость, зашедшая слишком далеко, граничит с тайной и заслоняет собой пророческий инстинкт из темной сферы иррационального.
Трагедия Израиля — это и трагедия всего человечества, и поэтому нет решения еврейского вопроса. Говоря точнее — это трагедия человека в его борьбе с миром и мира — в его борьбе с Богом. Перед нами — мечтательный, хромой Иаков, страстный обличитель мира, необходимый миру и невыносимый для мира; таков путь и скитающегося еврейства. Гонения на евреев означают моменты обострения этой трагедии, в которой действие рискует застопориться, поскольку всякая фатальность заходит в тупик и для ее возобновления требуются новые ужасы. Существует надчеловеческий план отношений Израиля к миру, как и Церкви к миру. И лишь рассматривая эти три понятия, каким-то загадочным образом можно уяснить некоторые аспекты тайны Израиля. В определенном смысле путеводной нитью, как нам представляется, может служить аналогия, обратная аналогии Церкви. Чтобы попытаться разгадать эту ночную тайну и привести ее к ясности тайны утренней, необходимо было придать новый смысл идеям и словам, принадлежащим совершенно иному предмету.
Чтобы Израиль составлял своего рода мистическое тело, сам еврейский народ должен это осознать[364]. Связь, обеспечивающая единство Израиля, это не только связь плоти и крови или этико-исторической общности, это также не связь общины святых, что создает единство Церкви, объединенной верой в воплощенного Бога и надеждой войти в Его наследие. Это связь сакральная и сверхисторическая, связь обетования, но не обладания, связь ностальгии, но не святости. В глазах христианина, который помнит, что обетование Божие непреложно[365], Израиль продолжает свою священную миссию, но в потемках мира, который он предпочел свету Божьему[366]. С завязанными глазами бредет Синагога путем, предназначенным Богом во вселенной. И тот путь, который она проделывает в истории, она угадывает на ощупь.
Царство Божие находится в состоянии странника и распятого, Церковь — в мире, но не от мира, и чем больше она страдает от мира, тем она свободней от мира, и она уже свободна.
Народ Божий, алчущий Царства Божия, и те, кто не хочет его, весь Израиль — в мире, но вместе с тем не от мира, но он привязан к миру, захвачен миром, он — заложник мира. Однажды он оступился и попал в ловушку; он воспротивился Всевышнему и тому событию, которое не может больше повториться. Он не ведал, что творил, но предводители народа хорошо осознавали, что они сделали выбор против Бога[367].
Одним из действий свободной воли, повлиявших на жизнь общины, был выбор, сделанный священниками израильскими, плохими стражами виноградника, убийцами пророков, выбор мира сего, совершенный с большой политической осмотрительностью, и этим выбором весь народ оказался отныне связан — до момента, пока в нем не произойдет внутренней перемены. Преступление, вызванное нарушением своего долга духовенством, несравнимо ни с каким другим преступлением подобного рода.
3. Ошибка Израиля
[Сделаем несколько пояснений. В книге Левит мы читаем (4: 1–3): «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать; «если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ: то за грех свой, которым согрешил, пусть представит… Господу…». Так грех священника делает виновным народ. Выразим эту мысль проще, языком менее грозным, чем сакральный язык: в силу непреложной солидарной ответственности грех предводителей народа, временных или духовных вождей, заставивших народ совершить что-либо неправедное (например, вести несправедливую войну), втягивает этот народ в соучастие во зле, даже если все люди этого народа по отдельности были бы невиновны в том, что совершил весь народ (например, если все искренне верят в справедливость этой войны, потому что они обмануты их вождями). Причем для описания этого факта понятие «коллективная ошибка» никуда не годится, так как оно двусмысленно и намекает на то, что сами индивидуумы оказываются коллективно виновными, — что неверно. Ошибка, о которой идет речь, есть ошибка «национальная», ошибка социального организма, зависящая от ошибки вождей, как тело зависит от головы. Эти связи действуют, без сомнения, и на самих индивидуумов, но постольку, поскольку они часть общины и часть целого (а не отдельные личности), которое и совершило ошибку, и потому каждый из них в той или иной степени будет виновен (некоторые могут быть подлинно виновными, но это другой вопрос).
Если глава государства из алчности завоевывает другое государство, убивает его жителей, он этим призывает историческое возмездие, которое однажды обрушится на его народ из-за преступления, им совершенного, к которому этот народ причастен как социальное целое; отдельные личности, составляющие этот народ, могут быть все (или почти все) совершенно невиновны как индивидуумы.
Историческое возмездие, о котором идет речь, есть дело Провидения. Можно и должно говорить о Божественном возмездии. Еврейский народ как ни один другой народ знал при каждом своем испытании, что он был наказан за грех, совершенный против Бога в лице всей общины (либо отдельного человека, либо того или другого из его вождей). Эта тема постоянно появляется в Ветхом Завете.
Однако «кара» применительно к данной ситуации (я поясню это ниже) есть опасное слово, которое необходимо очистить от множества антропоморфных коннотаций. Для тех, кто стремится постичь глубину вещей, «постигшая нас кара есть следствие нашего выбора», и поистине каждый получает по своим хотениям.
Это верно в двух смыслах. Во-первых, «то, чего мы хотели», может привести к какой-то катастрофе или бедствию, которого мы, безусловно, не ждали, но которое вдруг обнаружит, осветит в один прекрасный день, каков действительно результат нашего выбора[368], истинное лицо, истинное значение того, чего мы хотели. Эта кара-событие, наступающее, как и любое другое событие, но из-за которого Бог (нам известны слова Ягве) может покарать до, третьего и четвертого поколения, но не сверх того. Именно в этом смысле падение Иерусалима и разрушение Храма являются карой за преступление первосвященников (при том, что они не имели намерения «богоубийства»[369], так как они не знали, что Иисус — Бог, но, строго говоря, они должны были это знать; их преступление — преступление против Израиля и против Спасителя и, значит, против Бога, прежде всего состояло в том, что они не узнали Мессии, а затем, после Воскресения, они продолжали упорствовать в своей слепоте и отвращали народ от Благой Вести).
Во-вторых, «то, чего мы хотели», быть может, и есть то самое положение, в которое мы себя поставили, не зная, к чему приведет наш выбор, а совершив его, мы понесли непоправимую утрату. Кара — состояние, само по себе долговременное, может длиться веками: так как оно не есть непосредственный наш выбор, оно является не чем иным, как последствием нашего выбора, сделанного однажды при обстоятельствах, которые не могут повториться. Именно в этом смысле, когда Израиль из-за вины своих предводителей отказался от того, кем он должен был стать, Бог предложил ему быть стержнем, центром Царства Божия, странствующим и страдающим на земле; Израиль и есть мистическое тело Христа-Искупителя. Но Израиль, как я и упоминал выше, предпочел мир сей, он надеялся всегда быть любимым из-за заслуг своих отцов и при этом следовать своим путем в потемках мира. Это то состояние, которое будет продолжаться до объединения народа Израиля.
Поговорим теперь о страданиях и скорбях, возможность которых через исторические случайности, ведущие к бесконечности, восходит к ошибке, совершенной в прошлом во времена, когда жили тридцать или шестьдесят предшествующих поколений; это, конечно, не кара за прошлую ошибку, это кара-событие, достигшее тридцатого или шестидесятого поколения[370].
Absit![1*] Бог дал нам уверенность, что ни при каких обстоятельствах Он не мог бы быть таким. Было бы тупым богохульством представить себе, что все преследования, унижения, бесчестия, которые вынесли евреи со времени разрушения Храма, и погромы, и концентрационные лагеря есть кара, которую Бог в гневе не преминул послать из мести за смерть Своего Сына! Все это результат злобы и жестокости людей, причем людей, которые часто выдавали себя за христиан и верили в это; эти действия становились возможными во множестве случайных событий в таких исторических обстоятельствах, в которых Израиль оказывался после своего падения. И без сомнения, любые события, как и проявляющееся в них зло, Бог попускает из-за Своих непостижимых для нас планов милосердия, перед которыми мы преклоняемся в трепете, но это не планы гнева и мести. И в продолжении всей страшной человеческой истории проявлялся не гнев Божий, но Его жалость и любовь, сопровождавшая Его народ, «охраняющая его», как говорил Леон Блуа, «хранящая, как зеницу ока»[371], при всех горестях, крови и слезах, являющихся выкупом за призвание и миссию этого народа в мире.
Так как Ягве, тот, Кто Сущий, Бог Авраама, Исаака и Иакова, есть Тот Самый Бог, который послал Сына Своего на Голгофу ради спасения мира, «Бог ревнитель», «наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.» Но Он также «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания» (Исх 34: 14, 6–7) и «творящий милость до тысячи родов любящим Его»[372]. Эти священные слова из книги «Исхода» относятся к незыблемым законам, действительным во все времена до скончания мира.]
* * *
Если идея кармы грешит тем, что кара из области морали переводится в чисто физический план, то западное понятие наказания, напротив, слишком часто перегружено юридическим антропоморфизмом. Боль или наказание — это не беззаконное изобретение, наложенное извне на неповрежденное существо в целях возмездия по закону; это — в плане моральном — результат кары, которой подвергает себя само существо, использовавшее дарованную ему свободу во вред, и этот естественный результат и есть возмездие закона. Страдание есть результат падения; наше наказание — это наш выбор. Евреи избрали мир сей, они возлюбили этот мир[373], и их несчастье[374] состоит в том, что они остаются верными своему выбору. Они остаются жертвами и пленниками этого мира, который они полюбили и к которому они не принадлежат и никогда не будут принадлежать, они не могут быть от мира сего.
Церковь — универсальна, она существует во всех цивилизациях и нациях как единое целое, как трансцендентная община, в которой при всей глубине временных различий каждый человек может быть принят в члены народа Божьего через животворящую кровь Сына Божьего. Мистическое тело Израиля есть тело отдельного народа, его основание — временно и включает общину из плоти и крови; чтобы распространиться в мире, ему необходимо разъединиться в себе самом, преломиться и рассеяться. Диаспора — начавшись еще в дохристианское время — есть земное и смертное соответствие кафоличности Церкви.
Мистическое тело Израиля есть Церковь низверженная. Это не анти-Церковь; таковой не существует, как не существует анти-Бога или анти-Жены. Это Церковь неверная[375]. Мистическое тело Израиля есть Церковь неверная и отверженная (вот почему Моисей принял символическое libellum repudii[2*] — отверженных в смысле Церкви, но не в качестве народа), все еще ожидающая Супруга, который не перестал ее любить.
4. Миссия Израиля
Ожидая Супруга, страна Израиля знает Его, но знает плохо.
Общность этого мистического тела — не единение святых, а единение в земной надежде. Израиль страстно надеется, ждет, жаждет прихода Бога в мир, Царства Божия здесь. Он хочет (его стремление направлено к вечному, сверхъестественному и сверхразумному) истины во временном, в природном мире и во граде. Греческая мудрость ничто для него: ни мера, ни красота форм. Красота, которую он ищет, невыразима, но Израиль жаждет ее в этой плотской жизни, сегодня.
Вера, которая противится всем последствиям греха Адама, чтобы сегодня ощутимо дать мне лучшее, чаемое мною, и исполнить желание, которое Бог вложил в мое сердце, исполнить всю полноту обетования — вот вера Израиля, вера, которую он страстно желает иметь и вместе с тем сомневается, имеет ли он такую веру (так как если бы он ее имел, он победил бы зло). Именно такое понятие веры, несомненно преувеличенное по отношению к раввинистическому учению, но вместе с тем глубоко еврейское, раскрывает нам философия Шестова, это несравненное в своем роде свидетельство. Лишь в том случае, когда его жажда истины была бы утолена на земле и было бы явлено ему чудо, лишь тогда Израиль был бы убежден, что он имеет или имел веру. До этого его тоска и сомнение будут обитать в глубине иудейской веры.
И иудейская любовь есть также низвергнутая добродетель; я не говорю о ложной любви, ни в коем случае! Божественная любовь при этом может как существовать, так и отсутствовать. Но это не лютеранская, не славянская жалость. Это любовь активная, а иногда и жестокая к творению как таковому, к которому он страстно привязан, которое он мучает и больше не отпускает из своих рук, чтобы заставить его осознать его зло и освободиться от него.
Что касается земной надежды, то ее иудеи имеют в избытке, в отличие от немалого числа христиан, которым ее недостает. Основной дефект иудейского мистического единства — это непонимание креста, отказ от креста и, стало быть, от преображения. Отказ от креста — есть основа иудаизма, это то духовное состояние, из-за которого Израиль отделил себя от своего Мессии. Но во всех иудеях, в которых живет благодать, как и в любой душе, имеющей искреннюю веру и добрую волю, крест совершает свою работу, хотя скрыто и непризнанно, и оказывает влияние независимо от этих душ. Вопреки своей воле и в полном неведении, добрый иудей, иудей по духу, тихо несет свой крест, изменяя этим иудаизму, но не подозревая этого. Когда он начинает осознавать тайну прощения через Кровь Агнца, — он — на пути к христианству.
Во Христе и в Его мистическом теле как таковом дьявол не имеет своей части. Он имеет свою часть в Израиле, как и в мире, но Израиль борется против него. Драма Израиля в том, что он борется против князя мира сего, любя этот мир, и будучи привязанным к миру, и зная лучше, чем кто бы то ни было, истинную цену миру.
Израиль играет двойную роль в мировой истории и в спасении мира. Что непосредственно касается спасения, то он является свидетелем, — и каким свидетелем! Он хранит сокровища Священного Писания (не следует забывать, что Церковь включила труд раввинов и массоретов при установлении текстов Священного Писания, как и труды философов и Аристотеля, в свою теологию), и именно Израиль на протяжении всей истории его существования является живым и нерушимым хранилищем обетований Божиих.
Что касается спасения мира не непосредственно, то Израиль следует призванию, которого, как мне кажется, он должен придерживаться прежде всего и которое дает разгадку тайны. В то время как Церковь предназначена для сверхъестественного и сверхвременного дела искупления мира, на Израиль возложена задача временной истории и сосредоточенности на своих собственных целях, на земной человеческой деятельности. И в этом он, призванный быть не от мира, оказался в самой глубине плотского мира, чтобы раздражать, ожесточать, приводить его в движение. Как инородное тело, как фермент, введенный в массы, он не оставляет мир в покое, мешает ему спать, учит мир быть недовольным и неуемным, и так как у мира нет Бога, Израиль стимулирует движение истории.
Страдания Израиля не являются, подобно страданию Церкви, страданием искупления, и он доходит до пренебрежения страданиями Спасителя[376]. Страдания евреев — для стимулирования и освобождения жизни мира сего, это страдания «козла отпущения» в земной судьбе и на путях греха, на которого ложатся болезни падшего мира, когда мир мстит за язвы своей истории тому, кто делает эту историю. Израиль выдерживает, таким образом, удар в ответ на возбуждение этого мира, и этот мир давит на него, вынуждая проявлять себя.
Ап. Павел убеждает нас, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Иудеи и христиане играют в этом смысле противоположную роль. Израиль пал в плане духовном и сверхприродном, и когда через эту брешь войдут в полноте другие народы, Церковь войдет в свой третий возраст[377] и, ликуя о возвращении народа Божьего, узнает полноту своего земного бытия и своего героического странствия.
Вина христианских народов ограничивается мирским порядком. Я не говорю здесь, это и так ясно, о деяниях святых, я говорю о коллективной исторической ответственности всех христиан; я не говорю о «благородстве христианства», я говорю о «неблагородстве христиан». Из-за определенной мистической индифферентности к требованиям Евангелия по отношению к граду сему и временной истории большая масса людей, именующих себя христианами, в силу согласия на несправедливость, накапливающуюся из века в век, вывели социальные и политические структуры этого мира из сферы действия животворящего закона Иисуса Христа, одного лишь способного спасти справедливость и человеческое достоинство.
И когда этот исторический процесс будет завершен и стремление человека своими силами спасти себя и этот мир иссякнет, можно предположить, что другое восстановление временного порядка, относящееся ко множеству людей, ищущих истинную жизнь вдали от Христа, сольется с той жизнью, о которой мы только что говорили, — это будет для цивилизации земной — Воскресение из мертвых. А Израиль, примиренный Израиль, составит в этом единении преобладающую часть. Не говорим ли мы, что на него возложена миссия активизировать мировую историю? И не остается ли вверенной ему постоянная миссия (с тех пор, как из-за своей ошибки он оставил другим заботу о Царстве Небесном)? В противоречивом мире, где перемешано добро и зло, его миссия — ускорение движения во времени, развитие деловой жизни мира сего при сознании, что эта деятельность управляется Богом.
Постараемся понять, каково символическое значение пресловутой привязанности евреев к деловой жизни; тема эта часто смакуется; дело в том, что в течение веков коммерция была их главным занятием, в котором они не только превосходили другие восточные народы, но в котором также они находили стимуляцию умственной деятельности (а в ней они нуждались) и в каком-то роде — духовное удовлетворение[378].
Обратим внимание на странную перекрестную симметрию, проявляющуюся здесь. Что касается христиан, то Церковь следует своему божественному призванию, и пало (временно) не христианство, а пали христианские народы, христианский мир, так как он не желал слышать слово Церкви, которая, ведя людей к жизни вечной, призывает их и земную жизнь сделать соответствующей Евангельскому духу. Что касается иудеев, сам Израиль есть Церковь, и именно иудаизм претерпел падение (духовное); именно Израиль есть народ навсегда избранный, последователи же иудаизма следуют в истории сверхъестественному призванию (хотя и двусмысленно).
* * *
Как и мир, и мировая история, мистическое тело Израиля и его деятельность в мире являются амбивалентнтной реальностью, и предыдущие замечания позволяют, быть может, понять, что в случае Израиля эта двойственность доведена до предела; он, таким образом, идет ко всем посвященным, способность которых к добру и ко злу сверхъестественно увеличивается.
Стремление к абсолюту в мире может принимать любые формы. При концентрированности на человеческом и случайном или при установке на атеизм или, по крайней мере, на прагматизм оно может вызывать гипертрофию активности в стяжании земных благ и в обогащении, что находит в капиталистической цивилизации подходящую среду[379]; или оно может порождать революционное нетерпение и неистовое возбуждение, о котором писали Бернар Лазар и многие другие иудеи. Разгораясь от возбуждения чувств или зависти, оно вырабатывает ядовитый пессимизм, когда горечь или гнев становятся инструментом исключительной мощи, и сам детекторный прибор оказывается выбитым из сети ложью или иллюзией прекраснодушя, совершенного порядка и чистой совести. Это стремление к абсолюту, когда оно исходит от плотского в человеке, может породить фарисейство, расовую ненависть, слепые суждения, безжалостно-ригористичный культ буквы и пурризм законничества.
Но когда оно идет от Духа, то дает зародиться истинной чистоте души и нравов, и многие еврейские семьи хранят традиции; оно порождает аскетизм и жалость, любовь к Слову Божьему, глубокое проникновение в это Слово, прямоту и чистоту сердца, ревностную духовность, выдающимся примером которой служат хасидские мистики, и они-то и показывают нам, что происходит, «когда Израиль любит Бога», каково истинное лицо Израиля; его стремление прежде всего выражается в ревности к истине и в любви к правде, что является наибольшим знаком избрания этого народа. Ессе vere Israelita, in quo dolus non est[4*], — так Сам Господь Иисус свидетельствовал об истинном Израиле. Истинные сыны Сиона всегда думают, как и в эпоху Псалмов и Исайи: «Как прекрасны они, на гоpax, ноги тех, кто возвещает мир… Не удалю никогда от уст Моих слово истины».
«Приди утолить жажду Твоей чистой истины и жажду Тебя Самого, Господи! О, мой исток, о, моя цель!»[380]
Любовь к истине до смерти, стремление к истине чистой, абсолютной, недостижимой, так как она есть, Имя которой невыразимо, — вот то, что лучшие иудеи получили от Израиля и от Святого Духа, то, что рождает гимны ликования даже в огненной печи.
Подводя итог, следует сказать, что двойственность Израиля, двусмысленность его судьбы особенно ярко выражается в наличии двух противоположных центров притяжения: в одном — иллюзорном, в другом — реальном, между которыми он и находится. И поскольку он оставил некогда реальность ради внешнего, сейчас он оставляет своего Бога ради идолов, деньги имеют для него мистическое притяжение (притяжение, разумеется, не намного большее, чем для бесчисленного количества людей «благородного» происхождения, явно менее низменное, чем у последних, но которое проще распознать, каково оно в самой своей глубине). Не являются ли деньги в глубине мрака этого мира по сути наиболее призрачным и иллюзорным отображением Сына Божьего? Деньги — это кровь бедных, как говорил Леон Блуа, кровь бедных, преобразованная в символ; в этом символе и через этот символ и через символы данного символа человек служит инертному всемогуществу, которое творит все, что пожелает, что приводит к своего рода циничной теократии, искушение которой расшатывает в человеке религиозный инстинкт, обманывает и сбивает его с пути.
Но то, что Израиль был всегда любим и всегда безраздельно доверял обетам и, несмотря на свои падения определенным образом продолжает осуществлять свое призвание в мире, в этом заключается Справедливость Божия, о чем я только что говорил. Справедливость Божия, проявляемая в земной жизни, и именно Бог — истинный центр притяжения, реальный, а не иллюзорный; там, где другие говорят о мудрости или о святости, евреи говорят о «справедливости». Она — земная надежда бедности, ни один другой народ не знает лучше, чем евреи, что значит быть бедным и радоваться в бедности, как и в изобилии[381]. Она — их плач на реках Вавилонских об Иерусалиме правды, это — глас пророков, ожидание и непреодолимая жажда страшной славы Божией.
Поэтому сложность, вызванная таким страшным несоответствием между типичным характером и его влечениями, всегда будет давать повод восхищаться Израилем и видеть его падение. Те, у кого есть желание ненавидеть какой-либо народ, всегда найдут для этого поводы, и тем более ничтожные, чем исключительнее призвание народа и чем сильнее его психологическое отличие. Развязность, кичливость, переменчивость, самодовольство, особое чутье, когда дело касается выгоды, скандальность, когда задеваются личные интересы, и многие другие серьезные дефекты проявляются в жестоковыйном народе Израиля и вызывают раздражение. Евреи в массе интеллектуальнее и расторопнее, чем язычники. Евреи извлекают выгоду из этих качеств, они занимают лучшие места, и им не могут этого простить. В качестве заимодавцев и ростовщиков, они проявляют искусность в различных торговых и посреднических сделках, чем, безусловно, занимаются не они одни, но именно их вынудили принять подобное занятие как привычное наследственное дело[382], — в этом они непревзойденны. Они не созданы для того, чтобы привлекать благосклонность людей, которые в такой же мере склонны к наживе, но менее искусны в этом. Их нрав больше портится, когда они объединяются вместе, чтобы на высоком поприще культуры служить национальным идолам. Подобным образом, как и в других духовных семьях, редко лучшие из их представителей занимают политическую сцену или выбирают поприще общественной деятельности.
Вот каковы поводы неприятия евреев, но если люди пытаются узаконить ненависть и исключительные меры по отношению к ним, такого рода предубеждение всегда несправедливо. Если бы люди не смогли быть терпимы друг к другу, как только при условии отсутствия какой-либо претензии, то все области любой страны находились бы в состоянии постоянной войны.
У евреев гораздо больше великих достоинств, чем великих недостатков. Те, кто довольно много общается с евреями, чтобы постичь их жизнь, знают несравненную доброту евреев; когда еврей добр, то качество и глубина этой доброты таковы, что трудно встретить что-либо подобное у народов, которые не были подвержены столь сильным испытаниям. Известно, на какое великодушие, на какую привязанность способна еврейская душа. Ш. Пеги прославлял своих еврейских друзей: именно в среде «жадных» евреев можно встретить наиболее безрассудные примеры естественной склонности давать, которая исходит не столько из желания быть милосердными, сколько от их широты и беззащитности. Высокое понятие чистоты семейных уз и других семейных добродетелей в течение многих веков отличало нравы евреев. И еще у них есть основная человеческая добродетель — терпеливое трудолюбие; у них есть неискоренимое стремление к независимости и свободе, постоянное горение древнего пророческого инстинкта, горение разума, живость интуиции и абстрактного мышления, способность загораться идеями и быть преданными им.
Если верно, что сказал Псишари, что Бог гораздо больше любит грех, чем глупость, то понятно почему Он имеет склонность к евреям (и к французам). С евреем никогда не скучно. Их ностальгия, их динамизм, наивность их остроумия дают редкостную поддержку духу. С какой радостью я вспоминаю, как в большом городе в США после университетских конференций и переговоров я, инаковерующий, шел к моим еврейским друзьям и погружался в среду непрестанного внутреннего подъема, постоянного бурления идей и жестикуляций, который вызывали в памяти века мучительного очищения души и разума.
Но важно прежде всего отметить, что различные частные причины, которыми исследователь может объяснить существование антисемитизма[383], начиная с чувства ненависти к чужому, свойственного какой-либо социальной группе, до социальных неудобств, вызванных притоком переселенцев, или различные недовольства, о которых говорилось выше, все это скрывает за собой более глубокую причину ненависти. Если мир ненавидит евреев, то это потому, что он хорошо понимает, что евреи для него всегда будут сверхъестественно чужеродными; мир ненавидит их стремление к абсолюту и невыносимую по напряжению стимуляцию внутренней жизни, которой они обременяют мир. Таково призвание Израиля, которое мир проклинает, — это так называемое расовое проклятие на самом деле относится к его призванию. Odium generis Humani — ненависть мира — это их слава, как и слава христиан, живущих верой, но христиане победили мир[384], евреи же его не победили (вот почему стать христианином для еврея — двойная победа, его народ торжествует в нем). Несчастье тому еврею (впрочем, как и христианину), который нравится этому миру. И приходит время (для некоторых народов оно уже пришло), когда свидетельства и еврея, и христианина оказываются невыносимыми для мира, и они будут ненавидимы и гонимы вместе, и, объединенные в этом гонении, будут приведены к их истокам.
Еврей теряет себя, если он себя утверждает, я говорю о самоутверждении как о духовном феномене, как о потере стимулирующего беспокойства и отказе от своего призвания. Что касается ассимиляции, то это совсем другая проблема, принадлежащая социальному и политическому, но не духовному порядку. «Ассимилировавшийся» еврей может не быть «утвердившим себя». Ассимиляция, как и идишизм или сионизм, не есть решение проблемы Израиля, но ассимиляция, как и автономия, как и сионизм, есть частичное приспособление к стране проживания, решение осмотрительное, доброе и желательное в той мере, в какой оно возможно. Оно и раньше в широких масштабах бытовало в эллинистический или испано-арабский периоды. Тем не менее в подобном решении есть риск; и сионизм (как государственность[385]) тоже содержит риск для иудеев утвердить себя, стать как другие в духовном плане, риск утратить призвание дома Израилева. Когда успех достигается неправедными средствами, Бог евреев сейчас же наказывает их. Никогда евреи не были в большей степени ассимилированы, чем немецкие евреи; чем больше они привязывались к немецкой культуре, тем больше они становились ее созданием. Германизированные до мозга костей, они не сделались ни более скромными, ни более смиренными; они не только ассимилировались, но утвердились, захотели нравиться и этим связали себя с князем мира сего. Евреи, которые становятся, подобными другим, оказываются хуже других. (Когда еврей получает Христову благодать, он меньше, чем когда-либо, походит на других: он обретает своего Мессию.)
5. Ненависть мира сего
Мы указали на чрезвычайную нелепость антисемитских мифов и утверждали, что дело не дошло бы до такой stultitia[5*], если бы сама эта глупость не имела скрытого смысла. Ненависть к евреям и ненависть к христианам исходит из одного и того же источника, из одного и того же отвержения их миром, который не хочет быть задетым, не хочет иметь ни ран Адама, ни ран Мессии, ни терний Израиля при своем движении в истории, ни креста Христова для жизни вечной. Как есть, так и есть, для мира нет нужды в благодати преображения, прославление произойдет в его собственной природе. Это не христианская надежда на Бога-Помощника, это не еврейская надежда на Бога на земле, это надежда мира сего на животную жизнь и на ее внутреннюю силу, в каком-то смысле сакральную, — ибо демоническую, которая овладевает человеческим существом, когда оно считает себя обманутым провозвестником абсолюта.
Расистский теллуризм есть антисемитизм и антихрисшанство. Коммунистический атеизм не является семитским, ему достаточно быть богоборческим[386]. И в том и в другом случае им присущи натурализм и равное отвращение ко всему: и к абсолютному и к трансцендентному. Достаточно заменить принуждение Божие принуждением человеческим, чтобы понять, насколько первое мягче. В большой степени это мораль рабов — слабых, страдающих, бессильных, изображающих из себя милосердных. Мы увидим, является ли мораль крови или мораль пота моралью свободных людей. Эта мистическая жизнь мира сего, которая собирается героически распространяться; всякое corpus mysticum[6*], образованное вне мира, должно быть при этом отброшено как таковое.
Но что происходит? История так отравила расистов и коммунистов иудеохристианством, что они не могут не желать спасения мира таким образом. И расисты остаются «распространителями» Ветхого Завета, как коммунисты — Нового. Именно из Священного Писания евреев была вырвана и в извращенном виде утверждена идея расовой предопределенности народа Божьего. Коммунисты же из Евангелия взяли, исказив ее, идею всемирного освобождения и братства человечества.
* * *
Так же ненавидимый миром и выбитый из колеи в мире, как и еврей, но привитый на свое место на маслине иудейской, член мистического тела, которое есть Тело Мессии Израиля, победившего мир, — христианин один только может охватить всю глубину еврейской трагедии: его взгляд — взгляд братский, не лишенный трепета за самого себя, как и должно смотрящий на тех, кто вовлечен в эту трагедию. Еврей и христианин ведут диалог, переходя из одной крайности в другую. Если они подлинно благочестивые и добрые, они познают друг друга, они рады встретить друг друга на земле князя мира сего и на путях Яхве. Размышления, содержащиеся в этой статье, имели целью в какой-то мере объяснить патетику положения еврейского народа. Может быть, они помогут нам понять, как часто, принимая противоречивые формы материалистического мессианства, которое является оборотной стороной его призвания к абсолютному, но тем не менее сохраняя ум, блестящую живость, народ этот свидетельствует о сверхъестественном в недрах человеческой истории. Поэтому между Израилем и другими народами не могут не существовать конфликты и разного рода напряжения.
Считать, что это напряжение может исчезнуть (по крайней мере, до исполнения пророчеств), — это заблуждение. Низость человеческой души свойственна животной природе в человеке (будь то араб, сам происходящий из семитов, или славянин, или латинянин, или германец), от которой избавляет лишь христианство, когда оно истинно живое; христианство избавляет народы от желания покончить с этой проблемой с помощью антисемитского насилия, открытого или смягченного политического преследования. Единственный путь — принять это состояние напряжения, быть готовым при всех конкретных обстоятельствах не в духе ненависти, но в разумном духе, что милосердие требует от каждого из нас, чтобы он примирился со своим противником, пока он еще на пути с ним, и чтобы он осознал, «что все мы согрешили и имеем нужду в милости Божией», omnes quidem peccaverunt et egent gloria Dei. «История евреев, — как говорил Леон Блуа, — противодействует человеческой истории, как плотина на реке, служащая для повышения ее уровня»[387].
Неустранимое напряжение, о котором идет здесь речь, проявляется в двух различных планах: в плане духовном и в плане временном.
В духовном плане драма Любви Израиля и его Бога, которая делает другие народы участниками спасения и которая есть не что иное, как часть вселенской тайны искупления, разрешится лишь в примирении Синагоги и Церкви. В большом отрывке, цитируемом в начале этой статьи, ап. Павел говорит: «Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией: иначе и ты будешь отсечен».
Видя состояние мира и то, как народы свидетельствуют об их пребывании в благодати, люди спрашивают себя, не будет ли конец мира в ближайшее время. Ничто не дает оснований думать, что конец человеческой истории будет раньше, чем начало новой эпохи для Церкви и мира.
В плане временном до осуществления пророчеств совершенно нет никакого ясного и простого решения, нет кардинального решения проблемы Израиля, но есть, однако, решения частичные и временные, ответы частичные, поиски которых, связанные с политической мудростью, предпринимались в различные века человеческой истории.
В Средние века была сделана попытка сакрального решения проблемы в соответствии с устоями цивилизации того времени. Это решение, страшно исказившее значение и смысл призвания Израиля, было направлено к осознанию Божиего наказания, которому подвергся Израиль. Вследствие этого евреи получили статус чужаков в христианском граде, в то время как сами евреи нашли героическое средство сохранить свою самобытность. Решение в виде гетто[388] было в действительности жестоким само по себе и часто беззаконным и диким, и хотя оно и не выросло из высокой идеи, но во всяком случае оно было выше варварского материализма расистского законничества, возникшего в наши дни в Германии. Только на основе религиозных представлений, ни в коем случае не расовых, была признана ценность человеческой души, и крещеные евреи вошли по праву в полноту жизни христианского града. Средневековое решение проблемы осталось позади, чтобы уже больше никогда не возвращаться, как и сам тип цивилизации, которой оно было порождено.
Эмансипация евреев, осуществленная Французской революцией, свидетельствует о том факте, что цивилизованные народы, если они хотят остаться таковыми, должны следовать в этом вопросе ее опыту. И если сама по себе эта эмансипация и была задумана как нечто справедливое (и отвечавшее стремлениям действительно христианским), однако надежды, что рационалистическая и оптимистическая буржуазная идеология, забывшая о тайне Израиля как о сверхиндивидуалъной реальности (узурпировавшая название «либерализм», очень благородное само по себе, и решившая утвердиться в революции), сможет приглушить еврейскую проблему, — эти надежды быстро оказались тщетными.
Этим объясняются непреодолимое влечение большого числа евреев к сионизму и его провиденциальное значение. Здесь не место исследовать проблему сионизма, к которой никакая душа, чуткая к осуществлению пророчеств в истории, не может быть безразлична. Призванный, быть может, стать однажды центром единения всех рассеянных евреев, сионизм, на наш взгляд, имеет первостепенную историческую значимость. Но это не избавление от изгнания; возвращение в Палестину есть только прелюдия к этому освобождению. Как и индивидуалистический либерализм, сионистское государство не может отменить законов пустыни и Голгофы, которые не являются единосущными еврейскому народу, нет! Освобождение будет, но лишь для тех, кто принадлежит к мистическому телу и призванию Израиля в рассеянии.
6. Антисемитизм — это оскорбление сына Божиего
Христиане становятся антисемитами, когда они послушны духу мира сего, а не христианскому духу. Много исторической путаницы у невнимательных или пристрастных авторов порождено фактом вмешательства в средневековую цивилизацию как церковных элементов, так и элементов временного града, построенного на сакральном основании, где земные интересы, все добро и все зло социальной человеческой жизни погружены в религию. Если исходить из этого, то можно понять, что во временной цивилизации, в которой режим гетто (не говоря о драме евреев-марранов и об испанской инквизиции) способствовал проявлению наихудших страстей и антисемитских эксцессов, Церковь как таковая, являющая собой мистическое тело Христа sine macola, sine ruga[7*], свободна от ошибок своих членов, не ответственна за эти эксцессы. Христианам же, мирянам и клиру, необходимо знать об огромной ответственности языческого мира в средневековый и постсредневековый периоды за распространение антисемитизма; достаточно известно, что папы неоднократно защищали евреев, в частности против абсурдных обвинений в ритуальных преступлениях, и в целом евреи бывали менее несчастны и унижены в государствах, подчиненных папе, чем в каких-либо других странах.
Таким образом, выйдя из эпохи Священной Римской империи и Средневековья, западная цивилизация, находясь в ситуации опасных соблазнов, в то же время, как мы знаем, освобождалась от нечистоты, которую привносил имперский режим, и было бы странным заблуждением считать, что христиане хотели бы вернуться к этой эпохе в момент, когда она потеряла историческую возможность существовать. Антисемитизм сегодня не что иное, как один из изъянов секуляризованного христианства, в котором перемешаны добро и зло; он заражает христианство, действуя как заблуждение и порок разума[389] С точки зрения католической морали, когда антисемитизм распространяется среди тех, кто называет себя учениками Христовыми, он проявляется как патологический феномен, изобличающий искажение христианского сознания, уже неспособного принять ответственность за историю и остаться на деле преданным высоким требованиям христианской правды. Так, вместо того, чтобы узнать в испытаниях и ужасных событиях истории руку Божию и воспринять уроки правосудия и милосердия, к которым мы призваны, это сознание совершает падение к призрачным предметам, относящимся к целой расе, и все это при незначительности предлогов, служащих подобной позиции. При этом дается воля чувству ненависти, которую они надеются узаконить с помощью религии; это сознание в себе самом ищет алиби.
По правде говоря, здесь идет речь о дурном коллективном действии, о заменителе темной страсти или звериной злобы, поднимающихся из тьмы подсознания против Бога Евангелия и против Иисуса, Сына Давидова.
Несмотря ни на что, народ Израиля остается народом-священником, плохой еврей — своего рода плохой священник; Бог не хочет, чтобы к нему прикасались. Прежде чем познать Христа, истинный израильтянин, в котором нет лукавства, в силу нерушимого обетования принимает на себя одеяние Христово.
Совсем немаловажно для христианина, если он ненавидит, или презирает, или стремится унизить расу, которая дала его Бога и непорочную Богоматерь. Вот почему рвение к антисемитизму оборачивается ненавистью к самому христианству.
«Представьте себе, — писал Леон Блуа, — что окружающие вас люди непрестанно с бесконечным презрением высказывались бы о вашем отце и матери и не находили бы для них других слов кроме ругательств и оскорблений. Каковы были бы ваши чувства? Так вот! Именно это происходит и с Господом нашим Иисусом Христом. Забывают или чаще всего не хотят знать, что наш Бог, ставший человеком — еврей, еврей по природе, Лев Иуды; и Его Мать — еврейка, цвет еврейской нации; и апостолы были евреи, как и все пророки; и в конце концов вся наша литургия целиком почерпнута из еврейских книг. И можно ли выказать болшее богохульство, чем оскорбление и унижение еврейского народа?»[390]
IV Евреи среди других народов (1938)
Доклад, прочитанный на конференции, состоявшейся в Париже в Посольском Театре (Théâtre des Ambassadeurs) 5 февраля 1938 г.; опубликован в виде брошюры в «Éditions du Cerf» (Paris, 1938); переиздан в «Le Philosophe dans la Cité» (Paris, Alsatia, 1960)
Сегодня я намерен говорить о евреях среди других народов[391]. Я затрагиваю эту огромную и печальную тему хотя и с чувством собственной несостоятельности, но по крайней мере с убеждением, что мой разум и моя вера могут пролить свет на все то, что мы здесь решились защищать и что для нас является наивысшей ценностью.
Прежде всего я буду говорить об особых трудностях в связи с ситуацией в отдельных странах, где антисемитизм извлекает для себя выгоду; далее — о рассеянии Израиля с богословской точки зрения, а также о духовной сущности антисемитизма. В третьей части я кратко скажу о самых насущных вопросах; я имею в виду трагедию, переживаемую сейчас евреями в некоторых регионах Европы.
1. Частные аспекты проблемы
Рассмотрим как можно более кратко конкретные проблемы, придающие еврейскому вопросу особую остроту. Без сомнения, речь идет не о нашей стране, а о некоторых странах, которые я бы разделил на две категории: страны, где еврейское национальное меньшинство значительно по численности, и страны, такие, как Германия, где катастрофа войны отразилась прежде всего на евреях.
Страны со значительным еврейским населением
В странах со значительным еврейским населением очевидно, что присутствие этнической массы, имеющей свои традиции, свои школы, свой собственный язык, создает особую гражданскую проблему и проблему благосостояния государства. Подобная проблема существует в такой стране, как Польша, которая некогда с почетом приняла евреев, привлекла их в различные сферы деятельности, чтобы они образовали средний класс ремесленников и коммерсантов; их участие было значительным и в национальной культуре Польши. В большей или меньшей степени ситуация осложняется, когда еврейское население, уже длительное время живущее в стране, увеличивается за счет притока новых иммигрантов. Но цифры, которые польские и румынские антисемиты приводят относительно недавней иммиграции, кажутся сильно завышенными. Как бы то ни было, эта проблема существует; она является не чем иным, как частным случаем проблемы национальных меньшинств, решение которой в современной Европе часто оказывается слишком жестоким. В некоторых ситуациях, особенно когда евреи противятся условиям политического convivium[8*], эта проблема может вызвать сильное раздражение.
Но я полагаю, что антисемитизм делает невозможным какое бы то ни было преодоление конкретных затруднений. При этом не только искажаются фактические данные, но и уничтожаются условия для решения проблем, поскольку эти особые решения возможны лишь в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Антисемитский пафос разрушает предварительные нравственные условия с двух сторон: с одной стороны, — сам по себе, с другой — злобой и протестом, возникающими в качестве ответной реакции, так что ожесточение и непонимание, как и взаимные нападки, беспрепятственно нарастают с той и с другой стороны.
Антисемитизм, даже так называемый политический антисемитизм, о котором мы в данный момент говорили, вместо политических решений политических проблем не дает ничего, кроме иллюзорных решений этих проблем, иллюзорных самих по себе. Это — чрезвычайные законы и меры преследования, вынуждающие или стремящиеся вынудить евреев к массовой эмиграции, в других обстоятельствах невозможной. Государство не только признает свою жизненную слабость, прибегая к обструкции определенных слоев населения, которые оно не в состоянии включить в общественную деятельность, но при этом оно подготавливает трудности завтрашнего дня, так как снижается внутренняя энергия, положительная работа которой должна была бы преодолеть кризисы. Применяемая в подобных кризисных ситуациях хирургия не только не асептична, но, зараженная ненавистью и несправедливостью, лишь создает видимость помощи.
Так называемый политический антисемитизм оправдывает эти иллюзорные решения аргументами, которые лишены разумного основания, но оказывают огромное эмоциональное воздействие, само собой переходящее в расовый антисемитизм. Действительно, если в начале нападки были лишь против евреев, иммигрировавших недавно, то затем они стали распространяться и на евреев, давно живущих в стране, и на ассимилированных евреев, даже на обратившихся евреев, короче говоря, на евреев как таковых, против которых и был в конце концов использован расистский миф. Скажем несколько слов о тех доводах, которые антисемитская пропаганда пытается распространить повсюду.
Утверждается, что евреи захватывают ряд доходных профессий, в частности так называемые свободные профессии. Значит надо их изгнать! Это составит существенный процент подлежащих устранению конкурентов. Следует, однако, опасаться, как бы на их месте не оказались другие конкуренты, появившиеся из отвратительного кишения самой нееврейской части человечества, и как бы они не создали угрозу своим плачевным существованием вашему честно заработанному куску хлеба, вашему внутреннему чувству справедливости и бескорыстия, духовным и западным гуманистическим ценностям. Впрочем, совершенно ясно, что евреям, если не иметь в виду, что все они должны умереть с голоду, приходится как-то зарабатывать себе на жизнь, и само собой разумеется, что их особенно много в тех профессиях, которые им больше всего подходят. Всякий извинит естественное раздражение против удачливых конкурентов, если оно остается в пределах разумного, но когда возникает ненависть — это уже ненависть к клану, который возвысился. Повсюду, где будут евреи, кому-то покажется, что их слишком много. На самом же деле то, в чем им отказывают, это — право на жизнь.
Оставим в стороне свободные соглашения, которые при истинно органичном, плюралистическом режиме могли быть заключены с еврейской общиной. Если вы хотите освободить от скопления евреев профессии, о которых идет речь, лучше всего было бы предпринять усилия, чтобы преградить им путь, проявив больший ум и упорство в работе, чем евреи, борясь с их злоупотреблениями, какими бы они ни были, с помощью справедливой профессиональной организации свободной конкуренции.
Так, соревнование между евреями и неевреями спровоцировало бы повышение уровня культуры, в то время как средство, куда более унизительное для неевреев, нежели для евреев, призывающее к грубой практике nutnerus clausus — ограниченного числа (если не numerus nullus — числа нулевого), само по себе приводит к снижению этого уровня.
Кроме того, как утверждают, евреи занимаются ростовщичеством, скупкой, торговлей женщинами, порнографической литературой, а также являются злостными совратителями местного населения, в то время, как доморощенные романисты, отделы происшествий крупных ежедневных газет и судебный журнал рассказывают нам о христианском рвении и всевозможных добродетелях. Евреи ответственны за аморальность, выплескивающуюся на людей через печать и прессу. Евреи занимаются преступной политической деятельностью (естественно, коммунистической; присутствие большого числа евреев в рядах правоэкстремистских террористических организаций еще не было разоблачено).
Сказать: «Это все евреи», — очень естественно для человека, особенно для писателя или бизнесмена, с которыми один или два еврея сыграли злую шутку, или для человека, который заметил на своем пути среди плохо ассимилировавшихся личностей несколько персонажей с семитским профилем. Часто человеку проще сказать не один еврей, или три еврея, или десять евреев, с которыми я имел дело, оказались такими или иными, но сказать евреи (в мире 16 млн. евреев) — тот ли, другой — все равно — евреи. Это очень просто, но очень неразумно.
Подобная манера обобщать приводит к самым худшим софизмам. «Евреи», утверждают антисемиты, совершают такие-то и такие-то преступные деяния. Какой смысл приписывать всей общине индивидуальные ошибки некоторых ее членов? Однако если такие социальные бедствия, как ростовщичество в некоторых аграрных странах, в силу исторических условий этих стран, можно поставить в вину в основном евреям, то в других социальных бедах, в которых антисемитская пропаганда обвиняет «евреев», неевреи оказываются их сильными соперниками, не говоря уже о таких категориях социальных бедствий, как алкоголизм, вооруженные нападения и т. д., в которых они решительно затмевают евреев. Это не евреи, это — некоторые евреи, так же, как и некоторые неевреи, творящие зло. Для чего обременять свою совесть, нарушая в отношении евреев элементарные требования законов и цивилизованной жизни? Социальный организм должен энергично защищать себя от болезней, которые делаются привычным состоянием, таких, как клеветническая и продажная пресса или оглупляющие публикации, способствующие одичанию людей! Единственный эффективный метод — обуздывать, при необходимости даже драконовскими законами, преступления и злоупотребления, кем бы виновный ни был, но не карать массу невинных людей за преступления и злоупотребления, совершенные некоторыми из их братьев или даже вовсе не их братьями. Желающие совершить преступления найдутся всегда, даже если бы истребили всех евреев.
И наконец, что касается пропаганды ложных идей и ложных нравственных правил, то так ли «очевидно», что за это ответственны одни «евреи» (некоторые евреи). Хорошо известно, что это не так и что в абсолютном значении неевреи вносят гораздо больший вклад в подобную деятельность, нежели евреи. Господин Юлиус Штрайхер и проповедники погромов не евреи, и они являют собой мощное опровержение своих же собственных положений, вменяющих в вину еврейской расе все бедствия рода человеческого. Господа Розенберг и Гитлер, господа Гога и Куза не евреи. Ленин, как и Сталин, не был евреем. Сам господин Селин не еврей, хотя и кажется, что он совершил путешествие на край ночи только затем, чтобы обнаружить «Протоколы Сионских мудрецов», помещенные в грязный мрак царской охранкой.
Приписать евреям грехи большевизма, отождествить иудаизм с коммунизмом, вот классическая тема гитлеровской пропаганды, которая иногда приписывается, так же и католицизму; вот тема, развиваемая со строгой последовательностью антисемитами всех стран. Я совершенно не верю, что еврейский дух, который сильные мира сего упрекают в анархической горячке свободы, мог бы легко принять коммунистический конформизм. Что действительно верно, так это то, что часть еврейской молодежи в некоторых странах была принуждена к революционному экстремизму угрозой преследований. В этом случае главные виновники — те, кто сделал их жизнь невыносимой. Как правило, главная ответственность за основные беспорядки лежит на лживых стражах порядка, евреях и неевреях, которые, систематически предпочитая несправедливость беспорядку, основывают порядок на фундаментальном беспорядке, который вначале невидим, но при котором сам принцип порядка и Творец природы отвергаются.
В той же степени и даже больше, чем антисемиты (гнев которых обрушивается как раз на бедных евреев), мы ненавидим всевластие банков и финансов, принадлежат ли они евреям или неевреям, так же как и всевластие денег. В этом проявляется материалистическое устройство и дух современного мира, вызывающие в нас ужас. И кто бы ни были эти люди, евреи или неевреи, причем неевреев намного больше, они оказываются безвинно вовлеченными в эти бесчеловечные структуры. Более того, мы знаем, что значительная масса евреев не сделалась ни банкирами, ни финансистами, но гражданами, которые борются со всеми формами городской нищеты.
Мы не склонны недооценивать всей тяжести огромных экономических трудностей нашего времени и общего экономического кризиса нашей цивилизации. Но мы говорим, что не изгнание евреев, а преобразование экономических и социальных структур, являющихся реальной причиной этих трудностей и этого кризиса, сможет уврачевать их. Антисемитизм, к несчастью, отвлекает людей от реальных усилий, которые от них требуются, отвлекает от истинных причин бедствий, коренящихся как в нашем эгоистическом и лживом сердце, так в социальных структурах, основой которых является низменная мораль. Антисемитизм уводит людей от истинных причин бедствий, чтобы настроить их против других людей, против невинной толпы, подобно тому, как терпящий бедствие экипаж вместо того, чтобы сражаться со стихией, решил бы выбросить за борт часть команды, опасаясь, что они вцепятся друг другу в глотку и подожгут корабль, на который рассеянное человечество совершает посадку.
Немецкая трагедия
Я говорил о так называемом политическом антисемитизме и той почве, на которой он произрастает в некоторых странах с сильным еврейским национальным меньшинством. На самом деле, именно заразительный пример немецкого расизма в течение многих лет видоизменял, усиливал и демонизировал конфликт в этих странах.
Немецкий народ, патетический и несчастный, тоскующий по единодушию, тоже был вовлечен в историческую драму, к которой любой, кто способен сочувствовать другому, не может остаться равнодушным. Зачем он позволил увлечь себя одной из тех магических мелодий, против которых оказался беззащитным, и сегодня, попирая евреев и христиан, отправляется на поиски самого себя и своей судьбы? Но здесь не место говорить в подробностях об этой драме. Я буду говорить лишь о том, что относится к евреям: верно ли, как пишет Артур Руппин и как об этом более резко говорил Карл Маркс, что есть своего рода близость между еврейским и капиталистическим авантюризмом и что еврейство не устраивается нигде лучше, как именно в капиталистической цивилизации?[392] Если, с другой стороны, верно, что Германия, особенно послевоенная Германия, является европейской страной, которая лучше других узнала пагубную эйфорию и помутнение разума, выбитого из колеи капитализма, то становится менее удивительным тот парадокс, что не там, где евреи были отделены, а там, где они ассимилировались, сущностно ассимилировались в немецкую общину, вплоть до того, что стали играть главную роль в немецкой культуре и литературе, иногда забывая о еврейском народе и горестях Израиля, именно там неслыханная буря ненависти неожиданно поднялась против них, как если бы это было неким разочарованием в себе самой, которое современная Германия стремилась наказать в них — изумленном козле отпущения, кричавшем напрасно: но я жил лишь для немецкой мощи и для немецкого духа, я не любил никого, кроме вас, немецкого величия и немецкой силы, служащих цивилизации, брошенной целиком на завоевание власти!
Когда цивилизация отличается мощной и вместе с тем нездоровой промышленностью и все проникнуто духом современного капитализма, после ужасного военного поражения происходит общее нравственное падение и страшное материальное обнищание беднейших классов, и это происходит в народе, в котором были развиты и концентрировались все яды унижений; и когда перед лицом революционной коммунистической катастрофы, к которой вела внутренняя логика данной цивилизации, не найдя и даже не пытаясь искать внутренние движущие силы существенно нового порядка, она предпочла другую революционную катастрофу, которая хотя и спасла государство, но потеряла при этом все остальное, неудивительно, что, приняв отныне основной образ правления, при котором иллюзия, миф и престиж подменяют и затем уничтожают, как при воздействии черной магии, истинное лицо и истинные причины событий, данная цивилизация инстинктивно избирает антиеврейский миф, дающий возможность столь нелепым образом объяснить все беды истории и свалить на виновных во всем бремя своей тревоги и дурных воспоминаний.
Если те замечания, которые я только что сделал, верны, следует задуматься о том, что отношение Германии к евреям в стране более сложное, чем кажется. Так как ни те, ни другая не изменились, я говорю о существенном и о реально существующем. Преследуемые, униженные, страшно угнетенные, немецкие евреи все же в большинстве своем продолжают дорожить Германией, по крайней мере Германией XIX в. И когда они плачут на реках Вавилонских, то они вспоминают не Сион, но Берлин до фюрера, Берлин великой капиталистической авантюры и великолепные беседы с князем мира сего, который еще не надел коричневую рубашку расистской жестокости. С другой стороны, гитлеровская Германия, стремясь избавиться от Израиля, вместила все худшее, что было в Израиле, я имею в виду то чувство расовой гордости, которое присуще некоторым недуховным евреям и является натуралистическим извращением сверхъестественной идеи Божественного избранничества. Расисты остаются распространителями Ветхого Завета, как коммунисты — Нового. Именно из Священного Писания евреев расистами была взята и искажена идея расовой предопределенности народа Божьего; коммунисты же почерпнули из Евангелия, извратив ее, идею всеобщей человеческой свободы и братства.
Поймите правильно то, что я сейчас сказал. Я не упрекаю немецких евреев (как кое-кто делал совершенно некстати), что они не воспользовались нацистским преследованием, чтобы обратиться в христианство. Я лишь отмечаю, что они не подражали своим предкам времен пророков, не расслышали крика их страданий, чтобы обратиться к своему Богу и вспомнить о своих истоках — Аврааме, Исааке и Иакове. В ответ на ужасное бедствие, которое обрушил на евреев немецкий расизм, ничего иного, кроме справедливых жалоб и возмущений, сопровождаемых призывом к американцам бойкотировать немецкие товары, и обращения к международной гуманистической литературе не последовало ни в Германии, ни за ее пределами. Но то движение сердца, которое позволяет проникнуть в тайные глубины истории, то возрождение духовных сил, перед которыми преследователи не могут устоять и всегда заканчивают тем, что обнаруживают свое подлинное лицо: немного соломы и кровавое месиво… Израиль, удивленный и словно парализованный своим рационализмом, осмелится ли и впредь доверять этой силе?
И евреи, и христиане при этом оказываются странным образом связанными. Размышляя о состоянии дел в Германии перед 1933 г., как не задаться вопросом, не было ли в этой стране, как и в других странах, но с гораздо более быстрыми трагическими последствиями, не было ли в ней недостатка в простом человеческом сострадании, в том элементарном сострадании, о катастрофической нехватке которого в наше время недавно говорилось.
Имея своего рода привилегию Божественного усыновления, не продолжали ли и евреи, и христиане слишком спокойно заниматься своими делами, земными и небесными, не видя при этом рядом с собой искаженные болью лица людей и мира и держась подальше от нищеты этих людей и мира?
В итоге обнажилось новое лицо, мрачное лицо в человеке, пылающее языческой нощью. Я не хочу говорить обо всем этом, не выразив чувства восхищения и братской любви христианам Германии, католикам и протестантам, которые, как и евреи, страдают от преследований, но смело противостоят всем опасностям, чтобы защитить одновременно и Евангелие, и Ветхий Завет от богохульного неистовства. Общинность приводит и христиан, и евреев к осознанию глубинной связи, действующей между ними, объединяющей всех людей, за рамками доктрины и образа жизни, как это имело место по крайней мере в ранней общине, созидавшей всех своих членов по образу Божию. Будущее покажет, что человеческая история сможет извлечь из такого опыта.
Но на этой конфереиции темой обсуждения являются евреи. Именно на них прежде всего расистские неоязычники испытали силу своих ударов. Их горячее желание, без сомнения, по возможности изгнать всех евреев за пределы границ. Но так как достичь этого им не удается, они решили лишить евреев политического существования, заключив их в гораздо более жестокое гетто, нежели средневековое, так как сейчас разница не в вере и религии, к чему человеческая свобода и благодать Божия уже «привыкли», но это — непоправимое различие крови, разделяюще людей. И вот мы оказываемся лицом к лицу с расистским антисемитизмом. Для его самооправдания недостаточно, чтобы евреи были народом или расой в этико-историческом смысле, необходимо, чтобы они были расой в биологическом и антропологическом смысле слова, и в то же самое время необходимо, чтобы расизм стал мировой концепцией, наукой и религией.
По правде говоря, евреи не есть раса в биологическом смысле слова. Известно, что при современном состоянии человечества в нем не существует чистых рас в смысле каких-то значительных групп, и даже тех, кто с этой точки зрения наиболее предпочтителен; евреи тем более не составляют исключения: в ходе истории смешение крови в них было столь же ощутимым, как и в других народах. Выдающиеся ученые утверждали, что для современного человечества расовая идея не отвечает какой-либо анатомо-физиологической реальности, какой-либо общности «крови», но соответствует лишь типовой «ментальности», определяемой историческими и социальными условиями; ее значимость базируется в гораздо большей степени на чрезвычайно сложных исторических (психо-этико-социологических) задачах, которые прояснялись по ходу дела, чем на врожденных наследственных чертах.
Это не значит, что следует отрицать существование характеров или важность такой науки, как генетика, но сами характеры сильно перемешались в этническом водовороте в течение многих веков; они образуют лишь материальный элемент, совершенно непригодный для обоснования ценностной дискриминации людей и для того, чтобы разрушить видовое единство человечества.
С научной точки зрения расизм представляет собой своего рода политическое отклонение антропологии, служащее для создания практического критерия немецкой национальной общины.
В философском и религиозном смысле трудно не увидеть в расизме одну из наихудших материалистических шуток человека. Заявить, как это было в Нюрнберге в 1933 г., что существует «гораздо большая дистанция между наиболее низкими формами, еще называемыми человеческими, и нашими высшими расами, нежели между самым низшим человеком и самыми развитыми обезьянами»; заявить подобное не есть лишь философский абсурд, это также оскорбление христианской религии, которая, утверждая духовное начало и бессмертие человеческой души и проповедуя братскую любовь между людьми любой расы и любого состояния и уча, что Христос умер ради спасения всех, утверждает вместе с тем природное единство рода человеческого, его существенную разницу с животными и равенство всех людей в праве называться детьми Божиими.
Иногда говорят, да и я только что упоминал это слово, что расизм — это неоязычество, и оно оскорбляет тех язычников, которые не впали в столь жестокий материализм. Культ крови, так называемое предопределение (в реальности — проводник первородного греха и всех разделений, основанием которых он является), — это то, что противоположно в своей основе христианскому культу искупительной и животворящей Крови воплощенного Слова, посредством которой все люди, не отвергшие милость Божью, приведены к сверхъестественному единству «народа» Божьего и к сыновству Богу.
С социальной и культурной точек зрения расизм низводит и унижает до невероятной степени разум, мысль, науку и искусство, отныне подчиненные плоти и крови, и уводит от их естественной «вселенскости». Среди всех форм варварства, сегодня угрожающих людям, расизм приносит наиболее бесчеловечную и безнадежную в самой себе форму, и, как я только что отметил, он делит людей на категории и обрекает на биологическую фатальность, от которой не позволяют убежать никакие действия по освобождению от нее.
2. Богословское значение рассеяния Израиля
Пора перейти ко второй части данного доклада и прежде всего к вопросу о рассеянии Израиля, рассматриваемом в его богословском значении. Как я писал в недавнем обзоре[393], из которого я приведу здесь несколько страниц[394], каковы бы ни были экономические, политические, культурные формы, внешне прикрывающие проблему рассеяния Израиля среди других народов всегда существует и остается реальностью тайна сакрального порядка, об основных положениях которой an. Павел говорит нам кратко и возвышенно в своем Послании к Римлянам.
Если в этой аудитории есть евреи, они поймут, что я в рамках христианских представлений пытаюсь что-то понять в истории их народа. Они знают, что, согласно ап. Павлу, мы, христиане из язычников, были привиты к маслине, предназначенной для Израиля, на место тех ветвей, которые не узнали Мессию, провозглашенного пророками. Таким образом, мы стали людьми, обратившимися к Богу Израилеву, к истинному Богу, Которого знал Израиль, и к Сыну, Которого он не признал. Так, христианство есть полнота и сверхъестественное осуществление иудаизма.
Призвание Израиля
Ап. Павел говорил, что желал бы сам быть отлученным за своих братьев по плоти, так велика его любовь к ним, за «израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования, и их отцы, и от них Христос по плоти»[395], — «ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?»[396]«ибо не хочу оставить вас, братия, — продолжает апостол, — в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется… В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать»[397].
От начала Израиль являет собой тайну: тайну того же порядка, что и тайна мира, и тайна Церкви, и в сердцевине — тайна Искупления. Следует сказать, что, если ап. Павел прав, в этом случае то, что называют еврейской проблемой, не имеет подлинного решения. Я понимаю это так, что прежде будет великое объединение, провозглашенное апостолом, которое будет подобно воскресению из мертвых.
Есть сверхчеловеческие отношения между Израилем и миром, как и между Церковью и миром. Только с учетом этих трех понятий, хотя они и загадочны, я могу выразить некоторые идеи относительно тайны Израиля. Такая своего рода обратная аналогия с Церковью здесь мне кажется единственной путеводной нитью. Церковь, как вы знаете, не обычное религиозное учреждение. Согласно учению Церкви о ней самой, она есть таинственное тело, в котором для выполнения Божественного задания живые связи соединяют людей между собой и с Богом; Церковь — это мистическое тело Христа. Израиль, хотя и в другом смысле, своего рода corpus mysticum, мистическое тело; еврейская мысль сама осознает это. Эрих Калер в своей работе «Israël unter den Vôlkern» энергично настаивает на этой точке зрения. Связующая сила, обеспечивающая единство Израиля, это не связь плоти и крови или этико-историческая общность; это сакральная и сверхисторическая связующая сила, сила обетования и ностальгии, но не обладания. В глазах христианина, который помнит, что обетования Божии непреложны, Израиль продолжает свою священную миссию, но в потемках мира сего, по какой-то глубинной причине, предпочитая ее миссии Бога. Израиль, как и Церковь, в мире, но не от мира сего; со дня его падения, когда предводители Израиля выбрали мир сей, он оказался связанным с миром, оказался пленником и жертвой этого мира, который он любит, но которому не принадлежит, никогда не будет принадлежать и не может быть его частью. Вот так в христианской перспективе нам открывается тайна Израиля.
Причастность к мистическому телу есть причастность к земной Надежде. Израиль страстно надеется, и взыскует, и жаждет пришествия Бога в мир, Царства Божия на земле. Он жаждет справедливости во времени, в природном мире, в городе, и эта жажда вечна, сверхъестественна и нерациональна.
Так же как и мир, и история мира, Израиль и его действие в мире являют собой двойственную реальность. И желание обладать абсолютом в этом мире может принимать любые формы, одни из которых — благие, другие же — дурные. Отсюда следует, что при удивительной сложности типических характеров, существующих в Израиле, причем в избытке как в хороших, так и в дурных проявления, всегда найдутся поводы как возвеличить, так и унизить Израиль. Пеги говорил: «Антисемиты рассуждают о евреях. Я предупреждаю, что собираюсь высказаться грубовато, но антисемиты совсем не знают евреев… Они снова утверждают, что хорошо знают этот народ. В то время как на его коже нет ни единой клеточки, которая бы не страдала, где не было бы застарелого ушиба или давней контузии, ноющей боли или воспоминания о ноющей боли, шрама, раны, следа от удара с Востока или с Запада».
Проблема не в том, чтобы осознать, симпатичны вам евреи или нет (это вопрос темперамента), но в том, чтобы понять, имеют ли они право на всеобщую справедливость и на общее человеческое братство. Если бы люди могли переносить друг друга лишь при условии отсутствия взаимных претензий, все провинции любой страны непрестанно бы воевали. Впрочем, самое забавное, что заявления антисемитов об их прекрасном отношении к тем евреям, с которыми они лично знакомы, и чувство ненависти ко всем евреям, которое они считают своим священным долгом, так или иначе являются признанием тайны Израиля — предмета нашего размышления.
Но каково же это призвание Израиля, длящееся во тьме, о котором мы только что говорили? Прежде всего, это — призвание свидетельствовать о Священном Писании. Но более того, в то время как Церковь предназначена для дела сверхъестественного и сверхвременного искупления мира, Израилю же, как нам кажется, определено в рамках временной истории и своих собственных конечных целей дело земной активации людской массы мира. И здесь Израиль, который не от мира, оказывается в самой глубине основ мира, чтобы его раздражать, ожесточать, приводить в движение. Как инородное тело, как активизирующий фермент, введенный в массу, Израиль не оставляет мир в покое, он мешает ему спать, он учит мир быть недовольным собой и беспокойным. Так как мир безбожен, Израиль стимулирует ход истории.
Духовная сущность антисемитизма
Высказанные соображения объясняют, как мне кажется, кое-что в духовной сущности антисемитизма.
Можно назвать различные частные причины антисемитизма, начиная с чувства ненависти к иностранцу, естественному для какой-либо социальной группы, до религиозной ненависти, увы! И эти две причины могут объединяться. Кроме того, многочисленные неудобства, доставляемые некоторыми из прибывших иммигрантов, камуфлируют более глубокие корни ненависти. Если мир ненавидит евреев, то это потому, что он явно ощущает, что евреи всегда останутся для него сверхъестественными чужаками; мир ненавидит их любовь к Абсолюту и для мира невыносимо побуждение к духовному действию, вызываемое евреями. Таково призвание Израиля, которое мир ненавидит. Ненависть мира — это слава Израиля, как и слава христиан, живущих верою. Но что касается христиан, то они знают, что Мессия уже победил мир.
Так, ненависть к евреям и ненависть к христианам имеет одно и то же основание, она вызвана их отказом от мира, который не хочет быть раненым ни ранами Адама, ни ранами Мессии, ни шипами Израиля в его движении в истории, ни крестом Иисуса ради жизни вечной. Все хорошо так, как есть, нет нужды ни в благодати, ни в преображении, можно получить блаженство в своей собственной природе. Это не христианская надежда на Бога-Помощника, не еврейское упование на земле, это — лишь надежда на животную жизнь и ее глубинную силу, своего рода сакральную, демоническую, когда она овладевает человеческим существом, считающим себя обманутым посланниками Абсолюта.
Расистский теллуризм является антисемитским и антихристианским. Коммунистический атеизм не есть антисемитский, ему достаточно быть универсально богоборческим. Как в первом, так и во втором прорывается наружу тот же самый абсолютный натурализм, то же самое отвращение ко всякой аскетичности и трансцендентальности; мистическая жизнь мира, готовая героически раскрыться, любое мистическое тело, существующее вне мира сего, должны быть отвергнуты как таковые.
Низкопоклонство перед миром не привлекает французов. Когда они теряют голову, они все-таки продолжают поклоняться богине Разума. По этой причине, как мне кажется, они никогда не были убежденными антисемитами. Они высмеивают евреев, как и священников, но настоящая антисемитская мания редко переходит у нас рамки экзальтированной мелкобуржуазной идеологии. Я не принимаю во внимание пропаганду, имеющую место в определенных кругах в настоящее время, мне она кажется искусственной. Кто хорошо знает французскую молодежь, и в частности, ту французскую католическую молодежь, которая готова с таким рвением служить общему благу, и тех представителей J. О. С.[9*], которым вы аплодировали здесь в прошлую субботу, эти люди верят, что молодежь никогда не встанет ни на какой другой путь, кроме пути свободы, великодушия и разума.
Евреи и христиане
Удалось ли нам отразить некую патетику положения, в котором находится еврейский народ? Удалось ли нам объяснить, каким образом Израиль, который, зачастую вопреки своему желанию и нередко в противоречивых формах проявляет материалистический мессианизм, отражающий темную сторону призвания к абсолюту, все же с рвением, с умом и с удивительным динамизмом свидетельствует о сверхъестественном в глубинах человеческой истории? Отсюда — конфликты и напряжения, которые под всякого рода личинами не могут не существовать между Израилем и другими народами.
Наивно думать, что это напряжение может полностью исчезнуть. Причина тому — низменное чувство — одно из тех низменных чувств, которые естественны животной природе человека (будь он араб, сам происшедший от Сима, или славянин, или латинянин, или германец). Лишь одно христианство, если оно поистине живое, может избавить людей от желания покончить с этой проблемой путем антисемитского насилия: открытого или политически смягченного преследования. Единственный путь — принять это состояние напряжения и разрешать его в каждом конкретном случае, но не в ненависти, а в согласии с тем, что любовь требует от каждого, чтобы он быстро примирился со своим соперником, пока он на пути с ним, и в осознании того, что «все согрешили и имеют нужду в милости Божьей», omnes quidem peccaverunt et egent gloria Dei. «История евреев, — говорил Леон Блуа, — это преграда в истории человечества, вроде плотины на реке для повышения ее уровня».
В духовном плане драма любви между Израилем и его Богом разрешится (если мы верим ап. Павлу) лишь примирением Синагоги и Церкви. Во временном плане, несмотря на то, что до сих пор нет полноценного решения проблемы Израиля, существуют, однако, частичные или предварительные решения и частичные ответы, поиск которых присущ политической мудрости. Эти поиски продолжались в течение многих веков испытаний.
Наш период истории для еврейского народа — век возрастающих трудностей. В экономической сфере утрата свободного соревнования, приход к власти режимов автаркии и государственного капитализма наносят страшный удар по трудовой деятельности евреев. Опубликованные недавно исследования об экономическом положении евреев в мире сообщают о возрастающей пауперизации масс еврейского населения.
В плане политическом и нравственном, развитие различных видов тоталитаризма, рассматривающих нонконформиста как биологического противника временного сообщества, угрожает естественному стремлению евреев к независимости и свободе.
В духовном плане появление новых небывалой жестокости форм язычества означает неизбежный конфликт (уже чудовищным образом начавшийся) с народом, который издавна в среде язычников героически свидетельствовал о святости личного и трансцендентного Бога.
Я склонен верить, что, если время одержит верх над заблуждениями и злом, угнетающими его сегодня, и достигнет того, что учреди/Г порядок новой, в большей степени соответствующей достоинству человека, цивилизации, в этом случае плюралистические и вместе с тем персоналистские решения, которые по необходимости возобладают при таком порядке, будут характеризоваться также попытками урегулировать еврейский вопрос в соответствии с данной исторической обстановкой.
Как бы то ни было, нам кажется, что если сейчас мы обратимся к христианам, которые сами были привиты к маслине Израиля, то именно они должны по-братски смотреть (и, как говорит ап. Павел, не без трепета за самих себя) на людей, втянутых в еврейскую трагедию. Христиане вполне могут оказаться антисемитами, такое случается довольно часто. Но для них это возможно только в качестве подчинения духу мира сего, но не христианскому духу.
Много исторических ошибок у невнимательных или пылких авторов возникает из-за смешения в средневековой цивилизации церковных понятий и понятий сакрально организованного временного града, в котором земные интересы и все добро и зло социальной жизни человека погружены в религию. Если мы вернемся к истокам, то увидим, что в секулярной цивилизации режим гетто (не будем говорить о драме марранов или об испанской инквизиции) дал повод проявиться худшим страстям и антисемитским эксцессам, но Церковь как таковая, если не считать отдельных священников, не ответственна за эти эксцессы. Достаточно хорошо известно, что папы неоднократно принимали меры для защиты евреев, в частности — против абсурдного обвинения в ритуальных преступлениях; и в общем, в областях понтификата евреи были, как правило, менее несчастны и с ними обращались не столь жестоко, как в других странах.
К тому же западная цивилизация, выйдя из Священной Империи и средневекового режима и, как мы знаем, оказавшись в полном упадке, освободилась от той порочности, в которую ее фактически вовлек этот режим. И было бы странной аберрацией, если бы христиане захотели к ней вернуться ценой утраты исторического существования. Антисемитизм сегодня — это не один из случайных пороков обмирщенного христианства, смешавшего добро со злом, а духовное заблуждение, которое поражает христиан. Я хотел бы напомнить, что в документе Святого Престола от 25 сентября 1928 г. католическая церковь строго осудила это заблуждение[398].
С точки зрения нравственной нормы, взятой в католической перспективе, антисемитизм, распространяясь среди тех, кто называет себя учениками Иисуса Христа, проявляется как патология, изобличающая повреждение христианского сознания, когда оно становится неспособным взять на себя историческую ответственность и остаться верным высоким требованиям христианской правды в реальности. Вместо того, чтобы увидеть в испытаниях и ужасах истории посещение Божие и взяться за дела справедливости и милосердия, которые надлежит творить в любых обстоятельствах, это поврежденное сознание довольствуется фантомами в отношении целой расы, приводя в доказательство обоснованные и необоснованные доводы. Это сознание ищет для себя своего рода алиби, давая волю чувству ненависти, которое надеется оправдать религиозными соображениями.
Однако для христианина далеко немаловажно, когда ненавидят, презирают или хотят унизить народ, из которого вышли воплотившийся Бог и Его Пречистая Мать. Вот почему желчное рвение антисемитизма в конце концов всегда оборачивается против самого христианства.
«Представьте себе, — писал Леон Блуа, — что окружающие вас люди непрестанно с бесконечным презрением высказывались бы о вашем отце и матери и не находили бы для них других слов кроме ругательств и оскорблений. Каковы были бы ваши чувства? Так вот! Именно это происходит и с Господом нашим Иисусом Христом. Забывают или чаще всего не хотят знать, что наш Бог, ставший человеком — еврей, еврей по природе, Лев Иуды; и Его Мать — еврейка, цвет еврейской нации; и апостолы были евреи, как и все пророки; и в конце концов вся наша литургия целиком почерпнута из еврейских книг. И можно ли выказать болшее богохульство, чем оскорбление и унижение еврейского народа?»[399]
3. Трагедия еврейского народа в настоящее время (1938)
Всем известно, что евреи не упускают случая пожаловаться. Если они умеют так горько плакать, то это от извечной привычки к страданию и от беззащитности. Сегодня, как бы то ни было, можно сказать, что фактически преследования им изрядно послужили.
В третьей части этого доклада я буду предельно кратко говорить о проблеме, относящейся к положению евреев в различных странах. Если бы пришлось в деталях перечислять различного рода притеснения, о которых идет речь, им не было бы конца.
В России
Возможно, некоторые удивятся: разве СССР не стяжал себе славу, и по праву, тем, что официально запретил антисемитизм? Разве он не предоставил евреям, как и членам других этнических групп, равенство в правах и свободный доступ в школы и университеты? Да, это так. И однако, Россия — одна из стран, где угроза Израилю — наибольшая. Я не останавливаюсь здесь на экономической разрухе, в которую советский режим вовлек массу евреев. 90 % евреев в России жили торговлей, промышленностью и мелкими ремеслами. Они оказались ущемленными в собственных средствах существования в большей степени, чем крестьянские массы, так как новый режим не терпел ни торговцев, ни свободных ремесленников. Экономический крах был для них полным.
Прежде всего я хотел бы отметить, что хотя евреи и могли существовать — пусть даже и в нищете — в России, но еврейскостъ и иудаизм там были поражены насмерть: ассимиляция (насильственная!) удалась слишком хорошо.
Борьба велась не против еврейского народа, а против еврейской религии, как и против всех других религий. На религиозных евреев обрушились неистовые гонения, проводимые некоторыми евреями-атеистами. «Здесь, — пишет один еврейский автор, — именно еврей — наихудший враг еврея». И в конце концов, огромная масса еврейской молодежи отдалилась от религии, лишь старое поколение еще держалось, «но из-за враждебности правящих классов оно не решалось действовать, и религия была запрещена».
«В стране, — пишет тот же автор, — где евреи двадцать лет назад являли собой еще очень крепкий оплот иудаизма, еврейская религия оказалась почти уничтоженной»[400].
Тем же самым ударом была уничтожена и еврейская культура. Раввинистические школы и почти все синагоги были закрыты. Обучение еврейскому языку, народные традиции, религиозные праздники, обрезание, обряды Моисеева закона — все это практически было запрещено. Очень сильное государственное давление оказывалось, с другой стороны, для поддержки смешанных браков, в результате чего этническая и культурная целостность еврейства быстро исчезла[401].
Также и сионизм, рассматриваемый как «империалистическое» движение, сурово подавлялся, любая попытка сионистской пропаганды приводила к немедленному аресту и изгнанию[402].
О поэзии на языке идиш недавно было сказано, что ее сила и оригинальность «исходит из ее неспособности быть нерелигиозной»[403]. Вообще говоря, не существует еврейской культуры, как не существует еврейского народа, без Бога Священного Писания, пусть хоть в мертвых останках традиции, лишенной веры, которую сионизм, по крайней мере, уважает и собирает.
Единственно значимым феноменом, который подтверждает настоящие рассуждения, является то, что все происходит так, будто глубокая ненависть к Священному Писанию, в котором Бог дает Свое свидетельство, обрушивается на сам Израиль, как на мистическое тело. И Израиль-мистическое тело невозможно попрать без того, чтобы вместе с тем не попрать и Израиль как народ.
В Германии
Мы говорили о немецком расизме, останавливаясь главным образом на его принципах. Надо ли напоминать сейчас, каков он на практике?
В соответствии с законом от 7 апреля 1933 г. (известный арийский параграф), дополненным другими законоположениями того же года, все неарийцы, иначе говоря, все человеческие существа, в которых есть 100 %, 50 % и, если у них дед или бабушка были евреи, 25 % еврейской крови, исключаются из публичной деятельности, и таким образом, прямо или косвенно, с помощью различных придирок, их лишают свободных и «культурных» профессий.
Евреям запрещено заниматься театром, прессой, литературой, музыкой, все это предназначено для арийцев. Евреев нельзя принимать в немецкие университеты как в качестве профессоров, так и в качестве студентов. Им придан особый статус для того, чтобы отделиться от них как от низшей расы и переносчиков заразы, а не для того, чтобы включить их особым образом в общественную жизнь города[404]. Пусть они развивают культуру гетто! Может быть, это даже их воодушевит, как рабов, певших друг другу перед смертью песни. Хотя они занимаются экономической деятельностью. Хотя некоторые из них даже достигают высокого положения, но в то же время их вытесняют из большинства отраслей экономической жизни, предпочитая арийцев. Магазинчики евреев бойкотируют, а тех арийцев, которые решаются покупать у них, подвергают оскорблениям и угрозам. Еврейское происхождение какого-нибудь служащего — законная причина для его увольнения.
Происхождение главенствует над всем: над интеллектом и добропорядочностью, над благодатью и над крещением; крещеные еврейские дети должны учиться в еврейской, а не в христианской школе.
Вы знаете, что Нюрнбергскими законами (это «законы по защите немецкой крови и чести») в сентябре 1935 г. у евреев отняли звание граждан и политические права. Вы знаете, что те же законы запрещают брак и внебрачные отношения между евреями и неевреями под угрозой тюремного заключения. Да что я говорю? Так как эти меры кажутся малоэффективными, теперь некоторые антисемиты собираются требовать смертной казни за расовые преступления или, как они говорят, расовую нечистоту.
Воображение может охватить лишь небольшую часть всех этих законных предписаний и незаконных эксцессов, которые следуют за ними отвратительной вереницей — жалких распространителей гнусных надписей, оскверняющих еврейские кладбища, всякого рода насилия и унижения, конфискацию имущества, доносы, отказы в правосудии — все, что влечет за собой страдание, горе, нищету и бесчестие для несчастного человеческого существа. При этом естественно возрастают самоубийства. Через деятельность учителей и пропагандистов отравляется ненавистью и презрением к евреям сознание именно простых людей, детей, бедняков. Да что там! Самое худшее — это то, что исчезает человеческое достоинство в самих преследуемых. Ужасны даже не желтые скамейки для евреев, поставленные в некоторых скверах Берлина, а то, что можно было увидеть евреев, печальных усталых евреев, сидящих на этих скамейках. В семьях, где отец — еврей, а мать — арийка, можно было также наблюдать, как дети вырывали у матерей признание в адюльтере, чтобы доказать, что они рождены с чисто арийской кровью и имеют право гражданства.
Я знаю, что Германия и расизм не одно и то же. И хотя это «само собой разумеется», мне хотелось бы здесь отметить, что ненависть к какому-либо народу есть великое безумие и, несмотря на расизм и антихристианство, разрушающие сердца, гуманистические и культурные резервы немцев не исчерпаны. Но если нравственные потрясения, происходящие в какой-либо стране, не могут помешать всеми силами стремиться к международному политическому соглашению с этой страной тем, кто надеется таким способом достичь всеобщего мира, то само это стремление, в свою очередь, не может помешать высказать правду. Вот пример немецкого антисемитизма, который подали и продолжают с неистовством пропагандировать руководители национал-социализма и который они в то же время стремятся определенным образом узаконить, превращая антисемитизм в оружие, а именно — в один из способов своего влияния за границей. Пример такого антисемитизма и его пропаганды, действующий повсюду, как в Америке, так и в Европе, — угрожающий жест тому, что у нас еще осталось от цивилизации. И вот уже из политических соображений Италия начинает (что ново для нее) культивировать антисемитские чувства. Весьма суровый антисемитизм, хотя и скрытый под нравственными и культурными формами, без внешней жестокости и без явного узаконивают, существует и в Австрии. Затронуты также и другие страны: Польша, о которой я сейчас скажу, в меньшей степени Литва, Югославия, Аргентина. В Румынии же сегодня бушует волна террора.
В Румынии
В течение долгого времени с евреями в Румынии легально обращались как с людьми второго сорта. Несмотря на обещания, данные на Конгрессе в Берлине в 1878 г., лишь на основе договора 1919 г., явившегося результатом мировой войны, и конституции увеличившегося Румынского государства было провозглашено равенство перед законом всех румынских граждан «без различия расы, языка или религии». Присоединив Бессарабию, Буковину, Трансильванию, Бонат, Марамуреш с 9 млн. жителей, Румыния обязалась признать в качестве румынских подданных около 6 млн. евреев, обитавших на этих территориях, что соответствовало не требующему объяснений положению международного гражданского права.
Я не очень доверяю статистике, особенно демографической, в странах, подверженных конфликтам и межнациональным спорам. Однако, основываясь на официальных данных румынской статистической службы и принимая верхнюю, а не нижнюю границу поправки, вот те выводы, которых разумно было бы придерживаться. В старой Румынии насчитывалось 250 тыс. евреев, ассимилированных в течение длительного времени. Сложив эти цифры с теми, которые я только что привел для вновь аннексированных территорий, которые перед войной входили в территорию современного Королевства Румынии, получим 850 тыс. евреев. Сегодня их или чуть меньше, или чуть больше, но, вероятно[405], немного меньше 4,5 % от общего населения. По этой цифре можно вычислить, что около 10 тыс. человек — это евреи, бежавшие из России и незаконно поселившиеся в Румынии[406].
Так вот! 500 тыс. евреев (король Кароль удовлетворяется в своих декларациях половиной этих данных) обвиняются Гогой в том, что они незаконно оказались в стране, хотят теперь присвоить румынское гражданство, право на жительство и пребывание в королевстве. Это направлено не против 10 тыс. евреев, но против 500 тыс., которые вопиют к нам с возмущением.
Ясно, что даже лучшим мистификаторам в статистике будет трудно произвести подтасовки, согласующиеся с обязательствами, единогласно принятыми договором от 9 декабря 1919 г. О чем же в таком случае речь? Правда состоит в том, что расизм, для которого верность договорам ничего не значит, превращается в Румынии в ураган, стремящийся покончить наиболее быстрыми и наиболее жестокими методами не только с 10 тыс., или с 250 тыс., или с 500 тыс. евреев, но со всем еврейским населением страны.
Все граждане еврейского происхождения уже отстранены от гражданского управления. Уже решено запретить евреям некоторые профессии и некоторые виды торговли, экспроприировать у них сельскохозяйственные предприятия, отстранить их от деятельности в театре, в кино, лишить огромное число еврейских врачей, инженеров, архитекторов, адвокатов права заниматься своей профессией. А то, что в провинции катастрофически не хватает врачей, для них совершенно неважно. Прежде всего — война врачам-евреям. Три ежедневные еврейские газеты в Бухаресте были закрыты. «Железная Охрана» организует террор против еврейских студентов высшей школы и против евреев — членов Коллегии адвокатов. «Голубые рубахи» возбуждают ненависть уличной толпы против евреев, преследуют сотни еврейских крестьян и вынуждают их бежать со своих земель. И это только начало. Существует более страшная угроза: смертельная тоска охватывает сотни тысяч людей.
«Так вот! — заявил недавно Октавиан Гога братьям Традо. — Нельзя ли отослать их подальше… куда-нибудь… на остров, откуда они не могли бы вернуться… А вокруг курсировали бы военные корабли всех наций…»[407]
Похоже на то, что при этом новом образе правления румынская Церковь и государство сотрудничают друг с другом. Сошлемся на заявления патриарха Румынской Православной церкви, опубликованные в одной бухарестской газете[408], где он высказал мнение, что евреи «пустили по миру» румынский народ и вскоре вынудят румын «оставить свои дома и свои очаги и скитаться по свету» и что необходимо выделить где-нибудь на земле «в Африке, в Австралии, на островах и тому подобное» какие-то свободные земли, где евреев можно было бы собрать вместе. «Я недостаточно хорошо знаю географию, чтобы сказать вам, где находится такая земля,» — добавил этот пастырь, благовестник Евангелия.
Напомним о декларации, принятой в 1931 г. Католическим Союзом международных исследований: «Члены национальных групп, так называемые национальные меньшинства, имеют по отношению к государству, подданными которого являются, обязанности и обязательства, возложенные христианской моралью и политикой на совесть граждан. Они пользуются всеми правами, которые христианская мораль и политика признают за человеком и гражданином». Недавно монсеньор Бопен писал: «Вовсе не является вмешательством во внутреннюю политику отдельного государства напоминание тех принципов, которые представляют ценность для всех стран во все времена».
В Польше
В Германии антисемитизм принял антихристианские формы. В Румынии, где антисемитизмом сильно окрашено православие, на конгрессе «Румынского православного братства», состоявшемся в прошлом ноябре, докладчики поставили католицизм на одну доску с коммунизмом. Конгресс потребовал расторгнуть Конкордат и обличить «агрессивный и антинациональный прозелитизм» Ватикана. Румынские католики жалуются на то, что они становятся объектом клеветы и кампании ненависти, угрожающие конфессиональной войной.
В Польше, хотя иерархи Католической Церкви, в частности кардинал Хлонд, непричастны к «постоянной и явной враждебности к евреям», антисемитизм все же принял католическую форму, так как в социальном плане естественно — слишком естественно, когда речь идет, пусть о самой ошибочной, рекламе страстей, связанной с национальными интересами — это не может не коснуться и традиционной религии данной страны.
Я не игнорирую того факта, что в основном Польша отказывается от теории языческого расизма и что ее правительство хотело бы ограничить конфликт лишь экономической сферой. Я не игнорирую того, что в Польше насчитывается от 3 млн. до 3,5 млн. евреев, это несколько больше 10 % от общего числа населения, из чего следует, что проблемы, о которых шла речь в начале данной конференции и которые касались стран с гораздо меньшим еврейским населением, для Польши гораздо более реальны, чем для любого другого государства. Остается фактом то, что там свирепствует сильный антисемитизм, к тому же разжигаемый немецким влиянием и тяжелой экономической ситуацией в стране. Антисемитизм, вызывая, с одной стороны, подозрительную национальную обидчивость, с другой — страдания и отчаянный протест, рискует привести к неразрешимым трудностям. В последние годы, особенно в прошлом году, польские евреи столкнулись с преследованием, хотя и не организованным законодательно, как в Германии, но ведущим к тому, что их жизнь делается совершенно невыносимой. Я отмечу, к сожалению, вскользь, все те же события: массовый бойкот еврейских торговцев и ремесленников (это то, что называется «сухим антисемитизмом»[409]), резкое увеличение бурных стычек, грабежей, погромов с убитыми и ранеными, систематический отказ в правосудии, трагический всплеск насилия и слепая народная ненависть. Неужели крестьяне, умирающие с голода, надеются путем расправы с евреями решить аграрную проблему и проблему обнищания деревни? То, чего никакой ценой не хотят богатые (и что осуществили некоторые государства, чтобы избежать худшего), — это справедливо перераспределить земельные владения; и потому они стремятся гнев бедных обратить на евреев. Самые отвратительные события — те, которые происходили в среде, относящейся, как полагают, к области науки и культуры, и которые стали проводниками расистских влияний и возбудителями страстей. В январе 1937 г. произошли университетские волнения, о которых ради доброй репутации варшавских студентов я предпочту не распространяться. Вы знаете, что в конце концов, уступая антисемитскому давлению, польские университетские власти поставили отдельные скамьи для студентов-евреев, создав своего рода гетто в аудиториях. Многие польские профессора протестовали против подобной меры, и некоторые из них, как и еврейские студенты, не садившиеся на эти скамьи, чтобы слушать курс, предпочитали читать лекции также стоя.
Я хотел бы добавить (не скрою ни единой удручающей меня черты), что из-за социологических причин, о которых я только что вскользь упомянул, антисемитизм в Польше, видимо, в наибольшей степени затронул католические слои населения. Здесь проявляется прискорбное подстрекательство. Слишком часто к нему оказывается причастна католическая пресса. Также нередко встречается такое состояние духа, которое, не одобряя эксцессы против евреев, безропотно смиряется, и, не исповедуя антисемитизм публично, рассматривает еврейскую драму с безразличием разумного и хладнокровного человека, идущего своей дорогой. Однако, это же наш ближний — этот израненный, полумертвый еврей, распростертый на дороге из Иерусалима в Иерихон…
Что касается тех верующих, которые хотят служить христианству, связывая свою деятельность с деятельностью политических партий, прибегающих к насилию и несправедливостям, мы знаем, что на самом деле они наносят глубокий вред тому, чему хотели бы служить.
Чтобы закончить эту главу, я напомню, что в соответствии с договором от 29 июня 1919 г. польское правительство обязалось «обеспечить всем жителям полную и всеобъемлющую защиту их жизни и свободы независимо от происхождения, национальности, расы и религии». В статье 7 точно определено, что «все польские граждане равны перед законом, пользуются одинаковыми гражданскими и политическими правами без различия расы, языка и религии; различие религии, веры или конфессии не должно наносить вред никому из польских граждан в том, что касается пользования гражданскими и политическими правами, в частности, доступа к государственным должностям, различным видам деятельности и почестям, либо занятия различными профессиями или участия в различных промышленных предприятиях». Все это довольно плохо согласуется (и это следует знать) с numerus clausus, со скамейками гетто, со снисходительным отношением, чтобы не сказать больше, слишком часто оказываемым погромщикам судебными властями[410].
4. Что же теперь делать?
Мы только что видели, до каких бесчинств дошел во многих странах антисемитизм, изобличающий себя как один из чудовищных симптомов всеобщего падения нашей цивилизации, и, к сожалению, настраивающий одних несчастных и страдающих людей против других несчастных и страдающих.
Можно ли оставаться безразличным и инертным при виде таких событий? Как можно не поставить перед собой с беспокойством вопрос: что необходимо делать? Я знаю, что сегодня люди повторяют этот вопрос по поводу других бесчисленных ужасных событий в мире. Для нас это не повод уходить от ответа. Необходимо сделать все возможное, прибегнуть ко всем доступным лечебным средствам, столь недостаточным, как может показаться, когда они взяты в отдельности.
Генерал Складковский, президент Польского сейма, сказал недавно: «От имени польского правительства я заявляю, что мы всеми силами будем противодействовать любому погрому и любой кампании ненависти против евреев, подобных тем, которые произошли в прошлом году. В нашей стране нет места расовой борьбе. Существует лишь проблема перенаселенности, связанная с экономической сферой». В то же время докладчик по бюджету Министерства внутренних дел сделал запрос колониальным властям с просьбой «помочь Польше материально и финансово решить проблему еврейской эмиграции при содействии самих евреев»[411].
Эмиграция — вот одно из предложенных лекарств. По правде говоря, оно смогло бы действовать лишь как полумера. Это принесло бы некоторое облегчение экономического кризиса в Восточной Европе, компенсируя по крайней мере превышение рождаемости и, вероятно, даже незначительное снижение абсолютной численности еврейского населения в этих регионах. Об идее массовой эмиграции не может быть и речи, это совершенно невозможно.
Но трагедия в том, что даже при незначительном числе эмигрантов и предоставлении этой возможности лишь относительно малой части еврейского населения эмиграция в настоящее время сталкивается с серьезными препятствиями. Повсюду страны закрывают свои границы для эмигрантов. Мы находимся перед лицом общего и весьма пагубного явления в цивилизации — замыкания народов в самих себе. Что касается евреев, то профессор Иерусалимского университета доктор Руппин констатировал, что уже несколько лет назад «период массовой миграции, преобразившей жизнь евреев в последние пятьдесят лет, следует рассматривать как уже завершившийся. Эмиграция из Восточной Европы может быть не больше, чем 30–40 тыс. евреев в год, что составляет лишь треть естественного прироста населения (для всех стран Восточной Европы). Следует знать, что при этих условиях экономическое положение евреев в Восточной Европе, в частности в Польше, не угрожало настоящей катастрофой только потому, что в последние пятьдесят лет именно эмиграция делала его сносным». Мы встречаем то же самое утверждение как со стороны евреев, так и со стороны поляков.
По всей видимости, цивилизованная община должна принимать людей в интересах всех сторон. Нужно приложить особые усилия, чтобы, несмотря ни на что, сделать возможным прием некоторого, как можно большего, числа еврейских эмигрантов, свободно согласившихся на это. Как это сделать? С одной стороны, с помощью сионизма, которому, кроме того, польское правительство в течение долгого времени выказывало расположение (правда, всем известны сегодняшние трудности палестинского очага и то, что он сегодня может принимать лишь небольшой континент иммигрантов). С другой стороны, добиться, чтобы не только народы Атлантики с малонаселенными территориями, но и некоторые великие народы, приняли переселенцев при помощи соответствующей международной организации и при необходимости соответственного эмиграционного статуса и более открытой иммиграционной политики[412], и, наконец, если потребуется, прибегнуть к заселению некоторых колониальных территорий.
Я не знаю, насколько благосклонно относится сейчас французское правительство к проектам открытия Мадагаскара или иной колониальной территории для приема некоторого числа еврейских эмигрантов из Польши. Полагаю, что по этому вопросу оно ожидает решительных и хорошо проработанных предложений. И если бы эти предложения его устроили — а они, без сомнения, могли бы быть рекомендованы в интересах как местного населения, так и нашей страны, — было бы желательно, чтобы правительство хорошо их восприняло. Такое же пожелание адресуется и другим властям, имеющим обширные территории для колонизации.
Здесь не следует рассматривать еврейскую демографическую проблему саму по себе, здесь следует говорить о той ужасной угрозе, которую усугубляют антисемитские страсти, безрассудно поддерживаемые некоторыми правительствами. Если бы сейчас мог быть рассмотрен и решен вопрос о приеме какой-то части еврейского населения группами в течение нескольких декад, то для еврейского и нееврейского населения Восточной Европы наступило бы хотя и неполное, но реальное облегчение, возможно также, что политически и психологически появился бы шанс погасить антисемитские страсти в странах, где в настоящее время они бушуют особенно сильно.
Добавлю еще, что поразительным образом безумие антисемитизма проявляется в том, что, с одной стороны, евреев преследуют, чтобы заставить их эмигрировать, хотя евреи и так всегда обеспечивали высокий процент эмиграции, чему сейчас препятствуют вполне материальные обстоятельства: повсеместное закрытие границ; с другой стороны, в подтверждение замечания, которое мы сделали в начале доклада, антисемитизм сам создает препятствия в эмиграции, которой жаждет, как и в каких бы то ни было реальных начинаниях, связанных с еврейской проблемой. На самом деле, очевидно, что эмиграция, как и любое организационное действие, требует содействия самих евреев и, следовательно, — атмосферы понимания и сотрудничества. Более того, при теперешнем экономическом положении различных государств кажется невозможным, что трудности, вызываемые эмиграцией, в частности на территории колоний, можно было бы разрешить, если бы международные организации помощи евреям согласились частично финансировать устройство эмигрантов, не имеющих средств.
Но увы! С точки зрения антисемитских преследований такое средство, как эмиграция, о котором мы только что говорили, не есть лучшее решение, но — лишь полумера. Есть ли другой способ? Дело в том, что большая масса евреев в любом случае вынуждена оставаться там, где она живет. Невозможно изгнать миллионы людей, сделать их скитальцами, не имеющими родины. Не собираются ли их всех обречь на голодную смерть? Не собираются ли убить их всех? Чем больше общественное мнение будет повсюду информировано и встревожено, тем больше надежд на то, что преследования прекратятся. В правовом отношении еврейское население сможет при этом призывать к соблюдению конституционных и международных гарантий, которые были за ними признаны. Это в особенности относится к правительствам тех стран, для которых слово «правосудие» все еще сохраняет значение действия, опирающегося на общественное мнение, с целью заставить уважать договоры, скрепленные их подписями. Лига Наций (проявившая себя столь слабой в случае Данцига, не говоря о других) уже была уведомлена о положении евреев в Румынии. США много сделали и еще могут много сделать для защиты еврейского населения.
А что дальше? Дальше можно надеяться, что, если удастся избежать общей катастрофы или, возможно, после нее, весь цивилизованный мир придет к более справедливому и существенно новому порядку. Часто кажется, что эти проблемы невозможно разрешить, пока все не изменится. Но это утверждение не особенно помогает тем, кто мучается сегодня.
Так вот! Нам остается повернуться друг к другу — евреям и христианам, повернуться к тем невидимым силам, которые обитают в сердце человека, к источникам истории, которые — в нас, чтобы очистить эти источники.
Если бы мы знали, в какой степени внешние события и форма вещей зависят от невидимых образов, которые рождает в нас наша свобода, мы бы испытывали гораздо больше доверия к возможностям духа.
Одновременно мы отказались бы бороться с ненавистью при помощи ненависти. Мы бы поняли то, что так часто утверждал Ганди: даже по отношению к политической и социальной жизни любовь и истина — это реальная сила.
Если бы мы имели возможность обратиться с особым призывом к нашим друзьям в Польше! Они знают, что я старался не произнести того, что сегодня могло бы их ранить. Если б, собрав все свои лучшие силы, Польше удалось преодолеть те конфликты, которые кажутся неразрешимыми и среди них — еврейский вопрос, она подала бы Европе великий пример.
По словам президента Польского сейма, которые я только что приводил, полякам абсолютно не нужна расовая борьба. Важно принять во внимание, что для процветания их страны в большей степени, чем где бы то ни было, необходимо объединение всех слоев населения.
Вспоминается заявление маршала Пилсудского на открытии Варшавского университета, утверждавшего, что после более чем векового гнета и преследований поляки не должны мириться с ненавистью между различными национальными и этническими группами у себя в стране. В Польше существует реальная проблема, но эта проблема носит прежде всего экономический и социальный характер. Правильные решения — в поиске прогресса в социальном законодательстве и экономической базе, и на этом пути нельзя пренебрегать сотрудничеством с представителями еврейского населения.
Если бы поляки начали созидать и изобретать с тем же рвением, с каким они противостоят друг другу, то нашлись бы средства жить на одной земле и евреям и неевреям, пусть в общей бедности, но помогая друг другу в братском созидании. «Евреи и поляки, — как было сказано, — должны волей-неволей прийти к соглашению, чтобы жить вместе; судьба вынуждает их к этому». Для страны будет полезнее их согласие по доброй воле. Но что касается экономических трудностей, то это, в первую очередь, проблема нравственного порядка.
Войдя в суть доводов Католической Церкви — которые вслед за папой подтвердили епископы, — осуждающих шовинизм, языческий расизм, антисемитизм и коммунизм, польские католики могли бы понять, что недостаточно в духовном плане воздерживаться от ненависти к евреям, а с другой стороны, — полностью разделять с их врагами легенды, предрассудки, предвзятые аргументы, на основании которых евреев преследуют до сего дня; что необходимо в соответствии с общим христианским и человеческим призванием снизойти в милосердии и справедливости Божией в самую глубину земных горестей и конфликтов как тех, так и других! Так они бы способствовали справедливости, и сверх того удалось бы многое другое.
Что же до нас с вами, то где бы мы ни находились, мы все несем ответственность постольку, поскольку (как я только что говорил) драма человеческой истории — это зримая проекция того, что совершается в нас самих. Нет ничего более неотложного, чем скрытая работа, которая повышает уровень духовной энергии в тех, в ком мало веры (прежде всего в них самих), но и во всем человечестве. Эта работа эффективна и приносит ощутимые плоды гораздо быстрее, чем думают.
Сегодня в Европе есть люди, стремящиеся разжечь страшный огонь, пожирающий народы. Это те, кто хочет истребления и смерти и прежде всего — истребления евреев (так как именно об этом в конце концов идет речь, не так ли?). Это те, кто под тупой системой расистской «учености» или сфабрикованных документов скрывают от других людей, а иногда и от самих себя, безумную надежду полностью уничтожить народ Моисея и Иисуса. Это убийство остается в мечтах, и семена ненависти, которыми наполняется атмосфера, — это реальность. Необходимы великая любовь, дух справедливости и милосердия, чтобы очистить эту атмосферу. И в наши дни в политических целях происходит странное злоупотребление именами, которые нам дороги и на которые угнетенный человек еще надеется. В некоторых странах покупают христианские товары, чтобы бойкотировать еврейскую торговлю. При глубокой ненависти к Евангелию доминирующие направления немецкого национал-социализма объявляют себя христианскими, но выступающими против папы и против церквей. Партия Гоги называет себя, если я не ошибаюсь, национал-христианской; партия Кузы — «лигой христианской обороны». В один прекрасный день, возможно, появится христианский расизм, Торы и Одины христианской цивилизации, как христианский иприт или христианские бомбардировки незащищенных городов. При богохульстве одних и профанации других куда изгонят с этой несчастной планеты святость Божию? Отчаяние, в которое многие души при этом рискуют быть ввергнуты, несет тяжесть проклятия. Это не значит, что христианская цивилизация нуждается в защите. Я не хочу поддаваться чувству национального себялюбия, говоря, что католики Франции горячо восприняли то, что недавно сказал епископам папа Пий XI: «Проповедь истины не принесла много побед Христу: истина привела на Крест. Лишь Своим милосердием Он завоевал души и увел их за собой». Нет иного способа завоевать нашу душу, души всех и немного покоя для мира.
V Сумерки цивилизации (1939)
Эти страницы взяты из доклада с тем же названием, состоявшегося в Париже в театре Маринъи (Conférence des Ambassadeurs) 8 февраля 1939 г. Опубликован в виде брошюры в Éditions des Nouvelles Lettres (Paris, 1939). Переиздан в Éditions de l'Arbre (Montréal, 1941)
В небольшой книжке, опубликованной несколько лет назад[413], я предупреждал об ошибке, состоящей в том, что духовную общину Царства Божия считают временной общиной или градом земным. Пойдем дальше. Если задуматься о противоположности между языческой империей и Евангелием, о которой я только что напомнил, то следует отметить, что каждый раз, когда христианин думает и действует так, будто ненависть главенствует над любовью и будто христианская община основана на ненависти, на ненависти к врагу, к враждебной группе, к злому, он уступает духу языческой империи, духу мира сего. Было бы наивно удивляться тому, что мы чаще следуем духу мира сего, нежели Христову Духу. Гораздо опаснее не признаваться себе в том, что, когда мы предаем таким образом Дух Христов, мы раним в самое сердце и христианство, и саму цивилизацию.
Следовательно, если мы верим, что истинное католичество — это католичество двух апостолов, которые хотели низвести на злых людей огонь с неба (как будто Пятидесятница еще не произошла), то наше католичество — не Христово, но от мира сего. «Не знаете, какого вы духа» (Лк 9: 55) ответил Христос тем, кто просил Его таким образом испепелить неверных.
Я утверждаю, что если мы считаем истинным доказательством веры в Бога и любви к Богу не только готовность умереть за Него, но и убить за Него (как говорят некоторые), то при этом мы следуем духу мира сего, а не Христову Духу и хулим веру в Бога. Так, убить ради империи — высшее доказательство веры в языческую империю, но высшее доказательство веры в Бога — отдать за Бога свою жизнь, но не жизнь другого. «Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15: 13. — См.: Sum. theol., II–II, 124, 3).
Но существуют и другие психозы. Я утверждаю, что если мы полагаем расовую ненависть в основу христианской идеи и общины, которая собой ее воплощает, то мы извращаем понятие о такой общине и принимаем само христианство и временную христианскую общину в духе языческой империи. На прошлогодней конференции я говорил в том же ключе: «Конечно, возможно, что христиане могут быть антисемитами, и это встречается довольно часто. Но это для них возможно не иначе, как при послушании духу мира сего, а не христианскому духу». Те, кому не понравились истины, о которых я напомнил на конференции, быть может, согласятся послушать то, что несколько месяцев назад сказал папа группе бельгийских паломников. Комментируя слова Канона мессы «Sacrifïcium Patriarchae nostri Abrahae» («Жертва нашего Патриарха Авраама»), папа воскликнул: «Заметьте, что Авраам называется нашим патриархом, нашим предком. Антисемитизм несовместим с возвышенной мыслью и реальностью, выраженными в этом тексте. Это то движение, в котором мы, христиане, не можем принимать никакого участия. Духовно мы являемся семитами»[414]. Духовно мы — семиты: никакое другое слово, произнесенное христианином против антисемитизма, не звучало столь сильно, как слово этого христианина — преемника ап. Петра.
Если бы люди поняли, какой триумф мира сего над Христом в глубине человеческой души представляет собой расизм, если бы они присмотрелись к видимым результатам, если бы они знали, до какой грани дошли люди в странах, где свирепствует это бедствие: с одной стороны, — злоба, презрение к человеческой личности, садистская жестокость, дикая глупость, с другой стороны, — горе и тоска. Но удивительнее всего не то, что профессионалы подлости и ненависти предлагают на этом пиршестве свое веселое сотрудничество, а тот факт, что государство расистского толка может найти какое-то сочувствие в душах, которые полагают, что служат Богу, — все это открывается в своей истинной перспективе, которая есть агония Иисуса Христа, продолжающаяся до скончания мира.
Наша эпоха готовит демонам убийства неслыханное пиршество. Сталин отдал им кулаков, Гитлер отдает евреев. И тот и другой отдают им также и христиан. Страшный крик, который поднимается из концентрационных лагерей, не доступен для нашего слуха, но он проникает в тайные фибры жизни мира и невидимыми вибрациями раздирает его.
В день, когда президент Соединенных Штатов просил всех людей доброй воли молиться «за обездоленных в других странах, находящихся в страшной беде»[415], в день, когда, перед ужасным бессилием цивилизованного мира помочь огромной массе преследуемых невинных людей, глава государства обратился за помощью к небу, он тем самым показал, каково реальное измерение проблемы, потрясающей сегодня сознание людей. Никогда еще в мировой истории евреев так не преследовали, и никогда преследования не обрушивались сразу и на евреев, и на христиан, как сегодня. Это один из признаков глубокого потрясения нашей цивилизации. Но не будем бояться, хотя побеждающее беззаконие и творит все, что хочет: его приверженцы осознают, что это время коротко. Вот почему они проявляют столь ужасную ненависть.
VI Еще о тайне Израиля (1939)
Ответ человеку, имя которого я забыл[416]Напечатано в «Raison et Raisons» (Paris, LUF, 1947)
Несмотря на то что формальная тема нашего эссе «Невозможный антисемитизм» относится к тайне Израиля, как говорит о ней ап. Павел, и, следовательно, касается сакральных вещей, тем не менее мы неоднократно стремились затронуть социологические аспекты проблемы. Тому, кто будет читать эту главу без существенных предубеждений, искажающих взгляд на данный вопрос, покажется лишенным всякого основания обвинение в том, что, предлагая «исключительно сверхъестественную интерпретацию еврейской проблемы» и достижение «одной лишь святости», мы предлагаем абстракцию, превратившую знания, компетентность, добродетели и методы естественного порядка в «решение мучительных вопросов нашей эпохи».
Как бы то ни было, но центральной темой нашего исследования остается сакральный план, и для нас еврейский вопрос — прежде всего (я не говорю — исключительно) — это тайна теологического порядка. Тем не менее мы утверждаем, что ни спекулятивно, ни практически христианин не может решить еврейский вопрос (равно как и никакой другой из сложных этико-социальных вопросов, возникающих в человеческой истории и в цивилизации), как только с точки зрения христианской доктрины и христианского духа. По правде говоря, именно здесь мы сталкиваемся с основным заблуждением, о котором я только что говорил, — со стремлением отделить христианство от жизни, особенно от жизни политической. Если и есть заблуждения, которые отравляют нашу эпоху, ослепляют рассудок, развращают народы, то это именно предубеждения. Полагаю, что г-н Унтель вполне осознает это, поскольку ему хорошо известны нравственные законы. Но что касается его философии истории и города и ее конкретного применения, то ему следует спросить себя, не оказался ли он подвержен предрассудкам. Ему стоит остерегаться аверроизма, ему стоит трижды подумать, прежде чем писать, что «экономические, политические и культурные аспекты вопроса относятся всего-навсего к категории природы и наблюдению фактов» и «как таковые независимы от религии, несмотря на религиозные влияния, которые они могут испытывать».
Это — моррасиенская формулировка, а не политическая. Уместное введение слов «как таковые» ничего не меняет. Экономические и культурные аспекты вопроса относятся к категории природы и наблюдения конкретных фактов, а совсем не «всего-навсего» к категории природы и наблюдения конкретных фактов; иначе эти аспекты акцентируют принципы всего-навсего природные и сами по себе являются независимыми от религии.
Человеческая природа обладает своей собственной реальностью, своим достоинством, своими собственными конечными целями: она не является абсолютом; отличаясь от благодати, она не отделена от нее, но независима. Благодать даруется не как шапочка, надеваемая на голову доктора, но как Божественная прививка, сразу предназначающая человека к сверхъестественной жизни и возводящая саму естественную жизнь в подобающий ей чин. Тому, кто не понимает этого, следует перечитать «Сумму теологии» и папские энциклики, которые, говоря об экономических, политических и культурных реальностях, рассматривают их не только с позиции естественного права, которое Церковь обязана хранить неповрежденным, но и с точки зрения Евангелия, которому по Божественному повелению надлежало прежде всего сохранить дар Божий, чтобы реальности естественного порядка были бы пронизаны евангельскими добродетелями и евангельским милосердием, являющимся сверхъестественной добродетелью по преимуществу. Все это возможно лишь в том случае, если экономические, политические и культурные реальности смогут быть проведены на более высокий уровень в присущем им естественном порядке через евангельские энергии. Если бы люди дали себе труд перечитать работы современных томистов, подробно объясняющих те истины, о которых идет речь!
Для нас как история, так и культура, при том состоянии, в котором находится человечество, имеет свои собственные цели, возвышающиеся над естественным порядком и косвенным образом подчиняющиеся целям вечной жизни (finis ultimus simpliciter) и приготовлению Царства Божия, которое находится выше истории. Томисты заходят так далеко в этом понятии, что они смотрят на цель vita civilis (цивилизации), как на «конечную цель в заданном порядке», finis ultimus secundum quid. Как только в самом порядке природы и временных реальностей допускается внутренне обусловленное изменение сверхъестественным посвящением, то Унтель, по-видимому, считает, что принижают природу и не учитывают ее законы, что ее отрицают или ненавидят. Или же лишь рассматривают человеческую природу в конкретных условиях существования, в которых она в действительности и находится.
* * *
Как же философу, лишенному «сепаратистских» предрассудков, не прийти к столкновению с еврейским вопросом, как бы специально возникшим, чтобы спровоцировать его на скандал? Ибо с самого начала благодаря уникальной привилегии, прежде чем Израиль преткнулся, произошло его сверхъестественное избрание, коснувшееся народа с его историей во времени, расы с ее этико-социальной судьбой. Мы видим кодекс социальной жизни, национальную традицию, конечную историю, расу, народ, выделенный Богом, народ-священник. Если некоторые евреи взращивают в себе расовую гордость, вызывающую немалое раздражение (гордость в какой-то степени извинительную из-за чудовищной череды преследований, через которую прошли их предки), то это — следствие натуралистического искажения Божественного избранничества. Хитроумные антисемиты, обличающие «еврейский расизм», забывают, что ответственность за первоначальную концепцию избранного народа (конечно, воспринимаемую в ее чистых источниках) ложится на Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога Израиля, вашего Бога, дорогие христиане, обратившего вас к избранной маслине, к которой вы были привиты. Во всяком случае, именно Библии и Моисею Унтель должен приписывать сверхъестественность, которую он измыслил. Слишком явно, что он утратил основание из-за удивительного смешения природного и сакрального, сверхприродного и временного, присутствующего в уникальном примере Израиля.
Он возмущается тем, что мы считаем сделанный Богом выбор непреходящим и призвание Израиля — продолжающимся, хотя и особым образом, даже после его отступничества. Пусть он нападает на ап. Павла и на апостольское утверждение, что призвание и дары Божии непреложны. (Унтель упрекает ап. Павла, тщетно пытаясь ослабить силу его слов.) Ап. Павел открывает нам — и мы дальше коснемся этого, — что даже ослепленный и лишенный своего удела Израиль всегда любим Богом как избранный народ. Вот почему его отвержение лишь временно. Еще следует заметить, что, если еврейский народ оступился, он должен нести до своего конечного воссоединения последствия своего отступничества, но было бы, однако, заблуждением считать, что этот народ находится в «состоянии смертного греха», так как у народа нет личной души, и в качестве жертвы, невиновной в ошибке, совершенной когда-то кем-то, Израиль несет бремя священников, нарушивших свой долг. Мы говорили, что Израиль — это отверженная церковь и что его призвание, ставшее фактически двойственным, продолжается в ночи мира. И мы делали оговорку, что этот предмет следует толковать путем аналогии: «Мы считаем, что в этом случае своего рода обратная аналогия с Церковью — единственная путеводная нить. Чтобы попытаться увидеть ночную тайну в свете тайны утренней, было решено использовать в несвойственном им значении идеи и термины, предназначенные для совсем иных предметов».
Г-н Унтель не является первым философом, который принял перспективы, открытые процессом мышления по принципу аналогий за нагромождение противоречий. Это печальный факт, и не нам дано его устранить. Без допущения «обратной аналогии», о которой мы ясно говорили, невозможно понять утверждений, подобных этому: «Если мир ненавидит евреев, это потому, что он ясно чувствует, что они будут для него сверхъестественно чуждыми… Евреи — пленники и жертвы мира, который они любят, но они — не от мира сего и никогда не будут — от мира, не могут быть от мира… Ненависть мира — это их слава, как и слава христиан, живущих верою».
Текст, однако, совершенно ясен. Израиль сверхъестественно чужд миру, но не таким же образом, как Церковь: она есть Царство Божие в состоянии странствования и распинания, он — народ Божий, который Бог постоянно призывает и который Его не слушает, но при этом сохраняет упование на Бога на земле и ностальгию по абсолюту, сохраняет Священное Писание, пророков, обетования, веру в Божественную святость и чаяние Мессии. Евреи ненавистны миру иным образом, нежели христиане, последние претерпевают ненависть мира из-за Иисуса Христа и по причине креста, евреи же — из-за Моисея и патриархов и из-за той земной активации, которую испытывает мир от них как от возбудителей, и потому, что Иисус Христос по плоти — от них. Евреи — не от мира и никогда не будут от мира не потому, что им поручено, как Церкви, продолжать искупительный труд Христа, но потому, что они должники Христу; потому что выделенные для служения Богу своим мессианским призванием, они остаются даже после своего отступничества отделенными от мира своим страстным стремлением к Истине, которую мир отвергает.
2
Но Унтель, как я только что говорил, предлагает свою экзегезу 9-11 глав «Послания к Римлянам». Последуем же за ним.
Прежде всего он напоминает (и совершенно верно), что обетования Божии не пропали, так как они реализуются в Церкви. Но по причине своих основных допущений он не видит в еврейском народе «природной реальности», сходной с другими социологическими общностями. Унтель с удивительной убежденностью доказывает, что «в Послании нет отрывка, который мог бы намекнуть на идею какого-либо исключительного права Израиля как народа Божиего со времени установления Нового Закона». Как же он читает ап. Павла?
Когда ап. Павел пишет, что предпочел бы быть проклятым за своих братьев по плоти, «которые — израильтяне и которым принадлежит и окончательное усыновление, и слава, и единение, и Закон, и богослужение, и обетования, и патриархи; от них — по плоти Христос», — о каких евреях говорит ап. Павел, если не о тех, которые жили в его время и из которых лишь часть «сохранившихся по благодатному избранию» признала Спасителя? Масса «ослепленных» людей не потеряла право на перечисленные апостолом привилегии (в настоящее время утратившие для них свое значение в провиденциальном плане). Они давят на эту массу грузом мертвой буквы, они ей «принадлежат» всегда особым образом, на основании изначального дара, но их действие вследствие отступничества Израиля оказалось временно приостановленным. Именно Церковь — Израиль по духу, наследовала ему и при этом еще получила божественную энергию, исходящую от страданий Христовых и относящуюся к Закону Благодати. Но когда еврейский народ как таковой обратится и придет под закон Нового Завета, то со своими древними привилегиями, умноженными во всех других народах универсальностью самой Церкви и преображенными в Духе истины, он вновь воссоединится, соединяясь с язычниками в едином лоне Церкви.
И что сказать об известном отрывке: «Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим 11: 12). Эрик Петерсон замечает: «Невозможно выразить преимущество Израиля с большей силой, нежели в этом стихе Послания, адресованного (не будем забывать) римлянам. И это — до падения избранного народа, который раскрывает свое богатство, богатство для космоса, для языческого мира… Его обращение будет иметь гораздо большее значение, чем его падение, и для космоса, и для язычников»[417].
Но Унтель говорит: «Эрик Петерсон заблуждается». И в связи с этим приводит довод: «Это не совсем так, потому что евреи отвергли благодать, так что она была дарована другим людям! Предположим, что евреи приняли бы Божественный дар, вправе ли мы утверждать, что язычники не имели бы и малой части в этом даре, так что духовным Израилем был бы лишь один Израиль по плоти?» Это возражение, которое сразу обращается к разуму, на самом деле очень естественно, слишком естественно, вот почему ап. Павел, который видел Божественный план таким, каким он был фактически установлен, не занимался футурологией и не очень заботился об этом. Возможность решения он оставил своим экзегетам. Падение евреев, как пишет отец Лагранж в своем Комментарии к Посланию к Римлянам, произошло как основание спасения для язычников: «Это констатация факта. Павел, будучи отвергнутым евреями, обратился к язычникам (Деян 12: 45–48), которые раньше были поставлены на путь спасения». И более того, следует сказать, что неверие евреев было условием, благодаря которому Церковь смогла от своего рождения возникнуть, как независимая от Израиля по плоти, от его временных посвященных, от его теократии и появиться в мире со своим абсолютно универсальным характером, над-временным и над-национальным.
Тот же экзегет продолжает: «И если бы евреи обратились в массе, разве они согласились бы отказаться от своего Закона? Разве стало бы христианство религией, свободной от национальных ритуалов, единственной, которая смогла бы подойти язычникам? Современные ученые полностью согласны с ап. Павлом, констатируя, что отказ евреев облегчил приход язычников. И даже этим Бог предложил помощь евреям — Он хотел вернуть им ревностность и т. д.».
А что касается особого обещания, относящегося к конечному обращению Израиля по плоти, не указывает ли оно для Израиля, как для народа Божьего, на удивительное и постоянное преимущество? Даже если Израиль перестанет упорствовать, путь мира уже изменен, и радость язычников составляет необыкновенное духовное богатство. В этом смысле, являясь свободными судьями, израильтяне держат в своих руках «судьбу язычников». «Если же падение их — богатство миру… то тем более полнота их». И еще (Рим. 11: 15): «Если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?». По этому поводу св. Фома пишет, что «их духовное изобилие либо численное превосходство обращенных к Богу, станет богатством язычников по слову Экклезиаста: Мое жилище — в полноте святых. Итак, если Бог попустил для блага всего мира падение и отдаление евреев, насколько же более великим Он восстановит их единство на пользу всему миру… И чем явится воссоединение Израиля, если не новым призывом к жизни в миру, так сказать, охладевших верующих, когда «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф 14: 12)[418].
Отрывки, которые мы только что процитировали, не единственные, свидетельствующие о преимуществе, которое остается за Израилем как за народом Божиим и после заключения Нового Завета. Есть и многие другие отрывки. «Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя» (Рим 10: 16–18). По словам о. Лагранжа это означает, что «евреи всегда определенным образом остаются народом, посвященным Богу, возникшим по воле Божьей» и что «язычники не могут быть сравнимы ни с чем иным, как с диким растением, привитом на добром дереве».
Это подтверждается особенно в Рим 11: 28: «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные (chéris[419], agapêtoi, charissimi) Божии ради отцов. Так как дары и обетования Божии непреложны». Это всегда означает, по словам о. Лагранжа, что «избрание еврейского народа в качестве народа Божия неотменяемо, и если оно по необходимости оказывалось недействительным для успешного распространения Евангелия, то это лишение временное… Евреи стали врагами Богу, который допустил их отношение в интересах язычников. Они остаются возлюбленными, как избранный народ…»
Не видеть в предназначении народа Израилева ничего, кроме судьбы некоего социологического сообщества, или же заявлять, что избрание Израиля в качестве народа Божьего было просто уничтожено пришествием Христа, — значит упростить явления до полной подмены понятия «естественное» понятием «сверхъестественное» у Павла и таким образом аннулировать первое. Numquid Deus repulit populum suum? Absit[420] [10*].
«Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей… что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется» (Рим 11: 25–26), весь Израиль будет собран в Истине. «Здесь, — пишет Боссюэ, — апостол поднимается над всем, что он только что сказал, и входит в глубины судов Божьих…»[421] Пророчество, которое вводит в глубины судов Божиих, само по себе относится к сверхъестественной тайне. Тайна евреев не есть нечто из собственно Божественной жизни, в отличие от тайны искупления, но она по сути соотносится с этой тайной так же, как и с тайной Отчего гласа, которому человек внимает или который отказывается слушать, когда этот голос призывает в этом мире к вере в воплощенного Сына. Эта тайна столь же велика. Прочтем продолжение текста св. Павла. Приоткрыв нам Божьи указания относительно состояния мира и временного отвержения евреев и обращения язычников, апостол, сраженный недосягаемой высотой тайн Божиих, которые он только что созерцал, тотчас преклоняется перед Богом: «υ, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим 11: 33–34).
Можно ли сильнее выразить «духовное и сущностное» величие подобной тайны?
3
Как только мы принимаем рассуждение ап. Павла о том, что судьба Израиля по плоти есть тайна, становится ясно — и это в высшей степени фундаментальный традиционный взгляд, — что эта тайна воздействует на земную историю евреев среди других народов и на социологические и естественные последствия еврейской проблемы. Мы далеки от того, чтобы недооценивать эти последствия и отрицать то, что они могут стать объектом чисто эмпирического изучения, о чем мы недвусмысленно предупреждали[422]. Но мы обращали внимание на «сакральный» аспект еврейской проблемы не потому, что он упраздняет другие проблемы или делает их рассмотрение излишним, а потому, что этот аспект освещает остальные и остается сам по себе главным. Мы не отказываем в правах экономисту, историку, социологу, потому что ни философия истории, ни философия культуры не должны делать из теологии абстракцию. И разве запрещено христианину помещать себя в подобную формальную перспективу, когда такой автор, как Вернер Зомбарт, на которого повлияло то, как Макс Вебер приписывает удачу капитализма пуританской религии, в свою очередь, с социологической точки зрения стремится объяснить мирскую активность евреев их религиозностью? То, что именно эти страницы в его работе являются наиболее популярными, уже другой вопрос.
Расистские и религиозные дискриминационные законы не только по сути своей несправедливы, но для государства, которое их издает, они являются свидетельством его политического бессилия и незрелости. Вполне достаточно, если справедливые, равные для всех законы будут пресекать зло, откуда бы оно ни исходило, и претворять добро.
Но Унтель не хочет слышать рассуждений ни о равенстве прав, ни об освобождении евреев, осуществленных Французской революцией. Он против этой революции. Здесь не место объяснять, что простые anti ни к чему не приводят. Ограничимся тем, что процитируем строчки из трудов кардинала Вердье, в которых, как мы надеемся, невозможно обнаружить никакого «сверхприродного» яда: «Три равенства, провозглашенные революцией: политическое равенство, равенство всех перед законом, либо огранивающим, либо защищающим; допущение всех граждан к государственным должностям — если рассматривать как их основу братство и любовь, — явлены и рождены Евангельским началом, открытым для мира Христом»[423].
Уптель «не антисемит», по крайней мере он не сторонник погромов, концлагерей, дикой ненависти воинствующего расизма, он советует проявлять к евреям индивидуальное милосердие. Но он сторонник режима гетто — изоляции евреев и отказа для них в равенстве прав. По отношению к ним Унтель рекомендует проявлять коллективную суровость, которая исключила бы их из ранга граждан и сделала бы «гостями». Возвращение к государству, возможному лишь в феодальном обществе, где религиозное единство служило основой для политической жизни, в нашей цивилизации может завершиться только торжеством расового принципа и всеобщего процесса варваризации.
Унтель выдает себя за врага «логических абстракций» и всяких абстрактных понятий. Однако сам он пишет, будто «быть евреем значит обладать своего рода второй натурой, подлежащей осуждению, и как бы наложенной на человеческую природу» — эта одиозная и нелепая химера «теологии старьевщика» доставит удовольствие Юлиусу Штрайхеру и ободрит его на его путях. Утверждается, что осуждение за преступление, в котором кто-то однажды оказался виновен, — глобально, и распространяется на весь народ, получивший таким образом вторую натуру, которая передается из поколения в поколение, которой свойственны типические характеры, «как физиологические, так и интеллектуальные», и которая является «в каком-то смысле ядом для человеческой природы». В виде сверхрасизма здесь преподносится прекрасный образчик извращенного сверхнатурализма. Средневековье налагало отличительные знаки на одежду евреев. «Вторая натура», изобретенная Унтелем, является метафизическим перерождением этой символики, в которое он облек свои собственные абстрактные понятия.
Таково свойство расизма, и его мысль о том, что раса содержит в своей природе «скрытое начало, достойное презрения», делает его в высшей степени достойным презрения. Учители христианской древности не обладали подобным воображением. Даже когда они резко отзывались о евреях, само их представление о них всегда оставалось благородным. Как св. Григорий образно интерпретировал путь двух апостолов к гробу Господню? «Петр вошел первым, за ним следом вошел Иоанн, так же в конце мира сего еврейский народ должен быть собран верою в Искупителя»[424]. Св. Фома в том же евангельском рассказе видел в ап. Иоанне символ еврейского народа: «Два народа, еврейский народ и народ языческий, у гробницы Христа символизировались двумя апостолами у гробницы Христа. Они одновременно бежали ко Христу через века: язычники через Естественный Закон, евреи — через свой написанный Закон. Язычники, как Петр, пришедший к гробнице вторым, приходят к познанию Иисуса с опозданием; но, как Петр, они входят первыми. Еврейский народ, первым познавший тайну искупления, будет последним, обратившимся верою ко Христу… Итак, говорит Евангелие, Иоанн вошел; Израиль не должен вечно оставаться у входа в гробницу. После того, как туда войдет Петр, и Израиль туда войдет, так как в конце и евреи будут собраны в вере»[425].
* * *
Существует определенный пункт совершенства и высшего завершения, цвет природы и естественного права, куда порядок благодати, установленный Новым Заветом, способен привести природу и который природа, предоставленная самой себе, не смогла бы достичь.
Вот один из основных аспектов, в соответствии с которым христианство выстраивает понятие культуры и града. Есть также христианское достоинство, естественные христианские добродетели, христианское право, есть и действующий в истории и претерпевающий противодействие мощных враждебных сил христианский фермент, стремящийся привести общество к более совершенной цивилизации. То, что христиане соглашаются на то, что данная внутренняя энергия, принадлежащая им и служащая для их укрепления, уменьшается, является большой потерей для природы и человечества.
Мы знаем, что среди всех земных проблем — экономических, социальных, — с которыми сталкиваются люди на своем уровне, существуют и проблемы, созданные еврейской диаспорой. Мы без обиняков говорим об этом, и мы также знаем, что можно в полной мере рассчитывать на правительства и на широкое общественное мнение, чтобы в решениях, которые они рассматривают, не было чрезмерного великодушия: по правде сказать, разве большинство из нас больше всего не ненавидит После палача их жертвы? Это очень естественное чувство. Мы не отрицаем его существования. Мы утверждаем, что не время для христиан изменять христианскому духу.
Мы знаем, что существует много видов антисемитизма, начиная от расистского неистовства и до простого желания (также весьма естественного) устранить умелых конкурентов или неприязни по отношению к инородным элементам, которая может происходить из менее вульгарных страстей. Когда мы говорим, что одна форма антисемитизма менее отвратительна, чем другая, то это не значит, что существует какая-то хорошая его форма.
Мы говорим о том, что в то время, когда антисемитские преследования приняли небывалые масштабы и тысячи и тысячи несчастных оказались вне закона, подвергаясь неописуемым жестокостям и унижениям, обреченные на медленную смерть, на «спонтанные» насильственные меры со стороны черни, на ужасы концлагерей; когда мы каждый день узнаем, что эпидемия самоубийств продолжается в Вене или где-нибудь еще или что от холода и голода погибли, как в прошлую зиму[426], целые эшелоны евреев, оставленные у закрытых границ; или же, как сейчас, когда я пишу эти строки, корабли с евреями, умирающими от отчаяния, скитаются по Средиземному морю из порта в порт, гонимые отовсюду, в этих обстоятельствах единственное реалистичное поведение, подобающее, я утверждаю, не только христианам, но и любому человеку, еще сохраняющему чувство caritas humani generis[11*], — это не произносить и не писать ни единого слова, рискующего послужить извинением позорной ненависти и в течение хотя бы нескольких дней прочувствовать кровь и отчаяние творений Божиих.
VII Завоеванная Франция (1940)
Отрывок из книги «À travers le Désastre», написанной в Нью-Йорке зимой 1940 г. (New York, La Maison Française, 1941). Переиздано в 1946 г. (Paris, Éditions des Deux Rives)
Реакции и чувства французского народа в настоящее время не могут иметь никакого публичного выражения, они проявляются в индивидуальном плане. То, что мы узнаем об этих реакциях и чувствах через личные взаимоотношения, вносит луч света, небольшой лучик во тьму нашего времени. Со всех сторон нам говорят, что пресса и радио — причем радио наиболее ангажировано и непосредственно контролируется Германией — ни в коей мере не отражает чувства страны. Так называемое Французское радио вызывает отвращение у французов. Меры, которые правительство Виши предприняло под нацистским давлением, внушает одним открытое отвращение, другим — глубокую тревогу, и сама администрация так малодушна, что подкупает французов, когда только может, знаками благоволения, в которых отказывают тем, кто становится ее жертвами… В Марселе г-н Дорио позавидовал лаврам Юлиуса Штрайхера, но его пропаганда не произвела заметного эффекта. Ошибочно думать, что туда, куда проникает антисемитизм, он не вносит принцип духовного заблуждения, и что чтение гнусных ежедневных газет, которые были и теперь — в большей степени, чем когда-либо — являются мощной силой, развращающей общественное мнение, что он не впечатывает в человеческий разум множество законченных формул и своего рода идеологическую монету самой низкой пробы. Но эта фальшивая монета не доходит до сердца, и антисемитские законы тем более отвращают людей, чем больше они узнают об этих законах из немецких источников.
VIII Учение апостола Павла (1941)
«La Pensée de saint Paul» появилась сначала на английском (New York, Longmans Green, 1941), затем на французском языке (Paris, Corréâ, 1947)
Учение ап. Павла об Израиле[427] и его учение о Законе исходят из одной и той же доктрины. То, что говорилось об ап. Павле и Законе, было предварительным комментарием к данной главе.
Трагедия Израиля
«Что же скажем? Что язычники, не искавшие праведности, получали праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона (он стремился к истине), ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится»»[428] (Рим 9: 30–33).
Под властью Моисеева закона, как и под властью естественного закона, которые, подобно коре, скрывали и покрывали тайны Божии, уже существовала (хотя и без декларирования) вера, вера в Того еще неизвестного, который должен был прийти и оправдать людей. Теперь, когда Он пришел и явил себя, Евангельское предсказание повсюду возвещает Его имя и откровение Сына Божия, барьеры между евреями и язычниками падают, потому что все, будучи явно и открыто призванными ко спасению, в Нем подчиняются Новому Закону, который всех примиряет в Сыне Божием. Но народ жестоковыйный, привязанный к букве Закона, не понимает этого и хочет сохраниться неизменным в уже отживших формах жизни.
Согласно тому, что сказано в Писании: «Верующий в Него не постыдится»[429], нет различия между евреем и греком, потому что Тот же Господь есть Господь всех, щедрый ко всем, кто призывает Его. Так, «всякий, кто призывает имя Господне, спасется»[430].
Как же призовут Господа те, кто не уверовал? И как уверуют в Него те, кто не услышал Его голос? И как услышат Его голос, если нет проповедующего? Кто будет проповедовать, если он не послан? Об этом написано: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость…»[431]. Но не все подчинились Евангелию. Так, Исайя говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?»[432]. Вера — от слышанья, слышанье — от слова Христа (которое было проповедано). Но я говорю: они не слышали? Напротив: «по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их»[433]. Но я спрошу: узнал ли Израиль (Благую весть)? Первым был Моисей, который сказал: «… Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их»[434]. Затем Исайя скажет: «Я открылся не вопрошавшим обо Мне, Меня нашли не искавшие Меня». Относительно Израиля он говорит: «Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному»[435] (Рим 10: 20–21).
Павел свидетельствует своему народу
Если не закон, а именно вера, которая даже при режиме закона, уже спасла души, если истинный иудей — не обрезанный по плоти, но тот, кто иудей внутренне и по духу, in abscondito Judaeus, «Какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания?
Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие» (Рим 3: 1–3).
Это первая привилегия Израиля. Ему было поручено хранить Священное Писание. И если он оказался неверным, доверенное ему дело обратится против него, но оно из-за этого не исчезнет. Обетования Божии исполнятся как бы в ущерб им, но Израиль останется все же, даже в несчастье, свидетелем Божиим в человеческой истории: неверность людей «уничтожит ли верность Божию?» (Рим 3: 3). Обрезание было знаком его избрания, которому он сам изменил, предпочитая в настоящее время обрезание явившейся Реальности, Которая пришла теперь и прообразом Которой и было обрезание.
Говоря о своей любви к еврейскому народу и о своем страдании за него, ап. Павел хотел бы сам быть отвергнутым, если это — цена спасения его братьев. Он перечисляет девять других преимуществ еврейского народа: он носит имя Израиля, возлюбленного Господа; он сын, воспринятый Богом; ему была явлена слава, schechina, это сверхъестественное сияние, которым иногда были объяты ковчег или храм; им принадлежат возобновленные заветы, заключенные между Богом и Его народом, для них — Тора, данная ангелами и обнародованная Моисеем среди грома и молний на Синае; для них — открытое им богослужение; для них — мессианские обетования; для них — патриархи. Наконец, для них — Христос, рожденный от рода Авраама, по плоти — от крови Давида, Он, Который в то же время — Бог, властелин веков.
«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь!» (Рим 9: 1–5).
«Братия, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим 10: 1–4).
Бог не отверг Своего народа, но падение Израиля — спасение народов
«Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ Свой[436]? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут[437]. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени пред Ваалом[438]. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня[439]. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их будет согбен навсегда»[440] (Рим 11: 1-10).
Как ясно видно из контекста, Павел не говорит здесь об очерствении души в перспективе вечности отдельных евреев, которые остаются верными Моисееву закону (как и другие нехристиане, они могут пребывать в благодати, если они истинно верующие; в этом — тайна Божия). Он имеет в виду ожесточение народа, взятого в целом, с точки зрения его призвания.
«Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность[441]. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим 11: 11-1).
[Чтобы прокомментировать эти отрывки, следует сослаться, как я это делал и на страницах, не включенных в этот текст, на приведенные в гл. VI на с. 131–133, цитаты, в которых мы опираемся на авторитет Эрика Петерсона, о. Лагранжа и св. Фомы.]
Средневековые авторы видели в воссоединении Израиля характерный признак третьего периода Церкви и христианства. То же самое пишет и Боссюэ: «Спаситель, не признанный Сионом и отвергнутый детьми Иакова, обратится к ним, изгладит их грехи и дарует им познание пророков, утраченное ими на долгое время, чтобы оно последовательно переходило из поколения в поколение и не забывалось до скончания мира, в течение времени, которое Богу будет угодно продлить после этого удивительного события»[442]. Итак, есть основание думать, что «обращение евреев совпадет не с концом времен, но именно с моментом наиболее удивительного сияния мира»[443].
Язычники привиты к маслине Израиля
«Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо, если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим 11: 13–21),
Это вхождение язычников — не меньшая тайна: это дополнительная грань тайны падения Израиля.
«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким[444], потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф 2: 11–18).
Обетования Божии непреложны, народ Божий обратится
«Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией: иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо, если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине» (Рим 11: 22–24).
В настоящее время пелена опустилась на сердца евреев, но это не навсегда, наступит время, когда эта пелена спадет, так как обетования Божьи непреложны. Проходя через все превратности своего изгнания и мировой истории, Израиль всегда остается народом Божиим — наказуемым, но всегда любимым ради отцов[445].
«…Моисей полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего[446]. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор 3: 13–16.)
«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их[447]. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные[448]Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать[449]? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим 11: 25–36).
[Я уже цитировал в другой главе, что пишет св. Фома о пришествии двух апостолов, Петра и Иоанна, к гробнице Господа]: «Два народа, еврейский народ и народ языческий, у гробницы Христа символизировались двумя апостолами. Они одновременно стремились ко Христу через века: язычники через Естественный Закон, евреи — через их написанный Закон. Язычники, как Петр, пришедший вторым в гробницу, приходят к познанию Иисуса Христа с опозданием; но как Петр, они входят первыми. Еврейский народ, первым познавший тайну искупления, будет последним, обратившимся верою ко Христу… Итак, говорит Евангелие, Иоанн вошел; Израиль не должен вечно оставаться у входа в гробницу. После того, как туда войдет Петр, и Израиль туда войдет, так как в конце и евреи будут собраны в вере»[450].
IX Расистское преследование во Франции (1942)
Радиосообщение из Нью-Йорка, 8 сентября 1942 г. Опубликовано в «Messages» (New York, La Maison Française, 1945; Paris, Hartmann, 1945)
Постыдная новость только что обрушилась на нашу страну: жестокие меры приняты против евреев не только в зоне, оккупированной немцами, но и в так называемой свободной зоне. 20 тыс. евреев-иностранцев были арестованы немцами в оккупированной зоне. В неоккупированной зоне 30 тыс. евреев подвергаются преследованиям полиции. Мы знаем, что французское население старается защитить несчастные жертвы или помочь им скрыться в горах и лесах. Мы знаем, что папа выступил с призывом к милосердию, что епископы Франции протестовали, как и главы Реформаторских церквей, что монсеньор Сальеж, архиепископ Тулузы, возвысил свой голос против чудовищной жестокости к евреям в концентрационных лагерях, где как со скотом обращаются с детьми, женщинами и мужчинами, имеющими честь принадлежать к роду Иисуса Христа.
Но мы знаем также, что инициатор антисемитских преследований во Франции — политик, начавший продавать новому режиму бесчестия и рабства страну св. Людовика, Жанны Д'Арк, страну Декларации прав, — имеет свои подлые мотивы к тому, чтобы остаться глухим к призывам справедливости и сочувствия. Правительство г-на Лаваля проявило себя неспособным сопротивляться немецкому давлению. Маршал Петен покрывает Лаваля. Он взял привычку самоустраняться, тем самым помогая жестокому действию ужасного капкана, в который он сам позволил заманить свою страну.
И не только евреи, но и Франция поражена и ранена гнусными результатами коллаборационистской политики. Предательство традиционных законов политического гостеприимства, признание звериной жестокости нацистского расизма ради своей выгоды и ради своих собственных интересов, выдача евреев-иностранцев, которых Франция, как гуманная и надежная страна, принимала с 1935 г., выдача даже тех, кто сражался за нее в ее армии во время настоящей войны, — никогда подобного позора не было в истории Франции. Это не только оскорбление, нанесенное достоинству и правам человека в лице преследуемых евреев, это оскорбление души Франции, печаль о которой охватывает всех нас, помнящих о святых Франции и о тех днях, когда честь была основой деятельности правителей нашей страны. Несчастные, которые хотели бы лишить Францию ее души через причастность к таким беззакониям, даже не осознают, что они оскверняют святыню и что подобное осквернение, коль скоро оно было совершено, отравит историю на века. Народ Франции, народ униженный и оставленный, лишь ты один перед лицом такого позора, как и всех беззаконий, совершенных недостойными правителями, можешь из жалости к притесняемым и от гнева к притеснителям помешать Франции потерять свою душу. Вы, которые молитесь за людей, доверявших нашей родине, а ныне преследуемых дикими волками; вы, которые укрываете их в своих домах, защищаете их, помогаете им, уберегая от смерти; вы, которые решились ускорить конец всех этих злодеяний; вы, непримиримое восстание которых против врага и его слуг возрастает с каждым днем; именно вы несете на своих израненных руках оскорбленную, преданную честь Франции.
Католический прелат монсеньор Павел Махачек, вицепрезидент Чехословацкого государственного совета, обращаясь к народу Словакии, недавно писал: «Невозможно быть одновременно добрым христианином и антисемитом», — и разоблачил от имени католичества и во имя чести словацкого народа то, что он назвал «дикостью и садизмом так называемого католического правительства» Братиславы. Эти слова имеют огромное значение, они выходят за пределы одной нации, к которой обращены. Мир никогда не поверил бы, что однажды придется молиться Богу, чтобы эти слова не были бы обращены к Франции. Мои друзья евреи, мои братья, позвольте, чтобы христианин выразил вам не только сострадание, но и священное уважение, которое вызывают ваши страдания. Из бездны страданий, в которую вас ввергли, через невыразимую агонию свидетельствуете вы о величии Израиля — народа, которому были даны непреложные обетования, народа, подобного маслине, к которой были привиты христианские народы. Ради этих народов вы таинственным образом страдаете, и что касается Франции, ее истязают те же палачи, выдают и предают те же самые люди, которые преследуют и вас.
8 сентября 1942 г.
X
Расистское право и истинное значение расизма
Речь, произнесенная в Высшей свободной школе в Нью-Йорке 25 января 1943 г. Опубликована в сборнике «Le Droit Rasiste» (1943); затем в «Pour la Justice» (New York, La Maison Française, 1945)
1
В программе данного собрания[451] указано, что его президент сделает заключения по трем докладам, которые вы прослушали. Заключение! Не может быть ничего иного, кроме несказанного ужаса, охватывающего и разум, и сердце перед лицом человеческой деградации, проявлением которой стали расистские преступления, — и решения сражаться до смерти против такой деградации.
История, обсуждение которой вы слышали, сочится человеческой кровью, она пропитана агонией и мучением. Чтобы должным образом это понять, нужно представить себе всех погибших в отчаянии, эти массы несчастных жертв, не только тех, кто пережил безумие и ужас страданий, худших, чем смерть, — я думаю о тех, кого гонят по улицам французских городов, именно французских городов, о женщинах, которых хотят разлучить с их детьми, и они бегут с ними по лестницам и выбрасываются из окон, о безобразии нашего мира и о крушении всякой справедливости, приведших к самоубийствам. В Австрии, как вы знаете, во время Аншлюса и гитлеровского нашествия врачи и фармацевты в качестве высшего доказательства дружбы распределяли среди своих друзей таблетки, которые позволили бы им кончить жизнь самоубийством, они старались продлить срок действия рецепта, чтобы при необходимости он мог послужить и другим несчастным. Вот образ полного отчаяния и безнадежности, который непрестанно должен быть перед нашими глазами, когда мы думаем о расистском праве и о расистских преступлениях. Крайнее отчаяние самоубийц само по себе есть образ еще более ужасной вещи — непоправимого и чудовищного искажения человеческой души в преследователях и той пропасти растления, в которую рискует пасть человеческий род. Платон и св. Фома Аквинский учат, что зло — в злодеях является злом в каком-то смысле неизмеримо более глубоким, нежели зло, претерпеваемое жертвами. Зло, которое источают сердца расистских палачей и антисемитов, производит в нас разрушения гораздо более значительные, нежели зло, от которого страдают мучимые невинные люди. Вывод в заключении: сегодня мы видим ад на земле. Это дьявол, господа, совершающий свой танец. Расистское право есть не что иное, как игрушка в его руке. Он потратил много времени, чтобы заставить забыть нас о своем существовании. Сегодня он напоминает нам о себе и, как опытный теолог, дает нам понять, что его удовольствие не только в том, чтобы быть человекоубийцей, но также, и прежде всего, в том, чтобы разрушить человеческую природу и превратить ее в фарс.
2
Мы говорили о расистском праве, точнее, о полном разложении права, разложении самой идеи права, совершенном расизмом. Расистское право — это доктрина, у нее есть свои принципы и логика, свои профессора, доктора, журналисты, свои журналы и университеты. У расизма есть и свой пророк — Розенберг, и свой герой — Адольф Гитлер. У него есть свои вдохновляющие метафизические и религиозные основания. Позвольте мне прочесть несколько отрывков из «Мифа XX века» г-на Розенберга: «Сегодня появляется новая вера: миф крови. Вера, которая с помощью крови охраняет божественную сущность человека; вера, основанная на той очевидности, что нордическая кровь представляет тайну, которая лишает смысла и заменяет древние таинства…»
И еще (это резюме его произведения на обложке книги): «Миф XX века — это миф крови, который под знаком свастики вызывает к действию мировую расистскую революцию; это — пробуждение расистской души, которая в конце долгого сна победоносно преодолевает расовый хаос». И наконец: «Право не является больше безжизненной схемой, право не есть религия или искусство, но оно вечно связано с определенной кровью, с которой оно появляется и исчезает».
Гитлер со своей стороны апеллирует в «Майн Кампф» к «призванию высшей расы, народа повелителей, располагающего ресурсами и возможностями всего земного шара», и заключает: «Государство, которое в эпоху отравления рас посвящает себя культивированию лучших расовых элементов, однажды неизбежно станет хозяином мира». Такова философская и религиозная подоплека расистского права. Расистское право есть идея. Это по преимуществу идея убийства. И хотя в соответствии с другой точкой зрения, к которой я сейчас вернусь, эта идея проявилась как сверхструктура чего-то более радикального и более глубокого, тем не менее она непосредственно ответственна за все преступления, совершенные во имя ее и при ее защите.
Поскольку, несмотря ни на что, человек есть существо, наделенное разумом, следует разоблачить ошибки и софизмы расистского права. Это первая обязанность тех, кто хоть в какой-то степени наделен разумом и знанием учения о правах человека. Меня как католика утешает мысль, что научно обоснованное осуждение было осуществлено высочайшим авторитетом папы Пия XI. Я напомню вам здесь список расистских заблуждений, отмеченных и осужденных папой в послании Конгрегации семинарий и университетов от 13 апреля 1938 г.
Первое заблуждение: «Человеческие расы по их естественным и неизменным особенностям столь различны, что наиболее низкие из них дальше отстоят от наиболее высоких, чем от наиболее развитых видов животных».
Второе заблуждение: «Необходимо всеми способами сохранить и культивировать силу расы и чистоту крови; все, что ведет к этой цели, тем самым является честным и позволительным».
Третье заблуждение: «Кровь — основание характера рас, из которого, как из своего главного источника, проистекают интеллектуальные и моральные качества человека».
Четвертое заблуждение: «Основная цель воспитания — развить характерные черты расы и зажечь дух пламенной любви к собственной расе, как к высшему благу».
Пятое заблуждение: «Религия подчиняется закону расы и должна быть приспособлена к нему».
Шестое заблуждение: «Расовый инстинкт — главный источник и высший закон всякой юриспруденции».
Наконец, последнее заблуждение: «Каждый человек существует за счет государства и ради государства. Все, чем он обладает по праву, проистекает единственно от даяния государства».
«К этим столь отвратительным утверждениям можно с легкостью добавить и другие», — сказано в папском послании, верно отмечающим многие из этих заблуждений.
Для обсуждаемой темы сегодня особенно интересно шестое из разоблаченных заблуждений: «Расовый инстинкт — главный источник и высший эталон всякой юриспруденции».
В 1936 г. Франк, глава немецких юристов, высказал классическую формулу: «Право, справедливость — это то, что полезно для немецкого народа; несправедливость — это то, что для него вредно»[452].
Некоторое время спустя в речи от 30 января 1937 г. перед рейхстагом Гитлер заявлял: «Что касается принципов, то вместо концепции индивидуума или человечества мы выдвигаем идею народа, народа одной крови, которая течет в наших жилах, и той земли, которая нас породила. Возможно, впервые в истории человечества в этой стране провозгласили, что из всех обязанностей, возложенных на человека, наиболее благородная и наиболее возвышенная состоит в сохранении расы, что исходит от Бога. С юридической точки зрения необходимо сделать следующие заключения:
«1. Концепция права как такового, находящего в себе самом оправдание своего существования, — ложна».
«2. Концепция, утверждающая, что право имеет целью обеспечить и поддержать защиту индивидуума как такового и его блага, также ложна.
Национал-социалистическая революция дала праву и юридической науке ясную, недвусмысленную точку отсчета. Истинная задача юстиции состоит в сохранении и защите народа против всего того, что уводит его от исполнения обязательств в отношении общины или наносит ущерб ее интересам».
Так, заблуждение расизма и его карикатура на право противостоят основе любого закона: естественного закона и естественного права, в которых права человека находят оправдание своего существования, противостоят также признанию прав человеческой личности, являющихся главным выражением естественного закона.
Неудивительно, что в энциклике «Mit brennender Sorge» от 14 марта 1937 г. Пий XI счел необходимым утверждать нерушимость естественного права. Он заявил: «Именно согласно требованиям естественного права, любое положительное право, от какого бы законодателя оно ни исходило, может быть оценено по своему нравственному содержанию и по тому авторитету, которым оно может обладать. Человеческие законы, которые находятся в неразрешимом противоречии с правом естественным, несут в себе порок, который уже нельзя исправить никаким принуждением, никаким внешним воздействием. Только в свете этого принципа следует выносить суждение об аксиоме: право — это польза народа». Можно, конечно, принять это высказывание, если перефразировать его следующим образом." то, что нравственно недопустимо, никогда не сможет служить благу народа. Однако древнее язычество уже знало, что аксиома, чтобы быть действительно верной, в реальности должна быть выражена так: «Невозможно, чтобы что-либо было полезным, если оно в то же время не является добрым в нравственном смысле. И оно нравственно хорошо не постольку, поскольку полезно, но, напротив, полезно лишь постольку, поскольку нравственно хорошо…»
Языческий философ, которого здесь цитирует папа, — это Цицерон, «De Officiis». Так, мудрость древнего язычества и христианская мудрость едины лишь в обличении первого принципа политического макиавеллизма, абсолютную и оголтелую форму которого представляет собой нацистский расизм, называемый неоязыческим, но на самом деле являющийся деградировавшим и извращенным язычеством. Наши довоенные демократы, так называемые реалисты, следуя умеренным или «разумным» формам политического маккиавелизма, сохранили скромный и сдержанный культ, не осознавая, что смягченный и умеренный маккиавелизм неизбежно будет истреблен абсолютным. И великая находка Гитлера — в его понимании гораздо большей действенности ничем не ограниченного презрения к праву, чем встречающего некоторые препятствия и смущающегося нравственностью.
Я вернусь к энциклике «Mit brennender Sorge». Показав, в каком смысле (диаметрально противоположном нацистскому смыслу) только и возможно правильно понять аксиому «Право — это польза народа», Пий XI заявляет: «При нарушении нравственного закона такая аксиома означала бы в международной жизни состояние непрерывной войны между различными нациями». И он продолжает, утверждая истину, явно отрицаемую Гитлером и расистским правом, что права человеческой личности — главное выражение естественного закона. «В национальной жизни, — говорит папа, — аксиома расистского права, смешивая понятия права и полезности, не признает того основного факта, что человек, поскольку он — личность, обладает правами, полученными от Бога, которые должны сохраняться при наличии коллективности без какого-либо посягательства на то, чтобы попытаться их опровергнуть, уничтожить или ими пренебречь. Отвергнуть эту истину — значит забыть, что истинное общее благо предопределено и признано, как указано в последнем исследовании, человеческой природой, которая гармонично уравновешивает личные права и социальные обязательства, а также целью общества, определяемой той же самой человеческой природой…»
Позвольте мне процитировать вам еще несколько строк из этого папского документа: «Опыт последних лет (это было написано в 1937. — Ж.М.) в полной мере раскрывает, на ком лежит ответственность: этот опыт изобличает интриги, которые с самого начала имели в виду лишь войну для истребления… Христа и Его Церкви».
И еще (не забудем это суждение, слушая Гитлера, лживо ссылающегося на имя Всемогущего): «Верит в Бога не тот, кто довольствуется использованием имени Божьего в своих речах; верит лишь тот, кто к этому священному слову присоединяет истинное и высокое понимание Божества».
И наконец: «Всякий, кто принимает расу или народ, государство или какую-либо государственную форму, носителей власти или любую другую основополагающую ценность человеческой общины (т. е. все то, что занимает в земном порядке необходимое и достойное место), — тот, кто принимает все эти понятия, чтобы вырвать их из общей системы ценностей, даже религиозных, и обожествить их посредством культа идолопоклонства, этот человек переворачивает и извращает порядок вещей, созданный и предписанный Богом…»
Тексты, которые я только что привел, не есть лишь напоминание доктрины, незыблемой в своей истинности. Они также доносят до нас надежду и героическую отвагу молодых французов, которые перепечатали их (заплатив за это жизнью), в первом номере замечательного подпольного издания «Cahiers du Témoignage Chrétien» (Ведомости христианского свидетельства), появившегося в ноябре 1941 г. Заглавие статьи было «Франция, остерегайся потерять свою душу».
3
Здесь только что говорили об ужасных плодах расистского права, причем лишь о небольшой их части. Но чтобы иметь представление о происходящем, нужно услышать все крики агонии в Европе и в мире.
Великое множество мужчин, женщин и детей, совершенно невинных, были убиты нацистами за принадлежность к еврейскому народу. Полный подсчет жертв очень труден: если стремиться не впасть в преувеличение, настаивать на более умеренных цифрах — есть риск нанести вред жертвам. Если стремиться создать картину, наиболее близкую к тому, что сообщают свидетели, то цифры более вероятны, но при этом есть риск спровоцировать недоверие тех, кто не хочет волноваться прежде, чем это засвидетельствуют историки. Нам достаточно знать, что в Польше и Литве около 700 тыс. человек, принадлежащих к еврейскому народу, были убиты в начале прошлой осени, эти цифры, казавшиеся вероятными, на деле — гораздо выше. Самая умеренная статистика расистских преследований — не меньше 1 млн., данные, кажущиеся более вероятными — уже 2 млн. 4 и 5 млн. евреев, оставшимся в Европе, покоренной свастикой, угрожает та же участь. В оккупированных районах России и особенно в Польше способы уничтожения превосходят кошмары самого инфернального воображения. На высотах немецкого гения были изобретены научные методы уничтожения. Пулеметов — недостаточно. Холода, голода, эпидемий — также. Понадобились отравляющие газы; убийство электрическим током; нагромождение множества людей в закрытых пространствах, где удушье происходит постепенно: сначала — удушение старых и наиболее слабых в пломбированных вагонах, везущих массы депортируемых в лагеря сортировки или смерти, где из тех, кто выжил, убивают уже всех неспособных к тяжелой работе, тяжелая работа должна довершить остальное. Практикуются увеселения в виде охоты на человека, избиение до смерти палками, бичевания, мучительные пытки и бесчисленные методы других воздействий, от которых можно сойти с ума.
Если мы захотим взглянуть на них как на «садистские рассказы», доносящие до нас эхо ужаса, достаточно будет вспомнить те зверские сцены, для которых Вена после Аншлюса стала театром и где дикая жестокость нацистской молодежи развернулась в полной мере; было бы достаточно прочитать британскую «Livre Bleu» («Синюю книгу») или прочесть опубликованные в официальном органе немецкой полиции «Die Deutsche Polizei» («Немецкая полиция») статьи ее шефов, прославившихся «биологической» чисткой и с гордостью раскрывших свою идеологию зверя[453]. Другая нацистская газета, «Krakauer Zeitung», описывала, как все евреи Люблина были изгнаны из города (затем они бесследно исчезли) и как все их дома, кроме зданий, представляющих «исторический интерес», были стерты с лица земли. Торжествуя по поводу разрушения еврейского квартала, газета писала: «Вот еще один способ разбить скрижали Закона на манер Моисея, но на этот раз с иной целью, нежели благо евреев!» Их изгнание «стало еще одним исходом, но не для того, чтобы идти в Землю обетованную! Время библейского паразитизма окончилось»[454].
В Польше ужасы, переносимые человеческой природой в концентрационных лагерях, достигли такой степени, что часто можно было видеть несчастных евреев, дающих деньги нацистам — сто злотых, это недорого, — чтобы их расстреляли сразу, а не отправляли в лагеря и не подвергали пыткам[455].
Тысячи евреев, эвакуированных из гетто в Лодзи и увезенных в Хелмно, были задушены газом. Варшавское гетто, в начале 1941 г. насчитывавшее 550 тыс. человек, так обезлюдело из-за болезней, голода, убийств и депортации «в неизвестные места назначения», что сегодня его численность составляет менее 50 тыс. человек[456].
В прошлом августе мэр варшавского гетто Адам Черняков покончил жизнь самоубийством, чтобы не подчиниться приказу нацистов составить список из 100 тыс. евреев для отправки на принудительные работы в «неопределенное место назначения». После того, что произошло в Лодзи, он знал, что означает это требование[457]. В Праге молодой поэт Янус Бонн также отказался предоставить список для депортации и был казнен нацистами[458]. В Хелмно в декабре 1939 г. гестапо согнало на рыночную площадь 800 евреев, чтобы заставить их бежать оттуда босиком в деревню, и во время марша убило 600 человек. Мы знаем, что один из способов, применяемых группами уничтожения, в частности в Хелмно, состоял в том, что жертвы запирали в грузовики, в которых по пути их уничтожали удушающими газами, причем в день отправляли от шести до девяти грузовиков. По прибытии на место заранее выбранная группа несчастных евреев[459] должна была вырыть могилы и тщательным образом снять с мертвых все, что еще могло удовлетворить грабительский инстинкт: кольца — с пальцев; золотые зубы даже рвали щипцами. Мы знаем, что немецкий расизм действует по этапам в соответствии с непреклонным и строго определенным планом: 1) лишить евреев гражданских прав; 2) исключить их из экономической жизни и этим создать невозможность обеспечить собственное существование; 3) изолировать в гетто, где они умрут от голода и болезней; 4) уничтожить тех из них, кто не будет истреблен на предыдущих этапах.
Свидетельства об осуществлении последней фазы этого плана, поступающие отовсюду, невероятным образом совпадают. Читая их, не забудем о предупреждении, сделанном несколько месяцев тому назад особенно хорошо информированным нейтральным источником: есть все основания считать, что реальность в десять раз более чудовищна, чем сообщения, которые нам передаются; эти сообщения отрывочны, поскольку могут появляться лишь контрабандным путем и относятся лишь к отдельным эпизодам безграничного и систематического преследования. Приведенные этими источниками цифры, без сомнения, ускользают от контроля научной статистики. Но их данные достоверны и исходят от ответственных групп, и было бы абсурдным при подобных обстоятельствах отвергать из-за беспокойства о научных проверках симптомы, которые остаются во всяком случае в высшей степени вероятными, хотя и превосходят всякое воображение.
Вот некоторые элементы той картины, которая предстала нашим глазам.
250 тыс. евреев изгнали из Бессарабии в южную часть Украины, оккупированную Румынией; около 190 тыс. из них были расстреляны, сожжены заживо или замучены до смерти во время транспортировки[460].
В Одессе 25 тыс. евреев убито румынскими войсками в октябре 1941 г. В день, когда взорвалась бомба в здании штаба немецкой армии, 10 тыс. евреев загнали в деревянные бараки и заживо сожгли[461]. В Витебске многие тысячи евреев были также сожжены заживо[462].
По информации, полученной от советского правительства, в Киеве убито 52 тыс. мужчин, женщин и детей, из которых большая часть (40 тыс.) — евреи. Позже другие источники подтвердили этот факт и указали, что цифры занижены[463].
В Пинске 8 тыс. евреев расстреляно из пулеметов. В Брест-Литовске уничтожено 6 тыс. евреев, в Мариуполе — все еврейское население было убито группами по 500 человек перед траншеями, в которые сбрасывали трупы. В одном городе недалеко от Смоленска 7 тыс. евреев вывели в поле, заставили рыть себе могилы и расстреляли. Многие были погребены заживо[464].
В Риге, в Латвии, убито немцами более 20 тыс. евреев[465].
В Яссах, в Молдавии, 10 тыс. евреев убито во время погрома в течении трех дней (28, 29 и 30 июля 1941 г.), часть из них была безжалостно расстреляна из пулеметов, а большая часть запломбирована в вагонах, так что они не могли получить ни воды, ни пиши. Румынские власти держали их там 11 дней до того момента, когда из вагонов уже не доносилось никаких признаков жизни.
К моменту, когда 10 августа власти открыли вагоны, все несчастные умерли от удушья или голода. В Буковине 29 000 евреев было убито немецкой и румынской армиями в Сернаути и соседних деревнях[466].
В Каунасе, в Литве, существует центр уничтожения (Vernichtungsstelle), где казнят несчастных, евреев и неевреев, приговоренных к смерти нацистами. Многие из этих жертв — евреи, депортированные из Франции и Бельгии[467].
В Германии евреи страдали от ужасного обращения с начала войны между рейхом и США, а в настоящее время они подвергаются депортации. Из письма из Берлина от 8 апреля 1942 г. стало известно, что 25 января тысячу евреев погрузили и заперли в вагонах для скота в поезде, направляющемся в Ригу, со сроком прибытия через 18 дней. Никто не выжил, все умерли от холода и голода. Больных евреев вытаскивают из больниц и также депортируют[468].
Чехословацкое правительство только что сообщило, что 77 тыс. евреев погибло в концентрационных лагерях Протектората или были депортированы в польские гетто, где они и «исчезли»[469].
Во Франции по приказу немцев в оккупированных районах и по приказу Лаваля в районах, в то время еще не оккупированных, схвачены десятки тысяч евреев-иностранцев или недавно натурализованных, чтобы придать их той же участи. В Париже ночь со среды на четверг 16 июля 1942 г. была ночью ужаса и позора. Французские полицейские фургоны прочесывали улицы, собирая мужчин, женщин и детей. Их согнали на зимний велодром и в Парк принцев, ставших местами агонии и отчаяния. Операцией руководил шеф СС оккупированной зоны. 5 тыс. детей отделили от их семей, многие младенцы утратили идентичность и уже никогда не узнают своей фамилии. Такая же операция началась 26 августа в неоккупированной зоне. Агенты французской регулярной полиции ушли в отставку, чтобы не участвовать в этом. Задание выполняла специальная полиция режима Виши. При этом из больниц вывезли больных, чтобы их арестовать и депортировать.
Как я говорил в сентябре в обращении по радио к нашим французским друзьям[470], никогда прежде в истории подобное бесчестие не выпадало на долю Франции.
Если Франция не потеряла душу, то только благодаря своему народу и благодаря христианам, которые кричали о своем возмущении беззаконием и которые сделали все возможное и рисковали всем, помогая и защищая жертвы этих постыдных мер, укрывая их в своих домах, в горах и лесах.
4
Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы вам сейчас сказать: убийцы-палачи делают свое дело. Сообщники ада делают свое дело. Но преступления убийц и ужасы истребления людей не менее ужасны бездействия тех, кто мог действовать, и безразличия множества честных людей. Каждое утро они читают в газетах рассказы о новых зверствах так же аккуратно, как съедают свой завтрак. Они возмущенно вздыхают и переходят к другим новостям. Это входит в привычку. Привычка к аду — вот невидимое преступление, совершенное нацистским расизмом над людскими душами во всем мире.
Но есть кое-что: я имею в виду моральное соучастие, которое, подобно скрытой проказе, постепенно разрастается в некоторых людях, раньше полностью отвергавших гитлеровские мерзости, а теперь незаметно поддающихся антисемитским настроениям. В конце концов имеет место факт (и не стоит его скрывать), что проявление антисемитизма, более или менее замаскированное в некоторых социальных слоях населения демократических стран, увеличивается по мере того, как нацисты продолжают свою деятельность по истреблению людей. Нужно кричать на кровлях, что повсюду, где среди нас происходит такое (к счастью, впрочем, это явление ограничено по глубине и распространенности), победу одерживает Гитлер, а цивилизация терпит поражение.
Факт, о котором я говорю и который не лучшим образом отражается на послевоенных проблемах, касается социологических изысканий и массовой психологии — не самой прекрасной стороне нашего естества. Направьте в определенную сторону внимание людей, и оно тут же отметит именно то, что чисто выборочным образом было предложено в качестве объекта для особого внимания. Повторяйте всеми возможными способами интенсивной пропаганды, что обитатели Пятой авеню — мошенники, и тогда другие обитатели Нью-Йорка вскоре заметят, право же, что тот горожанин, на которого они вынуждены подать жалобу, живет именно на Пятой авеню, тогда как преступники из других кварталов города избегнут нашего пристального взгляда. И по истечении нескольких месяцев вы создадите движение антипятаяавенюизм, столь же разумное и столь же хорошо обоснованное, как и антисемитизм. Различные социальные, нравственные, политические и экономические доводы, приводимые против евреев, обоснованы не лучше, чем какой бы то ни было довод, на основе которого различные группы одной и той же гражданской общины могли бы ненавидеть друг друга. Можно и нужно отказаться от столь негодных доводов. Беда по сути состоит в том, что, войдя однажды в сознание людей, эти доводы искореняются с трудом, потому что люди с трудом могут при помощи умозаключений отличить сущность от случайности. На самом деле расизм и антисемитизм — это иррациональный коллективный психоз, черпающий силы в самой своей иррациональности, как и любой другой психоз. Если вы хотите понять иррациональное, являющееся столь пагубным и злобным, вам следует прибегнуть не только к сфере рационального, но и к области сверхрационального. Самое замечательное и возвышенное заключается в том, что сознание само способно проникнуть в подземный мир иррационального и обуздать его. Я достиг момента, требующего некоторых пояснений, относящихся собственно к немецкому расизму.
5
Существует много форм расизма, сильно отличающихся одна от другой. В эпоху Лас Касаса некоторые испанские богословы, враги этого великого доминиканца, прозванного отцом индейцев, утверждали, что коренные жители Америки не были людьми, потому что не принадлежали ни к одной из человеческих рас, упомянутых в Библии: ни к расе Сима, ни к расе Хама, ни к расе Иафета. Стало быть, они были животными, у которых человек — испанский христианин — имел право отнять землю и золото, как человек имеет право взять у павлина перья, у пчел — мед, у овец — шерсть. Потребовалась булла папы Павла III, чтобы положить конец этому сакральному расизму.
В такой великой стране, созданной на основании прав человека, как США, которые вовлечены сегодня в решительную борьбу за свободу, существует бесконечно болезненная расовая проблема по отношению к цветному населению. Но здесь, к чести американского народа, гражданское право и федеральные законы поддерживают неповрежденными святые истины, принципы и правила гражданского равенства и справедливости, наперекор предрассудкам и частным обычаям, которые искореняются путем очищения.
В Японии имеет место расизм языческий, отличающийся жестокой прямолинейностью абсолютной, воинственной и уверенной в себе, доходящей до самообожествления, безмерной гордыни нации.
Суть нацистского расизма совсем другая, и его гнусная надменность не что иное, как компенсация расстроенной психики, сформированной низменными комплексами, злобными мечтаниями и манией преследования. Немецкий расизм не создан ради немецкой или нордической расы, он хорошо знает, чего придерживаться для распространения клеветы своей этнологии, и при необходимости готов называть японцев желтыми арийцами. Немецкий расизм создан против мифического врага, потому что его основное положение — ненависть, а для ненависти совершенно необходим враг, чтобы его ненавидеть и уничтожить. Враждебная раса — это мифическое создание патологической ненависти, которое получило развитие в развращенной части немецкого народа. Здесь мы видим (на что я указывал в начале), что расистская доктрина и расистское право одновременно являются и движущими ужасающе действенными факторами, и идеологическими суперструктурами, — но, прежде всего, идеологическими суперструктурами — наиболее радикального и глубокого невроза души. Зачем использовать принцип «права» и в то же время открыто насмехаться над самим правом? Зачем красть это слово у христианской цивилизации и фабриковать расистское право, разве что испытывая болезненное желание справедливости? Расистское право не что иное, как вторичный идеологический процесс, направленный на оправдание примитивной преступной страсти, на освобождение ее от всяких сдерживающих начал. В сердце немецкого расизма есть нечто твердое и непоколебимое — это нацистский антисемитизм, являющийся крайней, припадочной формой старого немецкого антисемитизма. Нацистский антисемитизм в своей основе есть неистовое отвращение к откровению Синая и к десяти заповедям и в особенности, как это верно показал американский еврейский писатель Морис Сэмьюэл, — это страх и сверхъестественная ненависть — которые не осмеливаются назваться собственными именами, — к христианству и Евангельскому закону, к Царю Иудейскому, Который есть воплощенное Слово, бывшее от начала — Слово, а не действие! — Которое обрело плоть в израильской Деве, Которое пришло, чтобы свидетельствовать об истине, чтобы провозгласить блаженство бедных и несчастных и низвергнуть сильных с их мест. Его Царство не от мира сего, и Он будет судить всех по любви и милости. Вот что заставляет нацистский антисемитизм скрежетать зубами и что возбуждает в нем ярость разрушения. Он хочет стереть народ Христа с лица земли, потому что хочет вырвать Христа из человеческой истории. Он мстит евреям за Мессию, Который вышел из их Среды, он унижает и мучает евреев, в их плоти стремясь уничтожить и замучить Мессию, и по сути своей нацистский антисемитизм — это христофобия.
Именно в этой перспективе, господа, следует понимать декларации Гитлера и его ясно выраженное (столь ясно, что разумные люди увидели в нем не что иное, как фанфаронство) стремление уничтожить еврейский народ. 30 января 1939 г. он пообещал, что Вторая мировая война будет нацелена на «уничтожение еврейской нации в Европе». Гитлер повторил это заявление в своем Новогоднем послании (1943). Он предложил слушателям выбрать между уничтожением немецкого народа и уничтожением евреев, хотя спасение самого немецкого народа (я не говорю о его генералах, третьем рейхе и об имперском пруссианизме) и его трудное исцеление связано со спасением свободных народов, а инфернальное призвание свастики состоит в том, чтобы бросить на бойню разом и евреев, и немцев! Роберт Лей, нацистский министр труда, подтвердил слова своего хозяина и утверждал, что нацисты будут продолжать войну «до тех пор, пока евреи не будут стерты с лица земли». Прошлым летом г-н Карл Рудольф Бест, легальный советник гестапо, адвокат расистского права, безо всякого риска с ученым видом объяснял, что «исторический опыт учит, что уничтожение чужого народа не противоречит закону жизни, если это уничтожение будет тотальным»[471].
К этим речам нельзя относиться легкомысленно, потому что почти вся Европа в руках нацистов и потому что единственный триумф, который они могут праздновать беззаботно и в безопасности, — это триумф над безоружными людьми, находящимися в их руках. Нацисты морят голодом и пытками всю Европу и повсюду сеют смерть. Они залили кровью Польшу и оккупированную Россию. Однако евреи Европы — единственный из населяющих ее народов, который они стремятся уничтожить, так как они приговорили евреев к смерти. Предназначение других завоеванных народов быть рабами «расы хозяев». Евреев же нужно «стереть с лица земли». За всеми ссылками на Дарвина в геополитике и в законах о жизненном пространстве здесь реально действует демоническая ненависть, которой мы должны посмотреть в лицо.
Намекая на свои прежние угрозы, Гитлер 8 ноября 1942 г. сказал, что «бесчисленное множество тех, кто тогда смеялся, сегодня уже не смеются». Но в Священном Писании евреев и христиан сказано о верной душе: «Она воссмеется в последний день». И последний день гитлеровских палачей не так уж далек.
6
Сегодня вечером я взял слово именно для того, чтобы в меру своих сил сказать правду. Я описал немецкий расизм и антисемитизм, какие они есть. Мы должны сделать вывод: для того, чтобы окончательно судить об инфернальной иррациональности, которая является проводником всех нацистских ядов, необходимо, как я только что говорил, обратиться к тому, что превышает разум. Мне досадно за моих друзей-рационалистов; запись концепций, разработанных пророками Ветхого и Нового Заветов, в частности Иоанном Богословом в Апокалипсисе и апостолом Павлом во Втором Послании к фессалоникийцам, — это единственное, что позволяет нашему разуму проникнуть в то, что происходит в реальности, и в то, что провозглашает и готовит нацистский расизм и антисемитизм. Зверь и люди, имеющие печать зверя, и любящие его образ, и человек беззакония, и беззаконие, которое восстает против всего, что несет на себе подобие Божие, и многочисленные заблуждения, которые обрушатся на мир и подчинят людей лжи, вновь силою событий появляются в словаре сегодняшних идей, с помощью которых приходится объяснять нашу собственную человеческую историю.
И если это так, то необходимо признать, что лишь сила веры и сила Евангелия способны действительно превозмочь волну лжи, нравственную нечистоту и страшную глупость, обрушившиеся на нашу цивилизацию и наш гуманизм через темный дух расизма и антисемитизма, который, как говорят наши друзья на страницах «Cahiers du Témoignage Chrétien», имеет целью, во-первых — обольстить, во-вторых, — скомпрометировать и в-третьих — развратить или уничтожить.
Христианской совести брошен вызов. Именно на нее (не исключая, естественно, простую человеческую совесть) возложена главная обязанность и главная ответственность в борьбе, которая ведется для зашиты народа, давшего Христа, евангелистов, апостолов и первых мучеников, для защиты того Израиля, корень которого, как говорил апостол Павел, свят, и к ветвям которого мы были привиты. Христиане, которые услышали слова Пия XI: «Антисемитизм недопустим, духовно мы — семиты», поняли, что их Бог был унижен и оскорблен антисемитской неистовой злобой, которая, преследуя и уничтожая евреев, хочет подвергнуть Христа новым страданиями в Его народе, прежде чем она подвергнет Его страданиям в Его Церкви.
Беда для тех, кто не понимает этого; они не видят, что нож уже занесен над ними. Борьбу против расизма и антисемитизма нужно вести и дать ей возможность одержать победу не только в гуманистическом и рациональном плане, но также и прежде всего в плане Евангелия и евангельских ценностей, в плане веры и в плане энергий, обусловленных верой. Сегодня война была развязана немецкими нацистами, и эта война закончится освобождением еврейского народа одновременно с освобождением других униженных народов. Но сегодня, в ожидании этого, евреи находятся в руках нацистов, которые осуществляют их уничтожение, и в руках Бога, который готовит изгнанным из этого мира жизнь вечную и то Отечество, которое не обманывает надежд. Мы должны с отчаянной энергией сделать все, что только в человеческих силах, чтобы спасти мужчин, женщин и детей от грозящего им уничтожения, и прежде всего, чтобы ускорить победу над врагом силой оружия. Как только что предложил английский епископат, нужно находить повсюду, в союзных и нейтральных странах и в ближайших территориях, убежища для спасения всех, кого еще можно спасти. Как заявил президент Рузвельт и представители союзных государств, необходимо, чтобы люди, ответственные за злодеяния, знали, что они, несомненно, будут публично и без снисхождения наказаны. Но увы, эти средства помощи, при всей их необходимости, остаются слабыми и ненадежными. Скольким евреям удастся избежать немецкого застенка и добраться до безопасных территорий? А что касается главных палачей, то есть вероятность, что многие из них, почувствовав себя на краю гибели, предпочтут еще раз насытить свою жажду крови в пламени инфернальной Вальгаллы, которую несут в себе, прежде, чем спуститься в место, для которого они предназначены. Бешеная жажда репрессий в них будет сильнее страха наказания. Невыразимый ужас нынешней ситуации состоит в том, что мы осознали немощность человеческих возможностей перед лицом самого кровавого беззакония в истории. От этой ужасной беспомощности возникает желание умереть.
Если бы в нас была вера ранних христиан или хотя бы вера ниневитян, люди увидели бы толпы христиан, покрытых власяницами и посыпавших голову пеплом, шествующих по дорогам земли и просящих Всемогущего простереть, наконец, Свою десницу. Во всяком случае, те, кто еще верит в силу молитвы и жертвы, знают, что они должны сделать перед лицом Божьим и человеческим для старшего народа, преданного на уничтожение. Вера евреев в грядущего Мессию, вера христиан в Мессию пришедшего, распятого и воскресшего — вот то высшее оружие, которое разобьет расизм и антисемитизм.
Не будем забывать, что духовные ростки, явившиеся глубинной причиной зла, останутся в мире и после войны. Но следует идти до конца. Ап. Павел писал, что Христос обрек на смерть человека беззакония дыханием уст Своих, иначе говоря, словом истины. Необходимо, чтобы люди, свободные от всего, кроме Бога, громко возвещали это слово. Христиане или просто люди, приверженные гуманистическим ценностям, должны во имя веры и во имя разума возвещать это слово истины по всему миру, нарушая гробовое молчание тех, кто уютно устроился со своей «чистой совестью», которую Истина обличает. Слово есть освободитель, когда оно напоминает людям о смысле их первозданного величия и достоинства. Необходимо, чтобы оно распространялось повсюду: в школах, на заводах, в прессе и по радио. Если мы хотим излечить людей от духовной порчи — от расизма и антисемитизма, будем непрестанно напоминать им, что они рождены для свободы и что они равны перед правосудием, что для них — естественный закон неприкосновенных прав и нерушимых обязанностей. Будем непрестанно напоминать людям, что Бог есть Истина и Любовь, будем напоминать им о единстве рода человеческого, о духовном величии человеческой личности, о суверенном законе братской любви, обо всем том, чему нас научило Евангелие: не только о вечной жизни, но также о земной жизни каждого человека всех народов.
XI Новая эпоха мира (1943)
Выдержка из приветствия (World Trial; its meaning for the future), произнесенного 3 апреля 1943 г. на 38-й конференции Союза Американских еврейских конгрегации. Опубликовановсборнике «Pour la Justice» (New York, La Maison Française, 1945)[472]
Эпоха, в которую мы уже вступили, — это эпоха апокалиптическая. Я должен предупредить, что, с моей точки зрения, сведения из иудеохристианской эсхатологической литературы следует интерпретировать как возвещающие не конец мира, но, напротив, время замечательного обновления мира, описанное как время, предшествующее уничтожению «человека беззакония».
Мне очень хотелось бы сейчас обратить ваше внимание на две категории великих исторических изменений, которые предвосхищают новую эру мира.
Первая категория относится к временному порядку. Я хотел бы упомянуть о процессе интеграции и унификации человечества, находящемся сегодня на своей первой стадии. А также об освобождении человеческого труда, которое будет постепенно нарастать за счет открытий науки и техники, развития всех ресурсов механизации, помогающих бесчисленным рабам, утратившим радость жизни, и за счет связанных с этими открытиями социальных преобразований.
Главным социальным явлением XIX в. была схизма, отделившая пролетариат от гражданской общины; схизма, которую фактически подготовила экономическая система буржуазного, или индивидуалистического, капитализма и которую марксизм возвел в догму мессианской революции. Сейчас эта схизма преодолевается. Повсюду в мире появился рабочий класс, который как морально, так и материально формирует истинный характер национальной жизни. Это означает, что марксизм преодолен в тот самый момент, когда рабочий мир как раз достигает своего исторического совершеннолетия. И если действительно эта схизма была не чем иным, как кульминацией секулярных страданий и конфликтов из-за рабских условий труда, то, следовательно, реинтеграция рабочего класса вместе с его приходом к социальному управлению означает, что процесс эмансипации труда от рабства входит сейчас в завершающую фазу. Подобное утверждение обретает истинный смысл, если мы вспомним, что, по словам Фомы Аквинского, порабощение во всех его формах является для человеческой натуры страданием, которое должно рассматриваться как последствие или пережиток первородного греха. День, когда человеческий труд будет освобожден всеми возможными способами от прежнего состояния рабства, этот день в преходящем бытии станет днем восстановления мира и началом новой эры этого бытия.
Вторая категория исторических изменений относится к духовному порядку, к отношению между евреями и христианами. Происходящие сейчас массовые убийства евреев не только обнажают чудовищный и свирепый всплеск древней языческой крови; они означают в глазах христианина нечто более глубокое. Нацистский антисемитизм — в самой глубине нынешней агонии цивилизации. Ненависть нацистов к евреям прикрывается бесчисленными предлогами и масками, но по своей истинной природе эта ненависть сверхъестественная, сатанинская; они ненавидят евреев, потому что евреи — народ Божий, потому что они дали миру Христа; эта ненависть есть психопатологическая маскировка христофобии.
Ап. Павел говорит, что христиане были привиты на маслине Израиля и стали вместе с ним причастниками корня и сока маслины. Папа Пий XI заявил: «Духовно мы все — семиты». Евреи — это наши собственные корни, это народ, давший плоть нашему Господу, и этот народ растерзан и рассеян по всему миру. Как христианин, я знаю, что мой Бог оскорблен этой антисемитской бешеной злобой и что в этом множестве обездоленных и беспомощных, голодающих и убитых сейчас страдает, переживая новые муки, Христос, преследуемый в каждом преследуемом. Другими словами, сегодня страдание Израиля все более и более отчетливо приобретает форму крестного страдания. И отныне Христос не будет больше разделять, но будет соединять евреев и христиан[473].
Таково в христианской перспективе значение «самого многочисленного в истории распятия людей»[474].
Г-н Цукерман написал не без оптимизма в «Contemporary Jewish Record»: «Глубокие знатоки проблемы евреев в Европе, такие, как доктор Джеймс У. Паркс в Англии, сейчас с уверенностью утверждают, что после войны будет полный провал антисемитизма. Другие наблюдатели также видят повсюду признаки такого провала… Мощное движение в защиту евреев, охватившее в настоящее время столько стран Европы, есть наиболее яркий знак великих перемен». Надеемся, что так и будет. Во всяком случае, для христиан, живущих верою, антисемитизм полностью, абсолютно невозможен. Когда испытания и бедствия потрясают и обнажают основы мира, осуществляется не только интеллектуально, но и жизненно, таинственное единение, которое существует между Израилем и Церковью (концепция единения исходит из иудейской идеи Kahal (священная община)), основанное на любви Бога и к тем, и к другим. Становится ясным высокий смысл торжественной молитвы на католической литургии накануне Пасхи, просящей Бога «ввести полноту целого мира в достоинство Израиля».
В том, что касается евреев, происходят, как мне кажется, параллельные изменения многих из них в отношении христианства. Появляется тенденция отстаивать свое право на Христа как на представителя их народа и даже признавать в Нем наиболее безупречного иудея в человеческой истории. Некоторые из мыслителей-евреев пытаются реинтегрировать Евангелие в братство Израиля. С другой стороны, они утверждают, что простая ассимиляция, обеспечивающая евреям их человеческие права, но опасная для их идентичности как народа, подвержена не меньшим неудачам, нежели средневековое решение, которое обеспечило идентичность, но лишило их равенства прав, необходимых человеческой личности. Что касается сионистского решения, оно, без сомнения, приближается к осуществлению и имеет самые благородные оправдания перед лицом справедливости, но оно неприменимо для всего народа Израиля. Если позволительно нееврею высказать свое мнение по этой важной проблеме, я выражу со всей осторожностью, подобающей в подобном случае, надежду, что все, принадлежащие к еврейскому народу, требуя и находя в полной мере равенство прав человека и гражданина среди других народов, в то же время предпочтут сохранить свою идентичность, узнавая и выявляя все больше и больше духовные ценности и духовный динамизм того чувства своей сплоченности и своего призвания как народа, которым они обладают как бы инстинктивно. Таким образом они бы поддерживали отличительные черты и историческую устойчивость своего народа силой свидетельства, данного их духовному призванию в мире, но, безусловно, не изолируя себя от других народов, а, напротив, соединяясь с ними в самых тесных отношениях: идет ли речь о национальной сионистской общине, взаимодействующей с политическими государствами в новом международном порядке, или — о еврейских гражданах, участвующих в обеспечении благосостояния и общих задачах каждого политического государства. Наверняка, отношение, которое я имею в виду, заложило бы в душах достаточно прочные религиозные основы — их веру в своего Бога и в свою миссию, сколь бы неявной она ни была в определенных случаях и какое бы многообразие форм она ни принимала: от простой жажды духовной реальности, при отсутствии любой определенной интеллектуальной достоверности, до наиболее ортодоксальной формы иудейской веры. Такая позиция, если она окажется превалирующей в еврейском сознании завтрашнего дня, будет некоей аналогией позиции христиан (хотя, конечно, менее сложной и трудной из-за сверхнационального характера Церкви) в том, что касается отношений между всемирной христианской общиной и различными государствами, гражданами которых христиане являются.
И далее следует сказать, что в нашей иудеохристианской цивилизации исторические пути, которыми следуют в мире христианство и народ Израилев, оказались бы в некоторых аспектах подобными. Я хотел бы, чтобы ясно поняли мою мысль. Я ни в коем случае не имею в виду какое-либо уклонение иудаизма к христианскому вероисповеданию. Я говорю о сближении в практическом отношении того, что касается мира и мировой истории. Но с точки зрения христианина, это сближение видится как первый исторический этап в направлении к конечному примирению, которое, по словам Корнелиуса а Лапида, великого толкователя ап. Павла, не должно называться обращением Израиля, но его полнотой, «non conversio, sed plenitude» — как полнотой Израиля, так и полнотой Церкви, которая описана ап. Павлом как невыразимое богатство и оживотворение мира, чудесное обновление веры и Воскресение.
Лишь тогда, я полагаю, когда Синагога и Церковь примирятся и когда, с другой стороны, человеческий труд будет если не совершенным, то, по крайней мере, отвечающим на основные запросы души освобожденных от рабства людей; только тогда можно будет говорить об исцелении человечества[475] — настолько полном, насколько это возможно на земле — перед тем абсолютным исцелением нашей расы, которое произойдет при последнем откровении и вечной славе Царствия Божия.
XII Страдания Израиля (1944)
Радиопередача из Нью-Йорка 5 января 1944 г. Напечатано в
«Messages» (New York, La Maison Française, 1945; Paris, Hartmann, 1945)[476]
В прошлый раз[477] я напомнил, что мы, христиане из язычников, были привиты, по словам ап. Павла, к маслине Израиля и были призваны войти, как говорит Церковь, в славу Израиля.
В эти годы, когда повсюду в Европе меч гнусных убийц обрушился на еврейский народ, ставший жертвой как садистской жестокости палачей, так и бесчестной политики, в Рождество мы приглашаем задуматься о тайне Израиля. Тайна Израиля, о которой ап. Павел говорил в таких возвышенных словах, что их помнит каждый христианин, сейчас представляется в трагическом свете. Это страдания Израиля, которые происходят на наших глазах.
Когда дочери Иерусалима плакали при виде Иисуса, вознесенного на крест, Он сказал им: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших… Если так обращаются с зеленым деревом, что сделают с деревом сухим?»
Сегодня один свидетель массовых убийств в Харькове в 1941 г. рассказывал, что в лагере, куда, перед тем, как убить, немцы поместили евреев, одна еврейская женщина, у которой в Рождественскую ночь начались родовые схватки, кричала Господу: «Сделай так, чтобы я родила мертвого ребенка и его не убили люди».
Паскаль сказал, что Иисус Христос пребывает в агонии до скончания мира. Христос страдает в каждом невинно преследуемом, это Его агония в криках множества людей, униженных и истязаемых. Все это Он принял на Себя, и нет такой раны, которую бы Христос не почувствовал и в которой не было бы капли и Его крови, в каждом шаге на этом страшном пути — след Его сострадания.
Иисус Христос страдает в страдании Израиля. Тот, кто преследует дом Израилев, преследует и Христа, но не в Его мистическом теле, как в случае преследований Церкви, а в Его плотском корне, в Его забывчивом народе, который Христос не переставал любить и призывать. В страданиях Израиля Христос страдает и действует как Пастырь Сиона и Мессия Израиля, страдает для того, чтобы постепенно Его народ обратился к Нему.
Мир дает нам понять, что чудовищными расистскими преследованиями сам Израиль вовлечен на путь Голгофы, потому что он активен и стимулирует земную историю и потому что торговцы рабами не прощают ему требований, которые он и его Христос положили в основу временной жизни мира: они всегда будут говорить «не/и» тирании и торжествующему беззаконию.
Вопреки своей воле Израиль поднимается к Голгофе, бок о бок с христианами, и эти, такие разные, попутчики иногда удивляются, оказавшись вместе: как на замечательной картине Шагала, где ничего не понимающие несчастные евреи увлечены великим ураганом распятия: «Дальше — Христос, распростертый над миром греховным»[478].
Центральным фактом, имеющим несомненно важнейшее значение с точки зрения философии истории и достоинства человеческого рода, является то, что отныне страдания Израиля все более и более отчетливо принимают вид крестных страданий.
Евреи и христиане преследуются вместе и одними и теми же врагами: христиане — за то, что они верны Христу, а евреи — за то, что они Христа дали миру. Как стало возможно, что столько христиан закрывают глаза на сверхъестественное значение драмы, которую лишь они одни и могли бы расшифровать? Зачем молчанием в мире прибавлять жестокости зверствам палачей? Эта проблема касается не только тех, кто непосредственно вовлечен в эти события; есть и другие бесчисленные жертвы, да, но евреи — первые и единственные, кого хотят стереть с лица земли как расу и как народ. Это не только проблема справедливости и естественного права, требующего, чтобы истина возвещалась на кровлях. К этому причастен Сам Бог, это Его унижают, бьют, оскорбляют, оплевывают во время антисемитских преследований. Отныне Христос больше не разъединяет, но соединяет евреев и христиан[479].
5 января 1944 г.
XIII «Время пришло! Пробудись! Veni, Domine Jesu Christe!» (1944)
РадиопередачаизНью-Йорка, 12 января1944 г. Опубликованов «Messages» (New York, La Maison Française, 1945; Paris, Hartmann, 1945)
Сегодня в продолжение наших размышлений о страдании, перенесенном Тем, Кто родился в Вифлееме как наша крепость, наше утешение, наш Бог, я хотел бы ограничиться чтением отрывка из неизданной поэмы[480], автор которой предоставил ее мне; это поэма или, скорее, молитва, написанная
В память тех.
кого ад истребил
кого Гитлер убил
кого мир наш обрек умирать
но страдая во мраке душа
Богу принадлежит,
и — с Ним — будет вечно жива
* * *
Авраама, Исаака и Иакова.
Бог наш благостный, любящий, истинный
отыщи для нас слово разумное
приоткрой нам божественный замысел
бесконечных страданий земных.
Разум немощен человеческий
вдалеке от луча,
Света Истины
Но позволь же сказать мне в безумии,
охватившем меня
В эти дни, адским злом
наводненные
когда сети тоска расставляет
Не спастись никому без желания Твоего
сократить окаянные
дни владычества мира сего.
Свято верим, что все от Тебя —
благо
И Ты управляешь вселенной
мудростью высшей
Но мы нашу веру несем
в сумраке крови
за то, что жестокость и злоба
землю покрыли
своим неуемным потоком
за то, что жалости нет…
За это, наш Бог,
Ты покинул нас
Истины Ангел молчит,
Отражая Твое безразличъе,
Нас предоставив себе
* * *
Крик отчаянья «Отче! Спаси!»..
Возвращаешь Ты нам,
как стрелу,
не сумевшую цели достичь
Погружаемся в темную ночь
словно мы потеряли
Отца
сущего на небесех
Словно море раскинулось меж —
Тобою и нами
И Ты не желаешь его перейти.
Мудрость высшая скрылась от нас
Мы утратили след
Жизни радости и благодать
ускользнули от нас
Свежесть всякой травинки исчезла,
исчезла сырая земля
заливные удачи луга
* * *
Время пришло! Пробудись![12*].
Veni, Domine Jesu Christe!
Ты, кто сердце, как наше,
обрел,
Чтобы нас от страданий
спасти Дай нам света и
мира слова
Дай нам радостный дар понимать
через мудрость Твою,
Говорить силой разума той
Утешать милосердием тем,
что возможны с Тобой лишь одним.
Преступления останови
Помяни невиновного и
Пожалей Твой народ
Всех униженных и угнетенных
и евреев, гонимых от века.
Дай апостолов, что уврачуют
наше горе
любви Твоей силой
нежностью Духа Святого
Как когда-то Ты благость явил
в псалмопевцах
и дал вдохновенье
и прозренье пророкам Своим
ради нашего, Боже, спасенья
12 января 1944 г.
XIV Христианское учение о Распятии (1944)
Письмо (на английском) Хаиму Гринбергу в журнале «Jewish Frontier», август 1944 г. Далее опубликовано в «Pour la Justice» (New York, Lа Maison Française, 1945) и затем в «Raison et Raisons» (Paris, Tuf, 1947)
Сердечно благодарю Вас за Ваше трогательное «Письмо христианскому священнику». Я не только прочел его с чрезвычайным интересом, но и восхищен тем, как Вы выразили христианскую точку зрения на тайну распятия Христа народом Божьим. Я не могу не думать о том, что сам по себе факт, что еврейский ученый, усвоивший наиболее ясные и глубокие знания своей традиции, смог выйти, с христианской точки зрения, «за пределы» такого понимания, является бесценным знаком родства, существующего между христианским и еврейским духом. Во всяком случае, для христианина осознание значения своего собственного кредо, приговора и смерти Христа являет собой божественную тайну, которая суть самое необычайное вторжение тайных замыслов Божьих в ход человеческой истории, тайна, которая раскрывается лишь в свете сверхъестественной веры, и Вы совершенно правы, утверждая, что «до тех пор, пока Ваши ученики будут рассматривать эту проблему в плане линчевания или судебной фальсификации, она останется на нижайшем неметафизическом уровне, не имеющем ничего общего с христианством».
Именно потому, что я полностью согласен с Вами по существу вопроса, я думаю, Вы позволите мне сделать несколько замечаний, и прежде всего критических: выражение трагическая вина (tragic guilt) не может не быть приблизительным и неполным, так как оно сродни главной концепции фатализма. Но с христианской точки зрения (как и прежде — с точки зрения Ветхого Завета), ошибка — не фатальна. Она включена в нерушимый план вечной мудрости, однако человеческая свобода остается, по воле Божией, реальной, и она свободна творить добро, которое Бог извечно решил предопределить, или зло, которое Бог извечно решил позволить. (В том же самом порядке идей Христос не выбрал Иуду в качестве того, кто Его предаст. Он знал тех, кого Он избрал (в греческом языке используется множественное число — Ин 13: 18: «Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал». Иуда не был из тех, он был известен как тот, кто не избран[481].) Ни в чем ином, как в приговоре Христу, опыт человеческой свободы не проявляется более независимо, доминируя над трансцендентной властью немилосердной воли Бога, что гораздо трогательней трагической фатальности греков и что заставило ап. Павла преклонить колени в благоговении перед Богом. Однако свобода и ответственность продолжают существовать, а следовательно — и вина[482]. Вина была на ограниченном числе людей: на первосвященниках и в какой-то степени — на толпе того времени, слепой и жестокой, какими были убийцы пророков. Христиане, знающие, что Христос — Второе Лицо Святой Троицы, имеют серьезные основания для того, чтобы называть эту вину преступлением богоубийства: таков был факт. Но судьям так не казалось: если бы они знали, что Иисус был Сыном Божьим, они бы не осудили Его. Их виной, по сути дела, был недостаток веры и слепота сердца, то, что они не узнали Того, о Котором возвещали пророки. И в этом христианские учители и наставники должны были бы настаивать на словах ап. Павла: «Впрочем, я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению» (Деян 3: 17) и на слове Иисуса на кресте: «Они не ведают, что творят».
И более того, когда читаем Деяния и Послания ап. Павла, то обнаруживаем, что серьезный упрек апостолов евреям относился не столько к распятию, сколько к отказу уверовать в Того Самого Христа, Которого их священники распяли и Который воскрес из мертвых. Их упреки евреям не были ни более антисемитскими, ни менее горячими, чем упреки Моисея.
С точки зрения христианина, здесь есть и другая тайна, тайна единения Израиля как народа со своими духовными руководителями, за которых народ в течение многих веков будет искупать вину, так как народ Израилев есть corpus mysticum (мистическое тело), нация-Церковь. Христианин считает, что, в силу существования этого прототипа всех клерикальных преступлений, миссия Израиля провалилась, что евреи были лишены теперь своих привилегий и преданы миру сему и останутся отверженными до тех пор, пока не уверуют в Мессию распятого: испытания, переносимые той или иной нацией в связи с ошибками их политических вождей — не что иное, как слабый и искаженный образ того единения, о котором мы говорим. Здесь в глазах христианина имеет место духовная ошибка избранного народа и последствия этой ошибки в истории, в которой мы живем. И так как высшим управителем человеческой истории и таких последствий является Бог, временное отвержение Израиля может рассматриваться как одна из «кар»[483], от которых Бог никогда не освобождал свой возлюбленный народ. Однако эта концепция приемлема лишь с наивысшей точки зрения: с точки зрения метафизики и трансцендентности. Божественное наказание не что иное, как таинственное оправданное оплодотворение человеческих деяний и проявление терпения Бога, ожидающего возвращения человека. Мы просто не должны делать предметом внимания (как Вы это делаете с полным правом), что современный еврей столь же неповинен в убийстве Христа, как современный католик невиновен в убийстве Жанны Д'Арк или в заключении Галилея. Однако несомненно, что те, кто хочет «наказать» евреев (которые — в руке Бога, их и нашего Бога) за убийство на Голгофе, сами возлагают на себя ответственность за богохульство и святотатство. Они тупо покушаются в угоду своей собственной озлобленности на тайные планы Божии, они оскорбляют ту любовь, с которой Бог ждет Свой народ. Они возлагают свои окровавленные руки на саму Вечную Премудрость.
После всего сказанного следует подчеркнуть, что некоторые риторические штампы, такие, как выражение «народ-богоубийца», веками используемые христианами из язычников, возможно, из какого-либо антисемитского побуждения, а может быть, из-за простой грубости мышления, в любом случае несут в себе возможность антисемитизма, которая может привести к взрыву самых низких чувств в сегодняшней накаленной атмосфере. Христианские наставники обязаны исключить такие явно бессмысленные выражения и тщательно очистить свой язык от подобных несоответствий, вызванных человеческим легкомыслием и безразличием язычников, мало озабоченных всем тем, что касается не их самих.
Кто предал смерти Христа? Евреи? Римляне? Что касается меня, то это я предал Его смерти, я предаю Его смерти каждый день своими грехами. И нет иного христианского ответа на этот вопрос: так как Христос умер добровольно за мои грехи и чтобы принять на Себя правосудие Божие. Евреи, римляне, палачи, все они были лишь орудием, свободным и ничтожным орудием Его воли к искуплению и жертве. Вот что требуется от христианских учителей, когда они наставляют своих учеников.
Попытаемся раскрыть глубинные причины этого уродства: речь идет о христианах-антисемитах. Они ищут алиби для глубоко интимного чувства вины за смерть Христа, которую хотели бы с себя смыть. Но если Христос умер не за их грехи, то они ускользают от милосердия Христа! На самом деле они не хотят быть искупленными. Вот наиболее глубокое и поврежденное начало, в силу которого антисемитизм дехристианизирует христиан и направляет их к язычеству.
Золотое правило христианского учения в связи с этой проблемой предельно просто: нужно лишь держаться учения ап. Павла. Ап. Павлу было поручено свыше передавать нам свет действия Божия, то, что Бог думает по этому поводу. Позор, что столько христиан не знают поучения апостола язычников. Я никогда не был сильнее уязвлен безумием антисемитизма, по сути своей антихристианского, чем тогда, когда собирал тексты о тайне Израиля для подготовки книги об ап. Павле. Ап. Павел учит, что «дары и призвание Божие непреложны» (Рим 2: 29), таким образом, народ Израилев продолжает быть всегда «возлюбленным Божиим ради отцов» (Рим 11: 28). Он предпочел бы быть отлученным от Христа за братьев своих, как говорит ап. Павел: «Родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти…» (Рим 9: 3–5).
«Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак». [И далее Рим 11: 11–36, цитируемые в этой книге много раз[484], и что здесь было опущено.]
Вот подлинная христианская точка зрения, единственно подлинная точка зрения на тайну отвержения Христа избранным народом. Именно в этом свете и с этим чувством братской любви по отношению к ветвям той маслины, частью которой стали христиане из язычников, и должна была быть представлена драма распятия христианскими руководителями. И еше ап. Павел говорит[485]:
«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух [евреев и язычников] создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» (Еф 2: 14–16).
XV Письмо конференции в Силисберге (1947)
Письмо послано из Рима 28 июля 1947 г. доктору Пьеру Виссеру, секретарю Международной чрезвычайной конференции по борьбе с антисемитизмом, происходившей в Швейцарии, в Силисберге, с 30 июля по 5 августа 1947 г. Впервые письмо было опубликовано в журнале «Nova et Vetera», затем в «Le Philosophe dans la Cité» (Paris, Alsatia, 1960)
Господин Секретарь!
Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на Конференции в Силисберге, и потому прошу Вас передать ее участникам мои самые горячие пожелания успехов в работе. Я от всего сердца присоединяюсь к этой работе. Борьба против антисемитизма — это основной долг совести и первостепенная обязанность для нравственного исцеления того, что нам осталось от цивилизации. Я горячо желаю, чтобы Конференция придала этой борьбе новый толчок и предложила практические меры, которые сделают ее эффективной в Европе и Америке. Недостаточно, что некоторое число христиан сохраняют достоинство и подают примеры героического свидетельства, как мы видели в эти страшные годы, из которых сейчас с трудом выходим и которые надолго оставят человечество израненным. Сохранение достоинства — это печальное и горькое утешение — может превратиться в нечто смехотворное, если не спуститься решительно и трезво к тому предельному злу, против которого мы протестуем.
До тех пор, пока мир, считающий себя христианской цивилизаций, не исцелится от антисемитизма, он будет тащить за собой грех, который станет препятствием к его возрождению. Евреи всегда любимы из-за своих отцов, а значит, ненависть и расистские предрассудки изливаются на саму тайну домостроительства искупления, перед которой ап. Павел преклонял колени. Нацизм обнаружил истинное лицо антисемитизма. Антисемитизм прикрывается несметным количеством масок и предлогов, но в реальности он стремится поразить Христа в Его народе.
В Европе было ликвидировано 6 млн. евреев. И еще массы людей были без колебания уничтожены, миллионы людей — ради «жизненного» пространства или из-за политической жестокости. Этих людей убили, потому что их ненавидели как народ и хотели стереть этот народ с лица земли. Эта звериная ненависть имела сверхъестественное видение. На самом деле, в этом и состоит избрание: в лице евреев гонители преследовали Моисея и пророков, стремясь к преследованию Спасителя, вышедшего из среды этого народа. Это та слава Израиля, о вхождении в которую всех народов молит Бога Католическая церковь; но над Израилем насмехаются, презирая его, третируя, как нечисть мира. Это нашего Бога унижали и бичевали в Его потомстве по плоти, прежде чем открыто преследовать Христа в Его Церкви. Ненависть оказывается странным образом более искушенной, более прозорливой, нежели немощная любовь наших сердец до того дня, предсказанного ап. Павлом, когда Синагога и Церковь примирятся, что для мира будет как Воскресение из мертвых, так как они обе были объединены общей к ним ненавистью демонов. Как христианство ненавидели за его иудейские корни, так и Израиль ненавидели за его веру в первородный грех и искупление и за христианскую жалость, которая вышла из Израиля. Как проницательно заметил еврейский писатель Морис Сэмьюэл, не из-за того, что евреи убили Христа, а из-за того, что они дали миру Христа, ярость гитлеровского антисемитизма преследовала евреев на всех дорогах Европы, в мерзости и крови, отрывая от матерей детей, которые отныне будут лишены своего имени; антисемитизм решился повергнуть в отчаяние целый народ.
Итак, Израиль не осознавал того, что его преследовала та же ненависть, что с самого начала преследовала Иисуса Христа. Мессия Израилев испытал ее в скорби и отвержении, прежде чем однажды преобразить в Свою славу. В первых кровавых плодах этой полноты Израиля, христиане, если заглянут в свое сердце, могут распознать знамения ужасных событий, воспоминания о которых всегда будут обжигать нас и которые уже заняли свое место во мраке безразличия выживших. Как странные спутники, евреи и христиане совершают вместе свой путь к Голгофе. [Я говорил это много раз еще до 1941 г.[486]]: великим таинственным событием является то, что страдания Израиля все более и более отчетливо принимают форму креста.
* * *
Захотят ли христиане понять происходящее? Вот вопрос, который стоит в настоящее время. Как долго они будут спать? Как долго многие из них будут на деле отвергать учение ап. Павла, который говорит нам, что мы были привиты к маслине Израиля и стали вместе с ним причастными корням и жизненным сокам маслины? «Духовно мы — семиты», — сказал папа Пий XI. Антисемитизм, прежде чем быть проблемой крови, физической жизни или смерти для евреев, является духовной проблемой, проблемой духовной жизни или смерти для христиан. Израиль привык к страданию и к преследованию, он переносит их в течение веков, он ожидает и боится их, но вместе с тем Израиль хорошо знает, что Его Бог ввергает его в пропасть и воздвигает из нее, чтобы снова ввергнуть его туда и снова вызволить оттуда. Всем нам, христианам из язычников, нужно совершить смиренное возвращение к истокам, где мы встретим трагическую ясность, с которой один Еврей, размышлявший об истории своего народа, с уверенностью говорит, что Израиль никогда не найдет ни отдыха, ни жалости. Есть нечто, на что набрасывается и стремится поразить антисемитская ярость: это христианская совесть. Отчаяние тех, кто покончил с собой из-за триумфа несправедливости, само по себе является образом чего-то еще более ужасного: искажением человеческой души преследователей и бездной порочности, в которую они рискуют ввергнуть род человеческий. Если Платон и Фома Аквинский имели основание сказать, что лучше предпочесть страдать несправедливо, чем преступно заставить страдать другого, и что зло в душе палачей страшнее зла, претерпеваемого жертвами, то из этого мы должны заключить, что разрушения, вызванные расизмом в сердцах расистов и антисемитов, были более страшными, чем пытки, которым они подвергли множество невинных. И в той мере, в какой человек охвачен расовыми предрассудками и неким умеренным антисемитизмом, осуждающим убийства, но не без того, чтобы найти им некоторое извинение, и тот, кто с невероятной политиканской покорностью соглашается на зло, причиненное чужому, или на дискриминационные законы или обычаи, и кто тем более низок, чем более он прикрывается доброй совестью, такой человек становится причастным демонам, которым послушны и палачи. Христианское сознание должно освободиться от расистской и антисемитской проказы не только для того, чтобы прекратить беззаконие, тяготеющее над невинными, но и для своего собственного спасения и для исцеления мира.
Постыдным феноменом является то, что полагают вполне достаточным объяснением нищету людей; оказывается, что уничтожения миллионов евреев, газовых камер и пыток в лагерях смерти недостаточно, чтобы пробудить совесть людей и вызвать ужас перед принципом расизма. Ничего подобного! Напротив, вирус распространился в более или менее ослабленной форме, но память о страшном разгуле бесчестья и убийств зажгла в душах значительного числа уважаемых людей вместе с рассудочной подозрительностью и осторожным отвращением к жертвам возбуждение ума и ответные страсти, питаемые холодной враждебностью и политико-экономическими обвинениями, которые скрытым образом стимулировали запах крови, хотя, конечно, без погромов и убийств. Во многих странах Старого и Нового Света антисемитизм растет, наставления Гитлера находят дорогу к душам. Не пренебрегают и старыми доводами: речь идет о благородной ненависти к обнаруженным конкурентам (так как не все евреи умерли, необходимо, сколько бы их ни осталось в живых, для их выживания предоставить им работу, отсюда и ущемление прав язычников), или же речь идет о тех или иных политически активных евреях, вызывающих недовольство (как будто бы они одни ответственны за свою активность и как будто лишь они одни и есть все евреи). Короче говоря, к евреям приковано внимание; и как я исследовал это в другой статье[487], это ориентированное внимание — само по себе психологическая победа расистской пропаганды и расистских преступлений.
* * *
Еще раз в ходе мировой истории суть проблемы Израиля среди других народов претерпела глубокое изменение. Сегодня эта проблема вошла в новую стадию. Какие евреи были в большей степени ассимилированы, чем немецкие? И именно в, Германии антисемитская ярость разразилась с жестокостью, не знавшей себе равных. Из-за этого краха ассимиляции еврейское сознание с отчаянием обращается к Земле обетованной. Движение, которое гонит из Центральной Европы в Палестину массы оставшихся в живых евреев, испытавших ужас издевательств, которые им пришлось перенести, неотступно преследуемых воплями погибших близких, — это движение представляется неизбежным историческим явлением. В той или иной форме оно предполагает соглашение с арабами этой страны, что само по себе не кажется невозможным. Похоже на то, что решение создать еврейское государство в Палестине неизбежно будет скорым решением, данным как искушение ангелом истории, всегда мучительной и противоречивой. Каким бы необходимым и оправданным ни казалось это решение, мы не должны скрывать, что есть риск использования его антисемитами в ущерб евреям — гражданам других стран. Необходимо объяснить людям, что существование еврейского государства не лишает соответствующего гражданства евреев — жителей других государств, как существование ирландского государства не лишает ирландцев Соединенных Штатов американского гражданства. Теперь старые антисемитские аргументы будут дополнены новыми, которые тоже придется опровергать. Наиболее ясные доводы разума никогда не будут достаточны перед лицом иррационального массового психоза, черпающего силы в самой иррациональности. Самым лучшим и возвышенным является то, что лишь разум способен погрузиться в подземный мир бессознательного и обуздать его. И здесь нам открывается особая ответственность христианского сознания: оно одно может освободить душу от яда антисемитизма, если оно на самом деле знает, какого оно духа, и если оно действительно вносит в субстанцию человеческой истории свидетельство и понимание веры в тайну Израиля.
Я не рассматриваю в этой краткой статье политические и социальные аспекты проблемы Израиля. Сколь бы реальными они ни были, они остаются вторичными по отношению к духовным. И чтобы завершить тему, я бы хотел говорить именно о них. Я убежден, что с этой точки зрения от христиан прежде всего требуется огромный труд размышлений и внутреннего очищения. Если они впитают в себя учение ап. Павла, то сразу же поймут таинственное единение, связывающее их со старшим народом, вместе с которым, несмотря ни на что, они взывают к патриархам и пророкам и молятся каждый день словами Давида, исповедуя, что пришел Тот, Кого Синагога не узнала и все еще ожидает. Кто рожден от Девы Израилевой и Кто Сам — еврей «по природному преимуществу», апостолы Которого, первые мученики, были евреями, оживотворившими Церковь евреев и язычников еврейской кровью, пролитой за Христа. Единственное, чего не понимают христиане, — это то, что им необходимо очистить от всякого хлама место, где они, к несчастью, все еще находят наивные рассказы и клеветнические легенды, такие, как истории о ритуальных убийствах или выдумки наподобие «Протоколов Сионских мудрецов». Христиане должны также понять, что им необходимо внимательно пересмотреть и очистить собственный язык, рутина которого не всегда безобидна; во всяком случае, странным образом часто не обращают внимание на строгость и точность[488] языка, допуская такие выражения, как народ — богоубиица, или даже расистские приемы, когда христианин рассказывает историю Страстей Господних так, что у детей-христиан возбуждается ненависть против их соучеников-евреев[489], или допускаются переводы слов perfïdia judaica[13*], в литургии Святой Пятницы, которые являются полной бессмыслицей, так как на языке Церкви это слово означает «неверие», а не «предательство»[490]. Они поймут, что сам их подход к проблемам, созданным диаспорой, должен быть братским и приводить их к глубинному пониманию — благодаря достаточно сложной и точной информации, к знанию изнутри благодаря опыту соприродности, который несет с собою любовь, — тоски и борьбы еврейского сознания, раздираемого между обязанностью сохранить свою идентичность и желанием получить для евреев справедливость и равенство, надлежащие всем людям. Так, христиане из язычников не только теоретически, но и в некотором реальном, практическом смысле смогут войти в эту тайну, чтобы в свою очередь страдать за Него, как пришлось многим при преследованиях нацистов, войти в тайну народа, который отпал для освобождения язычников, через непослушание которого они получили помилование и который Бог продолжает сохранять для Себя. Христиане не только должны воспрепятствовать стремлению антисемитизма отыскивать в старом варварском основании человеческой души любой ложный религиозный повод, но и подготовить ту будущую реинтеграцию, которую возвещал ап. Павел. Для Израиля, по словам Корнелиуса а Лапида, она не будет обращением, но полнотой, которая призовет к жизни остывший мир[491].
XVI Замечание по поводу диаспоры (1961)
ПредисловиеккнигеАнриБара «La Politique selon Jacques Maritain» (Paris, Éditions Ouvrières, 1961)
Мое первое замечание относится к диаспоре. Неверно, как часто утверждают, что рассеяние евреев среди народов было карой, навлеченной на Израиль распятием Спасителя. Это рассеяние началось гораздо раньше. Причину тому мы находим в Песне Товии, воспеваемой Церковью в Laudes (Хвалах) вторника: Quoniam ideo dispersit vos inter Gentes, quae ignorant eum (здесь я, естественно, следую Вульгате): Ибо Он рассеял вас среди народов, не знающих Его, чтобы вы поведали о Его милости! и чтобы они познали, что нет иного Бога Всемогущего, кроме Него.
Апостолы упрекали свой народ не столько за распятие («Впрочем, братия, я знаю, — говорил ап. Павел, — что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению» (Деян 3: 17), сколько за отказ признать Иисуса после Его Воскресения и за препятствия к проповеди Евангелия со стороны служителей Храма. А скорбный, ностальгический характер, характер наказания придало рассеянию разрушение Храма, исчезновение духовного центра, лучи которого согревали детей Израиля, где бы они ни были.
Замечу в скобках, что рассеяние никогда не прекратится, вплоть до великой реинтеграции, но что сейчас существует попытка создания нового центра — государства Израиля, государства временного, которое, однако, должно выполнить духовное назначение. И кто воспрепятствует тем из нас, которые верят в пророчества, восхищаться путями Божиими и думать, что, быть может, это героическое, подвергающееся таким опасностям переселение, возвещает, само не ведая того, таинственный день, когда Тот, Кто больше Храма, будет узнан своими?
XVII Замечание об ответственности христианского мира (1961)
ПредисловиеккнигеАнриБара «La Politique selon Jacques Maritain» (Paris, Éditions Ouvrières, 1961)
Второе замечание относится к ответственности христианского мира в свете развития антисемитизма в нашем цивилизационном пространстве[492]. В связи с этим было бы очень желательно провести серьезную проверку сознания, наряду с другими вещами, воздействующего на лексику, нередко неверную и позорную, с легкостью используемую в религиозном воспитании. Я вполне осознаю, что упражнения в самобичевании в последние десятилетия доводили до довольно-таки нездоровых эксцессов, когда слезливые молодые христиане яростно каялись за вину своих предков в лоне непорочной Церкви, мистическом теле Спасителя. Между тем они даже не в состоянии различить временные и культурные составляющие периода христианского господства. И все же давно настало время предпринять тщательное исправление концепций и лексики, касающихся роли евреев в истории искупления, которые были унаследованы посредством вековых привычек (это время, несомненно, уже началось, вдохновленное, к примеру, изменениями, произведенными Святым Престолом в литургии Святой Пятницы), не говоря обо всех тех случаях, где проявилось (вопреки наставлениям ап. Павла «… не превозносись перед ветвями» маслины, Рим 11: 18) стремление унизить и оскорбить. Я полагаю, что возникновение этих языковых навыков вызвано, скорее всего, некоторым невниманием и грубым упрощением, связанным с жестокостью сердца, которая сохраняется даже у обращенных язычников (к сожалению, я один из них и знаю, о чем идет речь). Существует некоторая утонченная изысканность чувств и духовная тонкость, присущие лишь избранному народу, тем, кто подобен Нафанаилу, которого хвалит Иисус: ессе vere Israelita, in quo dolus non est[14*]. По отношению к иудеям мы всегда остаемся грубыми варварами.
XVIII Постскриптум (1964)
Как я уже указывал в Предисловии, в. заключение этого сборника я бы хотел написать длинную главу о государстве Израиль, детально документированную, с соответствующим анализом, которую подготовил бы на основе поездки в Палестину. Упадок физических сил и недостаток времени вынудили меня отказаться от этого. Я ограничиваюсь тем, что заменяю вышеуказанную главу рядом коротких замечаний, в которых попытаюсь сказать об основной теме моих размышлений в течение долгого времени.
1. Прежде всего мне хотелось бы отметить, что парадоксальным образом мы видим оспариваемую у израильтян соседними государствами ту единственную территорию (если рассматривать целостную картину человеческой истории), на которую абсолютно, по Божественному определению, этот народ вне всякого сомнения имеет право: так как народ Израиля — это особенный народ в мире, которому земля, земля Ханаана, была дана истинным Богом, Творцом Вселенной и рода человеческого. И то, что Бог однажды дал, дано навсегда.
По крайней мере, для христиан, как и для евреев, это дарование Божественным декретом земли Ханаана израильским племенам есть предмет веры. Христианская вера действительно считает, что главным автором Священного Писания является Святой Дух. И какое бы важное значение ни придавали той вспомогательной роли, которую сыграли в создании Священного Писания человеческие условности (обычаи и ментальность той или иной эпохи и т. д.), принимаемые во внимание экзегезой и историей, тем не менее никогда замысел автора, вдохновленного Святым Духом, не будет вызывать никакого сомнения: Создатель неба и земли дал Обетованную Землю свободным изъявлением Своей воли. Я думаю, что даже для тех израильтян, которые утратили всякие религиозные верования, эта уверенность, вытесненная в подсознательную сферу, является несокрушимой основой их убеждения, что, возвращаясь в Палестину, они возвращаются жить к себе домой. Правительства тех народов, которые еще называют себя христианскими, также несомненно обладают (более или менее отчетливо в соответствии с тем, насколько сама их личная вера слаба и ничтожна) смутным чувством права, которое Израиль получил от Бога, право существовать и быть признанным как народ на той земле, ко входу в которую он был приведен Моисеем.
Что касается мусульманского мира, для которого лишь Коран имеет непререкаемый авторитет открывающего истину документа, то не следует надеяться, что Библия завещала ему нечто подобное. По крайней мере, привыкнув почитать особым образом заповеди Божии, он мог бы признать, что Израиль (даже если Израиль в чем-то неправ) имеет весьма основательный фундамент, который стоит принимать во внимание, пусть и вступая в дискуссию, но без гнева и презрения. Кроме того, кажется, что мусульманский мир мог бы также, в силу смирения перед событием, свидетельствующим о воле Аллаха, следование которой столь характерно для ислама, решиться однажды без большого ущерба для себя отдать евреям то, что хотя и принадлежит мусульманскому миру, с его точки зрения, но от чего Бог в бесспорно происшедшем событии и ради всеобщего мира просит его отказаться.
Для «реалистов», акцентирующих внимание на настоящем моменте, подобные рассуждения могут показаться совершенно утопическими. Но даже они могут склонить разум к предположению, что если бы великие нации не обостряли обстановку соперничеством интересов, то диалог между потомством Исмаила, Исаака и Иакова о возвращении Святой Земли евреям имел бы шанс начаться и привести к столь необходимому согласию, что позволило бы устранить риск мировых катастроф.
* * *
2. С образованием Израильского государства существование в мире Израиля как такового вошло в совершенно новую фазу. Отныне это положение, если можно так сказать, стало двойственным: оно одновременно предполагает и наличие диаспоры среди язычников, которая не перестала существовать и которая требуется самим призванием Израиля[493], и политическое единство израильского народа в определенной точке земного шара, с помощью которого мы ясно видим, как исчезают пережитки режима гетто и явно начинает созидаться фундамент для реализации во времени надежды Израиля.
Таким образом, отныне и впредь философия истории должна принимать во внимание не только длительное трагическое напряжение между Израилем и миром. В недрах самого Израиля также существует «братская» напряженность, напряженность между еврейским государством на Святой Земле и еврейским населением рассеяния, образующие, так сказать, два разных центра притяжения, цели, намерения и участь которых различны, однако не менее важно, что в материальном и духовном плане они оказываются глубоко связанными и взаимозависимыми. По справедливости евреям диаспоры необходимо абсолютное равенство прав и возможностей в государстве, гражданами которого они являются. (В среде народов, режим которых поистине демократический, евреи в принципе уже испытывают справедливое отношение к себе, но они должны ощущать его реально и во всей полноте, не только по закону, но и в общественных нравах.) Но евреям также необходимо, чтобы на самых различных основаниях, которые они унаследовали от режима гетто, поддерживалась их духовная идентичность в качестве евреев и членов народа Божия. Можно надеяться, что в самом этом усилии по поддержанию своей идентичности евреи обретут поддержку извне в особом отношении и соприродности, к тому, что есть государство Израиль, чтобы они, оставаясь полностью зависимыми от другого центра притяжения, экзистенциально находились в определенной духовной причастности Израильскому государству, так как временная судьба государства Израиль, не будучи, однако, идентичной их судьбе, глубоко касается их сердца и их души. Более того, само государство, будучи временным и «секулярным»[494], неизбежно оказывает духовное воздействие и имеет духовную миссию.
Если я забуду тебя, Иерусалим, —
забудь меня, десница моя:.
прилипни язык мой к гортани моей,
если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима
во главе веселия моего[495]
Иерусалим слез и молитвы, ностальгии исхода; Иерусалим — глава народа Божия и Иерусалим земной и политической жизни; Иерусалим — лицо израильского народа в провиденциальной таинственной двойственности, один и тот же Иерусалим концентрирует в себе надежду всего Израиля — Израиля диаспоры и Израиля вновь завоеванной и вновь обретенной Земли.
* * *
3. В этом пункте, с осторожностью усиливая аналогии, следует заметить, что несомненно было бы очень поучительно сравнить как радикальные отличия, так и поразительное сходство отношения евреев диаспоры к Израильскому государству и католиков во всем мире — к папскому Риму на протяжении тех веков, когда Рим был одновременно и духовной столицей католицизма, и столицей государства, находящегося под временным владычеством преемника Петра. Теперь же, когда папа Павел VI сказал, что папа «не хочет и отныне не должен пользоваться иной властью, кроме власти ключей духовных»[496], все, что касается Церкви, изменилось. Если только мы обратимся к прошедшим эпохам, то, как мне кажется, заметим между двумя случаями, о которых я только что говорил, своего рода обратную аналогию. Папскому Риму всегда были присущи духовная миссия и духовный суверенитет. Временная власть главного понтифика была лишь вторична и вспомогательна, сегодня она фактически отвергнута. Напротив, главным и самым существенным для Израильского государства является его миссия во времени. Духовная роль, которую оно призвано играть, при всей своей важности есть не что иное, как неизбежное следствие; оно не имеет никакого доктринального или юридического авторитета, которому подчинялись бы евреи всего мира.
Несмотря на основные различия, мне кажется, что как католики в разных государствах мира, во всей полноте являясь гражданами этих государств, лояльными к этим государствам, духовно во всем подчинялись Святейшему Престолу, осуществлявшему в то же время временную власть во временном государстве, так и евреи диаспоры, являясь во всей полноте гражданами государств, к которым они принадлежат, будучи лояльными к этим государствам, полностью сохраняют определенное духовное родство и духовную связь с Израильским государством, которое, как бы оно ни было вовлечено в собственную деятельность и политическую активность, свойственную временному государству, в то же время имеет и духовную миссию. И хотя Израильское государство не обладает никакой собственно духовной властью, фактически оно играет все более и более важную духовную роль для всего еврейства.
И если вспомнить, что мусульмане, христиане и атеисты могут быть и являются на том же основании, что и евреи, гражданами Израильского государства, в то время как, с другой стороны, евреи во всем мире (как в государстве Израиль, так и в диаспоре) считают наивысшей обязанностью поддерживать свою идентичность как евреев, не оказывается ли, что факт существования государства Израиль начинает выявлять определенное разделение между духовным и мирским еврейством (и это в том еврейском народе, мирская и духовная судьба которого в течение столь долгого времени была единой)? Иначе говоря, духовная принадлежность к народу, который Бог Авраама и Моисея сохраняет для Себя, отныне отчетливо проявляется как разобщение с мирской принадлежностью к народу, занимающему данную территорию и образующему данное государство.
4. Разделение, о котором я только что говорил, и стремление к универсальности духовного еврейства мало-помалу освобождаются от неизбежных ограничений еврейства мирского, что в глазах философа истории имеет огромное значение. Я думаю, эти процессы указывают на проявление в сознании Израиля религиозного кризиса, скрываемого в течение долгого времени и отныне неустранимого. Как можно, на самом деле, не видеть, что, стремясь раскрыть в духовных терминах идентичность и единство народа, который Моисей вывел из Египта, неминуемо следовало бы беспрестанно преодолевать и одно за другим взрывать все то, что характеризовало этот самый народ как национальную, этническую и культурную сущность, индивидуализированную на земле: окончание такого процесса не может быть не чем иным, как чисто духовным и во всей полноте универсальным определением Божьего Израиля?
Вследствие этого не позволительно ли считать, что задолго до того, как любая проблема, четко поставленная в отношении Евангелия, в какой-то момент начинает тревожить сознание Израиля; задолго до того, как однажды для Израиля возникнет проблема мучительной переоценки его отношения к Иисусу, уже в реальной деятельности, в его манере беспощадно диалектически реагировать на трудности и загадки истории, сам того не осознавая, он приближается к великому дню, который, по словам ап. Павла, будет для мира подобно воскресению из мертвых и которого Святой Дух заставляет нас ожидать с большим трепетом. Non conversio, sedplenitudo![15*] Мне кажется, что человеческая история возможно и медленно, но движется к этому великому дню. Однако это зависит не только от того, во что Израиль будет верить, а главным образом от того, что он будет делать, от того (хотя народ еще рассеян, но уже вновь объединяется), как он будет ведом к поддержанию своей духовной идентичности, ко все большей и большей универсализации духовной миссии своего еврейства (вместо того, чтобы предельно сокращаться, как при режиме гетто), чтобы постепенно Израиль стал — для своего блага и в соответствии с наиболее сокровенными желаниями своего опыта и своей жизни — зависимым от Благой Вести.
И с другой стороны, кто знает, если существует проблема государства, демократического «секулярного», или «светского», но истинно «христианского» по духу, то не Государство ли Израиль сможет прежде всего показать, как эта проблема может быть решена, если ему самому действительно удастся быть тем, чем оно призвано быть: демократическим «секулярным», или «светским», но действительно «еврейским» по духу?
Из такого практического сходства в действиях и страданиях, о которых я более или менее внятно постарался сообщить (если бы только было возможно правильно рассуждать о вещах, которые Божественная ночь покрывает тайной!), далекое и прошлое являет нам другие примеры, которые потрясают наше сердце. Не возникает ли из гибели Иерусалима и из разрушения Храма иное подобие: не между Израилем и Церковью Христовой, в смысле полной духовной универсальности, которая создавалась не сразу и к которой церковь продвигалась, раздирая саму себя, — но через страдания и крест, — между еврейским народом и Тем, Кого он не пожелал принять? Я имею в виду тысячи евреев, вознесенных на крест римлянами. Прошло два тысячелетия с тех пор, как Иудея изнемогала под ударами римских легионов, ее детей распинали десятками тысяч, увозили, продавали в рабство; Святая Земля была опустошена, Храм разрушен — Израиль ожидал Мессию славы. Появился же Христос страданий. Его Царство было провозглашено народам земли родившейся Церковью, еврейской в своей основе, в своих апостолах, в каждом из ее первых членов; так Бог Израиля должен был, наконец, одержать победу над Империей-победительницей и свергнуть ее закон. Израиль, однако, отказался признать в распятом Иисусе окончательное завершение своего мессианского призвания.
«В то время как его Бог приобретал наследство среди других народов, Израиль не принял своего поражения: Рим только что победил; но история определила Иерусалиму другую судьбу и другие встречи через сухость (нередко обагренную кровью) пустыни Исхода…»[497]
Я думаю также о холокосте 6 млн. евреев, уничтоженных Гитлером и немецким расизмом, отметившим нашу эпоху зияющей раной, которая обнаружила своего рода необъяснимое и ужасающее подобие между страданием народа Божьего в его странствиях в ночи мира к его конечному уделу и страданием Сына Божьего, совершающим в великой духовной ночи предвечных замыслов труд искупления рода человеческого.
Еврейский автор, которого я только что цитировал, мой друг Андре Шураки, говорит об увеличивающемся числе прозелитов, входящих в диаспору во времена Римской империи, следующее: «Когда появилось христианство, иудаизм насчитывал около 8 млн. последователей в Римской империи. Пылкость веры библейского народа поддерживалась мессианской надеждой: мир был создан ради любви Мессии; тайна страданий человека будет открыта тогда, когда Избранник Божий победит смерть и установит Царство единства, суда любви. Последняя надежда народа-богоносца против засилия римского язычества обреталась в ожидании Мессии славы»[498].
Кто может оценить значение общности надежды между евреями и христианами, столь радикально разделенными, противостоящими друг другу в глубине этой общности, надежду одних и надежду других?
«Приди, — взывает Израиль, — приди, Спаситель Израиля и Спаситель мира, Ты, Который придешь во славе, но Который прежде не приходил в унижении!»
Но мы, христиане, иные: мы знаем, что Он уже пришел в уничижении, Мы знаем Его имя и мы также взываем: «Приди, приди в славе, Спаситель Израиля и Спаситель мира!»
VENI, DOMINE JESU[16*].
Искусство и схоластика
I Схоласты и теория искусства
Dilectae Gertrudi-Raissae meae
Dimidium animae dimidium operis effecit[1*].
Схоласты не создали никакого особого труда, озаглавленного «Философия искусства». Это объясняется, скорее всего, строгостью педагогической дисциплины, которой следовали средневековые философы, глубоко и тщательно разрабатывавшие узкопрофессиональные проблемы и не заботившиеся об остающихся между этими колодцами-шахтами неисследованных областях. Однако же у них можно найти достаточно основательную теорию искусства, но искать ее фрагменты приходится среди строгих рассуждений по вопросам логики («Является ли логика свободным искусством?») или моральной теологии («Чем благоразумие, добродетель одновременно нравственная и интеллектуальная, отличается от чисто интеллектуального искусства?»).
В подобных случаях искусство выступает как некое целое, включающее в себя все, от искусства корабела до искусства грамматика или логика; при этом никак не выделяются «изящные искусства», рассмотрение которых «формально» не входит в затронутую проблему. Начинать надо с метафизики древних, где изложены их взгляды на прекрасное, затем двигаться по направлению к искусству и наблюдать, что получается из слияния этих двух терминов. Такой путь, хотя и громоздкий, по крайней мере полезен тем, что предохраняет от «эстетизма» — заблуждения, распространенного среди современных философов, которые рассматривают изящные искусства в отрыве от искусства в целом, а прекрасное — лишь как предмет искусства, искажая таким образом оба понятия: и прекрасного, и искусства.
Собрав и переработав высказанные схоластами взгляды, можно составить на их основе достаточно полную и обширную теорию искусства. Мы хотели бы указать здесь лишь на некоторые стороны этой теории. Приносим извинения за вынужденно догматический характер данной работы и надеемся, что эти замечания вокруг и по поводу схоластических максим, при всей своей фрагментарности, продемонстрируют, сколь полезно обращаться к опыту древних мыслителей, и привлекут внимание читателей к диалогу между философами и художниками, особенно интересному сейчас, когда остро ощущается необходимость выйти из унаследованного от XIX века духовного кризиса и найти внутренние ресурсы для добротного труда.
II Сфера практическая и сфера умозрительная
Существуют функции разума, направленные исключительно на познание. Они относятся к умозрительной сфере.
Таково начальное постижение основ, которое, как только мы усвоим из чувственного опыта идеи бытия, причины, цели и т. д., позволяет нам непосредственно, в силу природной прозорливости, узреть самоочевидные истины, на которых базируется все наше познание; такова наука, которая дает познание с помощью доказательств и устанавливает причинную связь; такова мудрость[499], рассматривающая первопричины и охватывающая все вещи единым умственным взором.
Эти функции совершенствуют разум в его основном предназначении, в том, что является его сущностью, ибо разум как таковой стремится лишь к познанию. Разум действует, и, в конечном счете, сама жизнь его есть деятельность, но это деятельность имманентная, замкнутая в самом разуме, направленная на самосовершенствование, — деятельность, посредством которой он с ненасытной жадностью хватается за бытие, привлекает его к себе, поглощает, впивает его, чтобы «некоторым образом претворить все вещи в себя». Таким образом, умозрительная сфера — его стихия. Разум мало заботят благо или страдание субъекта, его нужды и нормы. Он наслаждается бытием, видит только его.
Практическая сфера противоположна созерцательной, потому что человек тут преследует не познавательные, а иные цели. Если он и познает, то не ради того, чтобы покоиться в истине, наслаждаться ею (frui), a чтобы пользоваться (uti) знаниями для создания какого-либо продукта или совершения какого-либо действия[500].
Искусство принадлежит к практической сфере. Оно направлено на действие, а не на собственно познание.
Есть, правда, созерцательные искусства, которые смыкаются с науками, например, логика; эти научные искусства развивают спекулятивный ум, а не практический рассудок, но и они содержат в своем подходе (mode) что-то практическое; к искусствам же относятся потому, что создают некое произведение, правда, в этом случае внутри самого ума, обращенное на познание и имеющее целью упорядочить наши представления, выстроить некое положение или рассуждение[501]. Так или иначе, искусство, где бы оно ни встречалось, всякий раз связано с выполнением действия или ряда действий, с созданием произведения.
III Творчество и деятельность
Разум замкнут на себя, однако в зависимости от того, познает ли он ради познания или ради действия, он функционирует по-разному.
Созерцательный разум получит полное и безмерное удовлетворение лишь в интуитивном постижении божественной сущности, именно он приводит человека к высшему блаженству — gaudium de Veritate[4*]. В нашем мире он лишь крайне редко может свободно проявляться — разве что у мудреца, теолога, метафизика или у занимающегося чистой наукой ученого. В подавляющем же большинстве случаев разум работает в практической сфере и служит прикладным целям.
Однако сама практическая сфера делится на две самостоятельных области, которые древние называли областью деятельности (agibile, πρακτόν) и областью творчества (factibile, ποιητόν).
Деятельность в узком смысле, как понимали ее схоласты, состоит в свободном применении наших способностей, или в осуществлении свободного выбора, не в отношении самих вещей или создаваемых произведений, а лишь относительно применения нашей свободы.
Это применение зависит от наших чисто человеческих устремлений, или от нашей воли, которая сама по себе ревностно стремится не к истине, а исключительно к благу человека, ибо только оно утоляет наше желание и любовь, только оно питает бытие субъекта или предстает его самосущностью. Если это применение сообразуется с нормами человеческого поведения и с подлинным смыслом всей человеческой жизни, то оно хорошо, а значит, безоговорочно хорош действующий таким образом человек.
Итак, деятельность подчинена главной цели человеческой жизни и направлена на совершенствование человеческой сущности. Область деятельности — это область морали, или собственно человеческого блага. Благоразумие (Prudence), добродетель практического разума, управляющая деятельностью, вмещается в человеческий диапазон. Благородная царица нравственных добродетелей, она призвана руководить нами, поскольку ее дело — соразмерять наши поступки с конечной целью, которая есть возлюбленный превыше всего Бог, но все же она отмечена низменной природой, так как предмет ее — переплетение нужд, обстоятельств и сделок, составляющих человеческую юдоль, и она подходит ко всему с человеческими понятиями.
Творчество, в отличие от деятельности, схоласты определяют как производящее действие, которое соотносится не с тем, как мы распорядимся своей свободой, а лишь с самим создаваемым произведением.
Это действие является должным и благим в своей сфере, если оно сообразуется с правилами и целью создаваемого произведения; и результат его, если оно окажется благим, — в том, что произведение будет хорошим само по себе. Таким образом, творчество всегда подчинено какой-либо частной, обособленной и самодовлеющей, цели, а не общей цели человеческой жизни, оно имеет отношение к благу или совершенству не действующего человека, а создаваемого произведения.
Область творчества — это и есть область искусства в самом широком смысле слова.
Искусство управляет творчеством, а не деятельностью и потому выходит за границы человеческого диапазона, имеет цель, правила, ценности, относящиеся не к человеку, а к его произведению. Произведение — единственная забота искусства, единственный же его закон — надобность и благо произведения.
Отсюда тираническая и всепоглощающая власть искусства, отсюда же — его умиротворяющая сила: оно освобождает от оков человеческого естества, переносит artifex'a, т. е. художника или ремесленника, в иной, замкнутый, заповедный мир абсолюта, где он употребляет свои человеческие силы и ум в интересах объекта, который будет создан. Это касается любого искусства, все жизненные невзгоды и страсти остаются за порогом мастерской.
Однако если цель искусства вне человека, то его принципы и средства остаются человеческими по самой своей сути. Человеческое творение неизбежно несет на себе печать человека — animal rationale[5*].
Произведение искусства было предварительно задумано; прежде чем воплотиться в материале, оно готовилось, формировалось, вынашивалось, вызревало в уме. И потому навсегда им окрашено и овеяно. Разумный замысел — его формальное начало, то, что делает его таким, каково оно есть, и определяет его вид[502]. Стоит этому началу ослабеть, как прекращается искусство. Само предстоящее произведение — лишь материя искусства, форма же его — правильный замысел. Recta ratio factibilium[6*], или, если попытаться перевести эту употребляемую Аристотелем и схоластами формулировку, правильное определение произведения, — вот что такое искусство[503].
IV Искусство как добродетель разума
Коротко изложим схоластическую трактовку искусства в целом, рассматриваемого как нечто, внутренне присущее художнику или ремесленнику, и как часть его.
1. Прежде всего, искусство относится к области разума, действие его заключается в том, чтобы запечатлеть идею в материи, следовательно, оно содержится в уме мастера, или, иначе говоря, мастер является его субъектом. Искусство — это некое свойство его ума.
2. Древние называли словом habitus (έξις) свойства особого рода, представляющие собой устойчивые черты, улучшающие коренной атрибут субъекта, которому они принадлежат[504]. Здоровье, красота суть габитусы тела, святая благодать — габитус (божественный) души[505]; есть также всевозможные габитусы, характерные для различных сил и побуждений души. Поскольку же естественный атрибут этих последних — стремление к действию, их габитусы совершенствуют сам их динамизм, это oneративные габитусы. Таковы нравственные и интеллектуальные добродетели.
Нравственные добродетели приобретаются упражнением и привычкой[506], не следует, однако, путать габитус с привычкой в современном смысле слова, т. е. с обыденным машинальным действием, габитус — это, скорее, нечто противоположное такому пониманию[507]. Привычка складывается в силу столкновения с материей и развивается в нервных центрах. Оперативный же габитус, обеспечивающий живость ума, развивается по большей части в таких нематериальных сущностях, как разум и воля. Если, например, разум, изначально не отдающий предпочтение тому или иному предмету познания, открывает истину, то он уже определенным образом строит свою работу, вызывает в самом себе качество, которое позволяет ему сравнить и соразмерить себя с предметом созерцания, подняться над ним и обозреть его, т. е. приобретает габитус науки. Габитусы — это спонтанно развивающиеся органические надстройки, жизненно важные образования, которые совершенствуют душу в определенном ракурсе и наполняют ее деятельной энергией. Хуан де Санто-Томас называет их turgentia ubera animae[9*]. Только одушевленные существа (лишь души по-настоящему живы) могут обрести их, ибо только они способны собственными усилиями возвысить свою натуру, так что в результате обогащаются вторичными ресурсами, которые могут использовать по желанию и которые делают трудные вещи легкими и приятными.
Габитусы — нечто вроде дворянских титулов духа; будучи врожденными задатками, они составляют основу неравенства между людьми. Человек, имеющий габитус, обладает неотъемлемым и неоценимым свойством, которое защищает его, как железная броня, тогда как другие рядом с ним остаются нагими; но это живые, духовные доспехи.
Наконец, габитус в точном истолковании есть нечто устойчивое и постоянное (difficile mobilis) благодаря самому объекту, к которому он относится. Этим он отличается от простой склонности, вроде мнения[508]. Объект, по отношению к которому он совершенствует субъект, сам по себе незыблем — такова непреложная истинность доказательства для габитуса науки, — этим объектом держится развиваемое в субъекте качество. Отсюда сила и несгибаемость габитуса, отсюда же его чувствительность — его задевает все, что хоть сколько-нибудь отклоняется от прямолинейности объекта. Отсюда и нетерпимость — какую уступку мог бы он сделать, раз он закреплен в абсолюте? — и неудобство в обществе. Вылощенные до блеска светские люди недолюбливают шероховатых людей, наделенных неким габитусом.
Искусство — это габитус практического разума.
3. Этот габитус есть добродетель, т. е. качество, побеждающее природную расплывчатость мыслительной способности, обостряющее и закаляющее ее деятельное начало, распахивающее дверь к определенному объекту, к максимальному совершенству, т. е. к практической эффективности (efficacité operative). Если, таким образом, определить любую добродетель как наивысшее проявление действующей силы[509], а любое зло — как ущербность и неполноту, то добродетель может быть направлена лишь на благо, ибо невозможно употребить добродетель во зло, она по сути своей есть habitus operativus boni[510][10*].
Для блага произведения необходимо наличие такой добродетели в производящем, поскольку образ действия отражает расположенность деятеля, каков человек, таковы его изделия[511]. Чтобы произведение вышло удачным, надо, чтобы в душе мастера ему отвечала расположенность, создающая между ними некую сообразность и внутреннюю соответственность, которую схоласты называли «соприродностью» (connaturalité). Музыка, архитектура, логика прививают музыканту чувство гармонии, архитектору — чувство соразмерности, логику — рассудительность. В силу присутствующей в них добродетели искусства они в некотором роде являют собой произведение прежде его воплощения; они сообразны и благодаря этому придают ему образ.
Но, если искусство — добродетель практического разума, а любая добродетель направлена исключительно на благо (то есть, применительно к умственной добродетели, на истину), из этого следует, что собственно искусство (я говорю об искусстве, а не о художнике, который нередко действует вопреки своему искусству) никогда не ошибается и несет в себе непреложную правоту. Иначе оно не было бы полноценным, прочным по природе габитусом.
Схоласты долго спорили об этой непреложной правоте искусства и, шире, других добродетелей практического разума (благоразумия в сфере деятельности, искусства в сфере творчества). Как может разум быть непогрешимым в области случайного и индивидуального? Отвечая на этот вопрос, они делали принципиальное различие между истиной созерцательного разума, которая состоит в познании и сообразна тому, что есть, и истиной практического разума, которая состоит в управлении и сообразна тому, что должно быть, согласно мере и норме производимого[512]. И если нет науки там, где нет необходимости, если невозможна незыблемая истина в познании того, что может стать не тем, что есть, то она может существовать в его управлении, т. е. искусство может выполнять ту же роль, что и благоразумие, но только в области случайного.
Эта непогрешимость искусства касается, однако, лишь формального элемента созидания, т. е. упорядочивания произведения умом. Пусть ослабнет рука художника, сломается его инструмент, испортится материал — искажающее влияние этого фактора на результат, eventus, ничуть не порочит само искусство и не доказывает неискусность мастера; художник составил в уме замысел, изыскал подходящие для данного случая закон и меру, значит, в нем, художнике, погрешности не было, им задано верное направление. Художник, обладающий габитусом искусства и дрожащей рукой,
С'hа l'abito de l'arte е man che trema[12*],
создаст несовершенное произведение, но его мастерство от этого не умалится. Равно и в области морали: если некое явление имеет недостатки, это не означает, что погрешность содержалась в его замысле. Хотя внешне, с материальной стороны, искусство уязвимо и подвержено случайности, но само по себе, т. е. со стороны формы и заданного разумом устроения, оно не столь зыбко, как мнение, и имеет под собой твердую почву достоверности.
Следовательно, прикладной навык является не частью искусства, а внешним, материальным условием его проявления; труд, благодаря которому «кифаред» достигает виртуозности, беглости пальцев, никак не увеличивает его искусства и не порождает нового, особого искусства, а лишь устраняет физическое препятствие для осуществления искусства, «non générât novam artem, sed tollit impedimentum exercitii ejus»[513]: искусство целиком принадлежит области разума.
4. Уточняя природу искусства, древние сравнивали его с благоразумием, другой добродетелью практического разума. Сопоставляя и различая эти две добродетели, они затрагивали ключевой момент психологии поведения.
Как мы уже говорили, искусство относится к сфере творчества, а благоразумие — к сфере деятельности. Благоразумие выявляет и применяет средства достижения нравственных задач, которые, в свою очередь, подчинены высшей, конечной цели человеческого существования, т. е. Богу. В каком-то смысле оно — тоже искусство, искусство totum bene vivere[514][13*]; в полной мере им владеют лишь святые[515], которых Верховное Благомудрие и особенно дары Святого Духа и любовь Господня влекут к божественным предметам божественным путем, дают им орлиные крылья, чтобы шествовать по земле: assument pennas ut aquilae, current, et non laborabunt, ambulabunt et non deficient[516] [15*]. Искусство касается не жизни в целом, а только тех или иных особых, выходящих за человеческие пределы ее аспектов, которые и выступают по отношению к нему высшим пределом.
Благоразумие направлено на благо деятеля, ad bonum operantis, искусство же — на благо произведения, ad bonum operis, a все, что отклоняет его от этой цели, умаляет и извращает его. Достаточно того, что художник силен в творчестве, как геометр в доказательствах, и «неважно, хорошее у него при этом настроение или нет»[517]. Если он гневается или завидует, то грешит как человек, а не как художник[518]. Искусство вовсе не стремится сделать художника человеком безупречного поведения; будь это возможно, оно скорее стремилось бы к тому, чтобы наилучшим образом проявилось в своей области само произведение[519], но произведения человеческого искусства не обладают способностью действовать самостоятельно, на это способны лишь творения Господа, так что святые — в полном и буквальном значении слова — его шедевр, аттестат мастера.
Далее, поскольку художник — прежде человек, а уж потом художник[520], нетрудно предвидеть, как будут бороться в нем искусство и благоразумие, человеческие и профессиональные достоинства. Понятно, впрочем, что благоразумие, всегда принимающее во внимание особые случаи, не станет прикладывать к художнику те же мерки, что к крестьянину или купцу, и требовать от Рембрандта или Леона Блуа производить нечто прибыльное, чтобы обеспечить достаток семье. От художника требуется настоящий героизм, чтобы не сворачивать с прямого пути творчества и не приносить свою бессмертную сущность в жертву обитающему в его душе алчному идолу. Такие конфликты неизбежны, если только художник не обладает столь глубоким смирением, что оно делает его искусство, так сказать, бессознательным, или если не помазан он елеем высочайшей мудрости, сообщающей всем его делам и мыслям мир и покой любви. Так, например, Фра Анджелико, скорее всего, не испытывал этих внутренних терзаний.
И все же чистый художник, рассматриваемый отвлеченно, как таковой, reduplicative ut sic, есть нечто внеморальное.
Благоразумие совершенствует ум лишь постольку, поскольку предполагается, что потребность, которой оно отвечает, -т. е. благо всего человека в целом[521] — имеет правильную волевую направленность. Ведь оно лишь определяет средства достижения тех или иных конкретных, уже избранных волею целей и, стало быть, предполагает, что эти цели действительно способствуют благу человека.
Напротив, искусство совершенствует ум независимо от того, насколько соответствующая ему потребность имеет благую направленность, так как оно преследует цели, не имеющие отношения к благу человека. Таким образом, «потребность, идущая наперекор благоразумию, вредит искусству не больше, чем, скажем, геометрии»[522]. Применение (usus) наших способностей зависит от силы воли, приложенной к потребности[523], искусство же дает саму способность делать хорошо (facultas boni operi), но не учит применять ее. Художник может, по желанию, не применять свое искусство или применять его плохо, подобно тому как грамматик может, если пожелает, допускать варваризмы; добродетель искусства в нем не станет от этого менее совершенной. Согласно знаменитому положению Аристотеля[524], — вот уж кому, верно, понравились бы причуды Эрика Сати![525] — художника, который грешит против своего искусства, следует порицать, если он делает это ненамеренно; тогда как человек, грешащий против благоразумия или справедливости, более достоин осуждения, когда действует намеренно. Древние замечали по этому поводу, что и искусство, и благоразумие сначала замышляет, а затем исполняет, но для искусства важнее замысел, для благоразумия же — исполнение. Perfectio artis consistit in judicando[526][19*].
И наконец, поскольку благоразумие занято не созданием чего-то вещественного, а тем, как субъект распорядится своей свободой, у него нет точно установленных путей или жестких правил. Главное для него — благая цель, на которую направлены моральные добродетели и для достижения которой оно должно изыскать верное средство. Однако, для того чтобы достичь этой цели и применить к конкретному действию универсальные моральные принципы, предписания и требования, не существует готовых правил, ибо это действие оплетено тканью обстоятельств, которые обособляют его и делают каждый случай чем-то совершенно новым[527]. В каждом случае[528] способ достижения цели будет иным. Благоразумие как раз и находит эти способы, употребляя средства и правила, подведомственные воле, которая выбирает их, исходя из сочетания условий и обстоятельств; эти правила каждый раз случайны, а не определены заранее; их окончательно утверждает суждение, или произволение, благоразумия; вот почему схоласты называли их regnlae arbiîrariae[21*]. Особенное в каждом особом случае, установление благоразумия при этом остается точным и безошибочным, ибо, как уже говорилось выше, истинность благого суждения происходит из соответствия правильному стремлению (per conformitatem ad appetitum rectum), a не конкретному событию; и, если предположить существование какого-нибудь другого или множества других случаев, полностью идентичных данному, всем им будут предписаны благим разумением одни и те же правила, но в области морали нет и не может быть даже двух абсолютно идентичных случаев[529].
Из сказанного ясно, что никакая наука не может заменить благоразумие, так как любая из них, даже самая казуистически богатая, все равно дает лишь общие и строго определенные правила.
Ясно также, почему благоразумие для уточнения своего суждения не может обойтись без подробного опытного исследования, которое древние именовали consilium (обсуждение, совет).
Напротив, искусство, призванное произвести нечто, следует точными и определенными путями, «imo nihil aliud ars esse videtur, quam certa ordinatio rationis, quomodo per determinata media ad determinatum finem actus humani perveniant»[530] [22*]. Схоласты постоянно твердят об этом, опять-таки вторя Аристотелю, и объявляют обладание определенными правилами существенным свойством искусства как такового. Ниже мы представим несколько соображений по поводу этих правил применительно к изящным искусствам. Здесь же напомним, что древние, рассматривая добродетель искусства, имели в виду искусство в чистом и самом общем виде, а не ту или иную его разновидность. Простейшим примером искусства в таком понимании могут служить искусства механические — в них в первую очередь проявляется сущность искусства вообще. Искусство судостроителя или часовщика имеет неизменную и универсальную цель, продиктованную разумной логикой: позволить человеку передвигаться по воде или узнавать время; само же произведение — судно или часы — лишь материя, которую cледует приспособить к этой цели. А для этого есть строгие, тоже определенные разумной логикой, правила, установленные в соответствии с целью и некоторой совокупностью условий.
Разумеется, результаты будут индивидуальными, и в случаях, когда материя искусства особенно капризна и изменчива, например, в медицине, сельском хозяйстве или военном деле, искусству приходится для применения общих, неизменных правил прибегать и к правилам произвольным (regulae arbitrariae), a также к своего рода благоразумию с его обсуждением (consilium). Тем не менее искусство твердо придерживается общих рациональных правил, а не consilium'a, и правильность его суждения, в отличие от суждения благоразумия, зависит не от обстоятельств и случайностей, а от определенных, присущих лишь ему правил[531]. Вот почему искусства суть одновременно практические науки, подобно хирургии или медицине (ars chirurgico-barbifica[23*], - говорили еще в XVII в.), а некоторые, например логика, могут даже быть науками умозрительными.
5. Итак, искусство в большей степени интеллектуально, чем благоразумие. Благоразумие связано с практическим разумом лишь постольку, поскольку предполагает здравую волю и зависит от нее[532], искусству же нет дела до воли и до того, как ее цели соотносятся с человеческими потребностями; если же оно предполагает некоторую правильность стремления[533], то только по отношению к какой-нибудь чисто умственной цели. Искусство, как и наука, тяготеет к объекту (правда, к объекту действия, а не созерцания). К обсуждению и совету оно прибегает лишь эпизодически. Действия и результаты его индивидуальны, но суждения, за исключением некоторых побочных случаев, не зависят от изменчивых обстоятельств, так что оно меньше, чем благоразумие, соприкасается с конкретностью, с hic et nunc[534] [25*]. Коротко говоря, если зыбкостью материи искусство более сродни благоразумию, чем науке, то формальной основой и качеством добродетели оно ближе к науке[535] и к различным габитусам созерцательного разума, чем к благоразумию: ars magis convenit cum habitibus speculativis in ratione virtutis, quam cum prudentia[536] [27*]. Ученый — это человек доказательной мысли, художник — человек созидающей мысли, благоразумный — человек мыслящей и верно действующей воли.
Таково, в общих чертах, представление схоластов об искусстве. Не только в Фидии и Праксителе, но и в деревенском кузнеце и столяре видели они органичное проявление разума, благородство мысли. Доблесть мастера (artifex) состояла, с их точки зрения, не в сильных мускулах, проворных пальцах или рационально организованных движениях, не в навыке (experimentum[28*]), который вырабатывается с помощью механической памяти и примитивного мышления, который имитирует искусство и, безусловно, является для него необходимым[537], но остается по отношению к нему чем-то внешним. Искусство считалось добродетелью ума и придавало одухотворенность самому скромному ремесленнику.
При нормальном развитии человечества, в нормальном человеческом обществе ремесло — самое распространенное занятие. Сам Христос, пожелав разделить обычную человеческую участь, стал ремесленником в небольшом селении[538].
Средневековые ученые, в отличие от большинства наших психологов, поглощенных самоанализом, изучали не только горожанина, человека книжного, кабинетного, их интересовала вся масса средних людей. А также их Отец Небесный. Рассматривая искусство или близкую к художеству деятельность, они рассматривали в том числе то дело, которое избрал для себя Господь на все годы Своей скрытой земной жизни; рассматривали и деяния Бога Отца, ибо знали, что добродетель искусства так же присуща Ему, как добро и справедливость[539], и что Сын, занимаясь делом простолюдина, являл и в этом единосущность Отцу и причастность Его постоянной деятельности[540]: «Philippe, qui videt Me, videt et Patrem»[31*].
* * *
Любопытно, что, классифицируя искусства, древние не вычленяли особо то, что мы называем изящными искусствами[541]. Они разделяли искусства на служебные и свободные, в зависимости от того, требуют ли они физической работы[542], а также — поскольку это различие заходит дальше, чем принято думать, и основывается на самом понятии искусства, recta ratio factibilium — от того, является ли конечное произведение материальным предметом (factibile[32*] в прямом смысле) или умозрительным построением, существующим в душе[543]. При таком подходе скульптура и живопись относятся к служебным искусствам[544], а музыка — к свободным, наряду с арифметикой и логикой, так как музыкант мысленно оперирует звуками так же, как математик цифрами и логик понятиями, а вокальное или инструментальное выражение этих завершенных в уме построений, имеющее вид потока звуковой материи, — не более чем средство, внешнее проявление этого искусства.
В жесткой социальной структуре средневековой цивилизации художник считался ремесленником и только; любые анархические поползновения личности возбранялись, ибо были ограничены извне реальным общественным распорядком, диктовавшим определенные условия[545]. Он работал не для знати или торговцев, а для простых прихожан, его задачей было обрамлять их молитвы, образовывать их ум, радовать душу и глаз. О несравненные времена, когда невинный народ воспитывался красотой незаметно для себя, подобно тому как истинно благочестивый человек молится, сам того не сознавая[546]; когда ученые мужи и художники любовно наставляли бедняков, а бедняки внимали их наставлениям, ибо всех их объединяло высшее родство через крещение в Духе.
Тогда человеческие творения были прекраснее, а люди меньше любовались собой. Униженность положения художника была благотворна, способствовала его силе и свободе. Возрождение внесло в душу художника смятение и сделало его несчастнейшим из людей — да еще как раз тогда, когда мир и без того перестал быть для него уютным домом, — оно внушило ему мысль о собственном величии и обрушило на него неистовую силу красоты, которую вера чудесным образом сдерживала и вела за собой, связанную нитью Пресвятой Девы[547].
V Искусство и красота
Св. Фома, чья мудрость равнялась простоте, определял прекрасное как то, что радует взор, id quod visum placet[548] [35*]. Эти четыре слова заключают в себе все: взирание, т. е. интуитивное познавание, и радость. Прекрасное — это то, что дает радость, но не всякую, а радость познавания, источник которой не просто в самом процессе, а в объекте познания, который в ходе этого процесса обильно ее источает. Если нечто восхищает и услаждает душу тем, что оно открывается ее интуиции, оно отрадно для восприятия, оно прекрасно[549].
Прекрасное есть по преимуществу объект разума, так как только разум познает в полном смысле слова, только разум открыт восприятию всей бесконечности бытия. Естественное место прекрасного — в умопостигаемой сфере, оттуда оно и нисходит. Но его могут, так сказать, уловить и чувства, в той мере, в какой они служат человеческому разуму и способны сами наслаждаться, познавая: «из всех чувств лишь зрение и слух имеют отношение к прекрасному, потому что они — maxime cognoscitivi»[550] [37*]. Человеческие чувства играют значительную, если не решающую, роль в восприятии прекрасного, ибо наш разум не обладает интуицией, как разум ангелов; он способен видеть ясно, но только посредством обобщения и рассуждения, чувственное же познание вполне интуитивно, это качество развилось в нем в результате восприятия прекрасного. Таким образом, человек действительно может наслаждаться чистой, умопостигаемой красотой, при условии, что она ему соприродна, т. е. такой, которая восхищает разум через интуитивное чувственное восприятие. Именно такую красоту создает наше искусство, оно обрабатывает доступную чувствам материю так, что она дает отраду уму и тем уверяет нас, что рай не утрачен. Да, искусство подобно земному раю, так как воскрешает на миг безмятежное блаженство согласных друг с другом ума и чувств.
Прекрасное восхищает разум потому, что представляет собой высшую, превосходную степень соответствия вещей критериям разума. Поэтому св. Фома[551] предписывает прекрасному три условия: цельность, ибо разум любит бытие; соразмерность, ибо разум любит порядок и гармонию; и, главное, сияние, или ясность, ибо разум любит свет и внятность. Древние также сходятся на том, что прекрасному свойственно некоторое сияние — claritas est de ratione pulchritudinis[552] [39*]; lux pulchrifîcat, quia sine luce omnia sunt turpia[553] [40*], — но это сияние смысла: splendor veri[41*], — говорили платоники; splendor ordinis[42*], — говорил св. Августин и прибавлял, что «гармония есть форма любой красоты»[554]; splendor formae[43*], — говорил св. Фома на точном языке метафизики, ибо именно «форма», т. е. начало, которое определяет совершенство всего сущего, образует и завершает суть и качество вещей и, наконец, является, так сказать, онтологической тайной, содержащейся в вещах, их духовным стержнем, скрытой движущей силой, определяет внятность, внутреннюю ясность каждой вещи. Таким образом, любая форма — это след или отсвет Разума самого Творца, запечатленный в сердце творения. С другой стороны, любой порядок или соразмерность есть плод разума. Красота есть «сияние формы в соразмерных частях материи»[555], — говорили схоласты, иными словами, она есть блеск разума в разумно организованной материи. Ум наслаждается прекрасным, потому что находит и узнает себя, соприкасается со своим собственным светом. Недаром те, кто, подобно Франциску Ассизскому, знает, что вещи происходят от единого разума, и соотносит их с их Творцом, лучше всех понимают их красоту и радуются ей.
Всякая чувственно воспринимаемая красота восхищает зрение, слух или воображение, но без восхищения разума нет и красоты. Прекрасный цвет «ласкает глаз», как дивный аромат услаждает обоняние, но из этих двух «форм», или качеств, об одном только цвете можно сказать, что он прекрасен, ибо он, в отличие от аромата, воспринимается чувством, способным к чистому познанию[556], и потому может своим, пусть чувственным, светом доставлять радость уму. Кроме того, чем выше культурное развитие человека, тем более одухотворенным становится для него сияние формы.
Важно подчеркнуть, что в прекрасном, которое мы назвали соприродным человеку и которое свойственно нашему искусству, это сияние формы, столь внятное разуму, что, кажется, оно существует само по себе, воспринимается в ощущении и через ощущение, а не отдельно от него. Так что художественная интуиция прямо противоположна научной абстракции. Ибо в разум художника сияние сущности проникает с помощью чувств.
И разум, не делая никаких обобщающих усилий, наслаждается без труда и без рассуждений. Он избавлен от обычной работы, ему не нужно извлекать погруженный в материю смысл, постепенно продвигаясь от атрибута к атрибуту; он может, как лань у родника, впивать свет бытия. Сосредоточившись в чувственной интуиции, он озаряется светом смысла, вспыхивающим спонтанно, в самом ощущаемом, — светом, который воспринимается не sub ratione veri, а скорее sub ratione delectabilis[47*]; этот свет легко приводит разум в действие и насыщает потребность, устремленную к любому благу души как к своему исконному объекту. И лишь задним числом разум сможет более или менее успешно проанализировать это удовольствие путем размышления[557].
Итак, хотя прекрасное имеет отношение к метафизической истине (поскольку любой свет смысла в вещах предполагает некоторую сообразность с Божественным разумом, причиной всего сущего), однако оно является не разновидностью истины, а разновидностью блага[558]; восприятие прекрасного имеет отношение к познанию, но лишь сопутствует ему, «как юности сопутствует цветенье»; такое восприятие— разновидность не столько знания, сколько удовольствия.
Приятность — характерное свойство прекрасного. Именно в силу этой своей природы и в силу красоты оно возбуждает желание и внушает любовь, истинное же само по себе лишь просвещает. «Omnibus igitur est pulchrum et bonum desirabile et amabile et diligibile»[559][61*]. Мудрость привлекает своей красотой[560]. Красота же нравится, прежде всего, собою, даже если потом слабая плоть попадает в капкан. Любовь ведет к экстазу, т. е. увлекает любящего за пределы своего Я; душа испытывает этот экстаз в усеченном виде, когда захвачена красотой искусства, и в полном, когда ее, как росу, вздымает красота Божественная.
Дионисий Ареопагит считает дозволительным[561] говорить о Боге, что Он сам некоторым образом испытывает экстаз любви, ибо переполняющее Его благо изливается на все вещи, сообщая им свое сияние. Его любовь — причина красоты того, что Он любит, тогда как наша — следствие ее.
* * *
То, что древние говорили о прекрасном, надо понимать в самом обобщенном смысле, избегая применять их мысль слишком узко. Понятие цельности, или совершенства, или завершенности, имеет не одно, а тысячу, десять тысяч толкований. Отсутствие головы или руки серьезно нарушит цельность живой женщины и куда меньше — цельность статуи, как бы ни сожалел г-н Равессон о невозможности восстановить Венеру Милосскую. Самый небрежный набросок Леонардо или даже Родена более завершен, чем самое лучшее законченное полотно Бугро[63*]. И если какому-нибудь футуристу вздумается написать даму на портрете с одним глазом или хоть с четвертью глаза, никто не должен оспаривать его право на это, лишь бы в этой четвертушке содержалось все, что необходимо означенной даме в данном случае.
Так же обстоит дело с пропорцией, сходством и гармонией. Они весьма различны для разных объектов и целей. Пропорция, подходящая для взрослого, не годится для ребенка. Фигуры, изображенные по греческим или египетским канонам, пропорциональны в своем роде. Но столь же пропорциональны и фигуры Руо. Цельность и пропорциональность не имеют абсолютного значения[562] и рассматриваются исключительно в соответствии с задачей произведения, которая заключается в том, чтобы ввести в материю сияние формы.
Это сияние, составляющее сущность прекрасного, может играть в материи на тысячу ладов[563]. Это и внятная чувствам прелесть красок или тембра, и внятная разуму четкость орнамента, ритма или равновесия, действия или движения, т. е. отражение в вещах человеческой или божественной мысли[564] и особенно сквозящее в них глубинное великолепие души, источника жизни и силы — животной или духовной, источника боли и страсти. Есть и более высокий свет — свет божественной благодати, которого не ведали греки.
Стало быть, красота — это не соответствие некоему непреложному, идеальному образу, как полагают те, кто, путая прекрасное и истинное, познание и наслаждение, требуют, чтобы для восприятия прекрасного человек «вглядывался в идеи» и прозревал «под материальной оболочкой» «невидимую суть вещей»[565]. Св. Фома был равно далек как от этого псевдоплатонизма, так и от сумбурного идеализма Винкельмана и Давида. Он был убежден, что красота там, где форма сияет в подобающе соразмерной материи, и тщательно оговаривал, что красота относительна — не в том смысле, что относителен сам субъект, как трактуют это слово современные философы, а в том, что красота зависит от природы и цели произведения и от внешних условий ее проявления. «Pulchritudo quodammodo dicitur per respectum ad aliquid…»[566] «Alia enim est pulchritudo spiritus et alia corporis, atque alia hujus et illius corporis»[567] [67*]. Как бы прекрасно ни было произведение, оно может понравиться одним людям и не понравиться другим, потому что оно прекрасно лишь в определенных ракурсах, которые одним доступны, другим — нет, т. е. оно «прекрасно в одном месте и не прекрасно в другом».
* * *
Причина этого в том, что прекрасное принадлежит к сфере трансцендентального, т. е. к сфере объектов мысли, которая простирается за пределы категорий и жанров и не поддается классификации, ибо пронизывает все и пребывает везде[568]. Так же как целое, истинное и благое, оно есть само бытие в определенном аспекте, свойство бытия, а не его дополнительная принадлежность; прекрасное добавляет бытию связь с разумом; оно есть бытие в чисто интуитивном восприятии наделенной интеллектом натуры. Таким образом, каждая вещь прекрасна, подобно тому как каждая вещь хороша в каком-то отношении. Поскольку же бытие присутствует всюду и всюду в разных видах, то всюду и в разных видах присутствует и прекрасное. Прекрасное, как бытие и другие трансцендентальные сущности, аналогично, т. е. применимо в разных аспектах, sub diversa ratione, к разным субъектам: каждый вид бытия существует по-своему, хорош по-своему, прекрасен по-своему.
Аналогичные понятия применимы в чистом виде к Богу, в котором обозначаемое ими качество существует как «высочайшая форма», в абсолютном и бесконечном состоянии. Бог — их «высшая аналогия»[569], в вещах же они находятся лишь как единичный и преломленный отблеск божественного лика[570]. Таким образом, прекрасное есть одно из божественных имен.
Бог прекрасен. Он прекраснее всех существ, ибо, согласно трактовке Дионисия Ареопагита и св. Фомы[571], Его красота постоянна и неизменна, не прибывает и не убывает; она не такова, как в вещах, которые обладают обособленной красотой, «particulatam pulchritudinem, sicut et particulatam naturam»[80*]. Он прекрасен сам по себе и в себе красотой абсолютной.
Он сверхпрекрасен (superpulcher), так как в совершенном единстве и цельности Его природы существует предвечный и превосходнейший источник всякой красоты.
Он — сама красота, так как Он дает красоту всем сотворенным существам, согласно свойствам каждого; так как Он — причина всякого созвучия и всякого сияния. Ведь всякая форма, т. е. всякий свет, есть «излучение, исходящее от света божественного». И любое созвучие, согласие, содружество, любой союз и любая гармония между вещами и существами восходит к божественной красоте, изначальному и несравненному образцу созвучия вообще, тому, что сближает одни вещи с другими, сзывает их все к себе и потому заслуженно носит «название καλός, происходящее от слова "звать"»[81*]. Стало быть, «красота творения есть не что иное, как подобие божественной красоты, частично присутствующей в вещах»; с другой стороны, поскольку форма есть принцип бытия, а созвучность, или гармония, хранит в себе бытие, божественная красота есть причина бытия всего существующего. «Ex divina pulchritudine esse omnium derivatur»[572] [82*].
В Троице, говорит далее св. Фома[573], все атрибуты прекрасного приложимы к Сыну. Действительно, взять ли цельность или совершенство — Он обладает всей полнотой совершейной природы Отца. Взять ли соразмерность, проистекающую из сообразности, — Он есть точнейший образ Отца и как раковой Ему соразмерен. Взять ли, наконец, сияние — Он еcть Слово, свет и великолепие разума, «Слово совершенное, без малейшего изъяна; так сказать, искусство всемогущего Господа»[574].
Итак, красота принадлежит трансцендентальной, метафизической сфере. Поэтому естественно, что она увлекает душу за пределы сотворенного мира. Проклятый поэт — именно ему современное искусство обязано тем, что вновь осознало теологическое измерение и духовное самовластие красоты, — говорил: «Бессмертный инстинкт прекрасного заставляет нас рассматривать землю и все земное как отголосок неба. Неутолимое стремление ко всему запредельному, которое обнаруживает жизнь, — лучшее доказательство нашего бессмертия. Посредством поэзии и в самой поэзии, посредством музыки и в самой музыке душа провидит дивную прелесть загробного мира; и когда, слушая возвышенного поэта, мы ощущаем на глазах слезы, они выступают не от избытка удовольствия, а скорее от нервического напряжения, от желания изгнанной в несовершенный мир души теперь же и здесь же, на этой земле, овладеть внезапно открывшимся раем»[575].
* * *
Прикасаясь к запредельности, мы прикасаемся к самому бытию, к богоподобию, к абсолюту, к достоинству и счастью нашей жизни; мы входим в область духа. Лишь приникая к бытию или к какому-либо из его свойств, люди могут полноценно общаться между собою. Лишь таким образом они вырываются из клетки индивидуальности, в которую заключены материей. Оставаясь в мире чувственных потребностей и своего чувственного Я, они не могут понять друг друга, сколько бы друг перед другом ни изливались. Мы смотрим на собратьев и не видим их, каждый из нас бесконечно одинок, даже когда нас соединяет работа или вожделение. Но стоит нам прикоснуться к добру и любви, как святым; к истине — как Аристотелю; к прекрасному — как Данте, Баху или Джотто, — и между душами устанавливается связь. Только дух подлинно объединяет людей, только свет собирает их, «intellectualia et rationalia omnia congregans, et indestructibilia faciens»[576] [85*].
Искусство как таковое стремится нечто произвести. При этом некоторые его виды отличаются тем, что стремятся произвести нечто прекрасное. Произведения прочих искусств служат пользе человека, т. е. являются лишь средствами достижения этой цели, а потому остаются в рамках определенного материального жанра. Произведения же изящных искусств служат красоте, а красота есть абсолютная самоцель, она самодостаточна, поэтому если как нечто произведенное они материальны и ограничены рамками жанра, то как нечто прекрасное принадлежат сфере духа и сливаются с запредельностью, с бесконечностью бытия.
Таким образом, изящные искусства так же выделяются из рода искусств, как человек выделяется из рода животных. И так же, как человек, они подобны горизонту, где соприкасаются материя и дух. Этим объясняются многие их отличительные особенности. Причастность к прекрасному изменяет в них одни родовые черты, например, как мы пытались показать, все, что касается правил искусства, и, наоборот, закрепляет, доводит до крайней степени другие — прежде всего, умственный аспект и сходство искусства с добродетелями созерцательного разума.
Можно провести особую аналогию между изящными искусствами и премудростью. Они в равной мере обусловлены объектом, превосходящим человека, самоценным и необъятным, ибо красота бесконечна, как и бытие. Столь же бескорыстны, устремлены сами на себя, подлинно благородны, так как их произведения не предназначены быть средством достижения чего-либо, а созданы для того, чтобы ими наслаждались как целью, как настоящими плодами, aliquid ultimum et delectablile. Их ценность — духовного порядка, их функция — созерцание. Ибо, хотя созерцание — не единственное их дело (как у премудрости), тем не менее они нацелены на то, чтобы доставлять умственное удовольствие, а это тоже своего рода созерцание; кроме того, в самом художнике заложена определенная созерцательность, которая должна сообщать произведению красоту. Поэтому, с известным допущением, возможно применить к изящным искусствам высказывание св. Фомы о премудрости, которую он сравнивает с игрой[577]: «Созерцание мудреца сравнимо с игрой, так как имеет два присущих игре качества. Во-первых, игра доставляет наслаждение, и созерцание ума заключает в себе наивысшее наслаждение, недаром в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, Премудрость говорит сама о себе: "обладание мною приятнее медового сота"[86*]. Во-вторых, игра ничем не задана и все в ней совершается без всякой внешней цели. Таковы и услады премудрости… Потому она и сравнивает их с веселой игрой: "я… была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его"»[578].
Однако искусство остается укорененным в области творчества и доставляет радость уму посредством рабского труда над материей. Этим определяется странность и трагизм положения художника, да и человека вообще: ведь человек должен прозябать в телесном мире и жить в духовном. Осуждая древних поэтов, изображавших божество завистливым, Аристотель признает их правоту в том, что лишь оно обладает мудростью в чистом виде: «…обладание ею можно было бы по справедливости считать выше человеческих возможностей, ибо во многих отношениях природа людей рабская»[579]. Производить прекрасное в чистом виде — тоже прерогатива Бога. По сравнению с мудрецом, положение художника не столь возвышенно, в нем больше человеческого, кроме того, оно более противоречиво и мучительно, поскольку деятельность художника не лежит целиком и полностью в области чистого умозрения и заключается не в созерцании, а в творчестве. Художнику не дано вкушать покой и блаженство премудрости, но на него распространяются строгие требования отвлеченного разума, и в то же время он обречен терпеть все тяготы рабской обыденности и недолговечность материальных произведений.
* * *
«Брат Лев, животинка Божия, когда бы меньший брат говорил языком ангелов и воскрешал умершего четыре дня тому назад, запиши, что не в этом совершенная радость…»[87*]
Когда бы художник вместил в свои произведения весь свет небесный и всю благодать райского сада, он не обрел бы совершенной радости, ибо он гонится за мудростью, чует ее аромат, но не может ею овладеть. Когда бы философ познал все умозрительные истины и все свойства бытия, он не обрел бы совершенной радости, ибо премудрость его остается человеческой. Когда бы богослов постиг все аналогии божественных проявлений и все причины деяний Христовых, он не обрел бы совершенной радости, ибо у его премудрости хоть и божественное происхождение, но лад и голос человеческие.
Умрите ж, голоса, коль суждена вам смерть!
Лишь нищим и смиренным дано совершенное счастье, ибо им доступны премудрость и созерцание в чистейшем виде, когда умолкают голоса земные и звучит лишь голос Любви; им, приобщенным непосредственно к вечной Истине, ведома «услала, даруемая Господом, и дивный аромат Святого Духа»[580]. Недаром незадолго до смерти св. Фома так отозвался о своей незавершенной «Сумме»: «Все это представляется мне мякиной, mini videtur ut palea». Мякина человеческая и не более — все парфеноны, шартрские соборы, сикстинские капеллы и ре-минорные мессы, — мякина, что вспыхнет и сгорит в последний день. «Все мирское пресно»[581].
Средневековье знало эту иерархию. Возрождение отринуло ее. После трех веков отступничества блудное искусство пожелало стать для человека смыслом жизни, Хлебом и Вином, истинным зерцалом благодатной красоты. На деле же оно ее лишь распылило. Поэт возжаждал блаженства, но оно требует от искусства духовной полноты, даруемой одним лишь Богом, и ему пришлось удовольствоваться принципом «безмолвствуй, бездна». Молчание Рембо, быть может, знаменует собой конец векового безбожия. Во всяком случае, оно ясно показывает, что искать в искусстве глаголы жизни вечной и отдохновение души — безумие и что художник, дабы не погубить ни свое искусство, ни собственную душу, должен быть тем, что требуется для искусства, т. е. хорошим мастером.
Современный мир, еще не так давно суливший художнику все, скоро едва ли не отнимет у него последние средства к существованию. Система «ничего, кроме земного», основанная на двух противоестественных принципах: всемогущества денег и утилитарности, — бесконечно умножает потребности, порабощает душу и поглощает ее досуг, приспосабливает factibile к требованиям практической жизни, навязывает человеку бешеный машинный ритм и ускоренную циркуляцию материи, а тем самым придает человеческой деятельности нечеловеческий характер и сатанинскую направленность, ибо конечная цель всего этого бедлама — лишить человека памяти о Боге,
dum nilperenne cogitai, seseque culpis illigat[89*].
Понятно, что при такой системе все, на чем лежит хоть слабый отпечаток духа, должно считаться бесполезным, а значит, отвергаться.
Или же героизм, истина, добродетель, красота должны сделаться полезными — лучшими, вернейшими орудиями пропаганды и господства земных сил.
Гонимый, как мудрец и почти как святой, художник, быть может, признает наконец своих братьев и вновь обретет подлинное призвание; ведь он в некотором смысле не от мира сего, потому что с той минуты, как он начал служить красоте, он ступил на путь, ведущий праведные души к Богу и являющий им невидимое в видимых вещах. Пусть тех, кто не захочет потакать Зверю и плыть по течению, малая горстка, но благодаря им, благодаря их бескорыстному труду выживет весь род людской.
VI Правила искусства
Формообразующая роль искусства заключается в том, что оно задает некий распорядок материи. Древние считали даже, что наличие установленных правил, viae certae et determinatae[90*], — один из существенных признаков искусства.
Слова «установленные правила» вызывают у нас неприятные воспоминания о трех единствах и «правилах Аристотеля». Но эти ходульные правила грамматиков-классицистов — наследие Возрождения с его манией копировать античность и чучелом Аристотеля, а не наследие христианского Аристотеля великих схоластов. Установления, о которых они говорили, — это не предписанные извне условности, а возвышенные и сокровенные рабочие механизмы самого искусства[582]. Любой художник знает, что без этой разумной формы, обуздывающей материю, его искусство превратилось бы в хаос эмоций[583]. Здесь, однако, требуются некоторые пояснения.
* * *
Говорим ли мы об искусстве вообще, об искусствах механических и прикладных или об изящных и свободных, важно понять, что упомянутые правила ничего не стоят, если они не являются внутренне необходимой духовной сущностью некоего габитуса, или одной из добродетелей разума, а именно добродетели искусства.
Габитус, или добродетель, искусства возвышает дух художника изнутри, позволяет ему использовать правила по своему усмотрению; он не более «порабощен» правилами, чем мастер — инструментами. Не правила владеют художником, а он в полной мере владеет ими; не они им распоряжаются, а он с их помощью распоряжается материалом и действительностью; иногда же, в звездные мгновения, когда работа гения в искусстве уподобляется чудесам Господа в природе, он действует не против правил, а поверх их, по высшему и менее явному уставу. «Истинное красноречие, — писал Паскаль, — пренебрегает красноречием, истинная мораль пренебрегает моралью, пренебрегать философией — это и значит философствовать». А вот в придачу сочное словцо самого отъявленного тирана и якобинца среди маститых академистов: «Если вы не наплюете на живопись, она наплюет на вас»[584].
Как уже отмечалось выше, существование габитусов в корне противоречит эгалитаризму. Современный мир чурается их, каковы бы они ни были; можно было бы даже написать любопытную историю постепенного вытеснения их современной цивилизацией. Начинать ее следовало бы с весьма отдаленного прошлого. Мы увидели бы — недаром говорится, что рыба гниет с головы, — как великие теологи: Скот, а за ним Оккам и даже Суарес неблагосклонно относились даже к благороднейшим из этих исключительных качеств, к дарам Святого Духа, не говоря уж о врожденных нравственных добродетелях. Вскоре христианские добродетели и освящающая благодать будут подточены и подпилены Лютером, а потом богословами-картезианцами. Настал черед и естественных габитусов; Декарт, в своем уравнительном раже, обрушивается даже на genus generalissimus[91*], включающий в себя всех тех, кто несет печать проклятия, и отрицает реальное существование качеств и акциденций. В то время все были увлечены успехами счетной машины, все бредили методом. Декарт рассматривает метод как безошибочное и легкое средство, способное привести к истине «тех, кто не учился наукам» и светских людей[585]. Наконец Лейбниц изобретает логику и язык, замечательные тем, что они «избавляют от необходимости думать»[586]. Постепенно общество доходит до безмозглого зубоскальства, пустого любопытства во вкусе Просвещения.
Таким образом, метод, или правила, трактуемые как совокупность формул и приемов, работающих самостоятельно и служащих ортопедическим и механическим каркасом для ума, стремятся повсюду в современном мире заменить собою габитусы, потому что метод доступен всем, габитусы — немногим. Нельзя же смириться с тем, чтобы пригодность к лучшим видам деятельности зависела от добродетели, которой одни наделены, а другие нет! Поэтому надо сделать прекрасное легким.
Χαλεπά τα καλά[93*]. Древние полагали, что истина сложна, красота также, путь к ним узок и для овладения столь сложным и возвышенным объектом в субъекте должны присутствовать внутренняя сила и подъем, т. е. габитус. Современная концепция метода и правил показалась бы им вопиющей нелепостью. Согласно их воззрениям, искусству действительно присущи правила, но при условии, что их диктует габитус — живой устав. Без него они ничто. Дайте неутомимому поэту-лауреату, который корпит по пятнадцать часов в сутки, блестящие теоретические знания всех правил искусства, из него все равно не получится художника, и он будет намного дальше от искусства, чем ребенок или просто одаренный от природы дикарь (что оправдывает слишком наивных или слишком тонких любителей африканского искусства).
Современное искусство стоит перед дурным выбором между дряхлостью академических канонов и примитивностью природного дарования; в первом случае искусства уже нет, оно исчезло окончательно, во втором — еще нет, разве что в потенциальном виде; настоящее же искусство заключается лишь в живой разумности габитуса.
* * *
В наши дни природную одаренность охотно принимают за искусство, особенно легко подделаться под него нехитрыми аляповатыми имитациями. Однако одаренность — лишь первоначальное условие искусства, лишь заготовка (inchoatio naturalis[94*]) художественного габитуса. Разумеется, врожденная предрасположенность необходима, но без культуры и прилежного учения — долгого, терпеливого и добросовестного, как полагалось в древности, — она никогда не перерастет в настоящее искусство. Искусство рождается из естественного инстинкта, как любовь, и должно быть взращено, как дружба. Ибо оно — такая же добродетель.
Св. Фома утверждает, что природные наклонности, которыми одна личность отличается от другой, определяются телесным сложением[587] и зависят от чувственных способностей, в частности от воображения, главного проводника искусства; именно оно — основной дар прирожденного художника. Поэты считают воображение главной своей способностью, ибо оно теснейшим образом связано с деятельностью творческого интеллекта, от которого на практике трудноотличимо. Но добродетель искусства — это совершенствование ума, и она несравненно глубже запечатлевается в характере человека, чем природные склонности.
Может случиться, что неправильное воспитание заглушит природный дар, вместо того чтобы развить его в габитус; это бывает, если обучение ограничивается материальной стороной искусства, сводится к затверживанию устаревших профессиональных приемов и канонов или же, наоборот, если в нем много теории и созерцания и не хватает практики, ведь практический разум, в котором зарождаются правила искусства, действует не доказательством и демонстрацией, а непосредственным участием в жизни, и нередко те, кто лучше всех применяет правила, не могут их сформулировать. В связи с этим можно только пожалеть о том, что на смену корпоративному профессиональному образованию пришло академическое и школьное (отмена началась при Кольбере и завершилась во время революции)[588]. Так как искусство есть добродетель практического ума, ему более всего подходит система ученичества, когда начинающий учится у одного мастера на деле, а не прослушивает лекции разных преподавателей, и, по правде говоря, в самом названии Школа изящных искусств, особенно при нынешнем понимании слова «школа», не больше смысла, чем в названии вроде «высших курсов добродетели». Бунты, подобные бунту Сезанна, против Школы и учителей на самом деле направлены против варварской системы художественного образования.
И все же, как габитус разума, искусство нуждается в обязательном воспитании ума, в ходе которого художник осваивает набор технических правил. Правда, в некоторых исключительных случаях он может, как было с Джотто[589] или Мусоргским, сам доставить себе такое воспитание. Более того, все, что есть в искусстве самого возвышенного, — интуитивный синтез, замысел произведения — возникает на пути открытия, via inventionis, вырастает из силы воображения, для которого благотворно одиночество и которому нельзя научиться у другого; в тончайших и высочайших областях своего искусства художник образовывает и воспитывает себя сам и в одиночку. Чем ближе к духовной вершине искусства, тем индивидуальнее viae determinatae, тем более они приспособлены к одному-едииственному художнику[590]. Поэтому, когда сегодня мы, предавшись анархии, с жестоким любопытством испытываем на себе все ее пороки и беды, то можем разочароваться, ожидая чудодейственных результатов от возврата к исконным традициям ремесла.
И все же для огромной и основной части составляющего искусство труда ума и памяти требуется традиционная дисциплина, обучение у мастеров, длительное общение с людьми — словом, via disciplinae[96*] необходим для всего, будь то чистая техника и практические приемы, теоретическое и логическое оснащение, присущее некоторым видам искусств (особенно в классические периоды), или же достижение определенного культурного уровня, без которого не обойтись ни одному профессиональному художнику или ремесленнику, — не требовать же, чтобы каждый был «самобытным гением»[591].
Для полного понимания мысли св. Фомы[592] добавим, что в любой школе, при любом способе образования наставник лишь помогает извне развитию заложенного в ученике внутреннего начала. В этом смысле обучение соответствует великому понятию ars cooperativa naturae[97*]: тогда как одни искусства приноравливаются к материалу, чтобы господствовать над ним, и принуждают его принять ту или иную форму — так Микеланджело деспотически терзал мрамор, — другие, материалом для которых служит сама природа, приноравливаются к нему, чтобы ему же служить, помочь ему достичь той формы или степени совершенства, которая возможна лишь при активном действии внутреннего начала; это искусства, «сотрудничающие с природой», телесной — как медицина, духовной — как педагогика (или искусство управлять душами). Эти последние искусства прибегают к внутреннему началу субъекта, черпают в нем средства достижения цели. Именно внутреннее начало, свет разума, существующий в ученике, играет в освоении науки и искусства роль причины или главной движущей силы.
* * *
Что же касается правил изящных искусств, то здесь действует исключительный фактор соприкосновения с бытием и трансцендентальными сущностями.
Прежде всего, эти искусства подчиняются закону обновления, изменчивости, который не затрагивает другие искусства, по крайней мере в той же форме.
Красота, как и бытие, бесконечно разнообразна. Продукт же, в его материальности, содержится в одном определенном виде, in aliquo génère. A один вид не может исчерпать беспредельности. Вне художественного жанра, к которому относится данный продукт, всегда есть бесконечное множество других возможностей осуществления красоты.
Таким образом, существует некоторый конфликт между беспредельностью красоты и материальной узостью продукта, между формообразующей причиной красоты, т. е. сиянием бытия и всех трансцендентальных сущностей, и формообразующей причиной искусства, т. е. прямым производством продуктов. Ни одна самая совершенная форма искусства не может вместить в себя красоту, как Пресвятая Дева вместила в себя своего Создателя. Художник стоит перед необъятным пустынным морем,
…без мачт, без мачт, без всех блаженных островов[98*],
вооруженный зеркальцем размером с собственное сердце.
В искусстве творцом называется тот, кто нашел новый аналог[593] прекрасного, новый способ сияния формы в материи. Созданное им произведение, естественно, принадлежит к некоему жанру, но это новый жанр, и он диктует новые правила, т. е. новое приложение изначальных и вечных правил[594], прежде небывалые и с непривычки обескураживающие viae certae et determinatae.
Разумеется, в это время в искусстве преобладает созерцательная деятельность, соприкасающаяся с трансцендентальным, которая составляет живую сущность изящных искусств и их правил. Но почти неизбежно мастерство, сноровка, техника, чисто практическая деятельность, обусловленная жанровой оболочкой искусства, мало-помалу берет верх, и тогда художники всего лишь эксплуатируют то, что однажды было открыто; тогда правила, прежде живые и одухотворенные, застывают и тяжелеют; тогда данная форма искусства исчерпывает себя и назревает необходимость обновления. Дай Бог, чтобы для такой цели нашелся свой гений. Хотя и это не гарантия того, что при перемене не понизится общий уровень искусства. И все же обновление — непременное условие существования искусства и расцвета шедевров[595]. Допустим, что от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру качество, чистота, духовность искусства убывали. Но кто осмелится сказать, что без кого-то из них троих можно было обойтись? Да, они вносят в искусство непривычное богатство, которое не под силу никому, кроме них самих, и самые мощные бывают самыми опасными. Рембрандт — плохой мастер. Но кто откажет ему в силе любви? Лучше живописи стерпеть такое оскорбление, но дать гению сыграть и выиграть свою партию, пробить чудесную брешь в невидимый мир. Верно, что искусству недостает настоящего прогресса, что оригинальность питается традицией и дисциплиной и что судорожное ускорение, которым современный индивидуализм, с его маниакальным сползанием в посредственность, нарушает последовательную смену форм, плодя недозрелые школы и смехотворные увлечения, есть признак умственного и общественного убожества, но все это не отменяет органической потребности искусства в закономерном, как смена времен года, обновлении.
Искусство, в отличие от благоразумия, не предполагает коррекции устремлений, т. е. усилий воли и любви, в сторону человеческого блага или моральных постулатов[596]. Зато его устремления, как показывает Каетан[597], направлены на его собственные, специфические цели, на благо самого искусства, так что к сфере творчества, как и к сфере деятельности, приложим принцип, гласящий, что «истина практического ума сообразуется не с вещью, а с верным устремлением».
Общая цель изящных искусств — красота. Их произведение не должно быть просто материальной вещью, выполняющей практическое предназначение, как, например, часы, сделанные, чтобы показывать время, или судно, построенное, чтобы плавать по воде. Для художника цель — задуманное произведение само по себе, как особое и неповторимое воплощение красоты; это не конечная цель его искусства, а частная, которой подчиняется данное действие и по отношению к которой в данном случае устанавливаются свои правила и средства. Значит, чтобы составить правильное рассуждение об этой частной цели, т. е. замысел произведения[598], мало одного разума, а необходимо еще и верно направленное устремление, ибо каждый рассуждает о своих частных целях в зависимости от настроения и состояния: «каков каждый человек сам по себе, такая и цель ему является»[599]. Следовательно, помещающаяся в уме живописца, поэта, музыканта добродетель искусства не только охватывает область чувственного восприятия и воображения, но еще и требует, чтобы любое устремление художника (его воля и страсти) было сверено с целью его искусства. Если поток его желаний и эмоций минует русло красоты, сверхчеловеческой в своей запредельности и не материальности, то треволнения жизни, сумятица чувств и сама рутина искусства опошлят его замысел. Художник должен работать с любовью, должен любить то, что он делает, чтобы его добродетель была, по выражению св. Августина, ordo amoris[600]; чтобы прекрасное стало ему соприродным, органично вошло в его плоть и кровь, наполнило собой его желания и чтобы замысел произведения исходил не только из ясного разума, но и из сердца, из нутра. Это руководство любви и есть верховное правило искусства.
Однако любовь неотделима от разума, без него она бессильна; стремясь к прекрасному, она стремится к тому, что может усладить разум.
Коль скоро цель изящных искусств — само произведение как образец прекрасного и эта цель есть нечто совершенно уникальное и особенное, художнику приходится каждый раз искать новый и уникальный способ сообразовываться с целью, т. е. упорядочивать материал. В этом сходство изящных искусств и благоразумия.
Искусство, несомненно, всегда сохраняет свои viae certae et determinatae, это подтверждается тем, что все произведения какого-либо художника или какой-либо школы имеют одни и те же, неизменные особенности. Но применяет художник правила своего искусства осмотрительно, умело, осторожно, умно и прозорливо, останавливаясь не на жестко предопределенных, а на благоразумно подобранных каждый раз по обстоятельствам; лишь при этом условии установленные им правила будут безупречны. «Картина, — говорил Дега, — требует столько же ловкости, хитрости и порочности, сколько преступление»[601]. Для изящных искусств (в силу трансцендентности их объекта) важно, как для охоты и военной стратегии, специфическое управляющее начало.
Когда наконец все правила станут для художника органичными, они сведутся к одному-единственному: постоянно следовать за изменчивой линией интуитивной, неповторимой, сиюминутной эмоции.
Эта художественная добродетель, эта своеобразная духовная чувствительность, соприкасающаяся с материей, соответствует в практической сфере созерцанию, а в чистом искусстве — соприкосновению с прекрасным. Насколько академический канон перевешивает этот живой подход, настолько изящные искусства отступают к обобщенному типу искусства и его низшим, механическим формам.
VII Чистота искусства
«Мы сегодня требуем от искусства того, — заметил Эмиль Клермон[602], — чего греки требовали от совсем других вещей: иногда от вина, а чаще всего — от мистериальных празднеств, т. е. опьянения, бреда. Наивысший эмоциональный накал нашего искусства соответствует вакхическому безумию этих мистерий, обличавшему их азиатское происхождение. Искусство же было для греков чем-то совсем иным…[603] Оно должно было не баламутить душу, а, наоборот, очищать ее. "Искусство очищает страсти", — гласит знаменитое и обычно превратно понимаемое изречение Аристотеля. Нам же следовало бы для начала очистить само понятие прекрасного…»
Схоласты на тысячу ладов повторяют, что в произведении искусства, подходить ли к нему со стороны искусства вообще или со стороны прекрасного, преобладает разум. Они неустанно твердят, что разум — основа всех людских произведении[604]. Добавим, что, сделав логику высшим из свободных искусств и в некотором смысле первым аналогом искусства вообще, они показывают нам, что логика так или иначе принимает участие в любом искусстве.
Там все — ПОРЯДОК, красота, Покой, и свет, и наслажденье[605][102*].
В архитектуре любая бесполезная облицовка уродлива, поскольку нелогична[606]; точно так же подделка и ложный фон, и без того выглядящие довольно жалко, в церковном искусстве становятся просто нестерпимыми — крайне нелогично украшать Божий дом при помощи обмана[607], Deus non eget nostro mendacio[103*]. Роден говорил, что «в искусстве безобразно все фальшивое, все, что смеется без причины, кривляется, брыкается и выгибается, все, что красуется напоказ, все, что лжет»[608]. А Морис Дени учил: «Рисуйте модели так, чтобы они выглядели нарисованными, отвечали всем законам изобразительного искусства, и не пытайтесь обмануть глаз или ум; истина искусства состоит в сообразности произведения собственной цели и средствам»[609]. Древние же выражали это так: истина в искусстве полагается per ordinem et conformitatem ad régulas artis[610]104* из чего следует, что всякое произведение искусства должно быть логичным. В этом его правдивость. Оно должно быть пропитано логикой, не псевдологикой ясных идей[611] и не логикой научных доказательств, а рабочей логикой, всегда таинственной и неожиданной, логикой живой структуры и глубинной геометрии природы. Шартрский собор — такое же торжество логики, как «Сумма теологии» св. Фомы; пламенеющая готика не терпит облицовки, весь ее блеск — это блеск виртуозно построенных силлогизмов логиков того времени. Вергилий, Расин, Пуссен логичны. Как и Шекспир. Да и Бодлер! О Шатобриане этого не скажешь[612]. Средневековые архитекторы не занимались реставрацией «с сохранением стиля», как Виоллеле-Дюк. Если в романском храме сгорали хоры, они ничтоже сумняшеся строили новые, готические. Но взгляните-ка на Ле-Манский собор — какие стыки и переходы, какой внезапный всплеск, и как прекрасен этот храм в своей уверенности — вот живая логика, та же, что в геотектонике Альп и в анатомии человека.
* * *
Согласно св. Фоме, совершенство добродетели искусства состоит в суждении[613]. Ремесленное же мастерство — это непременное, но внешнее условие искусства. Оно необходимо, но в то же время содержит в себе постоянную угрозу, поскольку может подчинить творчество не габитусу разума, а сноровке рук и тем самым заглушить импульс искусства. Ибо существует такой импульс, который, per physicam et realem impressionem usque ad ipsam facultatem motivam membrorum[105*], идет от разума, где пребывает искусство, к руке мастера и сообщает произведению художественную «форму»[614]. Таким образом и посредственный инструмент может быть проводником духовного начала.
Именно в этом обаяние неумелых примитивов. В самой по себе неумелости ничего обаятельного нет; она ничуть не привлекает нас, если в ней нет поэзии, и просто претит, если в ней есть привкус вычурности и фальши. В примитивах же это святая слабость, посредством которой проявляется тонкая интеллектуальность искусства[615].
Человек живет in sensibus[106*], ему так тяжело держаться на уровне интеллекта, что задаешься вопросом, не приносит ли общественный, материальный, культурный, технический прогресс — сам по себе, безусловно, полезный — вреда состоянию искусства и цивилизации в целом. Есть некая граница, дальше которой нельзя заходить, ибо, чем меньше трудностей, тем меньше силы, чем меньше препятствий, тем меньше доблести.
Когда в музее переходишь из зала примитивов в залы, где царит масляная живопись и высокая техника, ноги идут вперед. А душа срывается вниз. Только что она странствовала по холмам вечности и вдруг очутилась на театральной сцене, хотя и весьма роскошной. С XVI в. в живописи утверждается притворство, тяга к самодовлеющему мастерству и желание создать иллюзию природы, заставить нас поверить, что перед нами не картина, а сама натура.
Великим мастерам, от Рафаэля до Эль Греко, Сурбарана, Лоррена, Ватто, удалось очистить искусство от этой фальши; реализм и в какой-то мере импрессионизм объединили усилия в этой борьбе. Ну, а кубизм… быть может, в наше время именно он, несмотря на огромные издержки, являет собой младенчество возродившегося в новой чистоте искусства, еще нетвердо стоящего на ногах и оглушительно вопящего? Однако варварский догматизм его теоретиков заставляет усомниться в этом и внушает опасение, что новая школа лишь затем отказалась от натуралистической имитации, чтобы застрять на stultae quaestiones[616] [107*], отвергая те характерные черты, которые отличают живопись от других искусств, например от поэзии и логики[617]. Однако у некоторых художников: живописцев, поэтов, музыкантов — еще недавно критика вписывала их в тот же Куб (оказавшийся на диво вместительным) — появился достойный пристального внимания интерес к связности, простоте и чистоте, из которых состоит достоверность искусства. Все порядочные люди сегодня тянутся к классике[618], и я не знаю в современном искусстве ничего более классического, чем музыка Сати. «Ни повторов, ни чар, ни мутной истомы, ни лихорадки, ни миазмов. Сати никогда не "ворошит болото". В нем поэзия детства сочетается с техникой мастера»[619].
* * *
Кубизм довольно бесцеремонно повернул вопрос о подражании в искусстве. Искусство призвано не подражать, а творить, созидать, сопрягать, притом в соответствии с законами погруженного в бытие вещественного объекта (судна, дома, ковра, покрытого красками полотна или обработанной резцом глыбы). Эта основополагающая, родовая задача превалирует во всем; требовать же, чтобы искусство задалось целью воспроизводить реальность, значит разрушать его. Как все чересчур рассудочные люди, Платон, с его многоступенчатой теорией подражания[620], не понимал природы искусства, отсюда его ненависть к поэзии: действительно, будь искусство орудием познания, оно стояло бы несравненно ниже геометрии[621].
Но если «искусство вообще» чуждо подражанию, то изящные искусства, в которых высший критерий оценки — красота, имеют к нему некоторое, труднообъяснимое, отношение.
Когда Аристотель, рассуждая о предпосылках поэзии, писал: «Подражание свойственно человеку с детства… человек — животное по преимуществу подражающее, путем подражания он получает первые знания о мире, подражание всегда приятно людям; доказательство тому — произведения искусства: мы любим разглядывать точнейшие изображения всего того, на что в жизни смотреть тягостно, например, разных мерзких тварей или трупов, а все потому, что не только для философов, но и для прочих людей в познании заключено высшее удовольствие…»[622], — он затрагивал характерный признак изящных искусств, их первоисточник. Но Аристотеля следует в данном случае понимать в высшей степени формально! Великий мыслитель, как всегда, зрит в корень, но было бы большой ошибкой останавливаться на сказанном и неизменно сохранять за словом «подражание» его общеупотребительный смысл воспроизведения, или точного изображения, реальности. Когда человек эпохи палеолита рисовал животных на стенах пещеры, он, действительно, наслаждался точностью изображения[623]. Но с тех пор радость подражания приобрела более возвышенный характер. Попытаемся истолковать идею подражания в искусстве во всей ее тонкости.
Цель изящных искусств — доставить своими произведениями радость, наслаждение разуму посредством чувственной интуиции (цель живописи, говорил Пуссен, в наслаждении). И это не радость от самого процесса познания, овладения знанием, истиной. Она выходит далеко за пределы этого процесса, если объект, на который она направлена, превосходно соответствует разуму.
Эта радость уже предполагает знание, и чем больше знания или представленных разуму вещей, тем обширнее ее возможности; вот почему искусство, подчиненное красоте, не останавливается (если позволяет его предмет) на формах, красках, звуках или словах как таковых, т. е. в их самоценности (но сначала они должны быть взяты именно в таком качестве, это исходная предпосылка), но также рассматривает их как нечто, дающее знание о других вещах, т. е. рассматривает как знаки. Причем обозначаемое, в свою очередь, может быть знаком, и чем многозначнее произведение искусства (если только это многозначность естественная и интуитивно постигаемая, а не многозначность иероглифа), тем богаче, выше и шире возможности радости и красоты. Поэтому красота картины или статуи несравненно превосходит красоту ковра, венецианского бокала или амфоры.
Именно в этом смысле живопись, скульптура, поэзия, музыка и даже танец — подражательные искусства, т. е. искусства, которые придают красоту произведению и радуют душу, используя подражание, иначе говоря, некими чувственными знаками естественно открывая уму нечто иное, чем сами эти знаки. Живопись красками и плоскими формами подражает вещам, существующим вне нас; музыка — звуками и ритмами, а танец — только ритмами подражает «нравам», как говорил Аристотель[624], и движениям души, заключенному в нас невидимому миру. При такой разнице в обозначаемых предметах живопись подражательна не больше музыки, а музыка — не меньше живописи, если понимать «подражание» точно в указанном смысле.
Поскольку удовлетворение, доставляемое прекрасным, происходит не от самого процесса познания действительности и не от соответствия существующему, оно не зависит от совершенства подражания как воспроизведения реальности или от точности изображения. Подражание как воспроизведение или изображение реальности, т. е. в материальном аспекте, — это не цель, а средство; оно, как и ручное мастерство, имеет отношение к художественной деятельности, но не составляет ее суть. Вещи, представленные душе чувственными знаками искусства: ритмами, звуками, линиями, красками, объемами, контурами, словами, размерами, рифмами, образами — в общем, первичным материалом искусства, и сами, подобно этим знакам, являются не более чем материальным элементом красоты произведения, так сказать, вторичным материалом, которым располагает художник и который он должен осиять блеском формы, светом бытия. Поэтому поставить себе целью совершенствование материальной стороны подражания значило бы ограничиться чисто материальной стороной искусства и подражать рабски; а такое рабское подражание абсолютно чуждо искусству[625].
Не то важно, чтобы художественное произведение точнейшим образом изобразило ту или иную реальность, важно другое: чтобы материальные элементы красоты произведения проводили мощный поток света некой формы[626], а значит, некой истины; в этом смысле не устаревает splendor veri — великое слово неоплатоников.
Если, однако, удовольствие от художественного произведения связано с истиной, это не правдивость подражания как изображения вещей, а верность, с которой оно выражает или проявляет форму в метафизическом смысле слова[627], т. е. правдивость подражания как проявления формы. Таков формальный смысл подражания в искусстве: это выражение или проявление в соответственным образом построенном произведении какого-нибудь скрытого умопостижимого начала во всем его сиянии. В этом источник удовольствия от подражания в искусстве. В этом же залог универсальности искусства.
Строгость настоящей классики заключается в таком подчинении материи проступающему свету формы, что в художественном произведении нет ни одного материального элемента, который не был бы необходим как носитель или проводник этого света и лишь отягощал бы или «завлекал»[628] глаз, слух или ум. Сравните, с этой точки зрения, григорианский распев или музыку Баха с музыкой Вагнера или Стравинского[629].
Как уже говорилось, интеллект наслаждается прекрасным произведением без слов. Так что если искусство выражает в материале некое сияние бытия, некую форму, душу, истину («в конце концов вы откроетесь», — говорил Карьер человеку, с которого писал портрет), то это не логический и не описательный способ выражения. Искусство внушает, не объясняя, выражает то, что не могут обозначить наши мысли. Вот Иеремия восклицает: «A, a, a, Domine Deus, ecce nescio loqui»[630] [111*]. Но где прекращается слово, там начинается песнь, exsultatio mentis prorumpens in vocem[631] [112*].
У искусств, которые обращены к зрению (живопись, скульптура) или к уму (поэзия), более настоятельная необходимость подражания, или обозначения, внутренне обусловлена этими каналами восприятия. Ум наслаждается непосредственно, а зрение — инструментально, опосредованным образом[632]. Поскольку же и зрение и ум, прежде всего, служат познанию и направлены на объект, удовольствие их не может быть полным, если они не имеют достаточно ясною представления об объекте — который тоже лишь знак, — обозначенном краской, фигурой или словом. Ум и глаз требуют, чтобы в произведении был отчетливый, наглядный или познаваемый элемент. Для искусства же в чистом виде это условие[633] является внешним, и темные стихи могут быть лучше ясных; иное дело, что при равной поэтической ценности душа получит больше радости от ясных и что, если темнота становится непроницаемой, знаки — загадочными, этому противится наше естество. Художник в какой-то мере совершает насилие над природой, но если бы он, увлекшись идеальным, вовсе пренебрег ее требованиями, то погрешил бы против «материальных», или субъективных, условий, которым обязано удовлетворять земное искусство. В этом опасность слишком дерзких походов к «Мысу Доброй Надежды»[114*], из каких бы благородных побуждений они ни совершались, и поэзии, которая «щекочет вечность», намеренно заслоняя мысль виртуозно слаженными цепочками образов. Когда, шарахаясь от импрессионизма или натурализма, кубист заявляет, что картина, как диванная подушечка, должна оставаться такой же красивой, если ее перевернуть вверх ногами, он провозглашает любопытный и даже, при правильном подходе, полезный возврат к законам полного конструктивного тождества, свойственным искусству вообще[634], но забывает о субъективных условиях и специфических особенностях красоты в живописи.
Если под «подражанием» понимать воспроизведение, или точную копию, реальности[635], то истинно подражательным придется признать разве что искусство картографа или рисовальщика анатомических таблиц. И хоть из Гогена скверный писатель, но, утверждая, что надо отказаться делать, что видишь, он выразил истину, которой испокон веков следовали на практике мастера[636]. Ее же имел в виду Сезанн в своем знаменитом высказывании: «Надо переписать Пуссена на природе. В этом все дело»[637]. Цель подражательного искусства не в том, чтобы внешне копировать природу или изображать «идеал», а в том, чтобы сделать прекрасный предмет, проявляя форму с помощью чувственно воспринимаемых знаков.
Художник или поэт, будучи человеком, чей разум, в отличие от божественного, не является природой вещей, не может целиком извлечь эту форму из своего творческого духа и потому извлекает ее, прежде всего, из громадной сокровищницы творения, из чувственно постигаемой природы, из мира человеческих душ, в том числе из собственного внутреннего, душевного мира. С этой точки зрения, он, в первую очередь, человек, видящий больше и глубже других людей и различающий в окружающем мире излучение духа, которого не способны разглядеть другие[638]. Но, чтобы озарить такими же лучами свое произведение, т. е. чтобы быть верным и покорным играющему в вещах невидимому духу, он может и даже должен несколько изменять, перестраивать, искажать внешний, материальный облик натуры. Даже в имеющем «идеальное сходство» портрете, например в рисунках Гольбейна, выражена зародившаяся в уме художника и этим умом в полном смысле слова произведенная на свет форма, так что хороший портрет есть не что иное, как «идеальное изображение личности»[639].
Искусство, по своей глубинной сути, всегда остается творящим и производящим. Умением создавать, конечно, не ех nihilo[127*], a из уже существующего материала нечто новое, оригинальное, способное волновать душу. Это новое создание есть плод духовного союза двух начал: активного, т. е. художника, и пассивного, т. е. данного материала.
Именно это внушает художнику сознание особого достоинства. Он словно бы соратник самого Господа в изготовлении прекрасных произведений; развивая способности, заложенные в него Создателем — ибо «всякий совершенный дар послан свыше и исходит от Отца Светов», — и используя тварную материю, он сам выступает, так сказать, творцом второго порядка. Operatio artis fundatur super operationem naturae, et haec super creationem[640][128*].
Работа художника — не копировать, а продолжать работу Творца. И, как творения Бога хранят Его след и образ, произведения искусства в полной мере несут внятный для ума и чувств отпечаток человеческой природы художника, отпечаток не только рук, но и всей его души. Еще прежде, чем художественное произведение перейдет из сферы чистого искусства в материю, в душе художника должно под действием имманентной животворной силы зародиться само начало искусства, подобное внутреннему голосу. Processus artis est duplex, scilicet artis a corde artificis, et artificiatorum ab arte[641][129*]
Не потому художник изучает и ценит природу больше, чем творения мастеров, что копирует ее, а потому, что основывается на ней. И потому еще, что ему мало быть учеником мастеров, он призван быть учеником Бога, ибо Богу ведомы правила создания прекрасных изделий[642]. Природа важна художнику преимущественно как образец божественного искусства в вещах, ratio artis divinae indita rebus. Сознательно или нет, художник, глядя на вещи, советуется с Богом.
Недолговечные, но как они прекрасны!
Кто сам творит, тот видит безупречность творенья Твоего[643].
Итак, природа для художника — первый источник вдохновения и гармонии, а не образец для слепого копирования. Спросите у настоящих живописцев, как они относятся к природе. Они ее почитают и боятся. Но это страх благоговейный. Они ей подражают, но это не буквальное и рабское подражание, а творческое и сыновнее. Как-то раз после зимней прогулки Руо сказал мне, что, глядя на залитые солнцем снежные равнины, он понял, как писать весенние деревья в белом цвету. «Модель нужна мне лишь для того, — говорил Ренуар[644], — чтобы воображение мое воспламенилось и позволило мне замахнуться на такое, чего без нее мне бы не придумать… И она же поможет устоять на ногах, если я чересчур зарвусь». Такова свобода сынов Творца.
* * *
Автоматизм натренированной руки (или иная накатанная колея — навык вкуса[645]) и рабское подражание — не единственные опасности, которые подстерегают искусство. Его чистота подвергается и другим угрозам. Вот, например: красота, к которой стремится искусство, приносит наслаждение уму, но это наслаждение не имеет ничего общего с тем, что обычно называют удовольствием, т. е. с приятным щекотанием чувственности, и если искусство хочет нравиться, оно предает себя, становится лживым. Еще пример: одно из следствий искусства — эмоциональное возбуждение, если же искусство ставит себе целью возбуждать эмоции, воспалять страсти, то опять-таки совершает измену и заражается фальшью[646].
По отношению к музыке это так же справедливо, как по отношению ко всем другим искусствам. Правда, особенность ее в том, что она ритмом и звуком обозначает душевные движения — cantare amantis est[136*]; т. е. возбуждать эмоции — ее свойство. Но не цель. Она не изображает и не описывает эмоции. Порожденные звуком и ритмом музыки, эмоции служат ей материалом, с помощью которого она позволяет нам насладиться духовной формой, высшим порядком, светом бытия. Подобно трагедии, она очищает страсти[647], внося в них строй и меру красоты, согласуя их с разумом, приводя в гармонию, какой не знает греховный мир.
Назовем тезисом любое внешнее по отношению к произведению побуждение, внушенное такой мыслью, которая не воздействует на произведение посредством художественного габитуса, вооруженного определенным инструментом, а противопоставляет себя этому габитусу и воздействует самостоятельно. В результате произведение создается не только габитусом и не только самостоятельной мыслью, а частично одним и частично другой, как будто два человека тянут одну лодку. Любой такого рода тезис, содержит ли он намерение доказать или взволновать, для искусства посторонний, а значит, губительный для его чистоты элемент. Он вмешивается в самую сокровенную суть искусства, т. е. в процесс творчества, навязывает искусству правила и цель, ему не свойственные, мешает произведению вызреть в душе художника и естественно появиться на свет, подобно совершенному плоду, нарушает равновесие, точную согласованность между умом и чувством художника, т. е. уничтожает то единство, которого непременно требует искусство.
Я с готовностью принимаю воздействие предмета, который задумал и представил моим глазам художник, я безраздельно предаюсь тогда эмоции, которую вызывает во мне и в нем одна и та же красота, одна и та же высшая сущность, которой мы оба причастны. Но не желаю, чтобы на меня оказывало влияние такое искусство, которое расчетливо подбирает средства, чтобы уловить мое подсознание, и сопротивляюсь эмоциям, которые пытается навязать мне чья-то воля. Художник должен быть в определенном смысле так же объективен, как ученый: его дело — снабдить публику прекрасным и хорошо сделанным произведением, подобно тому как долг ученого — снабдить тех, кто его слушает, истиной, ничто иное не должно его заботить. Строители соборов не задавались никаким тезисом. По остроумному выражению Дюлака, они были «несведущими»[648]. Они не стремились ни изложить христианское вероучение, ни внушить каким-либо хитроумным способом христианские эмоции. И думали даже не столько о красоте, сколько о добротности своего творения. Они просто верили и работали, как жили, с верой. Их произведение открывало истину о Боге, но не намеренно, и тем лучше, что такого намерения не имело.
VIII Христианское искусство
Под «христианским искусством» мы понимаем не церковное искусство, которое имеет свой особый предмет, свою цель, свои правила и представляет собой лишь одну, хотя весьма значимую, точку приложения искусства[649]. Мы считаем христианским то искусство, которое несет в себе христианский дух. Таким образом, это не какой-то особый жанр, стиль или род занятий; христианское искусство — совсем не то, что, к примеру, поэзия или живопись, искусство готическое или византийское; юноша не скажет: «Я буду заниматься христианским искусством», — как сказал бы: «Я буду заниматься сельским хозяйством»; нет такой школы, где учили бы христианскому искусству[650]. Христианским искусство делает субъект и дух, которым оно проникнуто; христианское искусство — это искусство христиан в том же смысле, какой подразумевается, когда говорят «искусство пчел» или «человеческое искусство». Это искусство искупленного человечества. Оно произрастает в христианской душе, у источника живой веры, под небом семи добродетелей, его овевают семь даров Святого Духа. Естественно поэтому, что оно приносит христианские плоды.
Ему принадлежит все: как церковное, так и светское. Оно всюду, где творит человек, во всем, что его радует. В балете или симфонии, фильме или романе, пейзаже или натюрморте, балаганной пьеске или опере — во всем может оно выражаться точно так же, как в соборных витражах и статуях.
Полно, не миф ли все это, спросите вы. Может ли в принципе искусство быть христианским, раз оно языческого происхождения и греховно по природе? Но и человек по природе греховен. Однако божественная благодать исцеляет поврежденную природу. Не говорите, что христианское искусство невозможно[651]. Скажите лучше, что оно труднодостижимо, и это трудность двойная или даже трудность в квадрате, потому что трудно быть художником и еще труднее быть христианином, а общая трудность — не сумма, а произведение этих двух частей, ибо две абсолютные сущности должны прийти в согласие друг с другом. Скажите, что, когда вся эпоха отдаляется от Христа, эта трудность становится мучительной, так как художник зависит от духа времени. Но на земле в любые времена хватало мужества.
К тому же всегда и везде: у египтян, греков или китайцев, — когда искусство возвышалось до определенной чистоты и силы, оно уже было христианским в уповании, ибо любое сияние Духа есть провозвестие и подобие божественных истин Евангелия.
Вдохновение — не пустая выдумка, а нечто реальное, это импульс, исходящий не от муз, а от живого Бога, особое побуждение естественного порядка[652]. Верховный Разум по собственному произволению сообщает художнику творческую энергию, превосходящую обычную меру, используя для этого существующие в его — художника — душе естественные каналы и переполняя их; причем за человеком остается выбор: последовать этому импульсу или погасить его. Это исходящее от Творца всего естества вдохновение — подобие вдохновения сверхъестественного. И, чтобы искусство стало христианским не только в уповании, но и в осуществлении, чтобы оно обрело свободу, даруемую благодатью, оба вида вдохновения должны соединиться в их глубинном первоисточнике.
Если вы хотите создать христианское произведение, не старайтесь «сделать» его христианским, будьте христианином сами, старайтесь сделать свое произведение прекрасным и выразить в нем свою душу.
Не пытайтесь разделить в себе художника и христианина, это глупейшая затея. Они едины, если вы действительно христианин и если ваше искусство не отделено от души стеной какой-нибудь эстетической системы. Пусть творит только художник; именно благодаря тому, что художник и христианин неразделимы, в произведении они оба будут участвовать наравне.
Не отделяйте в себе искусство от веры. Но пусть остается отделенным то, что существует отдельно. Не старайтесь перемешать насильно то, что прекрасно соединяет сама жизнь. Если вы превратите эстетику в религию, то повредите вере. Если превратите благочестие в непременное творческое правило или назидание — в художественный прием, то повредите искусству.
Вся душа художника занята выстраиванием и обтачиванием произведения, но ее инструмент в этом деле — художественный габитус и ничто иное. Никакого вмешательства искусство здесь не терпит. Оно не допускает, чтобы какая-нибудь посторонняя сила, наряду с ним, управляла созданием произведения. Приручите его — и оно сделает все, что вы хотите. По принуждению же ничего хорошего не получится. Христианское искусство требует, чтобы как художник художник был свободным.
Никогда произведение не будет христианским, никогда красота его не засияет внутренним светом благодати, если оно не исходит из осененного благодатью сердца. Ибо добродетель искусства, которая непосредственно формирует произведение и управляет им, предполагает соответствие художественного устремления и красоты произведения. Если это христианская красота, значит, именно к такой красоте направлено устремление художника, значит, в сердце его живет любовь Христова. Тогда произведение окрашивается любовью, которая его порождает и которая движет добродетелью искусства как орудием. Таким образом, искусство становится христианским вследствие внутреннего подъема, он же вызывается любовью.
Из сказанного следует, что произведение будет христианским ровно настолько, насколько живой будет любовь. Это надо ясно понимать: необходима бодрствующая любовь, всеобъемлющее милосердие. Христианское искусство требует, чтобы как человек художник был святым.
Оно требует, чтобы он был исполнен любви. И тогда пусть делает, что хочет. Где христианское звучание произведения замутняется, там, значит, недостаточно чиста оказалась любовь[653]. «Искусство требует мира в душе, — говорил Фра Анджелико, — и, чтобы писать Христа, надо жить со Христом». Это единственное дошедшее до нас высказывание этого мастера, и как мало в нем методики…
Итак, напрасно было бы искать какую-то технику, стиль, кодекс или метод, характерные для христианского искусства. Искусство, которое зарождается и произрастает в христианском мире, приемлет бесконечное множество таких форм. Но все они имеют семейное сходство между собою и существенное отличие от всех форм искусства нехристианского; подобно тому, как различается растительность в горах и на равнине. Вслушайтесь в литургию — это чистейшая и превосходнейшая из христианских форм искусства, ее создал сам Божий Дух, себе в угоду[654]. Однако и литургия не есть нечто застывшее, и она со временем претерпевает изменения. Маронитская или православная литургия отличается от римской, у Бога много домов. Нет ничего прекраснее, чем месса с хоралом, это медленное движение перед алтарем величественнее, чем вращение звезд, но Церковь в нем не ищет ни красоты, ни пышности, ни проникновенности. Она лишь славит Спасителя, стремится слиться с Ним, и из этой благоговейной любви, как ее производное, само собой расцветает прекрасное.
Прекрасные вещи редки. Какие исключительные условия понадобились бы, чтобы вся воплощенная в реальных людях культура приобщилась искусству и созерцанию! Несмотря на гнет противящейся и падающей все ниже природы, христианство пустило корни в искусстве и в мире, но не смогло — разве что в Средневековье, да и то с какими трудностями и погрешностями! — переделать на свой лад ни искусство, ни весь мир, и это неудивительно. Классическое искусство дало немало замечательных христианских произведений. Но можно ли считать эту форму исконно христианской? Она зародилась на другой почве и пересажена на нашу.
Если посреди неимоверных бедствий, которые накликал на себя современный мир, должно хоть на миг наступить просветление, весна христианства, Вербное воскресенье Церкви, когда несчастная земля возгласит благословение сыну Давидову, то на фоне мощного духовного и интеллектуального подъема можно ожидать возрождения, на радость людям и ангелам, именно христианского искусства. Оно уже дает о себе знать в творчестве отдельных художников и поэтов, которые, сменяя друг друга, появляются в течение последнего полувека; некоторые из них входят в число великих мастеров. Не стоит только преждевременно выделять их в особую школу и изолировать от общего потока современного искусства[655]. Христианское искусство нельзя отделить и нельзя навязать, оно восторжествует спонтанно в свой час, когда наступит общее обновление искусства и в мире утвердится святость.
* * *
Христианство не облегчает искусство. Наоборот, отнимает у него некоторые легкие средства, перекрывает некоторые пути, зато поднимает его уровень. Создавая эти новые, благотворные трудности, христианство возвышает искусство изнутри, сообщает ему скрытую красоту, которая еще восхитительнее яркого блеска; придает ему наиценнейшие для художника качества: простоту, благоговение и богобоязненность и, наконец, невинность, перед которой материя делается податливой и дружественной человеку.
IX Искусство и мораль
Художественный габитус направлен лишь на создание произведения. Правда, принимаются во внимание объективные условия: практическое применение, назначение и т. д., — которым должно отвечать это произведение (статуя, сделанная для молитвенного поклонения, отличается от парковой скульптуры), но только потому, что они непосредственно связаны с красотой произведения; ибо если оно не будет к ним приспособлено, то станет несообразным, а значит, красота его пострадает. Единственная цель искусства — само произведение и его красота.
Но для человека создаваемое им произведение входит в разряд нравственных ценностей, где становится не целью, а средством[656]. Если бы художник видел конечную цель своей деятельности и, следовательно, свое счастье, в служении искусству или в красоте произведения, он был бы просто-напросто идолопоклонником[657]. Нет, он как человек непременно должен работать не ради произведения, а ради чего-то другого, что он больше любит. Любовь к Богу безмерно превосходит любовь к искусству.
Бог ревнив. «Закон божественной любви не знает пощады, — говорила Мелания из Ла-Салет[148*]. — Любовь неумолимо требует жертв, требует смерти всего, что вне ее». Несчастный художник, чье сердце разрывается надвое! Блаженный Анджелико без колебаний оставил бы кисть и пошел пасти гусей, если бы этого потребовал долг послушания. Творческий поток изливался из его смиренной души, и Бог не препятствовал художнику, поскольку он отрекся от творчества.
У искусства нет своего права вопреки Богу. Нет своего блага вопреки Богу и высшему благу человеческой жизни. В своей области искусство полновластно, как мудрость в своей, объект его не подчиняется ни мудрости, ни благоразумию, ни какой-либо иной добродетели; но субъект его и через него оно само подчинены благу субъекта; поскольку искусство заключено в человеке и человек им свободно распоряжается, оно подчинено цели человека и человеческим добродетелям. Поэтому «если искусство производит вещи, которые человек не может употребить, не совершая греха, художник, делающий такие вещи, сам грешит, ибо прямо вводит в грех ближнего, подобно человеку, делающему кумиры для идолопоклонства. Искусства же, производящие предметы, которые можно употребить и во зло, и во благо, вполне дозволительны, однако те из них, чьи произведения чаще всего имеют дурное применение, хоть и дозволительны сами по себе, но должны быть изгнаны из города властью Государя, secundum documenta Platonis»[658] [149*]. В наших городах (возрадуемся о правах человека!) нет Государей и Платон не властен утеснить все то в литературе и портняжном деле, что работает на потребу роскоши и идолопоклонства. Искусство заключено в человеке, но его благо не совпадает с благом человека, а значит, действия его подчинены внешним требованием, продиктованным более высокой целью, т. е. блаженством существа, в котором оно живет. Но для христианина в таком управлении нет насилия, потому что внутренний христианский строй его души делает все эти требования органичными, высший закон давно вошел в его плоть и кровь: spiritualis homo non est sub lege[151*]. Именно к такому человеку относится предписание: ama, et fac quod vis[152*]; если любишь, можешь делать, что хочешь, ты никогда не оскорбишь любви. Оскорбляющее Бога художественное произведение оскорбляет само искусство, перестает услаждать и, следовательно, теряет красоту.
Согласно Аристотелю[659], для массы есть два вида общего блага, так, например, для армии: одно — совокупное, общее благо в самой массе (в армии это дисциплина); другое же — обособленное от массы (таково благо военачальника). И это второе выше, потому что первое подчинено ему: дисциплина нужна в армии для достижения блага военачальника, т. е. для того, чтобы увенчалось успехом его стремление одержать победу[660]. Из этого следует, что созерцатель, деятельность которых непосредственно направлена на «обособленное общее благо» человечества, т. е.· на Бога, лучше всего служит благу всех людей, так как «совокупное общее благо», благо всего общества, зависит от «обособленного общего блага», которое его превышает. Это рассуждение можно, с сохранением всех пропорций, отнести к метафизикам, художникам и другим людям, деятельность которых связана с высшими сущностями: истиной или красотой — и которые хоть как-то причастны к мудрости, пусть даже природной. Предоставьте художнику заниматься своим искусством — он служит обществу лучше, чем инженер или торговец.
Это не означает, что художник может пренебрегать гражданской жизнью; это не пристало ему ни просто как человеку (что само собой разумеется), ни как человеку искусства. Не в том вопрос, впустит ли он в свое произведение все затрагивающие его душу людские треволнения и если да, то будет ли при этом преследовать какую-то особую, чисто человеческую, цель, — в каждом случае это решается по-своему, и любое предубеждение неуместно. Для художника важно одно: не оказаться слабым; его искусство должно быть достаточно последовательным и энергичным, чтобы в любом случае возобладать над материалом, не утратив чистоты и высоты, и чтобы не позволить привнесенным человеческим целям оттеснить или замутить единственную, главную цель — благо произведения.
Если в XIX в. искусство изолировалось от общественной среды, то лишь из-за безнадежной низости этой среды, нормальная же его позиция совсем иная. Эсхил, Данте, Сервантес творили не под стеклянным колпаком. Да и не может, впрочем, быть совсем уж «бескорыстного» творения, если не считать мироздания. Мало того, что художественное творчество человека преследует конечную цель, которой является истинный Бог или ложное божество, оно еще, в силу зависимости от среды, в которую погружено, не может отрешиться от человеческих, земных целей; работник трудится ради заработка, и даже самый утонченный художник заботится о воздействии на человеческие души и о служении идее, хотя бы только эстетической. Но должно существовать строгое разделение цели работника (finis operantis — говорили схоласты) и цели работы (finis opens): так чтобы работник трудился ради заработка, но плод его труда строился и осуществлялся сообразно собственному благу, а не сообразно заработку; т. е. пусть художник работает из каких угодно человеческих соображений, но пусть само по себе его произведение складывается, организуется и делается лишь ради собственной красоты.
Великое заблуждение полагать, что непорочность, или чистота, произведения достигается путем разрыва с человеческими стимулами и потребностями, разграничения искусства и желания, или любви. Она зависит от энергии жизнетворного начала самого произведения, или энергии добродетели искусства.
Представьте себе, что дерево вдруг скажет: «Я хочу быть чистейшим деревом и приносить чистые плоды. Поэтому я не желаю расти на земле — она ведь не деревянная, — и в климате Прованса или Вандеи — тут ведь не деревянный климат. Укройте меня от воздуха!»
Многие проблемы упростятся, если различать собственно искусство и его материальные или субъективные условия. Искусство присуще человеку, как же оно может не зависеть от предрасположенностей своего же субъекта? Они не составляют, но обусловливают его.
Так, например, собственно искусство — supra tempus и supra locum[154*], для него, как и для разума, не существует национальных границ, его мера — бесконечная величина красоты. Как наука, философия, культура, оно универсально по своей природе, по своему объекту.
Но вместилище, субъект его — не ангельский ум, а человеческая душа, субстанциальная форма живого тела, которая, в силу естественной потребности познавать и совершенствоваться, с трудом, мало-помалу делает из одушевляемого ею животного животное природно-общественное. А потому искусство находится в глубинной зависимости от всего, что передается уму и телу человека с национальной, культурной, духовной и исторической традицией общества. По своему субъекту и по своим корням искусство принадлежит определенному времени и определенной стране.
Вот почему самыми универсальными, общечеловеческими становятся такие произведения искусства, которые наиболее полно отражают свое происхождение[661]. Век Паскаля и Боссюэ имел ярчайшую национальную окраску. В эпоху великих клюнийских бескровных завоеваний, в эпоху Людовика Святого христианство было озарено светом французской — а в первую очередь, католической — мысли, и именно тогда человечество обрело наиболее чистый и свободный духовный интернационал, наиболее универсальную культуру.
Из сказанного ясно, что, с одной стороны, привязанность к естественной — социальной и территориальной — среде определенного народа есть одно из существенных условий жизни и, стало быть, универсальности мысли и искусства, а с другой — попытки подчинить мысль метафизическому и религиозному культу какой-либо страны, расовым или государственным интересам смертельно опасны для искусства и всякой иной добродетели разума.
* * *
Все наши ценности определяются природой нашего Господа.
Бог есть Дух. А потому совершенствоваться, т. е. стремиться приблизиться к первооснове[662], значит восходить от чувственного к рациональному, от рационального к духовному и далее двигаться от низших ступеней духовности к высшим. Иначе говоря, цивилизация есть развитие духа.
Материальный прогресс может участвовать в этом развитии в той мере, в какой он приносит людям душевный досуг. Если же он служит лишь гордыне и удовлетворению алчности, разевающей бездонную пасть — concupiscentia est infinita[663] [155*], — он с нарастающей скоростью влечет мир к хаосу, тоже стремясь таким образом к первооснове.
Св. Фома, вслед за Аристотелем, так сформулировал насущную необходимость искусства для человеческой культуры: «Никто не может обойтись без утех. И не имеющие утех духовных бросаются к телесным»[664].
Искусство учит людей духовным утехам; чувственное и приспособленное к человеческой натуре, оно может с наибольшим успехом привести их к чему-то более возвышенному, чем оно само. Оно, так сказать, играет в природной жизни ту же роль, что «ощутимая благодать» (grâces sensibles) в жизни духовной, и исподволь, без всякого осознанного намерения, готовит человеческий род к созерцанию (в котором пребывают святые), которое дает духовное наслаждение, превышающее все прочие[665], и составляет цель людских занятий, ибо зачем человеку изнурительный труд и торговля, если не для снабжения тела всем необходимым, чтобы ничто не отвлекало его от созерцания? Для чего нравственные добродетели и благоразумие, если не для усмирения страстей и достижения внутреннего покоя, без которого нет созерцания? Для чего все устроение общественной жизни, если не для поддержания покоя во внешнем мире, необходимого для созерцания? «При должном взгляде на вещи получается, что все стороны человеческой жизни служат созерцанию истины»[666]. Само же созерцание служит любви.
Если попытаться, не затевая, разумеется, невозможной классификации всех художеств и всех произведений, уразуметь естественную иерархию разных видов искусства, эта оценка осуществима лишь с чисто человеческой точки зрения, т. е. соответственно их культурной ценности или уровню духовности.
Тогда высшую ступень заняла бы небесная красота Священного Писания и божественной литургии, затем последовали бы богословские сочинения и уж потом собственно искусство: духовная полнота искусства Средних веков, рациональная гармония греческого и классического, патетическая гармония шекспировского искусства… Романтизм, при всей его внутренней смуте и интеллектуальной скудости, остается искусством благодаря богатству фантазии и языка. В натурализме же искусство почти совсем исчезает. Будто умышленно, чтобы тотчас появиться вновь, очищенным и отточенным, вместе с новыми ценностями.
* * *
В великолепии дворцов Юлия II и Льва X было нечто большее, чем благородная любовь к славе и красоте; пусть даже тут не последнюю роль сыграла суетность, все равно, оно было пронизано светом Духа, всегда присутствующего в Церкви.
Церковь, средоточие созерцания, умудренная даром знания, тонко разбирается в нуждах человеческого сердца и понимает несравненную ценность искусства. Поэтому она всегда ему покровительствовала в миру. Больше того, она призвала его к opus Dei[159*], поручив ему составление драгоценных благовоний, которые изливает на главу и стопы своего Господина. «Ut quid perditio ista?»[160*] — говорят филантропы. Церковь непрестанно умащает тело Того, Кого любит и Чью смерть ежедневно возглашает, donee veniat[161*].
Мыслимо ли, чтобы Бог, которого, как сказано у Дионисия Ареопагита, «называют Ревнителем, ибо он ревнует обо всем сущем»[667], с презрением относился к художникам и к хрупкой красоте, выходящей из их рук? Вспомните, что Он говорил о тех, кого Сам призвал к священному искусству: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу; и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова; он исполнил сердце их, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани»[668].
* * *
Мы уже упоминали о коренной противоположности искусства и благоразумия. Эта противоположность еще усиливается в изящных искусствах в силу превосходства самого их объекта.
Художник на стезе своего искусства подчинен своего рода аскезе, которая может требовать героических жертв. Он не должен ни на йоту отклоняться от линии искусства, должен постоянно и бдительно остерегаться не только банального соблазна легкого пути и успеха, но и тысячи более изощренных искушений, не допускать ни малейшего ослабления внутреннего напряжения, ибо габитус убывает даже при простом перерыве в работе[669], даже при небрежности, из-за которой произведение не соответствует масштабу дарования[670]. Художник обязан трудиться ночами, блюсти свою чистоту, добровольно уходить с тучных, вспаханных земель на каменистую, неизведанную целину. В некоторой сфере и в некотором отношении, а именно в сфере творчества и в отношении блага произведения, он должен быть смиренным, великодушным, благоразумным, честным, простым, чистым, невинным. Всеми этими добродетелями святые обладают simpliciter, бесхитростно и спонтанно, применительно к области высшего блага; художник же должен овладеть ими secundum quid, в определенном ракурсе, в отдельной, внечеловеческой, почти нечеловеческой области. Вот почему он так легко впадает в тон моралиста, когда говорит или пишет об искусстве, — ведь он ясно понимает, что обязан лелеять некую добродетель. «В нас обитает ангел, а мы то и дело уязвляем его. Тогда как должны быть его хранителями. Оберегай свою добродетель…»[671]
Это сравнение придает художнику особое достоинство и объясняет, почему им восхищаются другие люди, но оно может и пагубным образом сбить его с толку, обратить драгоценный дар и душевные силы на призрачный путь, ubi aerugo et tinea demolitur[163*].
Собственно же благоразумие, оценивая все вещи в моральном аспекте и по отношению к благу человека, ни в чем не соприкасается с искусством. Оно, конечно, может судить произведение искусства в той мере, в какой это произведение затрагивает нравственность[672], но не вправе оценивать его с художественной стороны
В художественном произведении причудливо сталкиваются разноречивые добродетели. Благоразумие, которое рассматривает его с точки зрения морали, больше, чем искусство, заслуживает названия добродетели[673], ибо оно, как всякая нравственная добродетель, самым непосредственным образом делает человека лучше.
Однако, поскольку искусство ближе к созерцательным добродетелям и потому духовно богаче, оно представляет собой более благородный габитус, simpliciter loquendo, ilia virtus nobilior est, quae habet nobilius objectum[167*]. Благоразумие выше искусства в человеческом измерении. В абсолютном же измерении, метафизически, искусство, по крайней мере то искусство, которое устремлено к прекрасному и имеет созерцательный характер, неоспоримо выше благоразумия[674].
Этот конфликт усугубляется тем, что искусство не подвластно благоразумию, как, например, наука — мудрости, в силу несовпадения объектов. Все объекты искусства принадлежат только ему. Но над субъектом оно не властно. Здесь нет такого отчетливого разделения, как в объектных отношениях. Искусство и благоразумие на равных притязают на все, что выходит из-под руки человека. В поэтической или, если угодно, в профессиональной оценке благоразумие неправомочно. Зато ничто не ограничивает его права выносить оценки с точки зрения общечеловеческой нравственности и свободной воли — а это главное в субъективной стороне. Следовательно, для правильной оценки произведения необходимы обе эти добродетели.
Когда благоразумный человек, прочно стоящий на позиции морали, порицает произведение искусства, он уверен, что отстаивает от посягательств художника священную ценность — благо человека, и смотрит на художника как на дитя или на безумца. Художник же, с позиции своего духовного габитуса, уверен, что отстаивает не менее священную ценность — красоту, и презирает благоразумного, утверждая, вслед за Аристотелем: «Vita quae est secundum speculationem est melior quam quae secundum hominem»[675][169*].
Итак, художник и благоразумный человек не ладят друг с другом. Напротив, созерцатель и художник друг другу благоволят, так как оба, благодаря своему духовному габитусу, причастны высшей сфере. У них также общие враги. Созерцатель, чей предмет — определяющая все causa altissima[170*], знает цену и место искусства и понимает художника. Художник не в состоянии оценить всю значительность созерцателя, но догадывается о ней. Если он действительно любит прекрасное и если душа его не закоснела в пороке, он, как и созерцатель, почувствует любовь и красоту.
Кроме того, оставаясь в сфере своего искусства, он невольно тянется за его пределы; как растение, не обладающее сознанием, поворачивает стебель к солнцу, так художник, даже живущий в самой низменной среде, тяготеет к предвечной красоте, радость которой вкушают святые в сияющем мире, недостижимом для искусства и разума. «Ни живопись, ни скульптура, — говорил Микеланджело в старости, — не прельстят более душу, обратившуюся к той Божественной Любви, которая, раскинув руки на Кресте, принимает нас в свои объятия».
Погладите на св. Екатерину, эту apis argumentosa[171*], советницу папы и князей Церкви, — как она увлекала за собою в рай окружавших ее художников и поэтов. Благоразумные превыше всякого благоразумия, судящие обо всем с мудростью, «которая есть прообраз всех добродетелей разума» и которой служит, «как привратник в королевском дворце»[676], само благоразумие, святые свободны, как Дух Божий. Мудрецу, как Богу, небезразлично любое проявление жизни.
Он, никого не презирая..
Не осмеёт забот мирских,
Он, вышний светоч созерцая,
Познает вкус трудов людских[172*]
Таким образом, одна лишь мудрость, с ее божественным взглядом, равно превосходящим деятельность и творчество, способна примирить искусство и благоразумие.
Адам согрешил, ибо отступил от созерцания, и с тех пор человек утратил цельность.
Главная причина всяческих неустройств христианской цивилизации в том, что она отвернулась от мудрости и созерцания и обратилась от Бога к низшим материям[677]. В частности, в этом причина кощунственного разрыва искусства и благоразумия, который происходит, когда у христиан не хватает сил вместить всю полноту ниспосланных им даров. Вот почему в эпоху итальянского Возрождения, когда воцарился культ гуманистической Virtù[173*], благоразумие было принесено в жертву искусству, а в XIX в., когда кумиром трезвомыслящего общества стала порядочность, искусство было принесено в жертву благоразумию.
Ответ Жану Кокто
Перевод выполнен Н.Л. Трауберг по: J. Maritain. Réponse à Jean Cocteau. -J. Maritain. Oeuvres (1912–1939). Paris, Desclée De Brouwer, 1975, p. 363–392. Примечания Ж. Маритена (р. 392–400) переведены В.П. Гайдамака.
«Письмо Жаку Маритену» Ж. Кокто и «Ответ Жану Кокто», написанный Ж. Маритеном, были опубликованы одновременно двумя брошюрками в издательстве Стока (1926).
Кокто и Маритен знали друг друга через знакомых, а встретились в июле 1924 г. Меньше чем через год Кокто случайно познакомился в Медоне, у друзей, с о. Шарлем (Анрионом), был поражен его личностью и через три дня ему исповедался. Впоследствии Кокто говорил, что «всегда был католиком».
В «Ответе Жану Кокто» Маритен, если перефразировать его слова из другой работы, пишет о двух предметах: некой преходящей ситуации «во времени» и некой «духовной ситуации», которая непреходяща, хотя и принимает самые разные, даже антиномичные исторические формы. Первая — это встреча томизма, «вечной философии», давно отчужденной от мирской культуры, по меньшей мере с одной из разновидностей современной поэзии. Вторая — это живое соработничество поэзии как творческой силы с философской, богословской, мистической мудростью.
Дорогой Жан!
Я слишком хорошо себя знаю, а потому в облике, который Вы являете мне, вижу лишь образ Вашего сердца. Дружба оправдывает Вас.
Кто я такой? Обратившийся. Человек, которого Бог вывернул, как перчатку. Все швы — наружу, поверхность — внутри, она ни на что не годится. Такому существу не до уважения к себе, его так и тянет просить у других прощения за то, что оно вообще живет на свете. Их шкуры и панцири поражают его. Кто-кто, а Вы это поймете, хотя Вам, в отличие от меня, не пришлось оставлять ересь ради веры, Вы просто вернулись на свою скамью в храме, Ваш ангел-хранитель сторожил ее и каждое утро подавал записочку с Вашим именем.
Ангелы всегда берегли Вас. Вы говорите о них во всех Ваших книгах, они оставляли лазурные следы на всем, к чему Вы прикасались, вы видели их в отблесках окон; в восприимчивом зеркале уподоблений, загадок, образов и головоломок, да что там — в стихах Вы обретали их понемногу, догадываясь, как огромны они, как сильны, как нежны, как прекрасны и опасны. Ведь, честно говоря, это их Вы ловили в силки, и сам птицелов оказывался в их тенетах.
Заполнили они и мою философию. Она обратилась к ним, ибо ее вели Ангельский Учитель с Хуаном де Санто-Томасом (вот еще один Жан, которого я люблю), и мир обособленных форм открывал ей духовный свет, прекраснейший, нежели свет ясного дня. Она уразумела, что только образ чистых духов позволит метафизике понять сокровенную тайну разума. Она неустанно восхищалась той особой, ангельской природой, где каждый индивидуум — неповторимый, отдельный вид существ, а существа эти прозревают во всяком творенье замысел Творца. Они выбирают любимых раз навсегда и всей своей сутью уходят в это неустранимое действо. Вот она, логика нашей встречи. Ангелы, хранившие нас, издавна глядели друг на друга, и не им принадлежали их замыслы. Жан, они видят лик Отца, они видели, как пал Люцифер, они поклонялись Христу на Голгофе, глядели на увенчание Девы. Можете Вы представить себе их молитву? Мы для них — два темных пятнышка в пламени, которые возлюбил Господь. Мы — двое детей. Вы сами так сказали, дорогой мой Кокто.
…Я знал Вас, когда Вы еще не знали моего имени. Я внимал Вам с прилежным любопытством, Вы были для меня вроде джинна, подстерегающего игры фей — и чистые, и нечистые, хотя сам он пресыщен печалью и не годен для этого мира. Я удивлялся тому, сколько Вам нужно скафандров. В «Мысе Доброй Надежды»[1*] скафандр становился самолетом, и дерзновение тайны радовало меня. Я восхищался пьесой о новобрачных на Эйфелевой башне[2*], переносящей на сцену ту свободу фантазии, которая некогда создала вечные волшебные сказки.
Когда Орик[3*] читал нам «Мыс», мы жили у гостеприимнейшего из священников, при старой сельской церкви, в пресвитерии, среди чудом дарованных вещей. Я работал у постели жены, которая болела больше года и каждую ночь видела во сне цветочный потоп. В этом зеленом краю мы написали с ней «Искусство и схоластику». Когда работа близилась к концу, появился (как всегда — внезапно) тот, кто через много лет стал отцом Шарлем. В кармане у него был «Петух и Арлекин»[4*]; он купил его случайно, для меня, в Париже.
Эстетика Ваша легко пришлась к теории схоластики и искусства. С прозорливостью, восхитившей меня, Вы предписали поэзии (спрятанной под музыкой) великие-правила очищения и отдачи, которым подвластно все духовное, от творческого труда до стяжания вечной жизни, и чье высочайшее, уже запредельное подобие мы находим в аскезе и созерцании. Вы стремились к поэзии в самом чистом ее виде, к духу легчайшей красоты, к чистой легкости духа. Обету своему Вы не изменяли, Вы отдавали то, чем владели, поминутно рисковали всем, непрестанно отрешались от себя, так истончая весомую материю тела, что вас обвиняли в бесплотности. Не случайно поступились Вы античными прелестями чуть располневшей Музы ради крепости Духа, воссиявшего там, где восходит солнце. Тогда случай и чудо вели Вас и помогали в битве, которая много выше битв искусства и поэзии, в битве, которая проиграна заранее, если мы не облечемся в доспехи Христа. Смерть угрожала Вам отовсюду, запечатлевая уста тех, кто имел неосторожность полюбить Вас. Не надо было вещих даров, чтобы угадать ту битву со смертью, о которой Вы сказали теперь, когда смерть побеждена. Я ощущал, как трагичны Ваша борьба и Ваша жизнь. Когда Вы взлетали на трапеции, пускали шутихи, затевали потасовки — там, в глубине арены, сверкали клыки настоящих, диких зверей. Вы жонглировали ножами на такой высоте, так открыто, что беда была неизбежна, и я видел, что сердце Ваше разверсто отчаянием — или Божией благодатью. Мы с притворной небрежностью посылали друг другу книги. Радиге дал мне «Беса в крови»[5*]. Вы сами надписали мне экземпляр «Бала»[6*].
В горячечном бреду Радиге сказал Вам: «Через три дня меня расстреляют солдаты Господни». На третий день он умер.
Через несколько месяцев Орик повел Вас к своим медонским знакомым. Да, смерть душила Вас, Меркуцио, — и я понял, что живется Вам нелегко; и еще я понял, как верно, что главный Ваш дар — искренность. Я восхищался тем, что Вы явственно знаете принципы, которыми руководствуетесь.
Потом мы писали друг другу. Из Вильфранша, в августе 1924 г., Вы говорили мне: «Первому в наших кружках мне захотелось "снова увидеть светлое". Сначала я поделился своей мыслью в музыкальной среде, и, как Вы знаете, кое-что получилось. "Тома"[7*] вышел у меня светлым, но только за счет засорения легких никотином. Из всех я выбрал Радиге, чтобы он стал моим шедевром. Вообразите мое одиночество после его смерти. Я как сумасшедший на стекольном заводе, где все разнесено вдребезги. Я пытаюсь здесь жить. Получается плохо. Орик помогает мне; но что он может? Я живу в страшном сне, в каком-то ином мире, куда не проникает дружба.
Конечно, чем падать безвольно вниз, надо бы воздеть кверху руки. Мне стыдно, что у меня нет уже на это сил». И Вы рассказали мне о Реверди[8*], отце-иезуите, о том, как дружественны они ко мне…
Когда я снова увидел Вас — было это в декабре, — Вы пришли, чтобы побеседовать о Боге. Я очень боялся Вас; перед Вами я ощущал, что неуклюж по природе, да и силлогизмы мои неуклюжи. Олух Царя Небесного? Скорей — деревенщина, хуже того — парижанин. Однако с Вами я не стыдился своей неловкости, Вы сами пробирались ощупью среди теней, которые реальней наших рук и глаз, и души наши находили одна другую в призрачном краю.
Бог не давал Вам отдыха и покоя. Душа Ваша сжалась, Вы пребывали в той агонии духа, которая обычно предваряет Христа. Что Вы могли поделать? Ждать да молиться.
Только опиум кое-как успокаивал Вас — простое лекарство, которое прописывают, словно кровопускание или горчичник, и принимают в разумной мере. Никакой моралист его не осудил бы; но у него — свое, особое достоинство, тем он и преступен. Во всяком случае, Вам он помог («Вот и еще один путь», — сказал Клодель). Это то, что мы называем per accidens[9*]. Такие средства значат много в человеческой жизни. Бог возьмет свое у всего, даже у зла.
Значит ли это, что надо творить зло? Нет, это было бы слишком глупо. Но это значит, что надо дивиться долготерпению Промысла и всегда надеяться, ибо «все ко благу любящим Господа»[10*], etiam peccata, даже грехи. Искупление через благодать, соединяющее нас с Богом, действеннее вины, отделившей нас от Него. Что же до Вас, дорогой Жан, тогда Вы еще не любили Бога как должно, и грех, кажется мне, был для Вас нарушением небесных таможенных правил, а не тем, что он есть, — не богоубийством. Греша, мы (можно ли это представить?) поражаем Несотворенного, вернее — не Его Самого, а тот порядок, который Ему угоден, и распинаем Творящую Любовь.
Поистине грех — тайна, и даже святые не слишком хорошо разумеют ее. Нам ли ее объяснить? Она непонятней всего на свете. Лишь в трагические моменты литургии на Страстной неделе, когда Церковь плачет и жалуется, да в жутком зеркале всеобщих страданий различаем мы хоть немного природу греха. Господь милостив, говорят нам, Он непременно простит. Вот именно — Он прощает то, в чем каются. Если бы дьявол покаялся[678], он тут же получил бы прощенье. Нераскаянный грех простить нельзя. Бог не может отменить Себя Самого. Грех этот тщится создать свой, особый мир, лишенный Бога, свой пламень, такой же жгучий, как пламень любви. И то, по жалости Господней, которая есть повсюду, в мире этом страдают меньше, чем заслужили. Любовь Господня сотворила мир, чтоб все одарить Его красотой, и победить ее невозможно. Если я откажусь явить ее в милости, она проявится в правде, а вот почему я отказался — это останется темным и непонятным.
Бог попускает зло, но не потворствует ему, Он и перстом до него не дотрагивается. Если же человек разрешает себе совершить зло ради вящего блага, он запускает в него руку по локоть — нет, погружается в него. Осудим ли мы курильщика за то, что он хочет уйти от неправды этого мира? Нет; но выбрал он дурное средство, прибегнул ко злу, чтобы бежать от зла, предался лжи, чтобы от нее увернуться.
Заблуждение, убивающее нас, — в том, что мы лечимся от чисто человеческого, как люди, т. е. как звери или растения. Ошибка эта есть во всякой дурной мистике, а плоть она обретает в опиуме — утеха замещает Утешителя. Вредоноснее всего это снадобье, когда им пользуются ради «духовности», заполняя им пустоту, которую заполнит лишь Бог. Отрешенность в пилюлях, бесовское таинство…
Вы говорите, что опиум Вас отпустил. Но на это нужно мужество. В санатории, у самой Вашей постели, стояла коробочка с пилюлями (как в «Похищенном письме», врачи ничего не видели), и Вы могли избавиться от мук абстиненции; но Вы не тронули ее.
Леченье удалось. Вы исцелились от опиума. Бог не давал Вам спуску. Мы с Реверди чувствовали, что скоро понадобится священник. К кому же обратиться? И тут появился отец Шарль. Если это кто и подстроил, то ангелы. Я получил телеграмму о его приезде именно в тот день, когда Вас ждали к обеду в Медоне. Когда он вошел, в наших душах воцарилась тишина, и держалась до ухода, и мы поняли, что пришел он ради Вас. Сердце, которое Вы рисовали в конце Ваших писем, сверкало на его груди, но осененное крестом. Уединенье посылало Вам созерцателя. Созерцатель и поэт поймут друг друга — тому, кто привык к небесному, нетрудно приноровиться к невидимому. И потом, простота, внутренняя свобода, самоуничижение в любви — это Ваши любимые свойства, только на службе у Бога.
Господь милостив; благодать Его взрывается, словно снаряд, и поражает сразу нескольких. Он не пожелал, чтобы только Вас поразила она в этом доме. Двое крестились, один захотел стать священником, были и другие дары, когда Вы встретились с Христом. (Через полгода, под Рождество, я видел, как Вы причащались вместе со своими крестниками.) Доверяя моим добродетелям брата-привратника, Вы послали ко мне души, озаренные Вашим примером. Так обменялись мы друзьями, каждый дал другому своих — и не потерял их. Ваши друзья явили мне мощь поэзии, владевшей ими через Вас. Она не дала им мудрости, но разрешила их сердца, показала хоть что-то чистое; не исцелила душу и не напитала, но промыла небесной водой. Просто чудо, как были они готовы к благодати и к сверхъестественной истине — с дивной жадностью, quasi modo geniti infantes[11*], пили они девственное молоко Церкви. Такие души, дорогой Жан, — лучшее свидетельство того, какая духовная ценность сокрыта в Ваших играх.
Тем временем бедный Сати умирал. Вы намекаете на то, что он так лукаво и смиренно назвал «чем-то вроде обращения». Не приписывайте мне лишнего, я был ему другом, вот и все. Когда я впервые вошел к нему в палату, в больнице св. Иосифа, Пьер де Массо, который меня привел, отлучился на минутку, а он мне прямо сказал: «Знаете, я не такой уж безбожник. Вот вылечусь и все изменю, только не сразу, чтобы друзья не обиделись. И потом, я каждое утро крещусь…» Вот как все было.
Могу ли я отогнать такие воспоминания? В Страстную субботу по палатам, как принято, ходил священник, спрашивал, будет ли кто праздновать Пасху, и он сказал: «А то как же, я ведь католик». Тогда же он исповедался, но забыл молитвы и попросил сиделку прочитать их. Так они вместе и читали «Отче наш» и «Ave Maria»; Сати плакал. Еще два раза просил он, чтобы его причастили. Он рассказал обо всем этом Реверди тем неподражаемым, полусерьезным-полулукавым тоном, который подсказывала ему застенчивость, когда он говорил о себе.
Со мной он беседовал о музыке и об еде — о поразительных блюдах, которые стряпал для него Бранкузи[12*]. Однажды он разбранил меня, потому что я никак не находил баночку варенья, неведомо куда запропастившуюся. Пришлось перерыть все ящики. «Ну что же это, католический писатель, а варенья найти не может! — говорил он. — Так и видно, что ты и не надеешься его отыскать». Вообще же всю эту долгую, жестокую болезнь он проявлял образцовое терпение и то разумное, насмешливое, нелепое стремление к порядку, которое так много для него значило. Под конец он то и дело засыпал. Я сидел у его постели, читая молитвы, когда он проснулся и сказал мне: «Хорошо быть вместе, если думают одно и то же» — и снова уснул. Больше я от него ничего не услышал. Через полчаса я тихо ушел, и увидел его уже в гробу. Соборовался он в полном сознании. Наверное, молитвы его очень помогают друзьям.
Искусство защищается плохо, когда нечистый ангел оглушает его и хочет «использовать» самолюбия ради жертвенное сердце, немощь, даже Бога. Мы прекрасно это знаем, дорогой Жан, мы всюду видим ту комедию, для которой возрождение веры и словесности — лишь новый глянец, новая пища.
Однако еще мы знаем, что мытари и блудницы войдут в Царствие Небесное прежде самодовольных праведников. Так сказал Господь. У них Он нашел больше сердечной чистоты, чем у совопросников из Храма.
Несотворенную Любовь остановит одно — гордыня. Как бы ни сверкало тщеславие художника, обычно оно — мальчишеское и не достигает высших степеней греха. Человек искусства отнюдь не уверен в своем спасении, он знает, что не дает десятины с мяты, аниса и тмина, что он вообще не лучше других и нуждается в милосердии. В нем есть литератор — человек двоедушный, паяц, который хочет провести Бога. Есть в нем и ремесленник, а часто — мастер, подмастерье Творца.
Бог не дает Себя провести, Он не выносит литературы. А чистоту Сати Он возлюбил.
Сколько говорили об его мистификациях — а ведь в мире музыки Сати делал то же самое, что какой-нибудь Филипп Нери[13*] в мире благодати. Вот оно, искусство как символ благодатного. Между поэзией и святостью есть общее, они подобны друг другу (в слово это я вкладываю все то, что видят в нем философы, — и близость, и отдаленность). Ошибки от того и берутся, что одни преувеличивают это подобие, отождествляя поэзию и мистику, другие его преуменьшают, видя в поэзии лишь ремесло, лишь набор приемов.
Что ни говори, поэзия — свыше, но не как благодать (она сверхъестественна по сути своей, даруя нам соучастие в том, что принадлежит одному лишь Богу), а как высочайшее естественное подобие[679] деятельности Божией. Данте говорил, что искусство наше — внук Господень. Прообраз искусства — не только то художество, которое сотворило мир; чтобы оценить его по достоинству, необходимо вспомнить тайну исхождения Слова, ибо разум всегда плодоносен, и там, где он не может произвести подобного себе, как Бог, он хотя бы породит творенье по образу своему и подобию, в котором останется жить сердце.
Дары Святого Духа предают нас сверхъестественному вдохновению, без которого нет любви; оно возносит святые души туда, выше человека, и это — мистическая жизнь. Но и на обычном, естественном уровне есть особое вдохновение, которое тоже выше разума и, как говорил Аристотель[680], проистекает от Бога, живущего в нас. Таково вдохновение поэта. Потому и можно назвать его Божьим человеком. Как святого? Нет. Как героя: δίος "Εκίωρ[15*].
Слова и слог для него — только материал. Из них творит он то, что несет духовную радость и отражает хоть как-то звездную ночь бытия[681]. Он подмечает в предметах и выводит на волю сколь угодно слабый отсвет духовного; его незрячий взгляд встречает в лоне творения взгляд Божий. Богословы говорят, что у Писания много буквальных смыслов; у вещей, созданных Богом, бесконечное число таких смыслов. Святой завершает в самом себе дело Страстей, поэт — дело Творенья. Он помогает ладу Господню и соприроден тайным силам, играющим в мироздании.
Так, в своей духовной сути, поэзия выходит за пределы всякой техники, мало того — за грань искусства. Можно быть поэтом и ничего не писать — окрещенный младенец наделен освящающей благодатью, а он еще никак не действует. Поэзия относится к искусству, как благодать — к нравственной жизни.
Поэзия — образ божественной благодати, и потому, что она раскрывает то, что едва сквозит в естестве, и потому, что сквозь естество проглядывает Царство Божие. Поэзия, сама того не зная, дарует нам предчувствие сверхъестественной жизни, смутную тягу к ней. Я вспоминаю слова Бодлера: «Через поэзию, и сквозь поэзию, через музыку и сквозь музыку провидит душа те радости, которые ждут нас за гробом». «И когда, — продолжает он, — какие-нибудь чарующие стихи вызывают на глазах слезы, то слезы эти свидетельствуют не об избытке наслаждения, а скорее о некой нетерпеливой скорби, о мольбе нервов, об изгнанной в мир несовершенства природе, которая желала бы немедленно, на этой самой земле, обрести открывшийся для нее рай»[16*].
Тайны эти Вы знаете лучше нас. Кто понял яснее, чем Вы, какая евангельская мудрость отражена в очарованной стихами душе? Она требует узкого пути, она поражена священной немощью. Вы сказали, красота хромает — Иаков хромал после брани с Ангелом, а св. Фома говорил, что хромает созерцающий, ибо, познав кротость Господню, он кренится набок, чтобы не опираться на мирское. Поэзия, в определенном смысле, не от мира сего. Царство ее тоже среди нас, внутри нас; она тоже — ничто, малая малость, слабый свет, который достигнет силы в полдень. В своем, особом роде она взыскует духа бедности, оставляет все ради высшего, обретает свободу в лишениях. От стихотворца ей нужен подвиг смирения, но такой, чтобы разум и воля были живы, — не автоматизм безумца, не пыл одержимого, а свободное и неусыпное послушание души, ведомой Духом Божиим.
Вы скажете, это служит благу, но не Благу. Все шедевры, какие только есть, не дадут одного доброго порыва. Мы с Вами, Жан, отдали бы все поэмы и системы за тихий покой съединенной с Богом души, которого не заметят и ангелы.
Но искусство — не там, где благо человеческое[682]. Отсюда его сила — оно свободно от всего человеческого, оно не обязано, как здравомыслие, подчиняться заранее поставленной цели; выбираясь из мешанины случайностей, из смут свободной воли, оно само ставит цель, властно господствует над материалом. Но отсюда же его слабость. Если художник обладает духовными добродетелями, то это добродетели secundum quid, в определенном отношении[683], хотя они и реальны, ибо подражают духовной силе и добродетели святого, никогда не достигая их. Поистине трагично! Ведь он знает всю суровость духовной жизни, но не обретает сокровенного мира, которого не даст ничто земное. Он должен немилосердно выпрямлять и волю, и все силы желаний ради цели, которую ставил не он.
Какие бы побужденья ни влекли его, чего бы ни стоило целомудрие творчества, само по себе оно не поможет спасти душу. И все же это — истинное целомудрие, оплаченное многими муками сотворенной души; оно отображает другую чистоту, тем самым к ней приуготовляя. Благодать подтолкнет чуть-чуть, спящий скользнет самую малость по отлогим склонам небес — и повернется на другой бок, и проснется, и узрит Бога. Бог ведь знает наши труды, всю изнанку наших усилий. Он всюду расставил ловушки побуждающей благодати и заметит, если в сердце есть хотя бы крупица чистоты. Он жалеет нас.
Поймите меня правильно. Как и философию, я принимаю поэзию только перед Богом, а значит — вообще не принимаю. Я показываю ее величие, ибо никто не подходит так близко к невидимому, как мудрец и поэт, разве что святой, но он — единый дух с Богом и потому бесконечно ближе всех других. Показываю я и благо, которое мы, люди, из поэзии извлекаем[684]. Бесполезные сами по себе, поэзия и всякое искусство нужнее роду человеческому, чем даже хлеб, ибо предрасполагают нас к жизни духа.
Св. Франциск беседовал с животными. Когда благодать восстановит хоть что-то из райской невинности, невинность эта действительна; искусство же восстанавливает рай в образах — не в жизни, не в человеке, а в произведении. Вот там — только лад и красота, там нет раздора, чувство и дух в мире, чувственность уходит в свет, телесный жар — в разум, все человеческое устремляется к небу.
Даже в том, что касается греха, искусство подобно благодати. Кто не побывал в царствах зла, не поймет толком этого мира. Стоик не знает их (он не верит в дьявола), святой — знает прекрасно. Искушения учат его, и жалки рядом с ними греховные ухищрения приличных молодых людей, боящихся отстать от жизни; с учителем своим он сходит в ад[685], он накоротке со старым врагом и, чуждый злу, знает его тайники и повадки. Почему же? Потому, что он искупает зло молитвой и мукой. Он берет грехи на себя и алхимией Спасителя преображает их в милосердие.
Так вот, человек искусства тоже знает тайники сердца[686], тоже сходит в ад. Я не считаю, как Андре Жид, что там, внизу, самые лучшие земли[687], — в мире духа плодоносно целомудрие; но какая-то низменная плодоносность там есть.
Грех входит в мироздание христианства, ибо побуждает к одному из таинств. Входит он и в мироздание искусства, но тут уже искупление ложное. Искусство берет из греха красоту, однако красота эта — мертвая.
Художник, словно фокусник, преображает, а не исцеляет зло. Чувственность врага Вашего, Вагнера, настолько преображена музыкой, что «Тристан» вызывает в воображении лишь чистейшую сущность любви. Если бы Вагнер с Матильдой Везендонк не грешили, у нас бы не было «Тристана». Конечно, мир обошелся бы без него. Байрейт — не Иерусалим. Но именно так пародирует искусство felix culpa[18*]. Оно печется лишь о своей славе. Пусть художник погибнет, искусству до этого нет дела, если пламя, в котором он горит, хорошо обжигает керамику.
Поэтому, как бы мало ни касалось оно жизни, оно побуждает человека искать совершенства, создавать шедевр из себя самого, просто выявляя, раскрывая свою личность. Честно сказать, это глупо. Человек уже не может достигнуть естественного совершенства — ему предложено лишь совершенство сверхъестественное, а «на путях к совершенству естественному он встречает грех». Нам не избежать стигматов; или это язвы ветхого Адама, или раны Христа.
Словом, искусство внечеловечно, тогда как святость — сверхчеловечна. Отсюда и все подобия, о которых я говорил, сама необходимость подвига — но и ненасытность идола, и ложь, и соблазн, который рано или поздно побудит искать в извращенности того, что даст одна только святость.
Вы предлагаете Господу прекрасное чудище. «Искусство для искусства так же нелепо, как искусство для черни. По мне, нужно ИСКУССТВО ДЛЯ БОГА». Парадоксально, но не так уж немыслимо. Средние века (на свой лад, мы уже так не можем) непроизвольно блюли это — из мира и впрямь изгнали бесов, четыре стихии были христианскими.
Вера и поэзия ссорятся порой, но как сестры. В мире достаточно зла, чтобы умерщвлять себя слишком суровой добродетелью. Однако искусство само собой идет к Богу — но не нравственно, не так, как идет человек; оно устремлено к вселенскому Началу всякой формы и всякой ясности. Достигая по-своему какого-то уровня чистоты и величия, искусство непроизвольно являет лад и славу невидимого, знак которых — красота. Китайское ли, египетское, оно — христианское в уповании своем и в образе (искусство, не художники!). Конечно, как сказал Фра Анджелико, «чтобы писать Христово, надо жить со Христом». Однако прежде надо быть художником. Если кто не «пишет Христово», считая себя недостойным или же по какой другой причине, но сумел обрести частицу небес и дал нам «неподражаемый звук, который слышишь, когда разум ударится о красоту», он издалека, понемногу приуготовляется к тому времени, когда благодать пожелает воспользоваться им как самым достойным орудием. Я имею в виду «Сократа» Сати, «Свадебку» Стравинского, картины Руо и Пикассо и вашего «Орфея»[19*], дорогой Жан.
Церковное искусство, создающее то, перед чем люди молятся, обязано быть богословским, религиозным. Это — особый (хотя и очень важный) случай, помимо же этого Бог поистине не требует «религиозного» или «католического» искусства. Он хочет для Себя искусства как такового со всеми его особенностями.
Вы правы, Богу нужно самое лучшее. Ему приносят в жертву юную горлицу, агнца во всей его силе. «Господь любит древнее, а не старое». Академизмом Ему не угодишь, тут нужно дерзновение; трусость никак и никогда не смиренна. «Бог, — пишете Вы, — не выносит теплохладного». Да, это верно. Конечно, на небе — много дураков, но из этого не следует, что мы должны глупо служить Богу. Быть может, грехи против разума, против искусства, науки, поэзии не караются в ином мире, но тут, на земле, они находят кару; сыны света, которых Господь укорял за несмышленость, могли и сами в ней убедиться.
«Оставайтесь свободным», — говорит Вам отец Шарль. Многим ему пришлось сказать: «Обретите свободу». (А еще кому-то: «Снова идите в рабство», как советовал г-н Дега). Какого упорства, каких страданий стоила Вам свобода поэта! Я очень многого от нее жду.
Вы — Христов, никакие подделки не властны над Вами. Зачем Вам менять подчинение? Вы принадлежите Церкви, мистическому Телу Христа, а не миру сему, каким бы он ни был. Церковь — тайна. Церковь — это Христос, розданный и сообщенный людям[688]. Она охраняет лишь от греха. Но там, где любовь, только грех стесняет свободу, а значит — нет большей свободы, чем в Церкви.
Вы пишете, что после июньских событий я иногда смотрю на Вас украдкой. Что же я вижу? Душу, узревшую свет Агнца, которая еще страдает, дерзко бросая вызов небу и всячески тщась не поверить раньше времени в радость. Она борется с Любовью, отбивается, прячется. Вы из тех, кто дает больше, чем обещал. Я знал, как Вы великодушны, но очень, очень хотел, чтобы Вы лучше меня воспользовались милостями Божьими, — они ведь так тонки, так неуловимы, а мы все думаем, что обретем их, когда захотим. О, если бы Вы смогли бежать быстрее меня!
Вы наделены прекрасной ревностью о свободе. Как я понимаю Вашу любовь к Антигоне[20*]. Однако она тем и дорога Вам, что, нарушая закон человеческий, следовала лучшему закону, неизменному и неписаному. Она сама говорит:
ου γάρ τι νυν γε κάχθές, άλλ' άεί ποτέ ζή ταΰτα, κούδεις οΐδεν έξ ότου φάνη[21*].
Свобода девы, подчиняющейся законам богов, прекраснее свободы поэта или мыслителя. Однако мы призваны к свободе, которая еще выше, — к свободе душ, где воцарился Дух. «Quod si Spiritu ducimini, non estis sub lege»[22*].
Не бойтесь, Жан, возмущение это вызовет. Все, что от Бога, его вызывает. Смотрите, как Христос «прошел посреди них и пошел далее»[23*]. Мир спасен тем возмущением, которое вызвала любовь; фарисеи еще от него не оправились, шум никак не уляжется.
Больше всего наших современников возмущает порядок, лад — порядок в духе и в истине, противный бестолковому порядку не меньше, чем беспорядку, — для нас с Вами это самоочевидно. Нет, как можно в философии просто прийти к разумению св. Фомы, потому что оно истинно! Чтобы изумлять, мудрости достаточно быть мудростью, поэзии — поэзией. Правда, поэтам всегда трудно удержаться от соблазна вкусить идоложертвенного, так что к ним нередко можно отнести укоризненные слова св. Павла.
Господь привязывает жернов на шею тем, кто соблазнит малых сих, детей. Вы считаете, что это добрый знак, если поневоле соблазнишь тех, кто утратил детство, «сведущих церковнослужителей и мирян», как называли себя судьи Жанны Д'Арк. Вы правы. В искусстве еще куда ни шло, а на другом уровне, выше, это становится важным. Апостол пишет, что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»[24*]. Вот завидное возмущение, но мы его, увы, недостойны.
В XVI в. Церковь возмущала еретиков — им думалось, что она слишком любит красоту. Что до меня, я восхищаюсь папами Возрождения, которые призвали всю красоту мира на помощь античной Матери добродетелей, когда дьявол в обличье моралиста спустил на нее своих псов. Времена Льва X дурны не тем, что они воздали лишнее искусству и чувственным формам[25*], а тем, что не воздали должного благодати. «Наес oportebat facere, et illa non omittere»[26*].
В XIX в. было иначе; так и казалось, что искусство и вера совсем разойдутся. Почему же? Это понять нетрудно. В церковной среде (я не говорю о святых) религиозность понизилась[689], былые вотчины духа опустели, и жизнь по богословию сменилась для многих жизнью по морали. Без вышнего света мудрости здравомыслие видело в искусстве врага. Более того: в кругах, вызывавших тогда уважение, поэзию просто ненавидели, как бы мстя ей за греховный пыл, противный нравственным правилам.
В среде же искусства (я не говорю о великих) понизился уровень разума. Оттого что ум его давно утратил верность, художник не принимал духовных ценностей. Он тщился обрести в этом новую пищу и, ставя конечной целью самого себя, пытался извлечь жизненную силу из чувственных впечатлений. В наши дни сердечная немощь так велика, что полное отчаяние — единственный выход для поэта, который не хочет кинуться к Богу.
И там, и там уровень понизился, и потому искусство и вера все больше удалялись друг от друга.
Искусство отражает нравы и возвращает им сторицей то, что от них получило. Оно возвышает испорченность дурных времен. Но в один прекрасный миг оно гибнет само, ибо отделило себя от высочайшего в жизни человеческой. Тогда оно ощупью ищет неба. Оно может сбиться с пути, забрести во тьму, в мнимое подобие божественного мрака, но мы узнаем в нем духовный голод. Сколько бы оно ни билось, ни кричало, ни кощунствовало, оно не исцелится, пока не обретет Христа.
Стремление к совершенной любви совсем не трудно соединить со стремлением к красоте. Однако человеку трудно все. Нелегко быть поэтом, нелегко быть христианином, вдвойне тяжело быть и тем и другим сразу. Поэзия ничего не прощает; она требует, чтобы ты отдал все. А уж совсем трудно, невыносимо во времена, когда острие искусства очень тонко, чувства — ранимы до безумия. Вы, дорогой Жан, знаете тайну опаснейших удач, Вы поведаете ее нашим друзьям. Программа Ваша хороша[690]. Но пусть они не обольщаются. Вы зовете их к трудной доле, будут и раненые, и убитые. Как ни хотелось бы мне, чтобы пир этот состоялся, я никого туда не пошлю. Удальцам, готовым на все, я скажу: вам поможет одна благодать. Иерархия средств соответствует иерархии целей, ИСКУССТВО ДЛЯ БОГА НЕВОЗМОЖНО, ЕСЛИ НЕТ БОГА В ДУШЕ. Причастие даст Вам сделать невозможное: коснуться поэзии — и не умереть.
Пускай поэты помнят, как трудно Евангелие. С самого начала оно предъявляет суровые требования. Оно говорит: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Если не возненавидишь душу свою ради Меня, ты Меня недостоин. Бог поругаем не бывает; слова эти не прейдут.
Если кто не избрал добра для добра, говорит Иеремия, незачем кричать: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень!»[27*] Религия, как и природа, может поставлять искусству материал, но сама она — не материал для искусства. Она животворит искусство, как душа — тело, но не смешивается с ним; если соединить их, они осквернят друг друга. В этом мы согласны.
Должны ли мы — те, кто, не любя неоклассицизма, все же не путает романтизм с молитвой, — споспешествовать каким-то католическим Sturm und Drang?[28*] Рядом с безумием Креста все иное — жалко; а безумие это шума не терпит.
Я хотел бы другого. Как и Вы, я жду новой поэзии, которая ушла от Рембо, прекрасно зная, чем ему обязана, пасхальной поэзии, свободной, словно прославленное тело. Кто и как пойдет за Вами по пути, по которому Вы идете вместе с Максом Жакобом[29*] без Аполлинера и Радиге? Не мне гадать, я всего лишь философ. Но мне внушает надежду то, как уже лет десять трогательно пытаются избежать, хотя бы на уровне слога, плотской весомости, важности, довольства, ложного согласия, фальшивого совершенства. Это нелепица, скажут нам, жалкий лепет, чепуха. И все-таки поэзия борется с неправдой, в сущности — с первородным грехом. Я тоже считаю, что путь этот ведет в тупик, но, как и Вы, не презираю друзей Лотреамона. Однако еще я знаю, что поэзию не заставишь уподобиться мистике, а от слов человеческих не дождешься подвига. Мечтанья дают лишь ложную свободу. Они помогут обновить запасы языка, глубинную жизнь воображения, отраженную в слове, очистить и сами затасканные слова; но все это — только техника. Без духа нет духовности. Там, где нет Бога и Его сени, все тайны — лишь обман. «Литература непозволительна. Уйдем оттуда. Тут уж литература не поможет; только любовь и вера помогут нам отрешиться от себя». Поистине так. Спасибо, что Вы это сказали.
Нет, дорогой Кокто, я не буду над Вами смеяться, как Мелхола над Давидом. Я не боюсь, что Вы взяли такую высокую ноту. Цельтесь в голову, говорил Леон Блуа, чтобы попасть не ниже сердца. Как и Вы, я считаю, что для разума противоположности встречаются; выбор происходит там, где скрещивается крест. Только оттуда все видно как следует. Наконец, я с Вами, чтобы твердить, что, во всяком случае, ничего хорошего не сделаешь без любви.
Правая любовь — высший закон для поэта, который любит стихи, для святого, который любит Бога. «Возлюби Бога, — сказал св. Августин, — и делай, что хочешь». Свобода — единственная проблема, и ключ к ней — только любовь. Где любовь и милость, там Бог.
Но чтобы любить, надо знать. Если любовь не пройдет по водам Слова, она ведет не к духу, а к насилию. Если не разумеешь, ничего и не сделаешь. Где нет веры, нет любви.
Если разум испорчен, то, что строят на нем, не устоит. Вот почему я посвятил жизнь св. Фоме и тружусь, чтобы все узнали его учение. Я тоже хочу отнять разум у бесов, вернуть Богу. Я не жду, что каждый станет философом и богословом, это убило бы две прекрасные науки. Пусть каждый узнает столько, сколько нужно. Если дух искривлен, если кто презирает мудрость, какое бы добро он ни сделал, все будет ко злу. Всем открыта мудрость Церкви, и потому у многих знание без особой опасности можно заменить чутьем, любовь обретет глаза.
Ведь именно эту обретшую глаза разумную любовь Вы называете сердцем, не так ли? «Просветленные очи сердца», — сказано в Писании. Сердце, окропляющее алым белые ризы отшельников пустыни, — это Сердце Истины.
Много любви теряется впустую, за пределами истины. Церковь, в которой любовь совместима с истиной, расширяет свои мистические границы, чтобы залучить ее обратно[691]. Недавно установлен праздник Христа — Царя над всем миром. 31 декабря 1925 г. папа праздновал его в первый раз, провозгласив, что весь род человеческий принадлежит Христу, и посвятив этот род Его Сердцу. Он молился за всех: «Господи, будь Царем не только верным — они от Тебя не удалялись, — но и блудным детям… Будь Царем всем тем, кто еще блуждает во тьме идолопоклонства и исламизма, и не откажись вернуть их в свет Твоего Царства. Обрати с жалостью взор на сынов народа, который некогда был Твоим избранником, да сойдет и на них искуплением и крещеньем в жизнь кровь, которую они призывали на свою голову»[692].
Вы говорите о евреях. Можно ли ответить лучше этой католической молитвы? Я отнюдь не преуменьшаю политических проблем диаспоры. Они очень серьезны. Я не думаю, что прежде, чем он воссоединится во Христе, Израиль сможет жить среди народов так, чтобы они его не угнетали или он не угнетал их. Пожалеем тех, кого угнетает он, ибо он — не кроток. Пожалеем тех, что угнетают его, ибо Господь сохранил его для Себя. Но я утверждаю, что есть мистическая проблема, совсем иная, высшая[693]. Мы не можем забывать о духовном первородстве народа Девы Марии и Самого Христа. В прошлом году благонамеренные молодые люди, чтобы осмеять неугодного министра, орали: «Абрам! Абрам!»[694], не понимая, что они гневят Бога, оскорбляя имя великого святого, отца всех верующих. «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова…» Родословие нашего Бога! Я перечитываю одиннадцатую главу Послания к Римлянам: «В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов»[31*].
К этому дереву мы привиты. Так можем ли мы не слышать, как сотрясается старый ствол? С великой любовью, бдительно, благоговейно, должны мы внимать тревогам Израиля. Это — народ-священнослужитель. Пороки его — как у плохих священников, добродетели — как у священников святых. Я знал евреев гордых и развращенных. Еще больше знал я евреев великодушных и простосердечных, которые нищими родились и умерли в еще большей нищете, жили — ничего не наживая и не сберегая, и радовались, когда давали, а не брали. Да, есть евреи по плоти, но есть — те, истинные, «израильтяне, не знающие лукавства». Пусть они спросят себя, как некогда раввин Самуил де Фез, какое сердце, какие уста восприняли песнопение утратившей власть Синагоги[695].
Дух Божий дышит повсюду. Смута наших времен вселяет больше надежды, чем ложный мир. Грех преизобилует в такой чудовищной мере, что кажется: Бог готовит какой-то немыслимый преизбыток благодати. Незачем сетовать на злодеяния русской революции, она по природе своей сатанинская[696]. Другое важно — видимо, русский порядок стал противен Богу. Враги Его делают лишь то, что Он попустит; как только они выметут Ему дорогу, Он их увольняет и выдает им свидетельство: для них сразу находится место в доме напротив, откуда им уже не выбраться.
Мы ожидаем теперь великого умножения любви, которое предвозвещали многие святые. Души как бы обратятся в молитву. Очень хорошо, когда рвется завеса мира-отступника, ибо мы празднуем день Христа-Царя. Когда Он и впрямь воцарится, Царство Его начнется с наших душ. Пускай же любовь победит, мудрость — рассмеется, и «противящиеся смогут обитать у Господа Бога»[697].
В письме Вашем, дорогой Жан, Вы слишком много говорили обо мне, и потому я слишком часто говорю здесь «я». Это совсем не нравится мне и гораздо меньше пристало философу, чем поэту. И все же придется еще поговорить в таком духе.
Как Вам известно, я — самый недостойный, самый запоздалый ученик св. Фомы, да нет— ученик его учеников: Яков Иоанна Каетана Доминика Регинальда Святого Фомы[32*]. Что может быть нелепей, презренней, схоластичней для князей Сорбонны! У каждого из нас, наверное, не только все волосы сочтены, но и есть свое, четко определенное место на небе, соответствующее той малой задаче, которую выполняем мы, недостойные служители. Мне кажется, я хоть немного представляю себе мое место. Я привержен самой что ни на есть догматической и строгой мысли, меньше всего способной к умягчению, совершенно суровой доктрине, а потому, озирая наше время, даже и не пытаюсь что-то принять, с чем-то примириться. Дело в том, что я верю в истину. Всеобщая, как бытие, она должна собирать воедино рассыпанные осколки, ей одной это под силу. Чем чище она, чем отдаленней от тьмы, тем лучше она соединяет.
Мне пришлось начать со спора, и он все больше утомляет меня. Я знаю, какие заблуждения разоряют нынешний мир; знаю я и то, что в нем нет ничего великого, кроме скорби, но эту скорбь я почитаю. Повсюду вижу я плененные истины — какой милосердный орден выкупит их? Наше дело — искать доброе во всем; использовать истинное не столько для того, чтобы разить, сколько для того, чтобы целиать. В мире так мало любви, сердца так холодны, так застыли даже у тех, кто прав и мог бы помочь другим! А надо бы укреплять дух, умягчать сердце. Если не считать тех, у кого дух размягчен, а сердце — сурово, мир состоит почти только из суровых и духом и сердцем, и размягченных — тем и другим.
Главным делом томизма был и будет всегда священный порядок; возвышаясь над церквами, на языке богословия он защищает божественную истину от всех нападений ереси. Теперь сам папа велел ему выйти на улицу, возмущая разумных людей. Они полагали, что уж в их картотеках, в их папках все правильно и точно и христианская схоластика ничем не богаче схоластики мусульманской или буддийской; но вот пришло ей время поработать среди неученых, являя миру свою обновленную юность, свое любопытство и дерзновение, свою свободу, и собрать разрозненное наследие мудрости. Чем ответственнее дело, тем тщательней к нему готовятся; значит, учение будет определенней и четче, дисциплина — строже, верность — полнее, и свободней — игра.
Понять это легче легкого. Но каков замысел! Я понимал это и потому недоволен тем, что делаю, подмечая в себе больше плохого, чем все мои критики. Если бы не милость Господня, я вообще видел бы только заблуждения и тщету. Однако не мне Вам говорить, что хороши лишь очень трудные, безвыходные положения.
Любя стихи, искренне поддерживая наших молодых друзей, я не забываю обязанностей философа, ибо мудрости до всего есть дело. Но поскольку я философ, я отделен и буду отделен от мира художеств, литературы и критики, я не принадлежу к нему, и это позволяет мне восхищаться тем, что есть в нем прекрасного, даже ужасного, если только это чисто.
Мы писали друг другу, но это не значит, что Вы хотите присоединить к своим стихам мою философию, я — к моей философии Ваши стихи. Мы хотим только, чтобы они могли дружить, не теряя свободы. Конечно, у Вашей поэзии есть мировоззрение, но оно слишком конкретно, чтобы обрести форму системы. Конечно, у моей философии есть доктрина искусства, но она слишком абстрактна, чтобы покинуть те небеса первоначал, где обителей много; те небеса, откуда дождь идет на правых и неправых. Так и мудрость с искусством независимы друг от друга. Все науки подвластны мудрости, таков уж их предмет. С искусством все иначе, оно является в наш расчисленный мир, словно принц Луны, не предусмотренный этикетом и приводящий в полное замешательство всех церемониймейстеров. Само по себе, с чисто формальной стороны, оно не подчиняется ни божественным, ни человеческим ценностям и не сообразуется с ними. Предмет его, объект не зависит ни от мудрости, ни от здравомыслия, от них зависит лишь субъект, человек, художник. Оно может впасть в безумие и оставаться искусством, расплатится лишь человек; произведение же если и пострадает, то лишь потому, что нет творения без творца, а творец этот погибнет. У Бодлера есть об этом одна важная страница.
Bona amicorum communia[33*]. Дружба все делает общим, однако, если речь идет о предметах философии и поэзии, это — соблазн, овладевший лучшими людьми нашего времени, который способен ввергнуть наше время в низменную смуту. Сохраним же свой предмет при себе, иначе рано или поздно собьемся с толку мы сами; порою и Любовь порождает Раздор, как у Эмпедокла. Но мы с Вами умеем различать. Охраним же нашу дружбу, она — от неба.
В определенном смысле ради своих целей искусство вправе использовать все, что угодно. Imperium artis[34*] так же необозримо, как необоримы формы красоты. Есть свое царство и у мудрости, всеобъемлющее и абсолютное. Мудрости присуща священная неподвижность. Искусство живет движением, это — его закон; как Вы прекрасно сказали, все, чего оно ни коснется, тут же теряет свежесть. Мудрость участвует в недвижной деятельности, которой живут ее предметы. «Один только Бог неувядаем». Плох тот философ, который покинет вечное ради временного. Он просто пропадет, если свяжет себя с тем, что не выше времени, будь то живопись или словесность, общественная жизнь или политика. Если бы я об этом забыл, я не был бы томистом. Здесь, на земле, у меня одно дело — по мере сил свидетельствовать об истине, а потому я обязан всем, кто бы ее ни искал. Я знаю мой предмет; меня с ним связал Тот, Кто больше меня. Tenui, пес dimittam[35*].
На этих условиях я вправе страдать, как должно, и сердце мое разрывается от жалости, когда я думаю о тех, кому теперь двадцать лет. Самые лучшие хуже всех. Кого винить? Мерзкий мир они его жертвы, — особенно же нас, католиков. Мы в ответе за все, ибо в наших дурных сердцах светит свет искупления. В той мере, в какой мы гасим его, сгущается тьма. (В той же мере, в какой мы ему верны, мы разделяем бремя Христово.)
«Когда ты ненавидишь врага, — говорит св. Августин, — ты ненавидишь брата, но того не знаешь». Многие из тех, кто считает себя нашими врагами, гораздо ближе к нам, чем думают они и чем думаем мы. С поразительной силой взыскуют они того самого Бога, Которого мы так мало любим. Если бы мы очень Его любили, разве бы они не заметили? Что знают они о вере? Жалкую карикатуру, неосмысленные ритуалы, удобную мораль. Нынешний мир объяснил им, что все наоборот, что мы первичны, Бог — вторичен. К их чести, из таких предпосылок они сделали правильный вывод, отчаялись. К их несчастью, они ищут Бога, разрушая самих себя. Чутье бессмертной души, чутье крещенья (все же многие из них крещены) устремляет их к абсолюту. Он нужен им, но им кажется, что они Его выдумали, — они не знают, что Он тут, с ними, ближе к ним, нежели они сами. Их поджидает святой, нашедший то, что они ищут; ложную ночь безумца исцелит[698] лишь ночь, о которой сказал св. Иоанн Креста.
Письмо Ваше, дорогой Жан, завершает то, что начал «Петух и Арлекин». Что до меня, я возвращаюсь к Logica Major и к Prima Philosophia, к теории четырех модусов самосущности, к великому спору о QUO и QUOD[37*].
Медон, январь 1926 г.
Библиография работ Жака Маритена
«Le néo-vitalisme Allemagne et le darwinisme» (Revue de Philosophie, octobre 1910). Réponse á l'enquéte d'Agathon sur Les Jeunes Gens d'aujourd'hui. (1913).
LA PHILOSOPHIE BERGSONIENNE lerc edition, Marcel Riviere, 1914.
2е edition, Téqui, 1930, revue et corrigée avec une nouvelle preface de LXIX pages et en appendice 40 pages de «Gloses sur Aristote». 3e edition, Téqui, 1948, identique á la precedente avec un Postscriptum á la preface.
«L'esprit de la philosophie moderne» {Revue de Philosophie, 1914). Preface au Mystere de l'Église du P. Clérissac (1918).
ART ET SCOLASTIQUE
Premiere publication dans Les Lettres (septembre et octobre 1919).
lere edition, á L'Art Catholique, 1920.
2e edition, ibid., 1927, avec des additions, dont «Frontiéres de la poésie».
3e edition, Louis Rouart et fils, 1935, avec quelques additions á la precedente, mais sans «Frontiéres de la poésie».
4e edition, Desclée De Brouwer, 1965, identique á la precedente mais avec une pagination différente.
ELEMENTS DE PHILOSOPHIE I: Introduction genérale a la philosophie Iere edition, Téqui, 1920. Plusieurs réimpressions.
THÉONAS ou les entretiens d 'un sage et de deux philosophes sur diverses matieres inégalement actuelles
Premiere publication dans la Revue Universelle d'avril 1920 a avril
1921.
lere edition, á la Nouvelle Librairie Nationale, 1921.
2e edition, ibid., 1925, revue et corrigée.
ANTIMODERNE
études publiées dans diverses revues de 1910 á 1922, réunies en volume, avec un avant-propos, aux Editions de la Revue des Jeunes, 1922. La 2е edition comporte un chapitre supplémentaire: «Connaissance de l'Étre».
DE LA VIE D'ORAISON (en collaboration avec Rai'ssa Maritain) directoire pour les membres des Cercles Thomistes. lere edition hors-commerce, á Saint-Maurice d'Augaune, 1922. 2e edition revue et augmentée, a l'Art Catholique, 1925.
ELEMENTS DE PHILOSOPHIE en: L 'ordre des concepts, 1. Petite Logique {Logique formelle), Téqui, 1923. Nombreuses rééditions.
Interview (avec H. Massis) par Frederic Lefevre (13 octobre 1923), reproduit dans Une heme avec…, 2e serie, Gallimard 1924.
REFLEXIONS SUR L'INTELLIGENCE ET SUR SA VIE PROPRE (études pames dans diverses revues de 1918 a 1924) lere edition. Nouvelle Librairie Nationale, 1924. 3e edition, Desclée De Brouwer, 1930, avec quelques corrections. L'étude sur «La politique de Pascal» (chapitre V) a été remaniée et augmentée pour la version anglaise qui figure dans Ransoming The Time (Scribner, New York, 1941).
TROIS RÉFORMATEURS: Luther, Descartes, Rousseau Edition origínale dans le Roseau d'or, Plon, 1925. Nombreuses rééditions avec des notes additionnelles.
«Histoire et métaphysique» {Revue Universelle, 15 juin 1925), á propos de l'ouvrage de Pierre Lasserre sur Renán.
RÉPONSE A JEAN COCTEAU
lere edition en fascicule, Stock, 1926, simultanément avec la Lettre a Maritain de Cocteau.
Réédition des deux textes ensemble, ibid., 1964.
«L'esprit de Ramuz», dans Pour ou centre C.-F. Ramuz, cahier de témoignages. Cahiers de la Quinzaine, 17е serie, Ier cahier. Editions du Siécle, 1926.
«L'apologétique de Jacques Riviere» {Revue Universelle, juillet 1926).
UNE OPINION SUR CHARLES MAURRAS et le devoir des catholiques. Une brochure. Plon, 1926. (Des fragments en ont été reproduits dans Primauté du spirituel).
PRIMAUTÉ DU SPIRITUEL
Edition origínale dans le Roseau d'or (n° 19), Plon, 1927. Nombreuses rééditions avec des additions.
QUELQUES PAGES SUR LÉON BLOY
Cahiers de la Quinzaine, 10е cahier de la 18е serie, á Г Artisan du Livre, 1927.
«Le sens de la condamnation» (de F Action Frangaise), dans l'ouvrage collectif Pourquoi Rome a parlé, Editions Spes, 1927 (pp. 327–385).
«Le thomisme et la civilisation» {Revue de Philosophie, 1928).
Preface au Saint Jean de la Croix du P. Bruno de Jésus-Marie (pp. 7-34), Plon, 1929.
CLAIRVOYANCE DE ROME
par les auteurs de Pourquoi Rome a parlé (en fait rédigé par J. Maritain et D. Lallement), Éd. Spes, 1929.
LE DOCTEUR ANGÉLIQUE
lere edition, Desclée De Brouwer, 1930. Nombreuses rééditions. Le chapitre III avait paru séparément en plaquette en 1923, aux Editions de la Revue des Jeunes, sous le titre: «Saint Thomas, apotre des temps modernes».
RELIGION ET CULTURE
Edition origínale: premier numero de la collection des «Questions
disputées», Desclée De Brouwer, 1930.
2e edition, avec une preface, ibid., 1946.
Reedité en livre de poche (collection Foi vivante) avec «Religion et
culture II» (tiré de Du regime temporel et de la liberté), en 1968.
«Notes sur la personnalité» (Essais etpoémes 1931, Le Roseau d'or).
LE SONGE DE DESCARTES lere edition, Correa, 1932. Réédition, Buchet-Chastel, 1965.
«Les lies», Liminaire de la collection du meme nom dans le Courrier des lies, i, DDB, 1932.
Distinguer pour unir on LES DEGRÉS DU SAVOIR
Edition origínale en deux volumes á tirage restreint et edition courante
en un seul volume, Desclée De Brouwer, 1932.
Rééditions corrigées et augmentées.
La 7е edition (1963), comportant des post-scriptums aux editions
successives, et quelques modifications ou additions, peut etre consi-
dérée comme definitive.
DE LA PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE
«Questions disputées», volume IX, Desclée De Brouwer, 1933.
DU REGIME TEMPOREL ET DE LA LIBERTÉ
«Questions disputées», volume XI, Desclée De Brouwer, 1933.
Manifestes «Pour le bien commun» et «Á propos de la repression des troubles de Vienne» (rédigés par J. M.), Paris, 1934.
SEPT LECONS SUR L'ÉTRE et sur les premiers principes de la raison speculative «Cours et documents de philosophic», Téqui, 1934.
FRONTIÉRES DE LA POÉSIE
(reprise en volume separé d'un essai publié d'abord dans les Chroni-
ques du «Roseau d'or», puis incorporé á la 2e edition á'Art et Scolasti-
que; et suivi ici d'autres essais:
«Dialogues» para aussi au Roseau d'or, «La clef des chants» publié
dans la NRF).
lere edition, Louis Rouart et fils, 1935.
«Un génie catholique» (Vie Intellectuelle, 10 juillet 1935: Hommage a Claudel).
SCIENCE ET SAGESSE, suivi d'éclaircissements sur la philosophie morale lere edition, Labergerie, 1935.
LA PHILOSOPHIE DE LA NATURE, essai critique sur ses frontier es et son objet «Cours et documents de Philosophie», Téqui, 1935.
LETTRE SUR L'INDÉPENDANCE
«Courrier des lies», n° 7, Desclée De Brouwer, 1935.
HUMANISME INTEGRAL
lere edition, Fernand Aubier, 1936.
La premiere version de cet ouvrage avait para en langue espagnole (Madrid, Signo, 1935) sous le titre: Problemas espirituales e temporales de una nueva cristianidad.
La réédition franchise de 1947, chez Aubier, comporte une pagination différente. L'ouvrage a été publié en edition de poche («Foi vivante») en 1968.
Manifesté de protestation d'écrivains catholiques contre le bombardement de Guernica (rédigé par J.M.), 1936.
Preface á Aux origines d'une tragedle, la Politique espagnole de 1923 a 1936, par Alfred Mendizabal (Courrier des lies, Desclée De Brouwer, 1937), pp. 7-56.
«Notes sur la fonction de nutrition» (Revue Thomiste, juillet-septembre 1937).
«Le discernement medical du merveilleux d'origine divine» {Etudes carmélitaines, 1937).
LES JUIFS PARMI LES NATIONS, conference aux Ambassadeurs le 5 février 1938, éditée en brochure aux Editions du Cerf, reprise dans Le Philosophe dans la Cité (Alsatia, 1960), chapitre IV, puis dans Le Mystere d'Israel (Desclée De Brouwer, 1965), chapitre IV.
SITUATION DE LA POÉSIE (en collaboration avec Ra'issa Maritain) «Courrier des lies» n° 12, Desclée De Brouwer, 1938.
QUESTIONS DE CONSCIENCE
«Questions disputées», vol. XXI, Desclée De Brouwer, 1938. La question deuxieme, «L'impossible antisémitisme», a été reprise avec des corrections et additions, sous le titre «Le mystere d'Israel», dans Le Mystere d'Israel, Desclée De Brouwer, 1965.
QUATRE ESSAIS SUR L'ESPRIT dans sa condition charnelle
Bibliothéque Frangaise de Philosophic, Desclée De Brouwer, 1939. Nouvelle edition revue, avec deux appendices, Alsatia, 1956.
DE LA JUSTICE POLITIQUE, notes sur la présente guerre (articles publiés dans les premiers mois de la guerre) Collection «Presences», Plon, 1940.
LE CREPUSCULE DE LA CIVILISATION
(conference prononcée le 8 février 1939 aux Ambassadeurs, publiée d'abord dans Les Nouvelles Lettres) Editions de l'Arbre, Montreal, 1941.
Á TRAVERS LE DESASTRE
lere edition, Éd. de la Maison Francaise, New York, 1941. Edition clandestine, par íes Freres Ribaud, á Gap, 1941. Puis aux Editions de Minuit, 1943. Repris par les Editions des Deux-Rives, Paris, 1946.
CONFESSION DE FOI
publiée d'abord en anglais dans le recueil dü á divers auteurs: I believe (Simon and Schuster, New York, 1939), puis en plaquette aux Editions de la Maison Francaise, New York, 1941. Reprise dans Le Philosophe dans la Cité (Alsatia, 1960), chapitre II.
LA PENSÉE DE SAINT PAUL
Editions de la Maison Francaise, New York, 1941. Reedité á Paris, chez Correa, 1947.
LES DROITS DE L'HOMME ET LA LOI NATURELLE
Editions de la Maison Francaise, N. Y. Collection «Civilisation», n° 1,
1942.
Rééd. Hartmann, Paris, 1945.
CHRISTIANISME ET DÉMOCRATIE Ed. de la Maison Francaise, N. Y, 1943. Hartmann, Paris, 1945.
EDUCATION AT THE CROSSROAD
(texte original anglais) Yale University Press, 1943.
«L'education a la croisée des chemins»
(traduction francaise revue par l'auteur, avec un appendice «Le proble-
me de l'École publique en France») LUF, Egloff, Paris, 1947.
Cet ensemble a été repris, avec une deuxieme partie «L'education de la
personne», dans Pour une philosophie de I 'education, Paris, Artheme
Fayard, 1959.
Nouvelle edition, revue et complétée, avec une preface de Marie-Odile
Métral, Fayard, 1969.
«Sur la doctrine de l'Aséité divine» (Medieval Studies, vol. V, Toronto,
1943; puis Nova et Vetera, juillet-septembre 1967).
«Qu'est-ce que l'homme?» (QLuvres Nouvelles, Éd. de la Maison Francaise, N. Y., 1943).
PRINCIPES D'UNE POLITIQUE HUMANISTE Éd. de la Maison Franchise, Ν. Υ., 1944. Hartmann, Paris, 1945.
DE BERGSON A THOMAS D'AQUIN, essais de métaphysique et de morale
Éd. de la Maison Francaise, Ν. Υ, 1944. Hartmann, Paris, 1947.
A TRAVERS LA VICTOIRE Hartmann, Paris, 1945.
MESSAGES, 1941-1944
Éd. de la Maison Franchise, Ν. Υ, 1945. Hartmann, Paris, 1945.
POUR LA JUSTICE
Éd. de la Maison Francaise, Ν. Υ, 1945.
COURT TRAITE DE L'EXISTENCE ET DE L'EXISTANT Hartmann, 1947.
LA PERSONNE ET LE BIEN COMMUN
«Questions disputées», Desclée De Brouwer, 1947.
RAISON ET RAISONS, essais detaches LUF, Egloff, 1948.
LA SIGNIFICATION DE L'ATHÉISME CONTEMPORAIN «Courrier des lies», Desclée De Brouwer, 1949.
MAN AND THE STATE
(texte anglais original). The University of Chicago Press, Chicago, 1951. Traduction francaise de R. & F. Davril: L'Homme et l'État Presses Universitaires de France, 1953.
NEUF LECONS SUR LES NOTIONS PREMIERES DE LA PHILOSOPHIE MORALE «Cours et documents de Philosophic», Téqui, 1951.
CREATIVE INTUITION IN ART AND POETRY
Pantheon Books, New York, 1953. Traduction fran9aise:
L'Intuition créatrice dans l'art et dans la poésie. Desclée De Brouwer, 1966.
APPROCHES DE DIEU
Alsatia, collection «Sagesse et cultures», 1953.
«Le peché de l'Ange», Revue Thomiste, tome 56 (pp. 197–239). Repris par Beauchesne en 1961 dans l'ouvrage de Charles Journet, Philippe de la Trinité et Jacques Maritain: Le peché de I 'Ange, peccabilité, nature et surnature.
ON THE PHILOSOPHY OF HISTORY
Edited by Joseph W. Evans, Charles Scribner's Sons, New York, 1957. Traduction fran?aise par Mgr Journet:
Pour une philosophie de I'histoire. Editions du Seuil, 1957. Editions
du Seuil, 1959.
REFLECTIONS ON AMERICA
Texte anglais original, Scribner's, N. Y, 1958. Texte francais:
Reflexions sur l'Amérique. Paris, Fayard, 1958.
LITURGIE ET CONTEMPLATION (en collaboration avec Rai'ssa Maritain) Desclée De Brouwer, 1959.
THE RESPONSABILITY OF THE ARTIST
Texte anglais original, Scribner's, N. Y, 1960. Traduction francaise de G. & N. Brazzola:
La Responsabilité de Vartiste. Paris, Fayard, 1961.
LE PHILOSOPHE DANS LA CITÉ Alsatia, 1960.
LA PHILOSOPHIE MORALE, I: Examen historique et critique des grands systemes Gallimard, Bibliotheque des Idees, 1960.
ON THE USE OF PHILOSOPHY Princeton University Press, 1961.
(Des trois etudes qui composent ce petit volume, les deux premieres ont paru en francais dans Le Philosophe dans la Cité; une version francaise de la troisiéme, «Dieu et la Science», a été publiée par La Table Ronde, décembre 1962).
DIEU ET LA PERMISSION DU MAL Desclée De Brouwer, 1963.
CARNET DE NOTES
Desclée De Brouwer, 1965.
«Lettre sur La Philosophie a l'heure du Concite» (Nova et Vetera, octobredécembre 1965).
LE PAYSAN DE LA GARONNE Desclée De Brouwer, 1966. «Vers une idee thomiste de revolution» (Nova et Vetera, avril-juin 1967).
DE LA GRÁCE ET DE L'HUMANITÉ DE JÉSUS Desclée De Brouwer, 1967.
«Faisons-lui une aide semblable á lui» (Nova et Vetera, octobre-décembre 1967).
«Quelques reflexions sur le sacrifice de la messe» (Nova et Vetera, janvierfévrier 1968).
«Reflexions sur la nature blessée et sur l' intuition de Γ erre» (Revue Thomiste, janvier-mars 1968).
«Léon Bloy» (Nova et Vetera, mai-juin 1968).
POÉMES ET ESSAIS de Ra'íssa Maritain, edition en un volume, 1968.
«Quelques reflexions sur le savoir théologique» (Revue Thomiste, janviermars 1969). «Le tenant-lieu de théologie chez les simples» (Nova et Vetera, avril-juin 1969).
«II n'y a pas de savoir sans intuitivité» (Revue thomiste, janvier-mars 1970).
DE L'ÉGLISE DU CHRIST, La personne de l'Église et son personnel Desclée De Brouwer, 1970.
LE CANTIQUE DES CANTIQUES, une libre version pour I'usage privé (hors commerce), Toulouse 1971.
Φ. Коплстон О Жаке Маритене
Жак Маритен (1882–1973), крупнейший католический философ современности, единомышленник Этьена Жильсона, другого современного ему неотомиста и историка философии, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в метафизических областях и на приложении ее к текущей человеческой судьбе. В отличие от установок многих философских знаменитостей нашего века мысль Жака Маритена не ищет открытий, не стремится выразить себя на эффектном языке новой, собственной концепции; напротив, установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный космос в своем прообразе, чем сближается с установками русской философии и, в частности Вл. Соловьева. Именно этот рыцарственный подход к своим профессиональным задачам позволяет Маритену проникать в существо предмета и делать существенные открытия, Впрочем, с характеристикой философских и жизненных принципов этого мыслителя поближе познакомиться поможет очерк Фредерика Коплстона, крупного английского историка философии, католического священника, иезуита, автора монументальной девятитомной «Истории философии», воспроизводящей все эпохи ее развития — начиная от самых ранних древнегреческих мыслителей и кончая основными течениями западной послевоенной философии. Рецензенты оценили его труд как лучший историко-философский текст, имеющийся в настоящее время на английском языке, отметив профессионализм автора, его объективность, широту охвата, вдумчивый критицизм, ясность мысли. В целом работа его выполнена в томистском ключе. Ниже излагается фрагмент одной из глав IX тома «Истории», где автор рассматривает обновление и развитие томизма во Франции, начиная о конца прошлого века.
Р. Галъцева
Франция, по мнению Коплстона, внесла знаменательный вклад в дело возрождения томистской мысли, сумевшей не только сохранить верность своим исходным принципам и убежденность в их обоснованности, но и применить эти принципы к теоретическому анализу и решению современных проблем.
«Жак Маритен и Этьен Жильсон[699], — вот, кто вывел томизм из сравнительно узких и в основном церковных кругов на широкие просторы философской деятельности и сделал его вполне респектабельным в глазах представителей академического мира». Профессор Жильсон стал широко известен благодаря своим историческим изысканиям, добившись уважения и среди тех, кто не особенно симпатизировал томизму. Маритен же — это первый философ, выступивший прежде всего в качестве теоретика. Жильсон, как и приличествует историку, занялся воспроизведением мысли Аквината в ее историческом обрамлении, а значит и в теологическом контексте. Маритен поставил своей целью раскрытие томизма как самостоятельной философии, способной войти в диалог с другими философскими традициями и школами без требования прямого обращения к Откровению и так, чтобы в результате показать пригодность ее принципов для решения проблем наших дней. Если принять во внимание подозрительное отношение к метафизике, которое нередко встречается среди теологов вообще, включая и католических теологов, и если еще напомнить о той естественной реакции католических колледжей и семинарий на недавнюю индоктринацию, которую приравнивали к давлению томистской партии, тогда становится понятно, почему Маритена могут считать старомодным, а его труды уже не популярными, пусть даже они когда-то приносили удовлетворение[700]. Но все это не отменяет того факта, что Маритен внес, наверное, самый крупный вклад в возрождение томизма, начальный импульс которому дала еще в 1879 г. энциклика Папы Льва XIII «Этерни Патрис».
Жак Маритен родился в Париже в 1882 г. Став студентом Сорбонны, он начал искать в естественных науках средство для решения всех проблем, но под впечатлением лекций Анри Бергсона освободился от влияния сциентизма. В 1904 г. Маритен вступил в брачный союз с Раисой Умансовой, тоже студенткой, а в 1906 г. они оба обратились в католичество под воздействием Леона Блуа (1846–1917) — известного французского католического писателя-публициста и решительного критика буржуазного общества и «буржуазной религии». В 1907–1908 гг. Маритен изучал биологию в Гейдельберге у неовиталиста Ганса Дриша. Затем он посвятил себя трудам св. Фомы Аквинского и стал его преданным учеником. В 1913 г. он организовал ряд встреч по философии Бергсона[701], а в 1914 г. ему поручили чтение лекций о современной философии в Парижском католическом институте. Он преподавал также в Торонто в Папском институте средневековых исследований, в Колумбийском университете, а также в Нотр-Даме, где уже в 1958 г. был создан Центр содействия изысканиям, проводимым в духе его мысли. После Второй мировой войны Маритен был французским послом в Ватикане (1945–1948), а после этого преподавал в Принстонском университете. Позднее он вышел в отставку и жил во Франции. Умер Маритен в 1973 г.
Раньше можно было иногда услышать, что если Жильсон исключал так называемую критическую проблему (critical problem) как псевдопроблему[702], то Маритен ее признавал. Однако такое утверждение не соответствует истине. Маритен отвергает критическую постановку вопроса так же, как и Жильсон. Он вовсе не пытается априори доказываать тезис о возможности познания. И он ясно видит, что, как только мы примем круг идей, связанных с Декартовой постановкой проблемы, мы из него уже и не выйдем. Маритен реалист, и он всегда настаивал на том, что, если я знаю Тома, это означает, что действительно есть такой Том, которого я знаю, и что я знаю именно его, а не свою идею о нем[703]. И в то же время Маритен явно принимает критическую проблему в смысле рефлексии разума над своим дорефлексивным знанием и намерения ответить на вопрос, что же такое знание? Если же поставить вопрос абстрактно, достижимо ли знание и каким образом, и попытаться дать на него ответ априори, это будет означать отправиться в никуда. Единственный выход находится там же, где и вход. Именно здесь и можно совершенно корректно достичь знания о знании, в чем и выразится итог рефлексии разума по поводу собственной познавательной деятельности.
Обычно вопрос, что есть знание, предполагает, что существует только один вид знания, тогда как Маритен занимался изучением различных путей познания реальности. Он написал много трудов по теории познания, и, вероятно, самая известная его работа в этой области — это «Степени познания», первое издание которой появилось в 1932 г[704]. Здесь, как и во всех остальных сочинениях, он интерпретировал знание как знание о действительном мире; при этом он оставлял место не только для построения философии природы, но и для столь же реальной метафизики. В «Степенях познания» Маритен подтверждал реальность причинно-следственных связей в естественных науках (хотя об этом думают и по-другому) и оспаривал образы мира, построенные по принципу математических моделей, предлагаемых современной физикой. Они чрезвычайно далеки от нашего обычного опыта и практически совершенно не вмещаемы человеческим воображением. Маритен, конечно, не выступает против математизации физики. «Идеал современной науки — быть экспериментальной в своей основе и дедуктивной по своей форме, и более всего это относится к ее законам, отражающим связи изменяющихся величин».[705] Но, согласно философу, «соединение закона причинности, присущего нашему разуму, и математической концепции Природы привело к созданию в теоретической физике все более и более геометризованных моделей Вселенной; в этих моделях вводятся фиктивные каузальные сущности, опосредованным образом связанные с реальностью (entia rationis cum fumdamento in re)[706]. Их роль состоит в том, чтобы содействовать математическому выводу, и эти каузальные сущности включают в себя очень детальное описание эмпирически определенных реальных причин или условий»[707]. Теоретическая физика, конечно, дает нам научное знание в том смысле, что позволяет предсказывать события и овладевать Природой. Но ее гипотезы прагматичны по своим функциям. Они не дают настоящего знания бытия вещей, их онтологической структуры. И поэтому в работе «Пределы разума» (The range of reason) Маритен критически анализирует взгляды на науку неопозитивистского Венского кружка. Как и следовало ожидать, здесь он отвергает тезис, согласно которому «если что-то не имеет смысла для ученого-естественника, оно вообще лишено смысла»[708]. Ведь что касается логической структуры науки и того, что действительно имеет смысл для естественника, то здесь «анализ, данный Венским кружком», по Маритену, «достаточно точен и хорошо обоснован»[709]. Философ также убежден в том, что, хотя наука конструирует entia rationis — рассудочные сущности, обладающие прагматической ценностью, она вдохновлена желанием познать только реальность, а значит, она подводит к «проблемам, выходящим далеко за рамки математического анализа чувственных явлений»[710].
Теоретическая физика для Маритена — это как бы мост между чисто наблюдательной, или эмпирической наукой и чистой математикой. Это — «математизация чувственного»[711]. Напротив, философия Природы обращается к сущности «подвижного бытия как такового и к тем онтологическим принципам, которые должны объяснять возможность изменений»[712]. Она имеет дело с природой континуума, количества, пространства, движения, времени, телесной субстанции, вегетативной и одушевленной жизни и т. д. Метафизика же связана не с подвижным бытием, а с бытием как таковым. Ее охват поэтому шире и, согласно Маритену, она способна проникнуть глубже. Все это он осмысливает в рамках теории степеней абстрагирования, основанной на Аристотеле и Аквинате. Философия Природы, так же как и естественные науки, абстрагируется от материи как источника индивидуации (иначе говоря, она не обращается к отдельным вещам); но она тем не менее занимается материальной вещью как вещью, которая никак не может существовать без материи и не может без нее постигаться. Математика во многом имеет дело с количеством и количественными отношениями, которые познаются в абстракции от материи, хотя количество и не может существовать без материи. И наконец, метафизика включает в себя знание того, что не только может быть постигнуто без материи, но может без нее и существовать. Она — «чистейшая степень абстракции, потому что она далее всего отошла от ощущений: она открыта к имматериальному, к миру тех реальностей, которые существуют или способны существовать отдельно от материи»[713].
Едва ли нужно напоминать, что Маритен подтвердил идею иерархии наук, идущую от Аристотеля и Аквината. В заданную ими схему он ввел, конечно, и современные естественные науки при всем том, что физика, развившаяся после Ренессанса, уже совсем не та, какой была «физика» в эпоху Аристотеля[714]. Однако как для Аквината, так и для Маритена ничто не может изменить иерархии наук, на самой вершине которой оставляется место для христианской теологии, исходящей из Откровения. Точнее, место теологии — над иерархией, где высшее положение — у метафизики, а ниже идут науки, которые, вслед за Аристотелем, понимаются как знание вещей и их причин.
Никто не станет порицать Маритена за недостаток мужества в выражении своих убеждений. Он признает, конечно, что метафизика «бесполезна» в том смысле, что она умозрительна, а не экспериментальна, и что с точки зрения всех, кто стремится к эмпирической полезности, к усилению господства над природой, метафизика предстает очень жалкой, если ее сравнивать с конкретными науками. Но философ настаивает на том, что метафизика — это цель, а не средство, что она раскрывает перед человеком «подлинные ценности и их иерархию[715], что она дает опору для этики и вводит нас в вечное и абсолютное.
Маритен объясняет, что если он принимает принципы Аристотеля и Аквината, то делает это потому, что сами эти принципы верны, а не потому, что они были получены из рук столь почтенных лиц. Однако тут Коплстон позволяет себе сомнение весьма светского свойства: «Поскольку маритеновская метафизика как воспринятая от св. Фомы неотделима от христианской теологии, то, — укоризненно замечает он, — в отрыве от последней ее не удастся воспроизвести должным образом»[716]. Коплстону также кажется, что Маритен несколько модернизирует Аквината, для которого характерен акцент на esse (бытие в смысле существования), представляя его как «настоящего экзистенциалиста». Однако тут же английский автор признает, что Маритен вовсе не является человеком, принижающим роль «сущностей»: пусть даже разум рассматривает их абстрактно, они на самом деле, по Маритену, «охвачены существованием».
Далее, не ставя задачей излагать здесь томистскую метафизику, автор хочет привлечь внимание читателя к двум следующим вопросам. Первый вопрос уже затрагивался Коплстоном выше.
«Прежде всего, хотя Маритен был менее всего склонен презирать дискурсивный разум и критиковал то, что он считал чрезмерным принижением интеллекта и познавательной ценности понятий у Бергсона, он всегда был готов признать оправданность других путей познания помимо тех, которые нашли свое место в естественных науках. К примеру, он говорил о возможности неконцептуального, предрефлексивного знания. Значит, он утверждал и возможность имплицитного знания Бога, которое может и не осознаваться человеком. Благодаря внутреннему динамизму волевого выбора в пользу добра, а не зла происходит неявное утверждение Бога, который сам есть Добро, влекущее к себе все человеческое существование как к конечной его цели». Это и есть «чисто практическое, неконцептуальное и неосознаваемое знание Бога, которое вполне может сосуществовать с полным теоретическим неведением о Боге»[717]. Так Маритен приходит к тому, что он называет «врожденным знанием». Его, к примеру, можно найти в религиозном мистицизме. Но оно также играет свою роль и в нашем знании других людей. Есть, помимо мистицизма, и еще одна форма такого знания — «поэтическое знание», возникающее «через посредство чувств, которое, воспринимая предсознательную жизнь разума, становится интенциональным и интуитивным»[718] и стремится выразить себя в творчестве. Врожденное знание также имеет значение и в нравственном опыте. Потому что, хотя нравственная философия[719] и относится к области концептуального, дискурсивного и рационального использования разума, отсюда ни в коей мере не следует, что человек приходит к своим нравственным убеждениям именно таким путем. Напротив, нравственная философия предполагает высказывание таких нравственных суждений, которые выражают собой врожденное знание, обеспечивающее соотношение практического разума с сущностной предрасположенностью человеческой природы.
Далее, Маритен попытался развить томистскую социальную и политическую философию и применить ее принципы к решению современных проблем. Если бы Аквинат жил во времена Галилея или Декарта, он мог бы, как полагал Маритен, освободить христианскую философию от аристотелевской механики и астрономии, но при этом он остался бы верен принципам аристотелевской метафизики. А если бы он жил в наши дни, в современном мире, он мог бы освободить христианское мышление от «образов и фантазий, связанных со священной империей»[720], и от устаревших общественных систем преходящего мирского характера. Намечая философскую основу выполнения такой задачи, Маритен предложил ввести то же различение, которое можно найти и в персонализме Мунье, а именно, между «индивидом» и «личностью». Приняв аристотелево-томистскую концепцию материи как источник индивидуации, он описал индивидуальность как «то, что исключает из какого-либо субъекта все, что относится к другим людям», как «узость эго, всегда пребывающего под угрозой и всегда одержимого жаждой обладания»[721]. Личность же — это то, что обеспечивает духовную жизнь души в ее единстве с бытием человека во всей его многогранности, где особо значима самоотдача души в свободе и любви. В конкретном человеческом бытии индивидуальность и персональность, конечно же, срастаются, образуя человека как целое. Но вполне могут быть такие общества, где человек как личность не получает должного уважения и к человеку относятся только как к индивиду. В таких обществах индивиды рассматриваются лишь в качестве частных лиц, а все, что есть универсального в людях, остается в небрежении. Так происходит в случае буржуазного индивидуализма, которому в философском плане соответствует номинализм. В других обществах, однако, универсальному придается столь большое значение, что все частное оказывается ему полностью подчиненным. Это имеет место в разного рода тоталитарных режимах, которым в философском плане соответствует ультрарационализм, признающий реально существующим лишь всеобщее. В социально-политической области можно найти также и аналог «умеренного реализма» св. Фомы, а именно — общество, где удовлетворяются потребности человека в качестве биологического существа, с одной стороны, а с другой — в его основе лежит уважение к человеческой личности как выходящей за рамки биологического и не укладывающейся в те ограничения, которые возникают в любом обществе как мирском образовании. «Человек ни в коей мере не существует для Государства. Само Государство — для человека»[722]. Можно добавить, что во время гражданской войны в Испании Маритен поддерживал республику, чем и навлек на себя немало хулы в определенных кругах. Понятно, что в политике он был скорее слева, чем справа.
Преревод (с сокращениями) выполнен Л.И. Василенко по изданию: F. Copleston. A History of Philosophy. Ν. Υ. etc.: Image book (Doubleday), 1985. В. 3, vol. 9. From Maine de Biran to Sartre, p. 254–260.
Примечания
[1]
Я прекрасно знаю, что понятие «сущность», как и все иные понятия метафизической лексики, было переосмыслено во всецело феноменологической перспективе. И действительно, если мы хотим называть вещи своими именами, мы должны сказать, что в феноменологическом экзистенциализме, восходящем к Хайдеггеру, присутствует глубокий самообман: он состоит в присвоении всей системы понятий, которыми мы обязаны великим метафизикам бытия и которые имеют смысл лишь для реалистического интеллекта, ищущего тайну сущего вне сознания, и использовании их в универсуме феноменальной мысли, в универсуме «явления, которое есть сущность» («L'Etre et le Neant», p. 12). Там они не обладают в действительности никаким значением, но из желания остаться метафизиками их продолжают использовать, перетолковывая их таким образом, чтобы они могли бесконечно умножать свои противоестественные значения. Подобного рода трансцендентальное искажение могло завершиться лишь извращенной метафизикой, а феноменология в ее экзистенциальной форме есть не что иное, как изначально исковерканная схоластика. Впрочем, именно это и составляет ее неоспоримый исторический интерес. Хотя бы в таком состоянии метафизика бытия и схоластика возвращаются в современную философию, или, вернее, они указывают ей на завершение определенного цикла. Отныне мы можем ожидать рождения нового философского цикла — во благо и во зло. И эта исковерканная схоластика, возможно, готовит почву для нового зарождения (по крайней мере там, где земля будет как следует вспахана) подлинной метафизики.
(обратно)[2]
«Я предстаю в одиночестве и в тоске перед уникальным и первичным проектом, составляющим мое бытие…» {J.-P. Sartre. L'Etre et le Neant, p. 77). «Когда я формирую себя в понимании возможного как моего возможного, необходимо, чтобы я признал его существование как цель моего проекта и чтобы я осознал его как себя самого, здесь, в ожидании моего будущего, отделенного от меня небытием» (ibid., p. 79).
(обратно)[3]
J.-P. Sartre. L'Existentialisme est un Humanisme, p. 34.
(обратно)[4]
См.: De Bergson a Thomas d'Aquin. Paris, Paul Hartmann, 1947, chap. VIII, p. 308.
(обратно)[5]
См.: Аристотель. De Coelo et Mundo, lib. III; св. Фома Аквинский. De Veritate, 12, 3, ad 2 et ad 3.
(обратно)[6]
De Bergson a Thomas d'Aquin, p. 309–311. — Безосновательные перетолкования понятий, которыми забавляется феноменологический метод, привели к тому, что слово существовать полностью утратило у экзистенциальных феноменологов свое естественное содержание. Как верно отмечает г-н Мишель Сора (М. Sora. Du Dialogue Interieur. Paris, Gallimard, 1947, p. 30), ex-sistere означает не «выносить себя за свои пределы», а «подниматься над своими причинами» или «над ничто», появляться из мрака небытия, или простой возможности, или потенции.
(обратно)[7]
Относительно картезианской теории идей-картин см.: Le Songe de Descartes. Paris, Correa, 1932, p. 153–163. — Я никогда не отождествлял картезианскую идею с чувственным образом, как полагает г-н Жан Валь, который в этом отношении серьезно грешит против истины (Jean Wahl. Tableau de la Philosophie française. Paris, Fontaine, 1947, p. 228).
(обратно)[8]
Les Degres du Savoir, 4e ed. Paris, Desclee De Brouwer, 1946, p. 188–190.
(обратно)[9]
Les Degres du Savoir, p. 191, note.
(обратно)[10]
De Bergson a Thomas d'Aquin, p. 311.
(обратно)[11]
Св. Фома. In Metaph. Arist, lib. IV, lect. 1, p. 530–533, ed. Cathala.
(обратно)[12]
См.: Sept Lecons sur 1'Etre. Paris, Tequi, p. 35–50.
(обратно)[13]
См.: Ibid., Lecons III, IV.
(обратно)[14]
Или же, что ничуть не лучше, они претендуют, подобно философии Хайдеггера, на рассмотрение бытия, несмотря на то что феноменализируют его, исходя из экзистенции, а точнее, отправляясь от экзистенциальной реальности.
(обратно)[15]
Я не говорю тут, естественно, ни о вербально выражаемых, ни даже о явно мыслимых операциях. Существенно, чтобы они присутствовали здесь имплицитно in actu exercito[12*]. Существуют примитивные языки, где нет слова бытие. Но идея бытия имплицитно присутствует в уме неразвитых людей, пользующихся этими языками. Первая идея, которую образует ребенок, — это не идея бытия. Но идея бытия имплицитно присутствует в первой образуемой им идее.
(обратно)[16]
В момент, когда чувство схватывает чувственно существующее, понятие бытия и суждение «Это бытие существует», которые взаимно обусловливают друг друга, одновременно появляются в интеллекте, как я указывал выше. В первом из всех наших понятий, выделенном ради него самого, метафизический интеллект схватывает бытие в его аналогической полноте и в его свободе по отношению к эмпирическим условиям. И, отправляясь от этого понятия, плодотворность которого неисчерпаема, метафизика формулирует первые деления бытия и первые принципы. Принцип тождества обладает не только «сущностным» или соединительным («Всякое бытие есть то, что оно есть»), но также, и прежде всего, экзистенциальным значением («То, что существует, существует». — См.: Sept Leçons sur l'Etre, p. 105). Когда путем «рефлексии», осуществляемой рассудком, субъект постигает себя как существующего и, в противоположность этому, одновременно постигает существование вещей как внешнее сознанию, то он лишь рефлексивно проясняет уже ему известное. Внешнее существование вещей было ему дано сразу же в интуиции и понятии бытия (т. е. в соответствии с самой аналогичностью данного понятия, таким образом, что бытие схватывалось как существующее в действительности или в возможности, как случайно или необходимо существующее, и так, что в самой непосредственной аналогии бытия — в чувственно существующем и, в более общем виде, в вещах — это внешнее сознанию существование было дано как случайное и не входящее в понятие вещей). Иными словами, нужно различать следующие этапы.
1) «Суждение» (некорректно так именуемое) внешнего чувства и когитативной способности, обнаруживаемое у животных и ориентированное на чувственно существующее, данное в перцепции.
Именно здесь, в сфере чувственности с ее потенциальной, а никак не актуальной ценностью интеллигибельности, «слепой» эквивалент того, что мы выражаем в словах: «Это существует».
2) Образование (в один и тот же момент пробуждения сознания, и притом во взаимной зависимости) идеи («это бытие» или просто «эта вещь», где имплицитно присутствует идея бытия) и суждения, составляющего рассматриваемый объект мысли вместе с актом существования (я говорю не «вместе с понятием существования», а «вместе с актом существования»): «Эта вещь существует» или же «Это бытие существует».
Образуя это суждение, интеллект, с одной стороны, познает субъект как единичный (косвенно и путем «рефлексии над образами»), а с другой стороны, он утверждает, что этот единичный субъект осуществляет акт существования (иными словами, интеллект сам производит с понятием этого субъекта акт, посредством которого он интенционально переживает существование вещи). Это утверждение обладает тем же содержанием, что и суждение внешнего чувства и когитативной способности (но на сей раз явным, доведенным до актуальной интеллигибельности); и интеллект выражает его не посредством рефлексии над образами, а именно посредством того самого «суждения» и той чувственной интуиции, которыми он овладевает, дематериализуя их, чтобы сделать понятными для себя. Он достигает таким образом actus essendi[13*] (осуществляя суждение) — подобно тому как он достигает сущности (мысля ее) — при посредстве чувственной перцепции.
3) Образование идеи существования. — С того момента, как вместе с первым суждением существования таким образом возникает идея бытия: «то, что существует или может существовать», интеллект завладевает, чтобы создать из этого материала объект мысли, актом существования, утверждаемым в первом суждении существования, он составляет себе понятие или представление о существовании (existentia ut significata[14*]).
4) Интуиция первых принципов, в частности принципа тождества («То, что существует, существует», «Всякое бытие есть то, что оно есть»).
5) Только после этого благодаря эксплицитной рефлексии по поводу своего действия интеллект эксплицитно осознает существование мыслящего субъекта; он не просто переживает cogito, он его выражает. И, в противоположность этому,
6) он эксплицитно познает как внешние сознанию бытие и существование, которые ему уже были фактически даны в их существующей вне сознания реальности на этапах 2, 3 и 4.
Этот анализ согласуется с анализом, проделанным о. Гарригу-Лагранжем (R.P. Garrigou-Lagrange. De intelligentia naturali et de primo objecto ab ipsa cognito. - Acta Pontif. Acad. Romanae S. Thomae Aq. Marietti, 1940), в том отношении, что полагает интуицию принципа тождества предшествующей осознанию существования мыслящего субъекта. Он отличается от упомянутого анализа тем, что полагает первое суждение существования (которое обусловливает формирование идеи бытия и обусловлено ею) предшествующим осознанию существования мыслящего субъекта и даже предшествующим интуиции принципа тождества.
(обратно)[17]
Доктрина, изложенная св. Фомой в Комментарии к «De Trinitate» Боэция (in de Trin., q. 5, a. 3, с; см. важное замечание, в котором о. Геже приводит точное содержание этого параграфа по подлиннику рукописи: L.-B. Geiger. La Participation dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Paris, Vrin, 1942, p. 318–319), подтверждает тезис о том, что метафизическое понятие бытия, подобно понятию общего чувства, которое интеллект формирует при первоначальном пробуждении, является эйдетической визуализацией бытия, постигнутого в суждении, в secunda operatio intellectus, quae respicit ipsum esse rei[15*]. Действительно, как показывает эта доктрина, особенность метафизического понятия бытия в том, что оно получено путем абстракции (или отделения от материи), которая осуществляется secundum hanc secundam operationem intellectus[16*]. («Нас operatione intellectus vere abstrahere non potest, nisi ea quae sunt secundum rem separata»[17*].) Если оно может быть отделено от материи соответственно операции суждения (отрицательного), то это объясняется тем, что оно соотнесено в своем содержании с актом существования, обозначенным суждением (положительным) и выходящим за пределы области материальных сущностей — родственного объекта простого восприятия.
В этой статье «De Trinitate» св. Фома сохраняет имя abstractio в строгом смысле за операцией, благодаря которой интеллект рассматривает и постигает обособленно объект мысли, в реальности не существующий без других вещей, оставляемых интеллектом за пределами рассмотрения. (Итак, «еа quorum unum sine alio intelligitur sunt simul secundum rem»[18*].) Когда затем он отличает от абстракции, «общей для всех наук» (первая ступень интенсивной абстракции), и от abstractio formae a materia sensibili[19*], присущей математике (вторая ступень интенсивной абстракции), присущее метафизике отделение (separatio), при котором, поскольку оно осуществляется secundum illam operationem quae componit et dividit[20*], интеллект отделяет одну вещь от другой per hoc quod intelligit unum alii non inesse[21*], - он хочет сказать (как он постоянно учит, например, в своем Комментарии к «Метафизике»), что вещи, являющиеся объектом метафизики, существуют или могут существовать без материи, отделены или могут быть отделены от всякого материального условия в том самом существовании, которое они осуществляют за пределами духа (separatio secundum ipsum esse rei[22*]). Именно сообразно с суждением, что бытие не связано необходимо ни с материей, ни с каким-либо условием ее существования, интеллект абстрагирует бытие от всей материи и составляет себе метафизическое понятие бытия как бытия. Если св. Фома настаивает таким образом на различии между separatio, свойственным метафизике, и простой abstractio, присущей иным наукам, то это означает, что он хочет доказать в противовес платоникам: трансценденталии могут существовать отдельно от материи, а универсалии и математические сущности не могут. «Et quia quidam non intellexerunt differentiam duorum ultimorum [обычная абстракция и математическая абстракция] a primo [метафизическое "отделение"], inciderunt in errorem, ut ponerent mathematica et universalia a sensibilibus separata, ut Pythagorici et Platonici»[23*].
В этих текстах более нечего искать, и они отнюдь не означают, что это separatio должно заменить собой «так называемую абстракцию по аналогии» (третья ступень интенсивной абстракции). Тот факт, что св. Фома применяет здесь слово separatio, а не abstractio (сохраняемое для тех случаев, когда отдельно схватываемый объект не может существовать отдельно), никоим образом не мешает тому, чтобы это separatio, поскольку оно завершается в идее, и в идее, означаемое которой наиболее отделено от материи, было абстракцией в общем или, точнее, пропорциональном смысле слова (но производилось не в сфере простого восприятия сущностей!). Это «отделение» есть аналогическая абстракция бытия.
В самом этом тексте св. Фома, впрочем, применяет слово abstrahere к отделению, соответственному суждению: «Secundum hanc secundam operationem intellectus abstrahere non potest vere quod secundum rem conjunctum est, quia in abstrahendo significatur esse separatio secundum ipsum esse rei, sicut si abstraho hominem ab albedine dicendo: homo non est albus, significo separationem esse in re… Нас igitur operatione intellectus vere abstrahere non potest, nisi ea quae sunt secundum rem separata, ut cum dicitur: homo non est asinus»[24*].
Между трояким различением (triplex distinctio) комментария к «De Trinitate» Боэция и тремя ступенями абстракции Каетана и Хуана де Санто-Томаса[25*] существует различие в словаре, но нет никакого доктринального различия. Доктрина трех ступеней абстракции имеет своим основанием «Метафизику» Аристотеля, где она сформулирована в эквивалентной форме. См.: св. Фома. Comm. in Metaph., Prooemium; lib. VI, lect 1, § 1156–1165; lib. XI, lect. 7, § 2259–2264, ed. Cathala.
Относительно этой доктрины ступеней абстракции см. наши труды: Les Degres du Savoir, p. 71–76, 265–268, 414–432; Sept Lecons sur l'Etre, p. 85–96; Quatre Essais sur l'Esprit dans sa condition charnelle. Paris, 1939, p. 231–232, 237–238.
(обратно)[18]
Цель метафизики — познание причины бытия, общего для десяти категорий, но ее предмет — само это общее бытие: «Quamvis autem subjectum hujus scientiae sit ens commune, dicitur tamen tota de his quae sunt separata a materia secundum esse et rationem. Quia secundum esse et rationem separari dicuntur, non solum ilia quae numquam in materia esse possunt, sicut Deus et intellectuales substantiae, sed etiam illa quae possunt sine materia esse, sicut ens commune. Hoc tamen non contingeret, si a materia secundum esse dependerent»[26*] (In Metaph. Aristotelis, Prooemium).
(обратно)[19]
См.: Каетан. In Sum. theol., I, 2, 1, ad 2; и нашу работу «Songe de Descartes», p. 192–198.
(обратно)[20]
Это относится и к вероучению: «Actus credentis non terminator ad enuntiabile, sed ad rem», — и к науке: «Non enim formamus enuntiabilia nisi ut per ea de rebus cognitionem habeamus, sicut in scientia, ita et in fide»[29*] (св. Фома. Sum. theol., II–II, 1,2, ad 2).
(обратно)[21]
См.: Etienne Gilson. Limites existentielles de la philosophie. - L'Existence. Paris, Gallimard, 1945, p. 80.
(обратно)[22]
См. выше. с. 19.
(обратно)[23]
См.: Sept Leçons sur l'Être, Leçons III–VI.
(обратно)[24]
Св. Фома. De Pot., 7, 2, ad 9.
(обратно)[25]
Sum. theol., I, 3, 4.
(обратно)[26]
Ibid., 1,4, I, ad 3.
(обратно)[27]
Ibid., I, 7, 1.
(обратно)[28]
Ibid., I, 4, 1, ad 3.
(обратно)[29]
Еккл 9: 4.
(обратно)[30]
Sum. theol., I, 3, 6, ad 2.
(обратно)[31]
Sum. theol., I, 4, 2.
(обратно)[32]
Comm. in Libr. de Causis, lectio 6.
(обратно)[33]
См.: Les Degrés du Savoir, p. 734–736.
(обратно)[34]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, p. 312–314.
(обратно)[35]
См.: J.-P. Sartre. L'Être et le Néant, p. 78–81.
(обратно)[36]
Именно по причине этого глубинно экзистенциального характера томистской этики, как бы велика, необходима и фундаментальна ни была в ней роль естественной морали, моральная философия в подлинном смысле, т. е. действительно пригодная для ориентации действия, мыслима здесь лишь при условии, если она принимает во внимание экзистенциальное состояние человечества со всеми его язвами и со всеми заключенными в нем возможностями, — и, следовательно, если она принимает во внимание высшие данные теологии (а также данные этнологии и социологии). См.: Science et Sagesse, p. 228–362.
(обратно)[37]
В действительности существует два практических силлогизма: один вводит в область спекулятивно-практического, другой — в область практико-практического. Первый будет иметь, например, такой вид: «Убийство запрещено законом. Привлекательное для меня действие — убийство. Следовательно, это действие запрещено законом». Заключение выражает правило разума, которое мне известно и от которого я отвращаю взор, когда грешу. Этот силлогизм рассматривает действие и его закон; субъект вторгается сюда лишь для того, чтобы подчиниться всеобщему, как некий индивидуальный х, составляющий часть рода.
Второй силлогизм будет выглядеть, например, так: «Убийство запрещено законом. Это привлекательное для меня действие является убийством и заставляет меня отклониться от высших приоритетов любви. Следовательно, я его не совершу (и да здравствует закон!)». Или же напротив: «Убийство запрещено законом. Привлекательное для меня действие — убийство, и я неудержимо стремлюсь к нему. Следовательно, я его совершу (и тем хуже для всеобщего закона!)».
Во втором силлогизме именно экзистенциальная расположенность субъекта в свободном утверждении своего единственного и неповторимого Я определяет заключение.
(обратно)[38]
«Spiritualis autem judicat omnia: et ipse a nemine judicatur»[41*] (1 Κορ 2: 15).
(обратно)[39]
См.: Sum. theol., II–II, 54, 6, ad 1.
(обратно)[40]
«Totius libertatis radix est in ratione constituta»[42*] (св. Фома. De Verit., 24, 2).
(обратно)[41]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, chap. V («L'idée thomiste de la liberté»).
(обратно)[42]
См.: Les Degrés du Savoir, 7e éd., Annexe IV, deuxième rédaction. «Существование не просто дано, как если бы esse лишь извлекало сущности из небытия и они были подобны картинам на стене, — существование не просто дано, но и осуществляется. И это различие между существованием как данным и существованием как осуществляемым весьма важно для философской теории бытийствования».
Сущность взывает к существованию, но существование не является чем-то детерминированным ею; существование не задано сущностью, оно не входит в сферу сущности; в виде уникального парадокса существование актуализирует сущность, и оно — не просто актуализация того, чем сущность может быть как таковая. «Для осуществления существования необходимо, следовательно, кроме сущности, нечто другое, необходимо основание, или личность, — actiones sunt suppositorum (действия зависят от оснований) — и, в особенности и по преимуществу, акт осуществления существования»; короче говоря, для осуществления существования сущность должна быть дополнена бытийствованием и, таким образом, должна стать основанием. Сущность, следовательно, полагается завершающим ее актом, осуществляющим существование, за пределами простой возможности. Сущность полагается за пределами простой возможности при условии, что она в то же время будет переведена бытийствованием в состояние субъекта, или основания, способного осуществлять существование.
Следовательно, по своей сути бытийствование призвано перевести сущность в «состояние осуществления существования со свойственной ему некоммуникабельностью индивидуальной природы. Благодаря бытийствованию индивидуальная природа, обращенная к существованию как субъект, или основание, способный осуществить существование, обретает способность перевести в экзистенциальный порядок, в область существования даже некоммуникабельность, которая характеризовала ее в сфере сущности и как индивидуальную природу, отличную от всех иных. Бытийствование делает сущность (ставшую основанием) способной существовать per se separatim[45*], поскольку оно дает индивидуальной природе (ставшей неким основанием) возможность осуществить существование».
«Следовательно, бытийствование конституирует новое метафизическое измерение, актуализацию или позитивное совершенствование, но как состояние (насколько "состояние" противоположно "природе") или модус завершенности. Именно так мы понимаем — не без некоторых серьезных видоизменений — позицию Каетана. Отметим, что рассматриваемое состояние есть состояние активного осуществления, посредством которого сущность выходит за рамки сущностного порядка (завершаемого в этом смысле) и вводится в порядок экзистенциальный, — состояние, благодаря которому дополненная таким образом сущность обращена к существованию не только для его обретения, но и для его осуществления и составляет отныне центр экзистенциальной и действенной активности, субъект, или основание, который осуществляет одновременно присущее ему субстанциальное esse и различные типы акцидентального esse, свойственные действиям, которые он производит благодаря своим возможностям и способностям».
«И когда субъектом, или основанием, является личность, бытийствование, в силу того что "завершаемая" им или "в высшей степени законченная" природа есть природа интеллектуальная — будь то чистый дух или дух, оживляющий тело (в этом случае тело бытийствует через бытийствование духа), — приносит с собой более высокое позитивное совершенство; можно сказать, что тогда оно есть состояние активного и автономного осуществления, присущее целостности, объемлющей самое себя (в том смысле, что тотальность присутствует в каждой из частей) и, следовательно, внутренней по отношению к себе самой и владеющей собой. Владея собой, такая целостность присваивает себе — в смысле наивысшей полноты и удвоения — существование и осуществляемые ею действия: они не только от нее, но и в ней — в ней, ибо они являются составной частью характерного для личности владения собой. Все отмеченные нами черты — онтологического порядка, они связаны с онтологическими глубинами субъективности. Здесь мы имеем онтологические основания свойств личности в моральной сфере, ее власти над своими действиями, осуществляемой через свободу воли, ее стремления к свободе автономии и ее прав, — эти права касаются благ, которые ей положены, так как принадлежат к упомянутой нами сфере владения собою, распоряжения собой или самодетерминации».
(обратно)[43]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, chap. VI («Spontanéité et Indépendance»).
(обратно)[44]
См.: Quatre Essais sur l'Esprit dans sa condition charnelle, chap. III («L'Expérience mystique naturelle et le Vide»).
(обратно)[45]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, p. 160–161.
(обратно)[46]
См.: Jacques et Raïssa Maritain. Situation de la Poésie, 2e éd. Paris, Desclée De Brouwer, 1947.
(обратно)[47]
См.: Les Degrés du Savoir, p. 432–447.
(обратно)[48]
Необходимо отметить, что, употребляя слово «субъект» применительно к Богу, мы используем его не в смысле способности принимать формы или акциденции (в этом смысле Бог очевидно не является субъектом, см.: Sum. theol., I, q. 3, a. 6, 7); мы используем его в современном значении — в значении бытийствования и Self[48*]. В этом смысле слово «субъект» подобно слову «ипостась», имеющему ту же этимологию и формально-преимущественно относимому к Богу (см.: Sum. theol., I, q. 29, a. 3).
(обратно)[49]
Ин 1: 18.
(обратно)[50]
См.: Les Degrés du Savoir, p. 478–484.
(обратно)[51]
W. Somerset Maugham. The Summing up. London, Doubleday, 1938, § 5. — «Для себя я — самая значительная личность на свете, хотя я и не забываю, что, не говоря уже о такой грандиозной концепции, как Абсолют, но даже просто с точки зрения здравого смысла, я ровно ничего не значу. Мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал»[50*].
(обратно)[52]
«— Ты, я погляжу, завираешься все больше, — сказал старший распорядитель. — Чтоб тебе поверить, надо тут же забыть все, что ты утверждал раньше… "Невозможно оправдываться, когда тебе не хотят верить", — подумал Карл и решил вовсе распорядителю не отвечать. Он знал: что бы он сейчас ни говорил, все будет истолковано превратно, и лишь чужой прихоти предоставлено здесь судить о добре и зле» (F. Kafka. America. New York, 1946, p. 214–215[51*]).
(обратно)[53]
См.: La Personne et le Bien commun. Paris, Desclée De Brouwer, 1947, p. 34.
(обратно)[54]
Une nouvelle Approche de Dieu. — «Nova et Vetera», avril-juin, 1946 (Raison et Raisons, chap. VII).
(обратно)[55]
Хуан de Санто-Томас. Cursus theol., t. II, disput. 9, a. 3.
(обратно)[56]
Св. Петр Дамиани. Послание IV, De Omnipotentia, cap. 8.
(обратно)[57]
Св. Фома. In I Sent., dist. 38, 9, 1, a. 5.
(обратно)[58]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, chap. VII («Saint Thomas d'Aquin et le Problème du mal»).
(обратно)[59]
De Malo, q. 1, a. 3.
(обратно)[60]
См.: Sum. theol., I–II, 79, 2, ad 2: «Homo est causa peccati». - Ibid., 112, 3, ad 2: «Defectus gratiae prima causa est ex nobis»[54*].
(обратно)[61]
Sine Me nihil potestis facere[55*] (Ин 15: 5).
(обратно)[62]
См.: Sum. theol., I, 63, 1.
(обратно)[63]
Если представленное здесь метафизическое построение может быть в какой-то мере интересным для теолога, возможно, будет небесполезным дополнительно уточнить его значение.
Поскольку Бог (единственное, кроме самой воли, начало, способное приводить ее в движение) является первопричиной всего, что сотворенная воля совершает благого, и точно так же — первопричиной всего, что есть бытие и полнота бытия, очевидно, что никакое благое действие, так или иначе связанное со свободой воли, не может осуществиться без непреодолимого божественного побуждения. Но поскольку сотворенная свобода по природе своей погрешима, очевидно также, что непреодолимое трансцендентное божественное побуждение должно обычно предваряться преодолимым трансцендентным побуждением (не говоря уже о тех разнообразных воздействиях на существа — увещеваниях, благих примерах и т. д., - которые заставляют стремиться к благу и которые мы тоже относим к преодолимым побуждениям): и это преодолимое побуждение, подобное частице живительного сияния, в котором купается сотворенная воля, само по себе приносит плод — если только оно не преодолевается через свободное отрицание, — превращаясь в непреодолимое побуждение, которому оно подчинено и к которому оно стремится. Итак, оно либо преодолевается через отрицание со стороны свободной воли, либо приносит свой плод, увенчиваясь непреодолимым побуждением.
С точки зрения их моральной цели преодолимое воздействие и воздействие непреодолимое, побуждающие, будь то без жесткой детерминации или непреложным образом, к определенному благому акту, отличаются от всеобщего воздействия, посредством которого божественная причинность вызывает активность всего сущего, и в частности активизирует физический динамизм воли.
Именно как решающее и необусловленное, трансцендентное непреодолимое побуждение обладает специфическим отличием от трансцендентного преодолимого и определенным образом направленного побуждения, ему предшествующего (по крайней мере в смысле естественного первенства); и если в тот самый момент, когда ее динамизм вступает в действие, свободная воля не подвергает отрицанию влияние преодолимого побуждения, то в этот самый миг оно сменяется непреодолимым побуждением, в котором оно приносит плод, и, активизируемая непреодолимым побуждением, свободная воля производит в сфере существования нечто морально благое. Согласно этому метафизическому анализу, различие между преодолимым и непреодолимым побуждением относится ко всем моментам динамики свободной воли, которая может произвести нечто благое только под влиянием непреодолимого побуждения.
После этого ясно, что если рассматривать наиболее значимое в этой динамике, а именно сам акт свободного выбора или предпочтения, то «преодолимым побуждением» можно назвать все, что подготавливает его к тому, чтобы он был благим, включая каузальный или направляющий импульс благих актов, которые относятся к свободной воле, но не суть еще предпочтение. Я подразумеваю, например, каузальный или направляющий импульс всего того, что является благим в размышлении, предшествующем предпочтению; тогда название «непреодолимое побуждение» следует оставить для того, которое заставляет совершать благой выбор.
[В первом издании настоящей книги это примечание сопровождалось долгим обсуждением, которое меня теперь совершенно не удовлетворяет. Я полностью отказался от него в последующей работе «Бог и попущение зла» («Dieu et la permission du mal», 1963), где утверждения четвертой главы «Краткого трактата», как я надеюсь, уточнены, прояснены и защищены более полно и детализированно. Да будет мне позволено воспроизвести здесь страницы из книги «Бог и попущение зла», где я даю объяснения по этому поводу: ]
«Я рассказу вам историю этого комментария. Моя книга была уже завершена и отправлена издателю, когда я имел удовольствие встретить в Кане о. Лабурдета и о. Леруа, с которыми я поспешил проконсультироваться относительно предложенных мною новшеств. При этой беседе присутствовал Луи Гарде.
Из уст о. Лабурдета я вскоре услышал теологическое возражение: "Всякое божественное побуждение, — произнес он, — непреложно производит в душе определенный эффект или приводит душу в определенное состояние. Что же такое ваше преодолимое побуждение, которое может не достичь этой цели? Какой эффект может оно непреложно произвести в душе?"
Вопрос был серьезным. Но он был посторонним по отношению к моей проблематике, и должен признаться, что я его проигнорировал. Дабы ответить на него, я прибавил к доказательствам написанный в спешке и неудачно концептуализированный комментарий, содержащий неоправданную и недопустимую дихотомию между действием и спецификацией. Именно это примечание, ставшее следствием моей оплошности, позволило о. Жану-Эрве Никола десятью годами позднее обвинить мое "преодолимое побуждение" в том, что оно есть недифференцированное божественное побуждение. Absit! Боже упаси! Я никогда не признавал недифференцированного божественного побуждения.
Моим несчастьем было то, что при составлении этого комментария я не провел разграничение, как это следовало сделать, между эффектом, который божественное побуждение производит в душе, и конечной целью, к которой оно стремится. Попытаемся теперь исправить эту ошибку, и да поможет нам Бог миновать Сциллу и Харибду!
Ясно, что преодолимое побуждение по определению является побуждением, которое может не достигнуть своей конечной цели. Что же до эффекта, который оно, будучи божественным побуждением, непреложно производит в душе, то это просто движение или стремление к той же конечной цели, стремление, также преодолимое.
Конечная цель, на которую направлены одновременно и преодолимое побуждение, и вызываемое им в душе стремление, — это морально благой акт (в особенности акт благого выбора), осуществляемый свободной волей.
С другой стороны, когда я говорю о движении и стремлении в душе, то рассуждаю о все более и более признаваемых сегодня психологических реалиях (они могут зависеть в нас от чего угодно — от познанной духом истины, от соображений практической мудрости, от естественного или сверхъестественного вдохновения, от какой-либо нависающей над волей тяжести, от любви, желания, привязанности и даже от давления бессознательного, или же от полученного совета, от какого-либо примера, от прочитанного и т. д.). Все эти вещи могут вызвать под божественным влиянием движение или определенное стремление к добру, к некоторому благому выбору. Такое движение или стремление к благу (и одновременно к рассмотрению правила), порождаемое в нас под божественным влиянием каким-либо из описанных выше обстоятельств, и есть эффект, произведенный в душе преодолимым побуждением: эффект, который сам обнаружит свою преодолимость, если будет преодолено то побуждение, от которого он исходит, и произойдет это в тот же момент.
И если это преодолимое побуждение действительно преодолевается, то что его преодолевает? Мы уже видели, что это — негативная инициатива сотворенной воли, свободное нерассмотрение правила, принцип морального зла, хотя сама по себе эта инициатива еще не есть вина.
Мы также отмечали следующее: если преодолимое побуждение не преодолено, оно уступает место само по себе, подобно цветку, уступающему место плоду, непреодолимому побуждению, под воздействием которого будет непреложно и свободно произведен благой акт.
А если оно преодолено? Если оно преодолено, тогда оно попросту более не существует, подобно тому как прекращается стремление превратится в плод у цветка, тронутого морозом. Преодолимое побуждение к моральному благу перестает существовать, чтобы уступить место тому побуждению (как бы его назвать — "ординарным" или "общим"), при посредстве которого Бог движет всеми вещами, побуждению, разумеется, отнюдь не недифференцированному, а полностью дифференцированному как таковому, ведущему к действиям, к которым вещи предрасположены по своим возможностям в определенных заданных условиях, желаемых или допускаемых божественным провидением. Констатируем, что, когда всякая подчиненность моральному благу уничтожается от негативной инициативы сотворенного существа, преодолимое побуждение к моральному благу уступает место простому предпобуждению ко всему онтологическому в акте выбора — греховного, — который будет свершен» («Dieu et la permission du mal», p. 57–59).
Дабы заключить, позвольте сделать еще одно замечание, которое, однако, столь очевидно, что кажется излишним: мы, без сомнения, изгнали всякую тень молинизма, как только мы осознали, что если преодолимое побуждение не преодолевается свободным отрицанием сотворенного существа, то оно уступает место специфически отличному от него непреодолимому побуждению, которое приносит плод само по себе и через которое дается морально благое действие; как только мы осознали, что не-отрицание, вследствие которого преодолимое побуждение дает свой плод в непреодолимом побуждении, не предполагает ни малейшей доли участия в божественном побуждении со стороны сотворенного существа (см. ниже прим. 64).
Эти объяснения, возможно, продемонстрируют, каким образом метафизические понятия преодолимого и непреодолимого побуждения могут служить подосновой теологических понятий достаточной благодати и благодати действенной и способствовать на своем, более низком, уровне рациональному освещению этих понятий.
(обратно)[64]
Не препятствовать преодолимому побуждению — значит дать ему возможность самому принести плод и угаснуть в непреодолимом побуждении, благодаря которому совершается благой акт и в самом акте выбора воля действенно сообразуется с правилом.
Тут следует отметить, что, хотя «не отрицать» и «рассматривать правило» практически сводится к одному и тому же, однако формально существует четкое различие между тем и другим, и первая формальность служит условием второй. «Не отрицать» связано с первичной инициативой, которую существо может проявить и которой оно не проявляет; «не отрицать» означает, что существо само ничего не делает. Ничто не исходит от него как от первопричины. Для того чтобы не отрицать, не требуется реализации его способности уничтожающей первопричины! Эта способность попросту не реализуется; со стороны существа как первоинициативы нет ничего.
Напротив, «рассматривать правило» связано со вторичной инициативой, проявляемой существом под воздействием первичной божественной инициативы (которая сначала выражается через преодолимое побуждение и которая реализуется в непреодолимом побуждении, при условии если существо не ввело отрицание). Если иметь в виду момент, предшествующий акту выбора, то «рассматривать правило» означает, что существо совершает под влиянием преодолимого побуждения определенное действие, которое еще не является надлежащим или морально благим действием (так что в данный момент, в противоположность тому, что происходит в случае порочного акта, нет никакой онтологической предпосылки надлежащего морального акта, обусловленной тварной первичной инициативой); если же иметь в виду момент совершения акта выбора, то это означает, что существо действует (морально) под влиянием непреодолимого побуждения, которому уступило место преодолимое побуждение, так как оно не было преодолено. Все в этом внимании, свободно обращенном на правило, исходит от Бога как первопричины, и все исходит от сотворенного существа как причины вторичной, так что со стороны сотворенного существа нет иного условия, кроме несвершения ничего по своей первичной инициативе как первичной отрицательной причине.
Никоим образом нельзя утверждать, что малейший вклад со стороны сотворенного существа делает непреодолимым преодолимое побуждение: само преодолимое побуждение (в силу собственного тяготения к этому, собственной изначальной направленности) уступает место непреодолимому побуждению и в нем дает свой плод, потому только, что сотворенное существо само по себе ничего не совершило. «Не отрицать» абсолютно ничего не прибавляет к божественному побуждению. Сотворенное существо, которое вводит отрицание, «само себя обособляет», обрекая себя на зло и грехопадение, поскольку берет на себя первичную инициативу небытия. Тот, кто не подвергает отрицанию, не сам определяет свою судьбу, не сам покоряется власти Божией, поскольку он не берет на себя никакой первой инициативы относительно бытия, или блага, — он просто не делает ничего по собственной первичной инициативе, не вносит ничего лишь от себя одного. Это божественная воля от века предопределяет его судьбу, покоряя его власти Божией ante praevisa mérita[56*] через первичное, но условное призвание, которое распространяется на всех людей без исключения и которое (если он именно не делает ничего по собственной первичной инициативе, что не предполагает ни малейшего действия, ни малейшей заслуги) подтверждается окончательным призванием, безусловно выделяющим его для конечного осуществления (см. далее с. 62–63).
«Deus omnipbtens omnes homines sine exceptione vult salvos fieri (1 Тим 2: 4), licet non omnes salventur. Quod autem quidam salvantur, salvantis est donum; quod autem quidam pereunt, pereuntium est meritum»[57*] (Conc. Carisiacum, Denzinger — Bannwart, 318). «Deus namque sua gratia semel justificatos non deserit, nisi ab eisprius deseratur»[58*]. (св. Авг. De nat. et gratia, cap. 26). Conc. Tridentinum, Denzinger — Bannwart, 804.
(обратно)[65]
См.: св. Иоанн Дамаскин. De fide orthodoxa, lib. II, cap. 29; св. Фома Аквинский. De Veritate, 23, 2 et 3; Хуан дe Санто-Томас. Cursus theol., t. III, disp. 5, a. 8. — Когда теологи различают в Боге предшествующую и последующую волю, то они не утверждают тем самым, что в Боге есть два различных акта воли, а мыслят одно простое воление в чистом акте, которое имеет в качестве цели либо нечто желаемое первично, или изначально, и таким образом, что за желанием не обязательно воспоследует эффект, либо нечто желаемое окончательно и таким образом, что эффект воспоследует за желанием с непреложностью. Это выражается, сообразно с нашим человеческим способом понимания, через виртуальное различие между волей, именуемой предшествующей, и волей, именуемой последующей (или, на нашем метафизическом языке, между волей, именуемой первичной, и волей, именуемой окончательной).
(обратно)[66]
См. 1 Тим 2:3: «Deus omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire»[59*].
(обратно)[67]
Мы не должны касаться здесь этих проблем. Мы хотели бы только сделать два замечания. С одной стороны, сфера благодати является областью высшей свободы и высшей трансцендентности Deus excelsus, terribilis[60*], который не совершает несправедливости по отношению к кому бы то ни было, давая одному более, нежели то, что он, также в виде дара, дает другому, и который, направляя сотворенные свободные существа в их земном пути, может использовать, когда ему возблаговолится, исключительные пути, превосходящие обычное состояние, требуемое их природой, например, сразу ниспосылая некоторым из них (я подразумеваю Павла на пути к Дамаску) непреодолимое побуждение, дабы они обратились.
С другой стороны, в том, что касается изначальной тайны предопределения и возможного применения теологом означенных здесь метафизических предпосылок, мы хотели бы отметить, что эти метафизические предпосылки, как мы уже заметили выше, в примечании 64, находятся в строгом соответствии с тем, что говорит Священное Предание относительно этой тайны. Сотворенные существа, которые, согласно изложенной нами концепции, от века предопределены к вечной жизни ante praevisa merita первичной, или «предшествующей», подтвержденной волей, после того как они не проявили инициативы небытия в решающий момент, окончательной, или «последующей», волей были вписаны в книгу жизни до сотворения мира; и о них можно сказать словами св. Павла: «quos praedestinavit, hos et vocavit, et quos vocavit, hos et justificavit: quos autem justificavit, illos et glorificavit»[61*] (Рим 8: 30).
(обратно)[68]
В собственном смысле специфической цели познания. См.: св. Фома. Comm. in Metaph., lib. XII, lect. 11, § 2614–2616 (éd. Cathala), относительно знаменитого текста Аристотеля, «Met.», XII, 9, 1074 b 29–35.
(обратно)[69]
«Nude terminativum et materiale objectum»[63*] (Хуан де Санто-Томас. Curs, theol., t. II, disp. 17, a. 2).
(обратно)[70]
См.: Хуан де Санто-Томас. Curs, theol., t. III, disp. 4, a. 3.
(обратно)[71]
Этот принцип не является специфическим для св. Фомы, он существенен для католической веры. «Deus non est auctor mali, quia non est causa tendendi ad non esse»[64*] (св. Августин. Quaest., lib. 83, q. 21); «Deus est auctor mali quod est poena, non autem mali quod est culpa»[65*] (Sum. theol., I, 49, 2); «Deus non potest esse causa peccati»[66*] (ibid., 63, 5). «Deus nullo modo est causa peccati, nec directe nec indirecte»[67*] (I–II, 79, 1).
(обратно)[72]
«Malum non habet in Deo ideam, neque secundum quod idea est exemplar, neque secundum quod est ratio»[68*] (Sum. theol., I, 15, 3, ad 1).
(обратно)[73]
Именно здесь, в допущении осуществления зла, имеет место понятие попускающего решения (предполагающего, что общее побуждение, которое стимулирует всякий физический порядок, не распространяется на физическую сторону порочного акта).
(обратно)[74]
См.: Sum. theol., I, 49, 2.
(обратно)[75]
См.: Frontières de la Poésie («La Clef des Chants»), p. 189–192. — Стр. 191, строка 9: следует читать «отсутствие» вместо «лишенность».
(обратно)[76]
См.: Sum. theol., I, 19, 3; Summa contra Gentiles, lib. I, cap. 81–83.
(обратно)[77]
Воля Бога не является, как наша воля, некой «возможностью» или «способностью», производящей действия: она — чистый акт. В ней нет такого акта воли, который был бы обусловлен другим актом воли или создавшимся обстоятельством, — например, акта воления наказания, налагаемого на грешное существо, который был бы обусловлен совершенным им грехом. Вечное воление, посредством которого Бог необходимо желает своей собственной благости и которое есть само его бытие, свободно, в щедром преизбытке, делает определенные акты и определенные события желаемыми или дозволяемыми — желаемыми и дозволяемыми относительно некоторой цели или в зависимости от некоторого обстоятельства и некоторого условия; при этом всякая случайность и всякая обусловленность относятся к самим обстоятельствам.
(обратно)[78]
Я говорю здесь modo humano[69*] и сообразно с чистыми различениями разума. На самом деле не существует ничего, что было бы желаемо Богом необусловленно. Но если стать на человеческую точку зрения временного существования, то тогда по отношению к такому-то моменту времени, когда такое-то событие желаемо или дозволено, под «необусловленно желаемым благом» будет пониматься благо, желаемое сообразно с типами и заданностями, которые еще не установлены в рассматриваемый момент времени в силу свободных отрицаний, способных вмешаться и дать место иным божественным дозволениям. Все навечно установлено в вечном плане, в котором не присутствует последовательность и который охватывает все времена. Но нам дозволено — хотя от этого мало проку, — для того чтобы составить себе определенное представление об этом вечном плане и запечатленных в нем предначертаниях, вводить различаемые разумом моменты, необходимые для нашего человеческого понимания.
(обратно)[79]
Св. Фома в «De Regno» оправдывает грех Брута. Но Данте помещает его вместе с Иудой на самый глубокий уровень преисподней. Здесь, только в интересах рассуждения, мы принимаем сторону Данте и предполагаем, что Брут был преступником.
(обратно)[80]
«Deus gloriam suam quaerit non propter se, sed propter nos»[70*] {св. Фома Аквинский. Sum. theol., II–II, 132, 1, ad 1).
(обратно)[81]
«Mundus totus in maligno positus est» (1 Ин 5: 19).
(обратно)[82]
Benjamin Fondane. Le Lundi existentiel et le Dimanche de l'histoire. - L'Existence. Paris, Gallimard, 1945, p. 35
(обратно)[83]
Рим 7: 14–15, 24.
(обратно)[84]
См.: Max Brod. Kierkegaard, Heidegger et Kafka. — «L'Arche», novembre 1946.
(обратно)[85]
«Таким образом, ничто есть тот разлом в бытии, то ниспадение "в-себе" к себе, благодаря которому конституируется "для-себя"» (J.-P. Sartre. L'Être et le Néant, p. 121). «"Для-себя" связано, таким образом, с освобождающей деструкцией "в-себе", и "в-себе" уничтожает и поглощает себя в попытке самообоснования. Оно, таким образом, не составляет субстанции, атрибутом которой было бы "для-себя" и которая порождала бы мысль, без того чтобы быть поглощенной самим этим порождением. Оно просто остается в "для-себя" как воспоминание о бытии, как его не поддающееся обоснованию присутствие в мире. "В-себе-бытие" может обосновать собственное небытие, но не свое бытие; в своей декомпозиции оно уничтожает себя, превращаясь в "для-себя", которое становится как таковое своим собственным основанием; но его случайность как "в-себе" неуловима» (ibid., p. 127).
(обратно)[86]
Coopération philosophique et Justice intellectuelle. — «Revue Thomiste», sept.-dec. 1946. (Raison et Raisons, 1947, chap. IV.)
(обратно)[87]
Быт 32: 29.
(обратно)[88]
См. 1 Кор 1: 28: «Et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea, quae non sunt, ut ea quae sunt destrueret»[75*].
(обратно)[89]
De Veritate, 5, 2.
(обратно)[90]
См. прим. 1.
(обратно)[91]
См.: Science et Sagesse, chap. III et Éclaircissements.
(обратно)[92]
См.: De la Philosophie chrétienne. Paris, 1932; Science et Sagesse. Paris, 1935.
(обратно)[93]
См.: De Bergson à Thomas d'Aquin, p. 317.
(обратно)[94]
См.: Ibid., p. 316.
(обратно)[95]
См.: Ibid., p. 133–134.
(обратно)[96]
См.: Jean de Saint-Thomas. Les Dons du Saint-Esprit, trad. par Raïssa Maritain. Paris, 2e éd., 1950, p. 124.
(обратно)[97]
См. Иер 3: 22–23.
(обратно)[98]
Быт 32: 29.
(обратно)[99]
Дионисий Ареопагит. О божественных именах, I, 6 (lectio 3 у св. Фомы). Ср. Еф 1:21.
(обратно)[100]
R. Fernandez. L'Intelligence et M. Maritain. — «Nouv. Revue française», 1er juin 1925.
(обратно)[101]
Порфирий. Жизнь Плотина, II, 25. Порфирий рассказывает нам, как один египетский жрец, прибывший в Рим, предложил Плотину показать духа, который в нем обитает, и он же вызвал этого демона, который оказался богом. Египтянин, прибавляет Порфирий, «тотчас запретил и о чем-либо спрашивать этого бога, и даже смотреть на него, потому что товарищ их, присутствовавший при зрелище и державший в руках сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил их. Понятно, что, имея хранителем столь божественного духа, Плотин и сам проводил немало времени, созерцая его своим божественным взором. Поэтому он и книгу написал о присущих нам демонах, где пытается указать причины различий между нашими хранителями» (Жизнь Плотина, X. Пер. М.Л. Гаспарова).
// —
(обратно)[102]
Медитируя, душа становится Богом «интенционально» (secundum esse intelligibile)[6*], но не субстанционально, однако она составляет с ним реальное единство (secundum rem[7*]), потому что по своей бесконечной Божественной природе сама она непосредственно актуализует дух в сверхчувственном порядке, который она постигает и созерцает. Сверхъестественное постижение, совершающееся в лучах славы, подобно руке благочестивого, удерживающей Бога.
(обратно)[103]
Louis Massignon. Al Hallâj martyr mystique de l'Islam, exécuté à Bagdad le 26 mars 922. Paris, Geuthner, 1922, t. I, p. 9, 306. Мы цитируем здесь аль-Халладжа, потому что, насколько можно проникнуть в тайну сердца, великий мусульманин, осужденный за то, что учил о союзе любви между Богом и человеком и что до конца свидетельствовал о своем желании следовать за Христом, получил, согласно заключению многих, благодать и дары, оставаясь неповрежденным (он принадлежал «душе» Церкви), и, следовательно, мог быть вознесен в подлинной мистической медитации; к такому выводу пришел о. Марешаль в своей рецензии на великолепную работу г-на Луи Массиньона (J. Maréchal. Recherches de science religieuse, mai-août 1923).
(обратно)[104]
Jean Baruzi. Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, 2e éd., p. 230.
(обратно)[105]
См.: Dom Phil. Chevallier. Vie Spirituelle, mai, et R.P. Garrigou-Lagrange. Ibid., juillet-août, 1925; и небольшой по объему труд: Roland Dalbier. Saint Jean de la Croix d'après M. Baruzi (éd. de la Vie Spirituelle).
[К чести Жана Барюзи следует признать, что во втором издании своей книги он изъял некоторые шокирующие места, а его предисловие показывает, что сегодня он лучше понимает широту и сложность затронутых им проблем. Однако в основном его мысль не претерпела изменений. Не говорит ли он нам снова (с. 674), что «когда мистик достигает этой познавательной чистоты, он отходит от того, что Леон Брюнсвик в результате глубоких наблюдений называет "натуралистической психикой", и, наоборот, приближается к "интеллектуалистскому идеализму"»? Неудивительно, что, не зная самой сути мистики св. Иоанна Креста, он ее сближает (по случайным аналогиям, принятым за фундаментальные, с. 676–677) с мистикой Плотина (которая, однако, и сама далеко отстоит от того, что Леон Брюнсвик называет «интеллектуалистским идеализмом») и считает, что независимо от любого влияния Иоанн Креста сближается с неоплатонизмом «самым тайным движением мысли» (с. 677).
В предисловии к этому, второму изданию он отрицает, что когда-либо имел намерения «переложить план мистический в план метафизический» (с, III) или представить «Иоанна Креста погруженным в Божество, противящееся живому Богу христианства» (с. XIII). Что касается нас, то мы критиковали не его намерения, а его философию и обусловленные его интерпретации.
Хотя он честно отметил, что «этот божественный генезис осуществляется в лоне христианства» (с. 656), вся его книга задумана так, будто это случайность (по отношению к мистическому опыту Иоанна Креста): действительно, это христианский опыт, но произошло слияние, некий синтез того, что относится главным образом и непременно к мистике, и того, что относится к собственно христианству. «Душа безгранична, и сам Бог тоже безграничен. Но обнаженная душа и Бог сочетаются здесь с душой, отмеченной мистической благодатью, с Богом в трех лицах теологического христианства.!…] Синтез осуществился в нем более живительно, чем, быть может, в любом из католических мистиков, потому что к сильной любви к Богу, который есть Отец, Сын и Святой Дух, прибавилось слияние с основным Божеством, с "божественностью", хотя это Слово отсутствует в его языке» (с. 674–675. Курсив наш).
Когда философ обдумывает и описывает историю другого мыслителя, он подвергается опасному искушению, полагая, что сможет раскрыть истинный смысл его натуры, чего не смог сделать сам автор. История напоминает философу, что у нее нет другого Бога, кроме Бога, и что не в нашей власти вновь порождать новые творящие Идеи. При подобной попытке существует риск навязать герою, которым восхищаешься, поклонение своим собственным богам. По мнению Барюзи, самый истинный порыв Иоанна Креста был устремлен к чистому познанию, которое, превосходя в бесконечности (через беспрерывное саморазрушение знания) все воспринимаемые данные и все умственные возможности, заставило нас возвыситься над нашей природой, но не входя в толщу сверхъестественных реальностей, достигаемых мистически на их собственных путях, а входя своим познавательным способом (без специальных способов) (с. 454, 600–601, 612–613) в царство того не-знания, которое превосходит наши способности восприятия и понимания. Там мы лучше познали бы те же реальности, которые являются предметом метафизики и философии, так же как «Бытие» (с. 448), «вещи» (с. 584), «универсум» (с. 584, 685), «божественное» (с. 675). (На с. 639 и 645 речь идет о «космическом экстазе» и «космическом открытии».) Барюзи отделяет «мистическую веру» от веры догматической (с. 448, 510–511, 600–601, 659), что прямо противоположно мысли и опыту Иоанна Креста; автор знает о роли любви в мистике Иоанна Креста, но он странным образом умаляет эту роль и не указывает на ее значение; его изложение создает впечатление, что любовь якобы является в этой мистике, как в неоплатонизме, чем-то вроде метафизического nisus[10*], предназначенного для «введения нас в новый мир» (с. 611), и простым способом «познавательной» трансцендентности. Таким образом, он упускает то, что является самым главным и самым личным у св. Иоанна Креста, я имею в виду его абсолютную и живоносную уверенность в примате любви.
Несколько строчек Жана Барюзи («Заключительные заметки» второго издания, с. 727) заставили нас дать эти разъяснения. И если мы его резко критиковали, то потому, что, по нашему мнению, проблемы, которые он затрагивает и которые для него тоже имеют колоссальное значение, — не из области чистой эрудиции: они касаются основных истин. Огромные, вызывающие уважение усилия Барюзи, несмотря на наши упреки, заставляют жалеть, что этот труд рискует затуманить послание святого, которого он хотел почтить.]
(обратно)[106]
Тогда любовь к себе, secundum rationem proprii boni[11*] не исчезает, но уступает место милостивой любви, когда человек сам любит себя propter Deum et in Deo[12*] (Sum. theol., II–II, 19, 6; 19, 8 ad 2; 19,10), любви, которая содержит в себе естественную любовь каждого к себе самому, но и больше, чем к себе, — любовь к Богу (I, 60, 5; II–II, 25, 4).
(обратно)[107]
Св. Фома Аквинский. Sum. theol., II–II, 26, 3, ad 3: «Hoc quod aliquis velit frui Deo, pertinet ad amorem, quo Deus amatur amore concupiscentiae; magis autem amamus Deum amore amicitiae, quam amore concupiscentiae; quia majus est in se bonum Dei, quam bonum, quod participare possumus fruendo ipso; et ideo simpliciter homo magis diligit Deum ex charitate, quam seipsum»[13*]. См. также: Каетан. In II–II, 17,5.
(обратно)[108]
См.: Henn Lefebvre. Positions d'attaque et de défense du nouveau mysticisme. — «Philosophie», mars 1925.
(обратно)[109]
Философы, которые в связи с доктриной «способности повиновения» говорят о налагающемся сверхъестественном, никогда не читали теологов-томистов, а если и читали, то не поняли. См.: Хуан де Санто-Томас. Curs, theol., I. P., q. 12, disp. 14, a. 2 (Vives, t. II).
(обратно)[110]
См.: св. Иоанн Креста. Восхождение на гору Кармель, II, 8.
(обратно)[111]
См.: Дионисий Ареопагит. О божественных именах, VII.
(обратно)[112]
Мистическая мудрость контролируется теологией только через суждения, с помощью которых человеческий язык выражает мистический опыт, иначе говоря, проверяется тем, что уже не является в прямом смысле самим мистическим опытом, а именно теологией, лишь включающей этот опыт. Теолог судит о созерцателе не просто как о таковом, но постольку, поскольку созерцатель спускается в область понятийного выражения и рационального общения. Таким же образом может судить астроном о философе, рассуждающем об астрономии.
Но сама по себе мистическая мудрость выше мудрости теологической; конечно, не в области учения, но в области опыта и жизни именно духовная власть судит спекулятивного теолога. «Spiritualis judicat omnia, et a nemine judicatur»[15*].
Что касается суждения о тайном и непередаваемом существе самого мистического опыта и различения духов, это не является задачей теолога-теоретика, это задача самих духовных лиц и теолога в том случае, если он сам является представителем, носителем такой духовности и обладает практической наукой о мистических путях познаний (1 Кор 8: 7, 8). Хуан де Санто-Томас пишет: «Таково апостольское правило: Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они (1 Ин: 4). И еще: Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес 5: <20–22>). Это испытание должно проводиться сообща…
Это не означает, что дар Святого Духа подчинен благоразумию, или что эта добродетель превыше его, или она вправе выносить ему оценку, ибо те, кто судит об откровениях и последних истинах, должны основываться не на человеческой осмотрительности, а на правилах веры, которым подчиняются дары Святого Духа, или на самих дарах, получаемых одними в большей, другими в меньшей степени. Если же все-таки в таких случаях применяются человеческие или теологические критерии, они считаются второстепенными и служат только для лучшего объяснения того, что касается веры или действия Святого Духа.
Вот почему при рассмотрении духовных и мистических явлений нельзя обращаться только к теологам-схоластам, но также и к духоносным лицам, обладающим мистической осмотрительностью, познавшим духовные пути и умеющим различать духов» (Хуан де Санто-Томас. Дары Святого Духа, V, 22, пер. на франц. Р. Маритен, р. 201–202).
(обратно)[113]
Св. Иоанн Креста. Духовная песнь (вторая редакция), строфа 28 (19), Silv., III, 362.
(обратно)[114]
Св. Фома Аквинский. Quaestiones quodlib., VIII, а. 20; Josephus a Spiritu- Sancto. Cursus theologiae mystico-scholasticae. Disp. prima prooemialis, q. 2, § 1 (ed. 1924, Bruges, Beyaert, 1924, t. 1. p. 117).
(обратно)[115]
Св. Фома Аквинский. Sum. theol., I, 13, 5.
(обратно)[116]
Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие, I, 3.
(обратно)[117]
Сама по себе материальная техника должна была бы открывать путь для жизни, более свободной от материи, но по вине человека она в действительности имеет тенденцию подавлять духовность. Означает ли это, что надо либо отказаться от техники, либо предаваться тщетным сожалениям? Мы никогда не ставили вопрос таким образом. Однако человеческий разум должен сыграть здесь регулирующую роль. И если он сумеет это сделать, не прибегая к решениям сугубо деспотическим и бесчеловечным в других отношениях, то материализация, о которой мы ведем речь, будет преодолена, по крайней мере на время. Мы отнюдь не претендуем на то, чтобы сформулировать здесь закон необходимого развития событий, — мы только пытаемся выявить, находясь в определенной временной точке, направление кривой, по которой события развивались до нынешнего дня и которую может изменить человеческая свобода.
(обратно)[118]
Michel Ledrus. S. J., L'Apostolat bengali. Louvain, 1924. — В Китае, целиком китайская католическая конгрегация, «Младшие братья св. Иоанна Крестителя», была создана о. Леббе в 1928 г. Вообще говоря, те, кто очень хорошо знает Китай, думают, что в наши дни лучшее из его древнего духовного наследия только в католицизме обретает возможность ускользнуть от примитивного материализма, за которым молодежь едет на Запад.
(обратно)[119]
Boninus Mombritius. Sanctuarium seu vitae sanctorum, nouv. ed. par les moines de Solesmes. Paris, Fontemoing, 1910: Passio sancti Adriani M. cum aliis 33 MM.
(обратно)[120]
Сам Кант утверждал в своей «Логике», что истина есть «согласие разума с самим собой» (Logik, Einl., VII) — что она «покоится в согласии разума с тем… что в представлении выступает как регулятивное и закономерное… что отличает его от всякого другого акта восприятия и что делает необходимым именно такой способ упорядочения множественности» (Kritik der reinen Vernunft, 1. Aufl, S. 236). Эти определения оказались не слишком живительной пищей для современного сознания.
(обратно)[121]
Ταύτον δ'έστι νοείν τε και οΰνεκεν έστι νόημα (Дильс, VIII, 34).
(обратно)[122]
Λαβόντες ως εναργή πρότασιν, ότι ων οι λόγοι έτεροι ταΰτα ετέρα έστι, και ότι τα ετέρα κεχώρισται αλλήλων[2*] (Simplicuis. Phys., 120, 12 D).
(обратно)[123]
Quantum ad id quod rationis est, universalia magis sunt entia quam particularia, quantum vero ad naturalem subsistentiam particularia magis sunt entia (св. Фома. In Post. Anal., 1. I, lect. 37)[4*].
(обратно)[124]
Св. Фома. Sum. theol., I, 13, 12. Хуан дe Санто-Томас. Logic. IL P., q.5, a.2, p. 286 sq.
(обратно)[125]
Аристотель. De Anima, III, 2, 425 В 26: ή δε του αισθητού ενέργεια και της αισθήσεως ή αυτή μέν έστι και μία, το δ'είναι ού το αυτό αύταΐς. Ibid., 426 a 15: μία μέν έστιν ή ενέργεια ή του αισθητού και ή τού αισθητικού, το δ'είναι έτερον.
(обратно)[126]
См.: св. Фома. Sum. theol., I, 16,2. Св. Фома приписывает эту формулу некоему Исааку, автору «De Defînitionibus» («Об определениях»), вероятно, сыну Хонайна бен Исхака, багдадского историка, умершего в 876 г. и известного в качестве переводчика Аристотеля. Аверроэс в своем «Опровержении опровергателей» дает аналогичное определение; Аристотель, если он не употребляет в точности формулу «adaequatio rei et intellectus», высказывается сходным образом во многих местах. См.: Sentroul. Kant et Aristote, 2e éd., p. 56, note.
(обратно)[127]
Св. Фома. De Verit., q. I, a. 1,3 sed contra. Cp. In Boet. de Trinit.: «Prima quidem operatio [intellectus] respicit ipsam naturam rei, secunda operatio respicit ipsum esse rei»[10*].
(обратно)[128]
Св. Фома. In Metaph. Aristot., lib. IV, lect. 8, n. 651.
(обратно)[129]
Св. Фома. Sum. theol., I, q. 16, a. 5. О томистской теории истины см.: Хуан де Санто-Томас. Curs, theol., t. IV, disp. II.
(обратно)[130]
Аристотель изложил всю суть этого учения; схоласты же лишь разъясняли его понятийную лексику. См.: Аристотель. Anal. Post., lib. I, с. 28; Phys., lib. II, с. 2; De Anima, lib. I, с. 1, in fine.
(обратно)[131]
Что касается г-на Бергсона, стоило бы добавить, что непосредственная его задача относится скорее к натурфилософии, чем к метафизике.
(обратно)[132]
Это не значит, что сама метафизика может игнорировать естественные науки. Но если она должна сохранить с ними контакт (как это нормально делает натурфилософия), то не ради обогащения аргументации метафизика, а скорее для расширения его знаний о мире и научного воображения, дающего простор для его мысли в области материальной причинности.
(обратно)[133]
«Я был монахом благочестивым и верным своему ордену настолько, что смею сказать: если хоть один монах мог попасть на небо монашества своего ради, то и я мог бы» (Erl, 31, 273).
(обратно)[134]
Не говоря о духовных влияниях, которые могли способствовать этому состоянию, трудно отказаться от предположения о невропатическом расстройстве. Кохлеус[61*] рассказывает, что однажды во время мессы, когда священник читал Евангелие о немом бесноватом, Лютер, в порыве ужаса, вдруг возопил: «На! nоn sum! nоn sum!»[62*] и, как громом пораженный, во весь рост повалился на пол храма {Félix Kuhn. Luther, sa vie et son oeuvre, t. I, p. 55).
(обратно)[135]
«Не будь я доктором, — восклицал он позднее, — дьявол не раз сразил бы меня доводом: у тебя-де нет своей миссии!» (цит. по: Dôllinger. La Réforme, t. HI, p. 237).
(обратно)[136]
Проповедь 27 декабря 1515 г. (Weim., I, 43, 7; IV, 665, 17). См.: Denifle. Luther et le luthéranisme (trad. J. Paquier), 2e éd., 1913, t. II, p. 400.
(обратно)[137]
«Я был тогда величайшим гордецом из взыскующих праведности» («ргаеsumptuosissimus justitiarius». Цит. по: Janssen. L'Allemagne et la Réforme. Paris, Pion, t. II, p. 71). «Полагаясь на свои дела, я уповал не на Бога, а на собственную праведность. Я тщился взобраться на небо» (Kuhn, t. I, p. 55). Денифле показал, что Лютер сильно преувеличил строгость своего монастыря, в котором устав был довольно умеренным. Однако создается впечатление, что он сам из гордости налагал на себя суровые обеты, как свойственно дурным монахам. «Я стал гонителем и свирепым палачом собственной жизни: постился, бдел, изнурял себя в молитвах, а это не что иное, как самоубийство» (Janssen, t. H, p. 71). Из этого иногда выходило нечто необыкновенное: «Я столь отдалился от Христа, что, когда видел какое-либо Его изображение, к примеру Распятие, тотчас ощущал страх: охотней увидал бы я беса» (ibid., p. 72); «Дух мой был сломлен, и я был всегда печален» (Erl, 31, 273). Прочие братья не понимали этой печали, думали, что он то ли кичится перед ними своей странностью, то ли одержим бесом (Kuhn, t. I, p. 54).
(обратно)[138]
Комментарий к главе 4 Послания к Римлянам. Folio 144 b (Ficher, II, 109).
(обратно)[139]
В том смысле, что под его началом находилось одиннадцать монастырей.
(обратно)[140]
Enders, I, 66–67.
(обратно)[141]
Ibid., I, 431.
(обратно)[142]
Иногда, как заметил Гризар, это положение у Лютера значит просто, что вожделение — «очаг греха» — неискоренимо. Но от этого вполне точного смысла Лютер, поскольку он отождествляет вожделение с первородным грехом и, таким образом, делает его неочищаемым, а также потому, что не допускает праведности, внутренне присущей самому человеку, сползает к смыслу, который особенно подчеркивает Денифле. Согласно этому смыслу, вожделение именно неодолимо, неотразимо если не в каждом отдельном случае, то в общем и целом в нашей жизни. «Говоря, что вожделение абсолютно непобедимо, Лютер утверждает не только то, что оно никогда не угасает, а постоянно возрождается в нас и побуждает нарушить закон, но и то, что оно предстает нам в образе Антея, непобедимого гиганта, которому никто не мог противиться, который сокрушал всех противников» (Denifle. Op. cit., II, 399). Ср. в «Комментарии на Послание к Римлянам», fol. 167 (Ficker, II, 145, 1): «Hic Cerberus latrator incompescibilis, et Anthaeus in terra dimissus insuperabilis»[63*].
Как вполне справедливо показал Ж. Пакье {Denifle, II, 391, прим. 1), само по себе учение о совершенной ненужности благих дел логически предполагает эту теорию, поскольку в конечном счете дела не нужны именно потому, что первородный грех неисцелимо повредил нашу природу, а значит, вся наша деятельность исходит из коренным образом испорченного источника. Таким образом, надо признать, что Денифле здесь затронул самую суть вопроса и, при всей грубоватости, подчас портящей его исследование, глубже Гризара понял психологию Лютера. «Впрочем, необходимо тут же сказать, что Лютер не вывел из своей системы все, что она логически содержит» (так, он часто призывает бороться с дурными побуждениями, а оправдание верой, по его мнению, венчается исполнением заповедей). «Его номинализм, известное здравомыслие, страх опорочить свое дело — все это вместе позволяло и побуждало его противоречить самому себе» {Paquier. Loc. cit.).
(обратно)[143]
Opp. exeg. lat., VIII (1540–1541), p. 74. Догматический кризис Лютера, как показал Денифле, должен быть отнесен к 1515 г. (ср.: H. Strohl. L'évolution religieuse de Luther jusqu'en 1515. Strasbourg, 1922), но последнее озарение относительно праведности Христовой, вменяемой нам через веру (без любви и ее дел), имело место в 1518–1519 гг. Это озарение известно как «Событие в башне»[64*]. Ср. «Дневник» Кордата 1537 г. (Hrsg. Wrampelmeyer, Halle, 1885, Ν 1571) и: Lauterbachs Tagebuch. Dresden, 1872, S. 81.
(обратно)[144]
О Лютере и августинизме см. сообщение аббата Пакье, многоученого переводчика Денифле, в Философском обществе св. Фомы Аквинского (заседание 21 февраля 1923 г.; «Revue de philosophie», mars-avril 1923). Его автор подвел итог дискуссии, начатой Мюллером, выводы которого он считает «поспешными», а утверждения «зачастую необоснованными». Но не забудем, что в Средние века и даже в конце Средневековья еще был жив августинизм, который был Лютеру известен и не мог не иметь влияния на его теорию спасения. «Лютеру отнюдь не было незнакомо само противопоставление двух больших школ — августинистской и томистской. В 1518 г. он писал против доминиканца Сильвестра Приерия, магистра в Ватикане: «Вот уже скоро триста лет, как Церковь страдает от этой нездоровой страсти, от этого поистине роскошества, побуждающего вас развращать вероучение; несравненный вред терпит оно от схоластических докторов» (Weim., I, 611, 21). Два месяца спустя он высказался точнее, называя имена: «Святой Фома, отец Бонавентура, Александр из Гэльса, конечно, весьма замечательные люди, но поистине справедливо предпочитать им истину, а затем авторитет папы и Церкви… Уже более трехсот лет университеты, сколько бы замечательных людей в них ни обреталось, умеют только трудиться над "Аристотелем", распространяя его заблуждения еще более, чем то верное, чему он, может, и учил» {Enders, II, 109)».
С этой точки зрения лютеранство предстает катастрофическим эпизодом старой борьбы против томизма, которую вело неразумное рвение так называемых последователей св. Августина. Во всяком случае, если Лютер и нашел у августинистских богословов опасную терминологию и хоть как-то обоснованную теорию формального тождества греховного вожделения с первородным грехом, то без драмы его религиозного опыта и «божественного озарения События в башне» внутренняя логика этой теории не прорвалась бы наружу как ересь.
Напомним, что, согласно св. Фоме, который точнее всего истолковал мысль св. Августина, вторя всему католическому преданию, греховное вожделение — лишь материальный элемент первородного греха; факт, что оно в нас пребывает, нисколько не отменяет того, что первородный грех снят крещением, а освящающая благодать внутренне присуща нашей душе (Sum. theol., I–II, 82, 3).
(обратно)[145]
Тот, кто хотя бы в едином пункте отвергает истину, преподаваемую магистериумом Церкви, тем самым уже теряет церковную веру (См.: Sum. theol., Π-ΙΙ, 5,3).
(обратно)[146]
«Дражайший брат, — писал Лютер в 1535 г., - ты хочешь иметь чувство праведности, то есть ощущать праведность так, как ощущаешь грех, — этого быть не может» (In Galat., II, 312). «Ты не должен слушать этого чувства, но должен сказать: хотя мне кажется, что я по уши погряз во грехе и задыхаюсь в нем, хотя сердце говорит мне, что Бог от меня отвернулся и гневается на меня, это совершенно не так, это чистая ложь… Итак, ты должен не чувствовать свою праведность, но верить в нее; если же ты не веришь, что праведен, ты страшно кощунствуешь против Христа!» (ibid., 319). В другом месте, впрочем, он пишет довольно хорошо, но разница лишь в выражении, ибо речь и здесь идет о гарантиях, которые дает вера-доверие: «Христианство — не что иное, как постоянное упражнение в чувстве, что ты не имеешь греха, хотя и согрешаешь, но что твои грехи отринуты Христом» (Opp. exeg. lat., XXIII, 142 (1532–1534); Weim., XXV, 331, 7). Уже в 1518 г. Лютер писал: «Долг наш верить, что мы угодны Богу» (Weim., II, 46).
Лично ему этим упражнением в вере-доверии не удавалось избавиться от уныния и беспокойства. Против искушений отчаяния Лютеру приходилось прибегать к другим средствам (см. ниже, прим. 23 и 49).
(обратно)[147]
См. девять портретов, воспроизведенных во французском издании Денифле-Пакье (t. IV, р. 237 cл.). Мы выбрали из этой: серии четыре достаточно характерных изображения.
(обратно)[148]
Известно, что представляла собой полемика Лютера: сколько в ней было фальсификаций (см. таблицу в: Denifle, IV, 300), клеветы, шутовства и непристойности (памфлеты о Папе-Осле и Монахе-Теленке, «Картина папства» и др.). Он никогда не останавливался перед ложью. «Ложь необходимая, — говорил он сам по поводу двоеженства Филиппа Гессенского, — ложь полезная, ложь выручающая — всякая такая ложь нимало не богопротивна… Какое зло в том, если для вящего блага и в интересах христианской [т. е. лютеранской] Церкви кто-то славно и крепко солжет?» (Lenz. Brieiwechsel Landgraf Philipps von Hessen mit Bucer. Bd. I, S. 373–376). На тему «Лютер и ложь» см. также: Denifle, I, 218–224; Grisar, III, 1016–1019. Не без основания и герцог Георг Саксонский называл Лютера «самым хладнокровным лжецом, какого он когда-либо знал»: «Мы должны сказать и написать о нем, что сей монах-отступник лжет нам в глаза, как окаянный злодей, бесчестный человек и клятвопреступник» (19 декабря 1528 г., по поводу дела Пака).
Напомню здесь, при помощи каких методов Реформа была навязана народу в Саксонии и в скандинавских странах. Народ был хотя и весьма распущен нравственно, однако относительно менее испорчен по сравнению со своими земными и духовными вождями — впрочем, награбленные у Церкви богатства ему и не предназначались. Он желал оставаться верен своей вере, резкая перемена породила бы бунт. Что же сделали? Рядом ловко просчитанных мер догматические и обрядовые новшества вводили постепенно, так что они были нечувствительны; народ отлучили от церковного общения так, что он этого и не заметил. В 1545 г. Лютер писал: «Поскольку тогда [вскоре после его отступничества] наше учение было новым и соблазнило бы большинство мирян, мне пришлось продвигаться с осторожностью и, применяясь к слабым, многое оставлять, чего затем я уже не делал». По словам Меланхтона, к примеру, «мир был так привязан к мессе, что ничто, казалось, не могло ее вырвать из сердец людских» (Corp. Réf., I, 842–845). Поэтому в формулярах 1527 и 1528 гг. Лютер оставил в Саксонии старый порядок литургии. Возношение гостии и чаши еще сохранялось. Однако канон Лютер отменил, не уведомив об этом общество. «Священник, — говорил он, — всегда может сделать так, что человек из народа и не поймет, в чем перемена, и сможет слушать мессу, ничем не соблазняясь». А в брошюрке «О служении литургии на немецком языке» Лютер писал: «Священнослужители знают причину, по который они должны выбросить канон» (он отрицал Евхаристию как жертву), «что же до мирян, их об этом и уведомлять не стоит». Так же точно Густав Ваза объявил своему народу: «Мы не желаем иметь иной веры, кроме той, какой держались наши предки», — и вместе с тем ввел у себя ересь.
О неумеренности Лютера см.: Denifle, I, 180–184. По свидетельству Меланхтона, Лютер мог прожить четверо суток без еды и питья, «а часто за несколько дней съедал только немного хлеба и селедку» {Kuhn, I, 54). Но он умел и возмещать эти дни. «Я жру, как чех, и пью, как немец», — писал он Катарине Бора 2 июля 1540 г. (Burckhard. Martin Luthers Briefwechsel, [1866], S. 357).
(обратно)[149]
Erl, 20, 58; Weim., X, И, 276, 14 (проповедь о браке).
(обратно)[150]
Wider den falsch genannten geistlichen Stand (1522) — Erl., 28, 199–200. Мало найдется столь отвратительных зрелищ, как то, что являло в Германии того времени плотское бесстыдство духовных лиц и монашества обоего пола, «освобожденного» Лютером, — этих гниющих членов, которые только и ждали случая отпасть от тела Церкви. Надо признать, что упадок духовенства был тогда столь велик, что дальше так продолжаться не могло: либо торжеством святости действительность возвысилась бы до нормы, либо торжеством похоти норма опустилась бы до действительности, что и совершила реформа Лютера. Известно, что принявшие реформу священники и монахи множество раз, подчас соединяясь в шайки, насильно забирали монахинь из монастырей себе в «супруги». «Когда же бегство совершалось, расстриги доходили до неслыханных вещей: они содержали своего рода торговлю развращенными монахинями, выставляя их на самую настоящую продажу». «Сейчас их у нас девять, — писал один такой расстрига другому, — все красивы, стройны, все благородного сословия; ни одной еще нет пятидесяти. Тебе, дорогой брат, я приготовил в законные супруги самую старшую, но если хочешь помоложе, можешь выбрать из самых красивых» {Denifle, I, 27–28).
После похищения монахинь, состоявшегося в Страстную Субботу 1523 г., Лютер назвал бюргера Коппа, организовавшего сей подвиг, «блаженным татем» и написал ему: «Подобно Христу, вы избавили эти бедные души из темницы людской тирании, и сделали это в дни, указанные свыше, в те дни Пасхи, когда Христос разрушил темницу своих мучителей» (ibid., 40; Weim., IX, 394–395). Сам он окружил себя монашками, возвращенными таким образом в натуральное состояние и, к сожалению, слишком хорошо усвоившими его уроки («Nulla Phyllis nonnis est nostris mammosior»[65*], - писал лютеранин Эобан Гессе — Denifle, I, 189; Helii Eobani Hessi et amicorum ipsius epp. famil. libri XII. Marburgi, 1543, p. 87). Его Катарина Бора тоже была из таких. Примечательно и понятно, что платой за эту войну с христианским девством стало гнусное презрение к женщине: «Слово и дело Божие ясно говорят нам, что женщина должна служить или браку, или блуду» (Weim., XII, 94 (1523)); «Если женщины изнуряются и умирают, производя потомство, в том нет зла: пусть умирают, лишь бы рожали — для того они сотворены» (Ег1., 20, 84; Weim., X, II, 301, 13 — Проповедь на брак, 1522 г.). Я цитирую здесь только то, что возможно передать.
«Не принимай благодати Божией всуе», — вопит он священнослужителям, призывая отвергнуть обет целомудрия. «Преступи только через краткий миг стыда — затем наступят прекрасные годы, исполненные чести. Подай тебе Христос благодать, дабы Духом Его эти слова стали силою и жизнью в сердце твоем» (De Wette, II, 640). Он жалеет бедных юношей и девушек, палимых чувственным огнем (Enders, III, 207, август 1521 г.) и всю свою евангелическую ревностность употребляет, чтобы расковать их либидо, заявляя, что «любострастия никакое средство не может исцелить, даже брак (libido nullo remedio potest curari, nequidem conjugio), потому что и большинство женатых живет в прелюбодеянии» (Opp. exeg. lat, I, 212 (1536)). В общем, можно констатировать некоторое родство между «либидо» у Лютера и у Фрейда (ср. Weim., XVI, 511, 5 ноября 1525).
«Постепенно, — пишет Денифле, — Лютер начал думать, говорить и писать под влиянием сладострастных утех; отсюда и произошли его писания [против целомудрия], подобные которым можно найти, да и то редко, лишь у самых развратных сочинителей» (I, 172). Святотатственная смесь бесстыдства и евангелизма, до которой он додумался, кажется, первым, иногда доходит до самого отвратительного цинизма (см. письма от 22 июля и 6 декабря 1525 г.: Enders, II, 222, 279).
Отметить эти исторические факты, как бы ни был противен их предмет, было необходимо, чтобы дать представление о нравственном состоянии Лютера после падения, — состоянии, которое в гораздо большей мере было следствием, чем причиной падения.
Что же после этого удивительного, если, невзирая на жалобы и укоры несчастного реформатора, первым результатом проповеди чистого Евангелия стал страшнейший разгул скотства? Как выразился Генрих Гейне, всю историю Германии этого времени составляют возмущения чувственности. «Народы, — признавался Лютер, — так возмутительно ведут себя по отношению к Евангелию, что чем больше его проповедуешь, тем хуже они становятся» (Ег1., 17, 235–236, 1544). «Чем дальше распространяется наше учение, тем хуже становится народ — все это дела или проделки того проклятого беса. Всякий видит, до чего народ теперь стал жаднее, скареднее и бесстыднее, наглее и злее, чем был при папизме» (Erl., 1,14, 1533). «Прелюбодеяние, блуд и кровосмешение не знают пределов», — писал Вальднер. Хуже всего было развращение молодежи. «Едва мальчишки выйдут из колыбели, — писал Иоганнес Бренц в 1532 г., - как хотят иметь женщин, а девочки, которым еще далеко до брачного возраста, предаются праздным мечтаниям о мужчинах» (Denifle, II, 111–115). Психология детства по Фрейду подтверждается на этих малолетних лютеранах, родившихся на свет в атмосфере любострастия, как, возможно, и на примере некоторых специально «подготовленных» кругов общества XX в.
(обратно)[151]
Егl., 17,96–97(1531).
(обратно)[152]
«Паписты селят на небе людей, которые ничего и не умели, кроме благочестивых дел; столько есть легенд о святых, и ни в одной нам не рассказано о настоящем святом, о человеке, обладавшем истинной христианской святостью — святостью в вере Вся их святость и благочестие в том, что они много молились, много постились, много трудились, умерщвляли плоть, спали на дурной постели и носили грубое платье. В таком-то благочестии, или вроде того, псы и свиньи тоже могут каждый день упражняться» (Erl, 63, 296, 304, 1531).
(обратно)[153]
См.: Dôllinger. La Réforme (trad. Perrot). Paris, 1847–1851, t. III, p. 248.
(обратно)[154]
Enders,VIII, 160–161.
(обратно)[155]
«Хоть молиться я и не могу, зато могу проклинать! Не буду говорить: "Да святится Имя Твое", скажу: "Да проклянется, да опозорится имя папистов"; не буду повторять: "Да приидет Царствие Твое", а скажу: "Да проклянется, да осудится, да истребится папство"! И поистине я молюсь так каждый день непрестанно, когда устами, а когда сердцем» (Erl, 25, 107–108; Janssen, II, 187). У Денифле (IV, 18 cл.) можно прочитать, как реформатор прогонял дьявола, искушавшего его унылыми мыслями и указывавшего на его грехи. В «Беседах» Лютера (Martini Lutheri colloquia. Ed. Bindseil, 1863–1866, II, 299) читаем: «Hae pessimae cogitationes me plus vexaverunt, quam omnes mei infiniti labores. Quoties meam uxorem complexus sum, nudam contrectavi, ut tantum Sathanae cogitationes illo pruritu pellerem»[66*]. Ничего не вышло: «Nolebat cedere». На деле эта тоска и тревога, несмотря на всю веру-доверие, подкрепленную подобными средствами, лишь больше и больше мучила Лютера. «Сердечное уныние Богу неугодно, но хоть я это и знаю, сотню раз на дню впадаю в это чувство. А все-таки и противлюсь бесу» (Dollinger, III, 243).
(обратно)[156]
Kuhn. Luther, sa vie, son oeuvre. Paris, 1883, I, 56.
(обратно)[157]
Coll., III, 169.
(обратно)[158]
Lauterbachs Tagebuch, 18.
(обратно)[159]
Erl, 28, 144.
(обратно)[160]
«Но секрет этой оправдывающей веры заключал в себе и еще нечто своеобычное: ведь она состоит в том, чтобы верить не вообще в Спасителя, в Его таинства и обетования, но весьма определенно каждому в сердце своем верить, что все наши грехи были нам отпущены. Лютер твердил беспрестанно: едва мы поверим и уверимся, что оправданы, как уже и оправдаемся. И требовал он не той нравственной уверенности, основанной на разумных основаниях, которая удаляет треволнения, но уверенности абсолютной, непогрешимой — чтобы грешник верил в свое оправдание тою же верою, какой он верит, что Иисус Христос явился в мир» (Боссюэ. История перемен в протестантских церквах, I, 8). Таким образом, лютеранство оказывается чем-то вроде «психотерапии» в деле вечного спасения.
(обратно)[161]
См. об этом весьма глубокомысленное примечание Ж. Пакье (Denifle, III, 428–429).
(обратно)[162]
Ср. у св. Фомы: Sum. theol., I–II, 112, 5; De verit, X, 10; In II Cor., 13, lect. 2; y св. Бонавентуры: 1 Sent., dist. 17, ps 1, q. 3; 3 Sent., dist. 26, ma. 1, q. 5: «Haberi potest certitudo per probabile conjecturam et per quamdam confidentiam, quae consurgit ex conscientia bona»[67*], - и у Александра из Гэльса: «Nec dimisit nos Deus penitus in gratiae ignorantia, quia dedit nobis ut cognosceremus ipsam secundum affectivam cognitionem in experientia et sensu divinae dulcedinis, quae est ex gratia»[68*] (3p., q. 71, m. 3, a. 1); «Concedendum quod per scientiam experimentalem possumus scire nos habere gratiam»[69*] (ibid., a. 2).
(обратно)[163]
«Итак, для него не могло существовать никаких проблем, кроме проблем сотериологии, причем в том смысле, что ее центром все время оставался человек. Ныне протестантские богословы льстят себя мыслью, что "центром системы" Лютера был якобы Христос. Это как нельзя более ложно и как нельзя более противоречит выводам психологического исследования пути его развития. Хотя о Христе он говорит часто, но в центре богословия Лютера — не Христос, а человек» (Denifle, III, 249–250. Курсив автора).
(обратно)[164]
Умозрительная и вместе с тем практическая (в силу своего высшего единства), но первоначально и принципиально — умозрительная (ср.: Sum. theol, I, 1, 4).
(обратно)[165]
Для Лютера благодать — не более, нежели внешняя милость Бога. Ср.: Weim., VIII, 106; Erl., 63, 123 и др. (Denifle, III, 77, 213, 217).
(обратно)[166]
Комментарий на Послание к Галатам (1535; I, 55).
(обратно)[167]
Erl., 15, 60 (1527).
(обратно)[168]
Tischreden (1531–1532; Ausg. Preger, 1888, S. 41). См. также: Cordatus, S. 131, Bern. 573; Colloquia… Ed. Bindseil, II, 298.
(обратно)[169]
См.: Dilthey. Das natiirliche System der Geisteswissenschaften. Arch. f. Gesch. der Philosophie, Bd. 5, S. 377 cл. (а также S. 285).
(обратно)[170]
Ясно, что мы здесь имеем в виду лишь духовный принцип современного индивидуализма. В остальных отношениях — социальном, интеллектуальном, эстетическом — он появился задолго до Реформации, так что, с другой стороны, лютеранский переворот с его общинным или стадным характером, смехотворным результатом которого очень скоро неизбежно стал цезареклерикальный антураж церкви, скованной государством, первоначально оказал на мирские институты действие видимого ослабления индивидуализма. Это совсем другой вопрос, нимало не влияющий на наши выводы.
(обратно)[171]
Sum. theol., Ι, 29. Ср. комментарий Каетана.
(обратно)[172]
См.: Sum. theol., I, 60, 5; II–II, 64, 2; 65, 1; Schwalm. Leçons de la philosophie sociale, t. I, p. 20 cл.
(обратно)[173]
Sum. theol., I–II, 2, 8; Sum. contra Gent., III, 48; in Polit. Arist. (lib. III, с 9), lect. 7. В прибавлении З к вопросу 64, параграф 2 (II–II) св. Фома объясняет, что смертная казнь законосообразна, причем не только потому, что преступник своим преступлением стал разрушителем общего блага, но и потому, что он, сделав выбор в пользу потрясения разумного состояния, пал с высоты своего достоинства как человеческой личности и в некотором смысле перешел в рабское состояние, свойственное скотам, служащим лишь для пользы других существ. «Et ideo quamvis hominem in sua dignitate manentem occidere sit secundum se malum, tamen hominem peccatorem occidere potest esse bonum, sicut occidere bestiam: pejor enim est malus homo, quam bestia, et plus nocet, ut Philosophus dicit in I. Politic, (cap. 2) et in 7. Ethic, (cap. б)»[70*]. Кара смертью, предоставляя человеку возможность восстановить в себе разумное состояние актом обращения к своей последней цели, как раз и позволяет ему вернуть свое достоинство человеческой личности.
(обратно)[174]
Sum. theol., II–II, 26, 4.
(обратно)[175]
«Bonum commune civitatis et bonum singulare unius personae non differunt secundum multum et paucum, sed secundum formalem differentiam. Alia est enim ratio Boni communis et Boni singularis, sicut alia ratio totius et partis. Et ideo Philosophus in I. Politic, dicit quod non bene dicunt qui dicunt civitatem, et domum et alia hujusmodi differre solum multitudine et paucitate, et non specie» (Sum. theol., II–II, 58, 7, ad 2)[71*].
(обратно)[176]
Cм. Sum. theol., II–II, 83, 6; In Ethic. Nicom., I, lect. 1.
(обратно)[177]
«Quia igitur vitae, qua in praesenti bene vivimus, finis est beatitudo coelestis, ad regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad coelestem beatitudinem consequendam, ut scilicet ea praecipiat, quae ad coelestem beatitudinem ducunt, et eorum contraria, secundum quod fuerit possibile, interdicat. Quae autem sit ad veram beatitudinem via, et quae sint impedimenta ejus. ex lege divina cognoscitur, cujus doctrina pertinet ad sacerdotium officium» (св. Фома. De regimine principum, I, 15)[72*]. Отсюда «косвенная власть» Церкви в гражданском обществе. См.: Garrigou-Lagrange. De Reyelatione, II, 440 сл.
(обратно)[178]
Garrigou-Lagrange. Le Sens commun, 2e éd., p. 332–333.
(обратно)[179]
Паскаль. Мысли (Brunschvicg, 793).
(обратно)[180]
Garrigou-Lagrange. Ibid., p. 334–335.
(обратно)[181]
«Начиная с 1530 г. — времени, когда его учение окончательно вошло в обиход, — повсюду проявилось больше меланхолии, мрачной тоски, отчаяния и скорби, сомнения в Божьей милости, самоубийств… Писалось, и все было мало книг, для утешения живших в страхе смерти и гнева Божия, в унынии и меланхолии, сомневавшихся в существовании Божией благодати и вечного блаженства. До тех пор ничего подобного не было видано.
В зрелище, которое представляли собой эти проповедники, есть горькая ирония: они на все лады стараются превознести утешение, посланное новым "Евангелием", по сравнению с унынием, в которое повергает католическое учение, а между тем вынуждены гласно привлекать внимание к тому, как много стало уныния и самоубийств… "Никогда не ощущалась так потребность в утешении как в наши дни" (Иоанн Магдебургский. Прекрасное лекарство для облегчения скорбей и печалей страждущих христиан. Любек, 1555). В самом деле: "Ныне, увы, более, чем когда-либо слышишь, как в добром ли здравии или на смертном одре люди впадают в отчаяние, теряют рассудок, а некоторые из них доходят до того, что лишают себя жизни" (Баумгартнер)… Ни самому Лютеру, ни его панегиристу Матезиусу, ни Леонарду Бейеру, тоже бывшему августинцу, ставшему пастором в Губене, не удалось избежать искушения покончить счеты с жизнью, столь сильному, что в таком состоянии им опасно было иметь при себе нож… Один из первых пропагандистов лютеранства в Нюрнберге Георг Беслер впал в такую глубокую меланхолию, что однажды (в 1536 г.) среди ночи встал с супружеской постели и вонзил себе кинжал прямо в грудь… В смертной тоске и в искушениях Лютеру не удавалось жить своей верой. То же самое было и с его присными, с теми из его последователей, кто был "благочестив". Мы уже знаем об этом насчет его друга Иеронима Веллера; то же было и с другими его друзьями: Георгом Спалатином, Ионасом Юстом, Матезиусом, Николаем Гаусманном, Георгом Рорарием, — с другими корифеями Реформации: Флакцием Иллириком, Вильгельмом и Балтазаром Бидембахами, Иоахимом Мерлином, Хемницем, Изиндером из Кенигсберга, Андреасом Гундельвейном и множеством других: все они так или иначе, особенно в последние годы жизни, впали в изнуряющую тоску, неодолимую печаль и даже в безумие, причем утешения Лютера и прочих нисколько им не помогли» (Denifle, IV, 23–27). См. также: Dollinger. Die Reformation, Bd. II, S. 268 сл. (франц. пер.: t. II, р. 673–678).
(обратно)[182]
Боссюэ. История перемен… I, 6.
(обратно)[183]
Ср.: Ueberweg. Grundriss der Geschichte der Philosophie, Bd. III (1914), S. 30, 32.
(обратно)[184]
Weim., IX, 43 (1510–1511).
(обратно)[185]
Weim., VII, 282, 15–16 (1521).
(обратно)[186]
Письмо к Ланге (цит по.: Janssen. L'Allemagne et la Réforme, t. II, p. 311, note 1).
(обратно)[187]
Enders, I, 350 (14 янв. 1519), I, 173–174 (24 марта 1518).
(обратно)[188]
Weim., 1,647(1518).
(обратно)[189]
DeWette, 1,64(1518).
(обратно)[190]
Disputationen, 487, тез. 4–5.
(обратно)[191]
См.: Janssen, II, 204, note 2.
(обратно)[192]
Ibid.
(обратно)[193]
Ficher, II, 198; «Комментарий на Послание к Римлянам», fol. 203b (1516).
(обратно)[194]
Письмо Карлштадта Спалатину 5 февраля 1518 г.; Enders, I, 147.
(обратно)[195]
De Wette, VI, 276. «Как полемист, автор богословских сочинений, а особенно полемических сочинений для народа, — пишет Дёллингер, — Лютер с неоспоримым даром ритора и диалектика сочетал недобросовестность, которая в таких предметах редко встречается в такой степени». Известно, что Послание ап. Иакова он называл «соломенным», потому что оно противоречило его учению.
(обратно)[196]
Erlang., 49, 229.
(обратно)[197]
Ibid., 45, 336(1537–1538).
(обратно)[198]
Ibid., 29, 241.
(обратно)[199]
См.: A. Baudrillart. L'Église catholique, la Renaissance et le protestantisme. Paris, 1905, p. 322–323.
(обратно)[200]
Erl., 16, 142–148 (1546). Ср.: Denifle, III, 277–278.
(обратно)[201]
Disputationen… hrsg. von Drews, S. 42. «Невозможно примирить веру с разумом» (Erl., 44, 158 (1537–1540)).
(обратно)[202]
Erl., 44, 156–157 (1537–1540). И еще: «Ты должен оставить разум, ничего о нем не знать, полностью уничтожить его, иначе не взойдешь на небо» (там же); «Разум нужно бросить и оставить, ибо он прирожденный враг веры… Нет ничего более враждебного вере, чем закон и разум. Кто хочет достичь блаженства, должен их одолеть» (Застольные беседы, II, 135).
(обратно)[203]
InGalat., I, 331 (1535).
(обратно)[204]
См.: Denifle, III, 325, 410–413. Вследствие основ учения Лютера, отринувшего любовь к Богу, «служение Богу, — пишет Денифле, — полностью поглощается служением человеку. По отношению к Богу человек не существует; он не может воздать ему никакого служения, и Бог не требует от него ни дел, ни даров. Поэтому хоть какую-то ценность и деятельность человек может проявить лишь по отношению ближнему, в лучшем случае иногда думая и о Боге» (р. 413). В этом, как заметил П. Вейсс, Лютер уже совсем недалек от «религии» по Канту.
(обратно)[205]
Erl., 18, 58 (1537).
(обратно)[206]
In Galatos, II, 17(1535).
(обратно)[207]
Opp. exeg. lat., XXIII, 141; Weim., XXV, 330, 22 (1532–1534).
(обратно)[208]
Ibid., 142; Weim., 331, 7.
(обратно)[209]
Enders, III, 308: «Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi. Peccandum est, quandiu sic sumus; vita haec non est habitatio justitiae, sed expectamus, ait Petrus, coelos novos, et terrain novam, in quibus justitia habitat. Sufficit quod agnovimus per divitias gloriae Dei agnum, qui tollit peccatum mundi; ab hoc non avellet nos peccatum, etiam si millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Putas, tarn parvum esse pretium et redemptionem pro peccatis nostris factam in tanto ac tali agno?»[73*] Мало есть текстов, дающих лучшую, нежели этот знаменитый текст, апологию мертвой веры, трагическое извращение ересью самых высоких истин.
(обратно)[210]
ErL, 18, 260.
(обратно)[211]
Weim., IX, 419, 36. См. также Weim., Il, 504 (1519): «Peccata sua [верующего] jam non sua, sed Christi sunt» < Грехи его уже не его суть, но Христовы (лат.)> и др.
(обратно)[212]
Weim., XII, 559,6(1523).
(обратно)[213]
См.: Sum. theol., I, 82, 3.
(обратно)[214]
Met., VI, 4, 1027 b 25.
(обратно)[215]
Sum. theol., I–II, 58, 4, ad 2.
(обратно)[216]
Мы уже касались этой темы в «Антимодернизме» (Предисл., с. 24), но здесь необходимо вернуться к ней.
(обратно)[217]
См.: Боссюэ. История перемен… I, 9.
(обратно)[218]
Ibid.
(обратно)[219]
О. Hamelin. Le Système de Descartes. Paris, Alcan, 1911, p. 182.
(обратно)[220]
См.: Рассуждение о методе, ч. VI.
(обратно)[221]
См.: Правила для руководства ума, 3, 10.
(обратно)[222]
См.: Hannequin. La méthode de Descartes. — «Rev. de Métaphysique et de Morale», 1906; Hamelin. Op. cit., p. 82. Амлен вполне правильно пишет (р. 87): «Итак, вся теория знания Декарта состоит в том, что знать — значит схватывать в непогрешимой интуиции простые сущности и связи этих простых сущностей, которые сами суть простые сущности».
(обратно)[223]
Известно, что для Декарта безбожник не может обладать знанием какой бы то ни было истины: как бы ни было хорошо построено его доказательство, оно всегда может быть подвергнуто сомнению какой-либо гипотезой «лукавого гения».
В самом деле: когда благодаря доказательству тот или иной вывод становится для нас очевидным, мы в то же время опираемся на предпосылки, принятые нами за истинные и которые были уже доказанные в качестве таковых. Но актуально их очевидность не является принудительной для нашей мысли, поскольку в данный момент акт нашего мышления направлен не на них, а на связанный с ними вывод. Мы помним, что воспринимали их как истинные, но актуально мы их так не воспринимаем. Поскольку же мы актуально не связаны очевидностью, едва гипотеза «лукавого Гения» явится в нашем разуме и будет принята нами, как становится возможным и сомнение в предпосылках.
По-видимому, Декарт нигде явно не ставил вопроса о принципиальной ценности наших познавательных способностей, но в первую очередь он решил фактически победить состояние сомнения (реально испытанного сомнения), которое сам же и породил, дерзко приняв гипотезу «лукавого Гения», а потому он видит только один способ уйти от этой трудности. Чтобы, раз приняв гипотезу «лукавого Гения», впоследствии отвергнуть ее, он прибегает к существованию и божественной достоверности. Для того, кто знает об этом существовании, гипотеза «лукавого Гения» уже не опасна (бесовское искушение побеждено), и с этого момента доказанные положения уже не могут быть вновь поставлены под сомнение; такой человек поистине знает.
Таков, по нашему мнению, подлинный ход мысли Декарта. Но может ли она таким образом быть избавлена от упрека в порочном круге? Нет: ведь истина «Бог существует» сама по себе — доказанное положение, и если у меня нет актуально принуждающей очевидности утверждающего ее доказательства, то, по логике самого же Декарта, я все так же могу испытывать на ее счет сомнения, внесенные гипотезой «лукавого Гения». Чтобы избежать этого порочного круга, следовало бы считать это положение интуицией, присущей всему течению моей мысли. Таким образом, онтологизм, от которого всегда отрекался Декарт, является пределом, к которому картезианская метафизика сущностно стремится и только посредством которого она может обрести равновесие.
(обратно)[224]
Хуан де Санто-Томас. Cursus theologiae, q. 58, disp. 22, a. 4, not. xxii {Vives, IV, p. 860).
(обратно)[225]
Наши заблуждения в области умозрения суть случайные (не неизбежные) акты: они сами по себе не являются актами нашей свободы (тогда они всегда были бы также и нравственными проступками). Декарт же, строя теорию заблуждения по образцу теории греха (см.; Gilson, La Liberté chez Descartes et la théologie, p. 266; Gouhier. La pensée religieuse de Descartes, p. 212–215), приходит, не смея прямо признаться в этом самому себе, к тому, что всякое заблуждение становится и нравственным прегрешением. В действительности мы утверждаем от себя неочевидный объект, приписывая ему очевидность по причине ошибки в дискурсивной деятельности интеллекта, а эта ошибка не зависит необходимо от воли как свободной, то есть как относящей к своему собственному предмету (Благо человека) суждение интеллекта. Она необходимо зависит от воли лишь постольку, поскольку последняя прилагает к деятельности актуально погрешающий (лишенный hic et nunc надлежащей проницательности) интеллект и вследствие этого заставляет прилепиться к предмету, не уясненному должным образом.
(обратно)[226]
«Чтобы достичь истины, — говорил впоследствии Мальбранш, — достаточно быть внимательным к ясным идеям, которые каждый находит в себе самом» (Recherches de la vérité, I, 1). Тэн приводит эти слова как характеризующие классический дух (Ancien Régime, III, 2) — мы скажем точнее: картезианский.
(обратно)[227]
См. набросок теории модуса в «Первоначалах…» (ч. I, § 64–65), а также в письме к неизвестному 1645 или 1646 г. (А.-Т., IV, 348–349). Различие между субстанцией и модусом для Декарта имеет реальное основание. В этом смысле оно может быть названо реальностью («меньшей реальностью») и не совпадает с простым мысленным различением (rationis ratiocinatae). См. ст. М.-Д. Ролан-Гослена («Revue des sciences philosophiques et théologiques», 1910, p. 306–307). Но важнее всего то, что в мысли Декарта различение субстанции и модуса, заменившее различение субстанции и акциденции, словно скалькировано со схоластического различения субстанции и субстанциального модуса.
Об исторических истоках картезианского иннативизма см. плодотворное исследование: Gilson. L'innéisme cartésien et la théologie, — в его кн.: Études de la philosophie médiévale. Strasbourg, 1921.
(обратно)[228]
См. нашу статью: L'Esprit de Descartes. — «Les Lettres», 1 fév. 1922.
(обратно)[229]
«Адам в раю, — говорил Мальбранш, — не знал истории и хронологии. Почему же мы хотим знать больше него?» Не забудем, что в семнадцатом веке, который часто пытаются целиком приписать к духу картезианства, такие люди, как Сомез, Пето, Сирмон, Дюканж, Мабийон, прославили французскую ученость.
(обратно)[230]
Декарт полагал, что «решение просто отбросить все мнения, прежде принятые человеком на веру, — не тот пример, которому должен следовать каждый» (Рассуждение… ч. II) и что для «слабых умов» метафизический опыт универсального сомнения — необходимое, но опасное преддверие истинной философии — может кончиться плохо (письмо к Мерсенну, март 1637 — А.-Т., I, 349–350; см. также письма к неизвестному — там же, 353–354 — и к о. Ватье, февраль 1638 — там же, 560). Сам он, однако, проделал этот опыт со всей решительностью, поведав нам о своей битве с «лукавым Гением». Теперь же каждый, следуя за ним и соблюдая предосторожности, указанные в первом «Размышлении», сможет пользоваться благами предварительного сомнения, не подвергаясь его опасностям. Поэтому он не усомнился перевести «Размышления» на народный язык и распространить их в публике, хотя именно там он довел доводы сомнения до всех следствий, от которых из осторожности воздержался в «Рассуждении о методе».
С другой стороны, на практике философ вполне допускал, что не все умы равно способны к метафизическим умозрениям (письма к Мерсенну от 27 мая 1638 — А.-Т., II, 349–350, 16 октября 1639 — там же, 597, 13 ноября 1639 — там же, 622 — и др.) и что наука требует особенного дара, совершенствуемого упражнением: «Еа [Scientia mathematical non ex libris, sed ex ipso usu et arte hauriri débet… Omnes autem homines ad earn apti non sunt, sed requiritur ad id ingenium mathematicum, quodque usu poliri débet»[74*] (Разговор с Бурманом, 16 апреля 1648 — А.-Т., V, 176).
Но к таким утверждениям его вынуждали факты, опыт, в теории же он следовал совсем в ином направлении. В учении Декарта «естественного света» наряду с методом достаточно для отыскания истины — «здравый смысл всего лучше распределен в мире», он «от природы равен во всех людях», находится «в каждом весь целиком». Остается только освободить его от затемняющих предрассудков [Примечание автора. Метафизические размышления требуют именно «ума, полностью свободного от всех предрассудков и способного легко освободиться от общества чувств» («Размышления…», Посвящение), то есть свободного от «помех», составляющих препятствие для его «природы»], а существо Метода в том и состоит, чтобы привести человека средствами только здравого смысла — теми, что есть «даже у совсем неученых», — ко «всеобщей науке», которая возвысит нашу природу до «наивысшей степени совершенства» (ср. первоначальное заглавие «Рассуждения…»).
Декартов иннативизм, отрицание реальности акциденций и качеств, теория понимания и ясных идей — все, что есть в мысли Декарта наиболее глубокого, заключает в себе полный отказ от признания качеств, внутренне совершенствующих интеллект и приспосабливающих его к особенному объекту, — то, что схоластика называла «габитусом». Декарт признавал еше природное неравенство разумения, но совершенно не замечал различия и неравенства, возникающих вследствие развития этих духовных способностей (это совершенно иное дело, нежели просто привычка или просто упражнение). Его философия — не «аристократическая метафизика» (А. Гуйе в кн.: A. Gouhier. Pensée religieuse de Descartes, p. 300–307, - остановился на этой, по-видимому поверхностной, точке зрения), а как раз напротив.
(обратно)[231]
Иез 28: 12.
(обратно)[232]
См.: Bordas-Demoulin. Le cartésianisme, I, 29; Hamelin. Op. cit., p. 233.
(обратно)[233]
См. «Первоначала философии», ч. I, § 58–59.
(обратно)[234]
См.: Μ.-Ώ. Rolland-Gosselin. La révolution cartésienne. — «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 1910, p. 678–693.
(обратно)[235]
Письмо к маркизу д'Аллеману {Urbain et Levesque, III, 372–373).
(обратно)[236]
Самый убедительный, но и самый долгий путь, чтобы выявить теорию «идей-картин» у Декарта — показать, сколь существенную роль среди основных положений картезианской метафизики играет эта теория. Что касается текстов философа, относящихся собственно к природе мышления и идей, то часто они двусмысленны, но некоторые ясно выражают эту теорию. Скажем здесь о некоторых из них.
1. В кратком разъяснении, служащем продолжением к «Ответам на Вторые возражения», Декарт пишет: «Под именем "мысли" я понимаю все, находящееся в нас таким образом, что мы сознаем непосредственно это (ut ejus immediate conseil sumus). И, значит, всякие действия воли, разума, воображения и чувств суть мысли» (А.-Т., VII, 160; IX, 124). И в «Первоначалах…»: «Под словом "мысль" я понимаю все, совершающееся в нас таким образом, что мы непосредственно и сами по себе замечаем это (quae nobis consciis in nobis fiunt, quatenus eorum in nobis conscientia est). Вот почему не только понимать, желать и представлять, но также и чувствовать есть то же, что мыслить».
Таким образом, мысль определяется через сознание (в более строгих терминах: сознание, которое — по крайней мере как сопутствующее сознание — есть свойство мышления, но не его сущность, у Декарта формально конституирует его), а следовательно, ощущение и понимание как таковые, подобно воле и представлению, не выходят за пределы самопознания и лишь «полагают» субъект для него самого (ср.: Hamelin. Le système de Descartes, p. 181). С другой стороны, сама мысль уже по определению есть единственный предмет, «непосредственно сознаваемый» ею, так что идеи дают нам непосредственное знание не вещей и не природ, но нашей мысли: «Под именем "идеи" я понимаю ту форму каждой нашей мысли, через непосредственное восприятие которой мы познаем эти самые мысли (per cujus immediatem perceptionem ipsius ejusdem cogitationis conscius sum)» (A.-T., VII, 160; IX, 124).
2. «Первоначала…», I, 13: наша мысль «находит в себе, во-первых, идеи некоторых вешей, и пока она их просто созерцает, причем не утверждает, что вне ее есть нечто, подобное этим идеям, но также и не отрицает этого, ей не грозит заблуждение».
Итак, созерцается, является предметом восприятия не что иное, как сами идеи, а истина, для древних бывшая согласием со внемысленным бытием двух мысленно сопряженных предметов мышления, то есть двух чтойностей, превращается в подобие того или иного предмета мышления, то есть той или иной идеи, некоторой внемысленной вещи («идеату», по позднейшему выражению Спинозы). Эта путаница имела капитальные последствия и стала пороком всего умозрения после Декарта — как в направлении, идущем от Спинозы, так и в направлении, идущем от Юма.
3. Известно, что для Декарта ощущение внешнего чувства не только, как учил Суарес, возражая св. Фоме, требует предварительного создания некоего образа (на картезианском языке «идеи», на схоластическом — «species expressa»[75*], но и в качестве объекта (объект quod) имеет лишь идею же (смутную), то есть нечто чувственно ощутимое, но не представляющее никакой подобной себе внемысленной реальности. См.: «Первоначала философии», I, 66–71 и письмо к Мерсенну от 25 июля 1641 г.: «Полагать, что дух, когда он сочетается с телом младенца, только тем и занят, что смутно чувствует или воспринимает идеи боли, щекотки, тепла, холода и подобного, как нельзя более сообразно рассудку».
Но именно по этому образцу и представляет себе Декарт ощущение и умопостижение, с той лишь разницей, что, когда речь идет о чувственных качествах, актуально существующая вещь и идея (принципиально смутная, невыразимая в чисто рациональном суждении) неподобны, в случае же умопостигаемых предметов актуально или потенциально существующая вещь и идея (ясная и отчетливая) подобны. И в том, и в другом случае перед нами не то, что есть (конкретная вещь, воспринимаемая как таковая чувством или как абстрактная чтойность понятием интеллекта), но идея — изначально воспринятый, непосредственно предстоящий разуму объект.
4. «Третье размышление»: «Но если рассматривать их [идеи] как образы, одни из которых представляют одну вещь, другие же иную, очевидно, что они весьма различаются между собой. В самом деле: идеи, представляющие мне субстанцию, без сомнения, больше тех, которые представляют мне лишь модусы или акциденции и содержат в себе, так сказать, больше объективной реальности, то есть через представление причастны к более высокой степени бытия или совершенства, нежели те». Что понимает здесь Декарт под «объективной реальностью» вещей? Есть ли это сама вещь как вещь познанная, сама умопостигаемая природа как представленная («объектированная») разумом в идее? Нет — это некоторое качество самой идеи, уровень совершенства идеи, взятой как изначально известный объект, дающий понятие об «идеате» подобно инструментальному знаку или портрету. (Ср. еще там же: «Итак, естественный свет очевидно дает мне знать, что идеи во мне подобны картинам или образам, которые поистине могут легко отклониться от совершенства тех вещей, из которых извлечены, но никак не могут содержать ничего более великого или совершенного». Весь ход доказательства у Декарта ясно дает понять, что речь здесь идет об образах или картинах, которые изначально видны сами, а не о таких образах (формальных знаках), посредством которых видны иные вещи.)
Доказательство этому — в том, что Декарт ищет причину степени «объективной реальности», содержащейся в идеях, прилагая к «объективной реальности» самих идей такой принцип: «В действующей и всецелой причине должно быть столько же реальности, сколько в ее действии» (А.-Т., IX, 31–32). Таким образом, непосредственный объект нашего восприятия (то, что он называет «объективной реальностью» идей), то, что первоначально известно во всяком акте познания — это действия, причиной которых служит наша мысль, причем подобные вещам. Вещь — объект № 2, стоящий позади некоторого объекта № 1, которому этот № 1 — сама идея — подобен (вследствие того, что так установлено Богом, Который не может нас обманывать).
5. «Ответ на первые Возражения»: «Я говорю об "идее", которая никогда не бывает вне разумения и по отношению к которой "быть объективно" значит не что иное, как "быть в разумении" таким образом, каким там обыкновенно и находятся все предметы» (IX, 82). Невозможно сказать яснее, что непосредственный предмет или объект понимания — это сама по себе идея.
К этому следует добавить, что теория материально ложных идей, в которой Декарт путает и неправильно применяет две классические схоластические теории: о том, что интеллект, составляя понятие из несовместимых данных, блуждает случайным образом (per accidens), и теорию бытия смысла. Материально ложная идея — это непохожий портрет, идея истинная — похожий; в том и в другом случае изначально постижимый для интеллекта объект — именно портрет.
Когда Локк в качестве истины непосредственного опыта выдвинул утверждение: «Поскольку у разума нет иного предмета, кроме его мыслей и рассуждений, его собственных идей — единственной вещи, которую он созерцает или может созерцать, — то очевидно, что все наше познание разворачивается только исходя из наших идей» (Опыт… кн. IV, гл. 1), он показал себя последовательным картезианцем. В более общем плане можно сказать, что весь спор об идеях, занимавший философов конца XVIII в., восходит к картезианскому понятию «идей-картин».
(обратно)[237]
Размышления об интеллекте, гл. 2, 3, 9.
(обратно)[238]
Небезынтересно отметить, что Амлен, отстаивая совершенно другую точку зрения, также замечает, что картезианский иннативизм есть «независимость, самосущность, самодостаточность мышления» (op. cit., p. 176).
(обратно)[239]
Беседа с Бурманом (А.-Т., V, р. 157). Ответы Декарта Бурману, заметившему, что идеи ангелов, о которых, среди многих прочих предметов, идет речь в третьем «Размышлении», не могут отличаться от идей нашего разума, «cum utraque sit res solum cogitans»[76*], достойны примечания. Они показывают, что Декарт не имел никакого понятия о метафизической аналогии: по его мнению, из понятия о нашем духе мы не можем вывести ничего относящегося к чистому духу. Этот агностицизм тем более должен был бы распространиться на Бесконечный Дух. Впрочем, по Декарту, от Бога мы имеем непосредственную, «самую ясную и отчетливую» идею всех наших идей. Таким образом, он избегает агностицизма, но только открывая дверь онтологизму.
(обратно)[240]
«Ut comoedi, moniti ne in fronte appareat pudor, personam induunt; sic ego, hoc mundi theatrum conscensurus, in quo hactenus spectator exstiti, larvatus prodeo»[77*]. Каков бы ни был буквальный (кажется, чрезмерно смягченный г-дами Мийо и Гуйе) смысл этих строк, написанных Декартом в двадцать три года, применительно к творчеству философа они имеют поразительнейшее и точнейшее символическое значение.
В рукописной копии Лейбница, опубликованной Фуше де Кареем, а ныне вновь утраченной, им предшествует помета: «1619. Calendis Januarii»[78*]. Она взята из несохранившейся ранней рукописи и, на первый взгляд, относится к январю 1619 г. Однако Байе писал о «Парнасе» (см.: А.-Т., X, р. 213, note b): «Г-н Борель думал, что г-н Декарт начал свою тетрадь книгой, сочиненной в 1619 г. под датой первого числа января. Но, может статься, дата относится только к незаполненной тетради и означает то одно, что 1 января 1619 г. г-н Декарт предполагал начать пользоваться сей тетрадью». В сноске Байе замечает в связи с заглавием «Парнас»: «Там говорится о Петере Ротене, с которым г-н Декарт познакомился только в следующем году в Германии, но сие может быть и позднейшим добавлением».
Правдоподобнее предположение, что 1 января 1619 г. Декарт проставил эту дату в начале тетради, которой имел намерение пользоваться, но заметки, составляющие «Парнас», заносил туда уже позднее. Поэтому мы склоняемся к мнению, что цитированные строки были написаны не до, а после сновидения, в котором Декарт получил откровение о своей миссии, то есть после 10 ноября 1619 г. О сновидении Декарта см. работы Г. Мийо (G. Milhaud Une crise mystique chez Descartes en 1619. — «Revue de Métaphysique et de Morale», juillet 1916) и нашу в «Revue universelle» (Le songe de Descartes. 1 déc. 1920).
(обратно)[241]
Некоторые суждения о натуралистических тенденциях картезианской философии можно найти в нашем очерке «Дух Декарта» («Les Lettres», l mars 1992, p. 416 сл.). Что касается богословских отголосков Декартовой метафизики, приведем здесь важные замечания о. Бенвеля (Bainvel. Nature et Surnaturel, p. 73): «Сверхъестественные и божественные дары суть нечто реальное и физическое. С другой стороны, они — не сама субстанция души, но нечто к ней прибавленное, внедренное в душу со стороны, поэтому их и рассматривали как акциденции, качества… Пришел Декарт — и известно, какую войну он и его клевреты объявили этим схоластическим сущностям, акциденциям, качествам, которым не соответствует никакая «ясная и отчетливая» идея. Что же стало в этом урагане со сверхъестественными акциденциями?.. На деле новое богословие, эмансипированное от схоластики, в XVIII и в значительной части XIX в. дошло почти до полного забвения освящающей благодати и сверхъестественных даров. Грех и благодать перестали рассматриваться как нравственные термины, соответствующие идеям, обладающим большим философским и естественным достоинством. Это значило… упразднить реальность сверхъестественного, оставив от него одно название. Подобные идеи долго имели распространение, в частности, во Франции и в Германии».
(обратно)[242]
Brunetière. Évolution des genres… p. 46.
(обратно)[243]
Письмо Буало к Броссету (éd. Berryat Saint-Prix, t. III, p. 326).
(обратно)[244]
Второе предисловие к «Новой Элоизе» (в форме диалога).
(обратно)[245]
Bernardin de Saint-Pierre. La Vie et les ouvrages de J.-J. Rousseau. Paris, 1907, p. 98, 129, 183; M. Masson. La religion de Rousseau, t. II, p. 256.
(обратно)[246]
«Во мне сочетаются, не могу понять, как, две почти несочетаемые вещи: темперамент мой весьма пылок, страсти весьма бурны, мысли же рождаются медленно, неуверенно и всегда уже задним числом. Подумаешь, что мои сердце и ум не принадлежат одному человеку. Быстрее молнии чувство наполняет душу мою, но не освещает меня, а обжигает и ослепляет. Я все чувствую и ничего не вижу. Я увлечен, но глуп; чтобы мыслить, я должен быть в хладнокровном состоянии.
Это соединение медлительности мысли с живостью чувства бывает у меня не только в разговоре, но даже и в одиночестве, и когда я работаю. Мысли укладываются у меня в голове с невероятнейшим трудом: они глухо кружат там, их брожение меня возбуждает, я ничего не вижу ясно, ни слова не могу написать — подождем. Потихоньку эта суета уляжется, все встанет на свои места — но не сразу, а после долгой и бурной смуты» («Исповедь», кн. III).
«Словом, я обыкновенно находил, что он тяжелодумен, косноязычен, всегда с трудом и без успеха подыскивает точное слово и запутывает мысли, и без того не слишком ясные, дурной манерой выражения» («Второй диалог»).
«Весьма любезно с вашей стороны указать на мои погрешности в рассуждении. Могли ли вы заметить, что я прекрасно вижу те или иные предметы, но совсем не умею сравнивать их, что я довольно богат на посылки, но никогда не вижу следствий, что порядок и метода — ваши божества — для меня фурии, что мне все всегда представляется лишь по отдельности, что я в своих писаниях не связываю идеи, а пользуюсь какими-то шарлатанскими переходами, которые в самую первую очередь вводят в заблуждение именно вас — великих философов? По этим-то причинам я решился презирать вас, ясно видя, что не могу с вами сравняться» (Письмо дону Дешану, 12 сентября 1762 г. (Masson, II, 84). В этих признаниях есть, конечно, доля иронии, но в сущности они, как справедливо замечает г-н Массон, искренни.
(обратно)[247]
Ch. Morras. Romantisme et Révolution (предисловие к последнему изданию).
(обратно)[248]
На тему томистского учения об актах практического интеллекта и воле см. надежные и проницательные разборы о. Гардея, особенно в его работе «Власть над собой» (Gouvernement de soi-meme. — «Revue thomiste», avril-juin 1918).
(обратно)[249]
Ср. у Руссо: «Иногда он, воспламенившись долгим созерцанием предмета, приходит у себя в комнате к сильным и скорым решениям, о которых забывает, еще даже не выйдя на улицу. Вся сила его воли истощается в решении: на исполнение уже ничего не остается» («Второй диалог»).
(обратно)[250]
Как известно, в «Диалогах», написанных в 1772–1775 г., где мы видим «Жан-Жака перед судом Руссо», Жан-Жак рассказывает, как, гуляя в одиночестве, создавал себе целое общество мечтательных призраков, с которыми он жил, разговаривал, которые составляли для него мир, более реальный, чем земной. Это очень любопытный феномен умственной разрядки, где игра воображения граничит с галлюцинацией. Психология этих странных существ, которых Жан-Жак называет «нашими насельниками», очень хорошо дает понять психологию самого Жан-Жака. Здесь укажу только на некоторые черты: «Как раз пылкость и не дает им ["насельникам"] действовать. Жажда небесного блаженства, которая по силе действия на их сердце — первейшая для них потребность, заставляет их непрестанно собирать и напрягать всю мощь души, чтобы достигнуть его. Препятствия, им предстоящие, не могут настолько занять их, чтобы они хоть на миг забыли об этой жажде — отсюда и смертельное отвращение от всего остального, отсюда их полное бездействие, когда они отчаиваются достичь предмета всех своих вожделений…
Быть может, жители их краев не более добродетельны, чем наших, но больше умеют любить добродетель. Поскольку все естественные склонности души добры, то и они добры, отдаваясь им, но нас добродетель часто понуждает сражаться с природой и одолевать ее, а они редко способны на такие усилия. Иногда долговременная отвычка от сопротивления даже настолько размягчает их души, что приносит зло — из-за слабости, из-за страха, из-за принуждения. Они не избавлены от ошибок и пороков, не чужды даже преступлению, поскольку бывают такие несчастные обстоятельства, когда величайшей добродетели едва довольно, чтобы уберечься от него, понуждающие слабого человека ко злу, вопреки самому его сердцу. Но намеренный вред другому, яростная ненависть, зависть, коварство, плутовство там неизвестны; там очень часто видишь неправого, но никогда злодея…
Они также менее деятельны или, лучше сказать, подвижны. Все их усилие достичь созерцаемого объекта заключается в сильном порыве, но едва они ощущают его угасание, они останавливаются и не ищут вблизи себя замены этому единственному предмету своего влечения…» («Первый диалог». См. также «Мечтания…», Прогулка восьмая).
Помимо этого, можно было бы предпринять целое исследование на тему «Жан-Жак и мечта», где нужно было бы учесть не только «Мечтания» и «Диалоги», но и «Эмиля», и «Общественный договор» (см. с. 124–125). В нем можно было бы показать, что Руссо был истинным предтечей сюрреализма — последней моды на сцене литературы.
«Не бывало человека, — говорит Жан-Жак о себе самом, — который меньше руководствовался бы принципами и правилами, а больше слепо следовал своим склонностям. Когда есть искушение, он ему поддается, когда нет — сидит и томится. Поэтому вы понимаете, что его поведение должно быть неравномерным, скачкообразным — иногда очень деятельным, чаще же вялым или вовсе бездеятельным. Он не идет, а подпрыгивает и там же, где подрыгнул, падает; самая деятельность его только и стремится привести его туда, где его потянет за собой сила вещей, и не толкай его самое постоянное из его желаний, он бы так и не тронулся с места. Наконец, никогда не бывало существа более открытого чувствам и менее способного к действию» («Второй диалог»).
Уже в неотправленном письме к маркизу Мирабо (март 1767 г.) он писал: «У меня — философия? Э, Ваше сиятельство, Вы мне делаете честь совсем не по заслугам. Любого рода системы сильно превосходят мои способности, и ни в жизни, ни в поведении у меня нет никакой системы. Рассуждать, сравнивать, крючкотворствовать, настаивать, сражаться — это не мое дело; я без сопротивления, даже без зазрения совести предаюсь мгновенному впечатлению, ибо совершенно уверен, что сердце мое любит только добро. Все зло, какое я сделал в жизни, я сделал по размышлении, а то немногое добро, которое мне удалось сделать, — непроизвольно» (Lettres inédites de J.-J. Rousseau, recueillies par Th. Dufour. — «Revue de Paris», 15 sept. 1923).
(обратно)[251]
О психозе Руссо и определяющей роли, которую тот играл в его жизни и творчестве, можно прочесть интереснейшие работы Виктора Демоля: Analyse psychiatrique des «Confessions» («Archives suisses du Neurologie et de Psychiatrie», 1918. N 28, vol. 2) и: Rôle du tempérament et des idées délirantes de Rousseau dans la genèse de ses principales théories («Annales médico-psychologiques», janv. 1922). Автор полагает, что у Руссо «болезнь отнюдь не подавляла литературный гений, а постоянно способствовала ему» («Annales», p. 19). Процитируем его вывод: «Общий вывод таков: душевная болезнь Руссо в значительной мере предопределила его деятельность. 1. Некоторые симптомы, составлявшие неотъемлемую составную часть его характера (экзальтированная впечатлительность, негативизм, амбивалентность, импульсивность, сексуальные аномалии и т. д.), дали писателю значительное число благоприятных или неблагоприятных элементов, которыми он воспользовался. В частности, негативизм и амбивалентность, вызывавшие неприятности социального плана, усилили неудовлетворенность, возбудили аутизм и побудили Руссо замкнуться наедине с природой. 2. Аутизм Руссо обратил его к умозрительной сфере, где он добился огромных успехов. Некоторые его произведения прямо транскрибировали его мечты и реализовали его желания («Новая Элоиза»). 3. Раздвоение личности Руссо позволило ему носить в себе возвышенный идеал, живя в лоне беспутства, и, вопреки очевидности, претендовать на патент на добродетель; без такой непоследовательности многие из его произведений никогда не увидели бы света. 4. Гордыня и параноический опыт Руссо способствовали тому, что он принял фундаментальную идею о совершенстве природы, для которой все остальные его тезисы служат лишь комментарием. 5. Интеллектуальное творчество Руссо очевидно коррелирует с его психозом; мания преследования внезапно возбудила автора, и под ее воздействием он стал писать сочинения в свою защиту» (ibid., p. 34).
Психологам-фрейдистам тоже стоило бы написать работу об «Исповеди»: именно для подобных случаев и создана психоаналитическая проблематика. Не забудем, однако, что в разумном существе столь высокого от природы качества болезнь лишь делает рельефной и, так сказать, выводит на чистую воду логику тех или иных духовных первооснов.
Непоправимый психологический надлом, о котором здесь говорилось, произошел, вероятно, в 1749 г. (год написания «Рассуждения о науках и искусствах»). В это время одновременно обнаружились и литературный гений, и собственно душевная болезнь Руссо. Вскоре она проявилась в кризисе восторженности и «ухода от света», о котором мы скажем несколько ниже (см. с. 236 и прим. 123). «Чтобы его усилия, наконец, скоординировались, потребовались систематизация бредовых состояний и маниакальное возбуждение» (V. Demote. Op. cit., p. 27).
(обратно)[252]
«Второй диалог».
(обратно)[253]
«Исповедь», кн. VIII. Ср. «Третье мечтание» и «Второе письмо к г-ну де Мальзербу».
(обратно)[254]
«Исповедь», кн. VIII.
(обратно)[255]
Ср. «Исповедь», кн. IX: «До тех пор я был добр — с того времени стал добродетелен — по крайней мере, упоен добродетелью. На остатках искорененного тщеславия проросла благороднейшая гордость. Я ничуть не играл: я стал в самом деле таков, каким казался, и в продолжение по крайней мере четырех лет, пока длилось это цветущее состояние, не было ничего великого и прекрасного, доступного сердцу человека, на что я не был бы способен наедине с небом. Вот откуда родилось мое внезапное красноречие; вот откуда разлился по моим первым книгам тот истинно небесный огонь, что воспламенял меня, в течение же сорока лет от него не проскакивало ни искорки, ибо он еще не зажегся.
Я поистине преобразился; друзья и знакомые меня не узнавали. Я больше не был тем робким, скорее стыдливым, чем скромным человеком, что не умел ни ступить, ни молвить, которого нескромное слово ставило в тупик, а женский взгляд заставлял краснеть. Решительный, гордый, неустрашимый, я всюду носил с собой уверенность тем более крепкую, что была она проста и пребывала не столько в манерах моих, сколько в душе. Презрение к нравам, правилам и предрассудкам моего века, внушенное мне моими глубочайшими размышлениями, сделали меня нечувствительным к насмешкам тех, кто им следовал; их шуточки я просто давил, словно блох. Какая перемена! весь Париж повторял острые, едкие сарказмы того самого человека, который двумя годами раньше и десятью годами позже никак не мог сообразить, что ему сказать и о чем.
С тех пор моя душа, прежде деятельная, повернула в сторону покоя, а вновь и вновь зачинавшиеся колебания так и не дали ей остаться в таком состоянии… Ужасная, роковая эпоха в беспримерной среди смертных судьбе!»
(обратно)[256]
«Затем он сказал, что не может скрыть ни от меня, ни от себя самого, что это был приступ безумия» (Corancez. De Jean-Jacques Rousseau, p. 49).
(обратно)[257]
«Третий диалог». Ср. также первый и второй «Диалоги» и «Исповедь», кн. XII.
(обратно)[258]
«Мечтания…», Прогулка третья.
(обратно)[259]
Там же, Прогулка восьмая.
(обратно)[260]
См.: Lévy-Bruhl. La querelle de Hume et de Rousseau. — «Rev. de Métaphysique et de Morale», mai 1922.
(обратно)[261]
Прогулка вторая.
(обратно)[262]
Воспоминания архитектора Пари.
(обратно)[263]
Такой же энтузиазм видим и в Германии. Гердер восторженно взывает к Жан-Жаку: «Я желаю искать самого себя, чтобы наконец найти и более не терять. Приди, Руссо, и будь мне вождем!» Его невеста Каролина считала Руссо «святым и пророком», которому поклонялась. Кампе начертал на постаменте статуи Руссо слова: «Моему святому». (О влиянии Руссо на Германию см.: J. Texte. J.-J. Rousseau et le cosmopolitisme littéraire. Paris, 1909; L. Reynaud. Histoire de l'influence française en Allemagne. Paris, 1914).
(обратно)[264]
Masson, t. III, p. 89. Стоит прочесть рассказ о паломничестве, совершенном в Эрменонвиль в июле 1783 г. аббатом Бризаром (ставившим Жан-Жака выше Сократа) вместе с бароном де Клоотсом дю Валь де Граc, будущим Анахарсисом. Приехав в Эрменонвиль, пилигримы воззвали к небу, а после умилились святым реликвиям. Они наклеивали на них ярлычки. «Табакерка Жан- Жака Руссо… Мои пальцы притрагивались к этой коробочке; сердце мое затрепетало и душа очистилась. Барон де Клоотс дю Валь де Граc, защищавший Руссо в книге «О достоверности доказательств магометанства»; «Башмаки, которые обычно носил Жан-Жак Руссо… Г. Бризар пожелал сделать честь своему имени, надписав его на простой обуви мужа, всегда ступавшего стезями добродетели». На другой день они бродили по берегам Озера, разумеется, воссылая «горячую молитву святой Юлии и святой Элоизе». «Отсюда добродетельные англичане, которым не давали прохода, бросились в волны, чтобы ступить на святую землю». Третий день был употреблен на то, чтобы издали созерцать святую раку и петь песнопения в честь «друга добрых нравов». Наконец, на четвертый день, сочтя себя достаточно готовыми, друзья отправились на остров, многократно целовали холодный камень надгробья, а затем торжественно сожгли «в жертву манам Руссо» ужасную книжонку, в которой Дидро клеветал на святого. «Нет, — заключает Бризар, — не вотще совершил я это паломничество; не праздное любопытство подвигнуло меня посетить эти места, но намерение ближе сойтись с добродетелью». Все здесь «так призывает к добродетели»! И, покинув гробницу Жан-Жака, аббат чувствует себя «утвердившимся на стезях добродетели» (Brizard. Pèlerinage d'Ermenonville: Aux manes de Jean-Jacques Rousseau (Masson, t. III, p. 82 cл.).
(обратно)[265]
«Второй диалог».
(обратно)[266]
В кн. IV «Эмиля» Руссо, под тем предлогом, что любовь к себе — чувство изначальное (что верно, хотя не менее верно, что любовь к Первоначалу нашего бытия еще изначальнее и что всякая тварь естественно любит больше, чем себя, Того, «Чья она есть уже потому, что есть (cujus est secundum hoc ipsum, quod est), a иначе естественная любовь была бы извращенной и не восполнялась бы, но уничтожалась духовной» — Sum. theol., I, 60, 5), уже изъяснил, что мы должны любить себя более всего, противопоставляя «самолюбие», сравнивающее себя с другими, порожденное человеческими отношениями, а потому порождающее яростные страсти, «любови к себе», относящейся лишь к нам в одиночестве нашего абсолютного «я» и служащее источником всякого добра. Короче, уже тут он превращает любовь к себе в субститут любви к Богу и, таким образом, уже в это время делает набросок теоретической проекции собственной психологии, еще не достигшей полного патологического развития. Вместе с тем, Руссо был убежден, что совсем не знает эгоизма, и изображал себя «ищущим даже счастье свое только в счастье других» (Письмо к г-ну Пердрио, 28 сентября 1754 г. (Correspondance générale, publ. par Th. Dufour, t. II, p. 132).
(обратно)[267]
«Второй диалог».
(обратно)[268]
«Мечтания…», Прогулка девятая.
(обратно)[269]
«Второй диалог».
(обратно)[270]
См. «Мечтания…», Прогулка четвертая: «Блажен я, если, самосовершенствуясь, научусь уйти из жизни не лучше, потому что это невозможно, а добродетельнее, чем пришел в нее».
(обратно)[271]
Письмо к Дюкло, 1 августа 1763 г.
(обратно)[272]
Первое письмо к г-ну Мальзербу. Ср. также в «Исповеди», I, 1: «Я думаю, ни одно существо нашего рода по природе не имело меньше тщеславия, чем я». Отрицать же доброту Жан-Жака чрезвычайно дурно: «Как! человек, проживший сорок лет жизни, любимый всеми, не имевший ни одного врага — чудовище? Автор "Элоизы" — злодей? Если есть несчастный, который мог бы так подумать, — он-то, сударыня, и есть чудовище, его-то и следует придушить» (Письмо к г-же де Креки, между 1772 и 1778 г. — Lettres inédites de J.-J. Rousseau, recueillies par Théophile Dufour. — «Revue de Paris», 15 sept. 1923).
(обратно)[273]
Brizard. Pèlerinage d'Ermenonville (Masson, III, 86).
(обратно)[274]
Seillère. Jean-Jacques Rousseau. Paris, Gamier, 1921, p. 423. По нашему мнению, заслуживает серьезной критики то, как г-н Сейер употребляет слово «мистицизм», но всякий, кто интересуется Руссо, должен быть признателен ему за его исследования (см.: «Le péril mystique dans l'inspiration des démocraties contemporaines», «Les étapes du mysticisme passionel», «Les origines romanesques de la morale et de la politique romantique», «Mme Guyon et Fénelon précurseurs de Rousseau») и признать их первостепенную важность.
(обратно)[275]
«Мечтания», Прогулка первая. См. также Прогулку шестую: «Если бы моя внешность и черты лица были бы столь же совершенно неизвестны людям, как мой характер и естество, я без труда жил бы среди них… Без сопротивления отдаваясь своим естественным склонностям, я бы до сих пор любил их, если бы они не занимались мною. Я упражнял бы на них всеобщую и совершенно бескорыстную склонность к добру… оставайся я свободным, безвестным, одиноким, я творил бы только добро… Будь я невидим и всемогущ, как Бог, я был бы добр и благодетелен, подобно Ему».
(обратно)[276]
Charles Maurras. Romantisme et Révolution (предисловие к последнему изданию).
(обратно)[277]
Baumier. Tableau des moeurs de ce siècle, en forme d'épîtres. Londre, Paris, 1788 (Masson, III, 76).
(обратно)[278]
Чтобы не понимать превратно авторов, слишком сведущих, чтобы допускать подобную ошибку, например г-на Бремона, необходимо вспомнить о бесконечной разнице между членом сравнения, заключающим в себе аналогию в том или ином акцидентальном аспекте, но принципиально и сущностно иного плана, и зачатком, каким бы отдаленным, неоформленным и неточным он ни был.
(обратно)[279]
В наши дни встречается столь печальное злоупотребление словом «мистический», что как никогда важно обнаружить и установить его точный смысл.
Есть два метода определения понятий: метод, свойственный Новому времени, который можно назвать материальным — через более широкий круг явлений, — и метод, свойственный древним, который мы назовем формальным — через обращение к чистому случаю.
При первом методе сразу очерчивается пространная область, охватываемая словом, взятым в грубом значении, во всем объеме, который оно имеет в обиходном языке, так что возникает риск захватить самые разнородные составляющие, как это случилось с Уильямом Джемсом при изучении религиозного опыта. При втором методе первоначально рассматривается самый ясный и самый типичный случай, когда слово, о котором идет речь, употребляется в собственном смысле, представляя собой ту умопостигаемую форму, которую в первую очередь и означает, а затем смысл, открывшийся таким образом, постепенно расширяют, распространяя понятие и извлекая из него все до крайних пределов его растяжимости.
Пользуясь этим вторым методом и обращаясь к компетентной в данном случае науке, а именно к богословию, можно увидеть, что слово «мистика» собственно и прежде всего относится к «опытному знанию божественного, которое даруется Премудростью» и, в более общем значении, к состоянию человека, «живущего дарами Святого Духа». Вот совершенно точное понятие мистики. Она есть жизнь интеллектуальная и чувственная одновременно, причем в наивысшей степени, поскольку дар Премудрости предполагает Любовь, но сам находится в области интеллекта: мистик встает выше разума — в силу единства с первоначалом разума; интеллект в нем подчиняется Любви — потому, что мы не имеем возможности в этой жизни видеть Бога, и только Любовь позволяет нам стать сосущными божественному и тем сообщить нам сверхразумное знание о божественном.
Как же тогда это богословское по сути понятие может деградировать, приобретя расширительное значение?
Это может случиться, если оно перейдет в план природы и тогда станет означать всякое усилие, предпринятое чтобы достичь единения с Богом или с каким-либо суррогатом Бога (Абсолютом, Истиной, Совершенством, Всемогуществом и т. п.), превосходя разум, но при помощи какого-либо естественного средства: либо чувства, и тогда мы имеем сентиментальный мистицизм («бельфегоризм», говоря модным словцом), либо чистого интеллекта, и тогда имеем или интеллектуальный мистицизм (можно сказать, «гностицизм» в самом широком смысле), или ту разновидность метафизического экстаза, черты которого, по-видимому, запечатлели Упанишады.
Наконец, если понятие мистицизма еще более опускается и деградирует, мистиком назовут того, кто руководствуется не разумом, а квазирелигиозной «верой» в тот или иной идеал (или миф), — в этом смысле Пеги говорил о республиканской мистике. В еще более общем смысле мистиком назовут человека, естественно предрасположенного к тому, чтобы признать невидимый мир более важным для нас, чем видимый, и искать в вещах составляющую, которую не может воспринять простое рациональное познание.
Так можно объединить (впрочем, с должным различением степеней их ценности) большую часть принятых ныне употреблений слова «мистика», но при этом видно, что все эти вторичные словоупотребления тем менее точны, чем больше удаляются от типического смысла понятия, относящегося к полной власти Духа Святого над душой, к состоянию, которое не только сверхразумно, но и по сущности сверхъестественно. Это понятие может быть расширено только через внешние аналогии с состоянием метафизического сосредоточения, которое в даже своем последнем пределе может лишь прикоснуться к естественному интеллекту бесплотных духов, а далее либо с иллюзиями, которые в силу чрезмерных притязаний интеллекта или, напротив, пренебрежения им принижают человека до нижеразумного состояния, либо просто с естественной склонностью, влекущей к таинственному.
«Около столетия назад, — пишет г-н Сейер, — Балланш включил его [Руссо] в число великих мистиков, явившихся благодаря проповеди Иисуса вслед за Данте и святой Терезой». Это все равно, что включить шимпанзе в число великих людей, явившихся благодаря акту творения вслед за Авраамом и Воозом.
(обратно)[280]
R.P. de Cassade. L'Abandon à la Providence Divine, t. I, p. 115.
(обратно)[281]
«Второй диалог». Вот это признание автора «Эмиля»: «Я сказал, что Жан- Жак не добродетелен, и наш человек добродетельным также не будет — да и как ему быть добродетельным: ведь он слаб и покорствует склонностям, вождь его — всегда сердце, никогда не долг и не разум? Как добродетель, которая вся — труд и брань, может царить там, где лень и чистые неги? Он будет добр, потому что таким его сотворила природа; он будет делать добро, потому что ему приятно его делать, но если потребуется сражаться с самыми дорогими желаниями, разрывать себе сердце, чтобы исполнить долг, — станет он это делать? Сомневаюсь. Закон природы, по крайней мере, глас природы, так далеко не зовет. Значит, нужен другой закон, призывающий к этому, повелевающий природе замолчать. Но будет ли наш человек ставить себя в столь тягостные положения, где рождаестя столь жестокий долг? Еще более сомневаюсь…»
(обратно)[282]
Как мне представляется, любопытный свет на происхождение этих псевдомистических идей бросает следующий текст, относящийся к 1769 г. В нем прекрасно видно, исходя из каких истин, сильно прочувствованных, но тотчас же преувеличенных, произошел сдвиг:
«Будучи всегда откровенен с собой, я чувствую, что на мои рассуждения, даже самые простые, налагается бремя внутреннего одобрения. Вы полагаете, что надобно этого остерегаться — я не могу думать так же и, напротив, нахожу в таком сокровенном суждении естественную оборону против софизмов моего рассудка. Боюсь даже, что в настоящем случае вы смешиваете потаенные склонности нашего сердца, вводящие нас в заблуждение, с тем еще более глубоким, более сокровенным побуждением, которое возмущается и ропщет против таких небескорыстных решений и вопреки нам возвращает нас на путь истины. Это внутреннее чувство и есть чувство самой природы; это ее зов наперекор софизмам рассудка, а доказательство тому — что громче всего оно говорит тогда, когда наша воля с наибольшим подобострастием уступает перед суждениями, которые чувство упорно отвергает. Я нисколько не думаю, что тот, кто судит согласно с ним, подвержен ошибкам, — напротив, полагаю, что оно никогда нас не обманывает, что оно — свет нашего слабого разумения, когда мы хотим идти дальше того, что можем понять» (письмо к неизвестному из Бургуена, 15 января 1769). Ср. также письмо к маркизу Мирабо от марта 1767 г. (не отправлено): «Я совершенно уверен, что мое сердце любит только добро» («Revue de Paris», 15 sept. 1923).
(обратно)[283]
О «насельниках» Жан-Жака см, прим. 37.
(обратно)[284]
Слово «романтизм» может привести к немалым недоразумениям. Я знаю, что в течении, носящем это имя, есть все, в том числе и очень хорошее. Но в высшей степени бесплодно спорить о словах, изменяя их определения в зависимости от текущей задачи, а смысл понятия «романтизм» в общем употреблении, как бы то ни было, достаточно устоялся. Поскольку он обозначает религию поражения в правах разума и его плодов, освящение разнузданной чувствительности, канонизацию нарочито обнаженного «я» и поклонение первобытной естественности, пантеизм в качестве богословия и восторженность в качестве жизненного правила, то надо признать, что Руссо со своим мистическим натурализмом стоит непосредственно у истоков этой духовной болезни.
(обратно)[285]
Аристотель. Фрагмент диалога «Евдем» (приведен в «Утешении к Аполлонию» Плутарха).
(обратно)[286]
См.: F. Lefevre. Interview de С.-F. Ramuz (Une heure avec… 2e sér. Paris, 1924).
(обратно)[287]
Sum. theol., II–II, 188, 8, ad 4.
(обратно)[288]
Эмиль, кн. I.
(обратно)[289]
Sum. theol., II–II, 188, 8.
(обратно)[290]
Жизнь разума как такового — специфически человеческая и предполагающая чувственный мир — требует общественной жизни, но по мере того, как умозрительные добродетели делают рациональную деятельность причастной чисто умозрительной или духовной жизни, она поднимается над общественной жизнью. Вот почему философ и художник, деятельность которых чисто рациональна (у первого она теоретическая, у второго творческая), принципиально ангажированы в общественной жизни и в то же время всем, что есть в них самого чистого и драгоценного, превосходят ее и стремятся от нее освободиться. Таким образом, их отшельничество остается несовершенным и виртуальным: они стремятся к нему, предвкушают его, вырывают для него, что могут, у ревнивой природы, но это не собственная их среда.
Только монах-созерцатель, который ведет жизнь по существу сверхразумную, может вести и совершенно отшельническую жизнь, впрочем, не расставаясь также с жизнью общественной и разумной, но лишь как с необходимым предварительным условием к созерцанию как таковому или поскольку она требуется священными обетами («проповедание от преисподнения созерцанием» — praedicatio ex superabundantia contemplationis).
(обратно)[291]
«Одно из изречений, которые он повторял чаще всего, в разговоре и на письме, таково: «Нет ничего прекрасного — только то прекрасно, чего нет» (D'Eschemy. Éloge de Jean-Jacques Rousseau. - L'Égalité. 1796, I, p. LXXVII (Masson, II, 260).
(обратно)[292]
См.: Ε. Seillère. Jean-Jacques Rousseau. Paris, 1921, p. 132.
(обратно)[293]
Софизм состоит в предположении, что совершенное правительство по определению правит совершенными подданными. Напротив, правительство тем совершеннее, чем более несовершенных подданных может подчинить общему благу.
(обратно)[294]
Sum. theol., I–II, 94, 5, ad. 3.
(обратно)[295]
Богословско-политический трактат, гл. 16.
(обратно)[296]
Sum. theol., I, 96, 4.
(обратно)[297]
Мы говорим о распределительной справедливости целого к частям (totius ad partes), поскольку только о ней здесь и может идти речь.
(обратно)[298]
Ibid., I, 65, 2, ad 3.
(обратно)[299]
В «Новой Элоизе» (ч. III, Письмо 18) Руссо восклицает, обращаясь к Богу: «Сделай все мои поступки согласными с моей непреложной волей — она же и воля Твоя». Отметить здесь аналогию формулировок весьма любопытно.
(обратно)[300]
Если Руссо и приходилось воспроизводить классические формулировки, полагающие первоисток суверенитета в Боге, то либо по логической ошибке, либо потому, что он обожествляет волю народа.
(обратно)[301]
Может ли случиться, что в очень малочисленных группах (вроде швейцарских кантонов) и при очень специфических условиях собрание народа само печется о своем общем благе? Здесь историческая реальность ставит перед христианским правом интересную проблему. В любом случае, абсурдно превращать такую крайнюю возможность в юридическую необходимость, предписанную всякой форме правления.
(обратно)[302]
Жюль Вюи в трех интереснейших очерках (Origine des idées politiques de Rousseau: Extrait du Bulletin de l'Institut genevois, t. XXIII, XXIV, XXV. Genève, 1878, 1881, 1882) показал, что Руссо, строя свои политические теории, имел в виду прежде всего, если не исключительно, свою родину и политическую ситуацию Женевы в тот момент, когда он писал свой труд (поэтому он и останавливался специально на условиях маленькой — не больше швейцарского кантона — страны), а происхождение его догматов, в частности догмата о суверенитете народа, следует искать не в примере кальвинистской Женевы, которую он видел непосредственно, а, напротив, в воспоминаниях о епископской Женеве и ее вольностях (предоставленных 13 мая 1387 г. князем- епископом Адемаром Фабри), преломленных и идеализированных в уме одержимого теоретика, который отстаивал требования привилегированных классов — граждан и буржуа — против магистратов Малого Совета. Очень любопытно замечание г-на Вюи, что наименование «гражданин», которому Французская революция навсегда придала известный нам демократический смысл, в Женеве был аристократическим титулом: наш «женевский гражданин» прекрасно это знал и гордился этим, пока, вследствие судебного преследования, не был вынужден отказаться от этого титула.
(обратно)[303]
В книге г-на Сейера «Жан-Жак Руссо» можно найти интересную картину того, насколько по-разному Жан-Жак высказывался на сей счет. Но представляется, что сам г-н Сейер недостаточно глубоко понимает философское и богословское значение идеи «природы», без чего нельзя должным образом исследовать ни руссоизм XVIII в., ни янсенизм XVII.
(обратно)[304]
В некотором смысле, все заблуждения Руссо происходят от того, что он, справедливо взыскуя, как благих, исконных человеческих склонностей, ошибочно ищет их в чувственной индивидуальности, а не в сущности, а потому не обнаруживает изначального предназначения естественной нравственности, но впадает в самопотакание.
(обратно)[305]
«Ах, не будем портить человека — и он без всякого труда всегда будет добр» (Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…»).
(обратно)[306]
В «Письме к г-ну де Бомону» Руссо называет догмат о первородном грехе «богохульным» (Éd. Hachette, III, 67).
(обратно)[307]
См. выше, с. 252.
(обратно)[308]
С точки зрения исторической преемственности идей, руссоистская идея доброты от природы, без сомнения, восходит к сильному натуралистическому течению, идущему от Возрождения и Декартовой реформы, особенно в той мере, в какой они готовили извращение христианской догматики. Его истинные истоки должно искать не только в «добром дикаре», изобретенном неблагоразумной апологетикой миссионеров XVIII в., но также, и гораздо более коренным образом, в натурализации самой идеи благодати — процессе, который заметен в школе Фенелона (см.: Seillère. Fénelon et mme Guyon précurseurs de J.-J. Rousseau), — и, с другой стороны, как мы показали в «Раз мышлениях об интеллекте» (гл. 9), в янсенизме и протестантизме как таковых: в еретическом преувеличенном пессимизме многих историков относительно духа христианства, вследствие которых они смотрели на преимущества невинного состояния как на заслуженно принадлежавшие человеческой природе прежде, чем она сущностно повредилась первородным грехом.
(обратно)[309]
В правильном понимании эта истина означает: 1) что фактическим состоянием, в котором был создан человек, было состояние доброты, праведности и блаженства — это было благодатным и сверхъестественным преимуществом, первым залогом нашего предназначения; 2) что в метафизическом отношении человеческая природа в своей сущности и первоначальных наклонностях добра и обращена к благу, так что всякое дело разума и культуры, во избежание наихудших бед, должно в своем развитии следовать за природой — она есть как бы первая опора человеческой жизни. С этой точки зрения, филиппики Руссо против современного общества, глубоко испорченного искусственностью и противоестественностью жизненных условий, более чем оправданны, и некоторый разумный «возврат к природе» в том, что касается самых основ строя и гигиены личной и общественной жизни (см. замечательные работы д-ра Картона), кажется все более и более необходимой реакцией на него.
Но все это не отменяет немощи человеческой природы и язв, оставленных первородным грехом, не отменяет того, что в конкретном и индивидуальном отношении природа каждого человека полна зародышей бесчинства и постоянно находится в опасности, идущей от «очага греховных помыслов в себе». «Наши первые побуждения» далеко не всегда «законны» [Примечание автора. «Даже в том униженном состоянии, в котором мы пребываем в этой жизни, все наши первые побуждения законны» (Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…»). Двусмысленность здесь в слове «первые», под которым Руссо понимает не только метафизически исконные склонности — в этом случае его утверждение верно, — но и эмпирически первоначальные, то есть предшествующие рассуждению — движения, спонтанно вырастающие в каждом из самых потаенных и сокровенных его глубин. (См. также в «Письме к г-ну де Бомону»: «Первые движения природы всегда праведны» и в «Новой Элоизе», ч. V, Письмо 3: «Нет заблуждения в природе».)] Напротив, воля всякого человека, оставленная на произвол одних лишь естественных сил, в падшем состоянии не может действительно избрать Бога своей конечной целью: для этого потребна благодать (см.: Sum. theol., I–II, 89, 6; 109, 3–4).
(обратно)[310]
Рассуждение о происхождении неравенства…
(обратно)[311]
Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…».
(обратно)[312]
Второе письмо к Софи (Oeuvres et correspondance inédites. Éd. Streckeisen- Moulton, 1861; Masson, II, p. 55).
(обратно)[313]
Второе письмо к Софи (Masson, II, 56). Далее (письма 2 и 4) Руссо пишет: «Я хочу говорить с вашим сердцем, а спорить с философами не берусь. Сколько бы они мне ни доказывали, что правы, я чувствую, что они лгут, и убежден, что и они это чувствуют… Если вы почувствуете, что я прав, — большего мне не надо». См. еще в Третьем письме к Софи: «Субстанция, душа, тело, вечность, движение, свобода, необходимость, последовательность и проч. — в философии это всё слова, которые приходится употреблять ежесекундно и которых никто никогда не понимал…» Если он говорит о себе, то тут он прав.
(обратно)[314]
Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…».
(обратно)[315]
См. о философской вере Руссо в его письме к Вольтеру от 18 августа 1756 г.: «Что до меня, признаюсь вам простодушно, что светом одного разума ни утверждение, ни отрицание на сей счет не кажется мне доказанным, и если теист опирает свое чувство лишь на вероятность, то атеист еще менее ясен и мне кажется, что его чувство тоже опирается лишь на возможность, но противоположную. К тому же споры тех и других вовсе неразрешимы, ибо говорят они о вещах, о которых человек не может иметь настоящего понятия. Я соглашаюсь со всем этим, и все же верю в Бога так же крепко, как верю во всякую иную истину, потому что верить или не верить менее всего зависит от меня, потому что состояние сомнения слишком тяжко для моей души, потому что вера, когда мой разум в неопределенности, не может долго оставаться в таком положении и укрепляется помимо него, наконец, потому что множество поводов предпочтительно увлекает меня на более утешительную сторону и на чашу весов разума кладет гирю надежды.
…Я не возражаю, если то, что я называю «доказательствами чувства», назовут «предрассудком», и не ставлю этого упрямого убеждения в образец, но с беспримерным, может быть, чистосердечием выставляю его как непобедимое расположение моей души, которое никогда ничто не сможет одолеть, о котором мне никогда прежде не приходилось жалеть и на которое нельзя нападать без жестокости» (Correspondance générale. Publ. par Th. Dufour, II, p. 319–320).
(обратно)[316]
Masson, II, 261 (25 июня 1761).
(обратно)[317]
Новая Элоиза, ч. III, Письмо 28. См. еще ч. VI, Письмо 8: «Я желала бы, — пишет Юлия о г-не де Вольмаре, — всю кровь мою отдать, чтобы он уверовал: если не для блаженства на том свете, то для счастья на этом».
(обратно)[318]
Mémoires de madame d'Épinay, Π, 394–395 (Masson, I, 185).
(обратно)[319]
Masson, II, 261,266.
(обратно)[320]
«Блаженные вымыслы заменяют ему действительное счастье — да что я говорю? он один и счастлив прочно, поскольку земные блага ежеминутно могут каким угодно образом ускользнуть от того, кто мнит обладать ими, но ничто не может отнять воображаемых благ у того, кто умеет им радоваться; ими он обладает без опасений, без страха» («Второй диалог»).
(обратно)[321]
Г-н Массон, также отметивший это (II, 262), ссылается на брошюру: A. Schinz. Rousseau, a forerunner of pragmatism. Chicago, 1909, - и статью: Irving Babbit. Bergson et Rousseau (trad. J. Scialtiel). — «Revue bleue», 7 dec. 1912.
(обратно)[322]
Письмо дону Дешану (25 июня 1761).
(обратно)[323]
Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…».
(обратно)[324]
Там же.
(обратно)[325]
Письмо к г-ну де Бомону.
(обратно)[326]
Письмо к Д'Аламберу.
(обратно)[327]
Письмо к неизвестному (из Бургуена), 15 января 1769 г.
(обратно)[328]
Письмо к г-ну Пердрио, 28 сентября 1754 г. (Correspondance générale… II, 134).
(обратно)[329]
Исповедь, кн. VIII.
(обратно)[330]
Третье письмо с горы.
(обратно)[331]
Masson, II, 259. К вопросу о том, что он называет «пигмалионизмом» Жан- Жака: сам Руссо в «Пигмалионе» вкладывает в уста герою слова: «Боги могучие, боги благодетельные, боги народа, знавшие страсти человеческие! Ах! вы сотворили столько чудес для меньших причин! Воззрите на сей предмет, воззрите на сердце мое и заслужите ваши алтари».
(обратно)[332]
Эмиль, I, 4, «Исповедание веры…». Ср. письмо к Вольтеру от 18 августа 1756 г.: «Величайшая из идей, которые я могу иметь о Провидении — что каждое материальное существо наилучшим возможным образом поставлено в отношение к целому, а каждое существо разумное и чувствительное — наилучшим возможным образом к себе самому» (Correspondance générale, II, 318). Об отношении к Богу тут речи вовсе нет.
(обратно)[333]
Письмо к Генриетте (де Можен?), 4 ноября 1764 г. (Masson, II, 228). См. также «Мечтания…», Прогулка вторая: «Я постепенно приучался питать свое сердце собственным своим существом, искать злачные долины внутри себя».
(обратно)[334]
«Эмиль», «Исповедание веры…».
(обратно)[335]
«Мечтания…», Прогулка пятая. См. также: Masson, II, 230.
(обратно)[336]
Masson, II, 120.
(обратно)[337]
Эмиль, «Исповедание веры…».
(обратно)[338]
Письмо к аббату Каронделе от 6 января 1764 г.
(обратно)[339]
С теми же чувствами «благочестия без веры» будут причащаться и праздновать Пасху ученики савойского викария (Masson, III, 62–63).
(обратно)[340]
См.: Исповедь, I, 6; Masson, I, 68.
(обратно)[341]
Исповедь, там же.
(обратно)[342]
«Истинная непорочность в разврате, — говорил Лютер в 1518 г. (Weim., I, 486), — и чем гнуснее разврат, тем прекраснее непорочность». «Бессмертная память невинности и наслаждения! — писал Жан-Жак. — Мои сладострастные картины потеряли бы всякую прелесть, не будь в них сладостного оттенка невинности».
(обратно)[343]
«Человек по природе добр, как я верю и как имею счастье чувствовать» (Ответ Борду, примечание).
(обратно)[344]
Исповедь, I, 6.
(обратно)[345]
«Совесть, — писал Лютер, — не должна иметь ничего общего с законом, с делами и с земным правосудием» (In Galat., I, 172). Только гражданская власть должна заниматься законом и законопослушанием — Моисеем и делами его. «Legis et bonorum operum alius débet esse usus, valet enim ad disciplinam carnis et ad civiles mores»[79*] (Opp. exeg. lat, XXII, 415). Упражнение в законе и добрых делах относится к «гражданской справедливости», гражданским добродетелям (ibid., XXIII, 221). Такая неустранимая противоположность «нравственности» и «законности» сыграла впоследствии значительную роль в немецкой мысли.
(обратно)[346]
Ясно, что мы говорим здесь не о свободе воли — сущностного свойства человека. Мы говорим о свободе в смысле отсутствия принуждения.
(обратно)[347]
Св. Фома. Sum. contra Gent., IV, 22.
(обратно)[348]
Imitatio Christi, III, 5.
(обратно)[349]
Св. Бернард. De diligendo Deo.
(обратно)[350]
В частности, я убрал ряд повторов (но, увы, их осталось еще много; что делать с текстами, относящимися к одной теме, но написанными в самое различное время для различных читателей и аудиторий?) Я добавил также подзаголовки в III главе.
(обратно)[351]
Текст в квадратных скобках является добавлением.
(обратно)[352]
«В Апологии "De Adventu Messiae praeterito", написанной около 1070 г. обратившимся иудеем из Марокко раввином Самюэлем де Фезом, свидетельство божественного установления усматривается в том факте, что лиризм синагоги унаследован Церковью, которая одна поет новую вселенскую песнь, ожидавшуюся пророками» (H. Clérissac. Le Mystère de l'Eglise). Ср.: Вот Rabory. Le chant chrétien preuve de la divinité du christianisme. — «Univers», 10 juillet 1912.
(обратно)[353]
«Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим 11: 32); «но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа» (Гал 3: 22).
(обратно)[354]
Comment, in Cant. Cantic. (1264–1269), cap. VI et seq.
(обратно)[355]
Мы надеемся (как я писал в 1938 г. в «Questions de Conscience») и в будущем прилагать усилия к разработке католической точки зрения на тайну Израиля. В настоящей статье мы хотели изложить ее в виде краткого эскиза, который, несмотря на неизбежные пробелы, указывает, как мы полагаем, в каком направлении надо двигаться. Если читателями этого эссе окажутся израильтяне, то они поймут, что христианин, пытаясь понять что-то в истории их народа, придерживается христианской позиции. Некоторые из предубеждения захотели увидеть некую подоплеку прозелитизма на тех страницах, где мы заботились лишь об истине. Другие усмотрели «упреки» в том, что было лишь констатацией последствий драмы Голгофы с точки зрения отношения Израиля к миру.
Низость нападок некоторых расистских газет, пятнающих честь французской прессы, не лишила меня надежды, что читатели-антисемиты, искренние в своих заблуждениях, быть может, заметят, что их антисемитизм основан на некомпетентных и поверхностных суждениях.
На нашей конференции «Евреи среди других народов» (5 февраля 1938 г., Париж (Éd. du Cerf), посвященной драме евреев в ряде стран (перед Второй мировой войной и кошмаром гитлеризма), были представлены данные, дополнившие с исторической точки зрения философские размышления, приведенные в этой статье.
(обратно)[356]
В моем предисловии к книге: Henry Bars. La Politique selon Jacques Maritain. Paris, Éditions Ouvrières, 1961.
(обратно)[357]
Под заглавием «The Mystery of Israël» — Ransoming the Time, N. Y., Scribner, 1941.
(обратно)[358]
M. Samuel. The great Hatred. New York, Knopf, 1940.
(обратно)[359]
Рим 9: 30–33.
(обратно)[360]
Рим 10: 19–21.
(обратно)[361]
Рим 11: 11–32. См. замечательный комментарий: Erik Peterson. Le Mystère des Juifs et des Gentils dans l'Église. Paris, Desclée De Brouwer, «Les Iles».
[ «И так как Он возлюбил отцов твоих», — говорится уже во Второзаконии (4: 37). Нельзя ли сопоставить с текстом ап. Павла, имея в виду их мистическое пророческое понимание, отрывки из Второзакония (4: 25–31), в которых говорится, что если избранный народ творит зло в глазах Яхве, он будет рассеян среди народов и служить богам — творениям рук человеческих (мы имеем в виду идолов ложного знания и ложных временных упований), но «по прошествии времени» они возвратятся к Яхве и услышат Его голос: «Господь Бог твой есть Бог [благий и] милосердый: Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им» (4: 31).]
(обратно)[362]
Можно назвать его национальным языком в ином смысле, в том же, в котором можно так назвать и испанский язык, служащий во многих странах критерием своей национальности. Известно, что идиш формировался в южной и центральной Германии начиная с XII в.
(обратно)[363]
[Мы верим, что эти замечания остаются верными, при том, что вместе с образованием государства Израиль историческая ситуация совершенно изменилась. См. Постскриптум в конце книги.]
(обратно)[364]
Erich Kahler. Israël unter den Vôlkern. Humanitas Verlag, Zurich.
(обратно)[365]
Исх 19: 5–6: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля; а вы будете у Меня царством священников и народом святым».
(обратно)[366]
Существует множество евреев, предпочитающих мир Богу. Но я хочу сказать, что Израиль продолжает ждать в потемках мира пришествия Мессии, Царство Которого не от мира сего и Который пришел, но Израиль Его не узнал.
(обратно)[367]
Ап. Павел говорит, что они действовали по неведению, распиная Иисуса: «Впрочем, я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению» (Деян 3: 17). Что я здесь имею в виду, это отказ признать Иисуса после Воскресения и слушать Святой Дух, говорящий через апостолов.
(обратно)[368]
[Так как каждое действие обусловлено причиной, его вызвавшей, это действие было включено в тот выбор, который мы сделали. Вот почему следует сказать, что мы в этом случае получаем то, что мы в действительности, не сознавая того, хотели.
Именно к этим наказаниям-событиям относится замечательный текст Исхода [который цитируется ниже]. И хотя он появляется в той же формулировке в Священном писании («наказывающий вину отцов в детях», — это те события, которые Бог посылает, иначе говоря, это есть санкционированные Богом последствия, вызванные совершенным грехом).]
(обратно)[369]
[Да, это было явным богоубийством, хотя никто не хотел этого. И убийство Христа было делом горстки людей: фарисеев, первосвященников, банды фанатиков, нанятых ими для манифестации перед Пилатом, — горстки людей, которые не ведали, что творят. Возлагать ответственность за смерть Иисуса на весь еврейский народ, на всех евреев, живших в Израиле во времена Иисуса, и на всех евреев всех времен — говорить о евреях как о «народе-богоубийце» есть страшная бессмыслица.
Следует добавить: в течение тех лет, когда Иисус проповедовал, множество простых людей выразили готовность идти за ним, и не следует думать, что это была лишь масса тех, кто присоединился к Нему после умножения хлебов. И не говорит ли нам евангелист Марк (Мк 11:18) о том, что книжники и фарисеи искали Его погубить, но боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его; и еще (Мк 12: 37), когда Он учил в Храме о Сыне Давидовом, «множество народа слушало Его с услаждением».
О ситуации, в которой находились различные партии Израиля (в частности, саддукеи, поддерживавшие официальную власть и презираемые народом за их связь с римлянами), можно прочитать в точных заметках отца Р.Л. Брюкберже в его книге «История Иисуса Христа» (Père R. L. Bruckberger. L'Histoire de Jésus Christ. Paris, Grasset, 1965).]
(обратно)[370]
Возможно, что это была кара за отдельные ошибки, совершенные в более близкие времена (не восходящие далее третьего или четвертого поколения), которые Бог не оставляет безнаказанными. Но также возможно, и это относится к жертвам жестокости и тупости людей, что горе и страдание явилось выкупом принесенного свидетельства, историческим призванием, раздражающим мир.
(обратно)[371]
См. прим. 32.
(обратно)[372]
См. Втор 5: 9-10.
(обратно)[373]
[Как бы мне хотелось, чтобы меня правильно поняли, несмотря на мою обрывистую речь. Я имею в виду, что евреи возлюбили мир как место, где они ожидают проявления Божественного правосудия. Поэтому они стали жертвами этого мира. Так как мир не прощает, когда его любят подобным образом.]
(обратно)[374]
[В том смысле, что я назвал «кара-состояние» в противоположность «каре- событию».]
(обратно)[375]
[Таков был (см.: Erik Peterson. Perfidia Judaïca, Ephemerides — des liturgicae, 1936) первоначальный смысл неудачного выражения «perfidia judaïca»[3*], которое, так же как допущение (датируемое IX в.) коленопреклонения в молитве за иудеев, было, наконец, отброшено в Литургии Великой Пятницы.]
(обратно)[376]
Я говорю не об Израиле как о corpus mysticum и, конечно, не об отдельных евреях, о которых мы знаем, что все, на ком благодать, невидимо принадлежат Церкви.
(обратно)[377]
Ср. Второй комментарий на Песнь песней, приписываемый св. Фоме Аквинскому. См. прим. 5.
(обратно)[378]
«Они чувствуют себя спокойно в атмосфере риска и неуверенности, освещаемых надеждой… Еврей никогда не теряет надежды, и это позволяет ему приспособиться к новым обстоятельствам. Он не дает невзгодам сломить его, он постоянно в ожидании, что жизнь вот-вот улучшится. Такое состояние духа очень ценно в обстановке коммерческой ненадежности…», — пишет Артур Руппин, профессор еврейской социологии Иерусалимского университета, в книге «Евреи в современном мире» (Arthur Ruppin. Les Juifs dans le monde moderne. Paris, Payot, 1934).
(обратно)[379]
Когда речь идет о свободной конкуренции, о предоставлении ссуд под проценты или о ценах, установленных в результате состязаний и превышающих объективную стоимость вещи («истинную цену»), — это идеи экономической концепции евреев (в большей степени евреев Востока), способствующей переходу от формы средневековой гильдии к капиталистическому устройству, ставшему господствующим.
Мы далеки от мысли, что евреи одни ответственны за наступление эры капитализма, как это изложено у R.-H. Tawney, J.-B. Kraus, A. Fanfini, развивавших экстремистские положения Вернера Зомбарта. Но евреи все же сыграли свою роль в становлении капитализма, так как средневековая христианская экономика с системой гильдий и запретом ссуды под проценты противоречили их стратегии, можно сказать, что «коммерческие методы евреев оказались реабилитированными» с установлением капитализма, «потому что погоня за прибылью и свободная конкуренция стали основой капиталистической системы» (A. Ruppin. Op. cit.). «Помещение капитала в коммерческие и промышленные предприятия заменило отныне ростовщичество», — замечает тот же автор. В одной очень интересной главе он показывает, что отказ от свободной конкуренции, которая перед войной рассматривалась как главный принцип капиталистической системы, наносит опасный удар по экономическому процветанию евреев. «Для еврея не осталось больше места в коммерции и промышленности, когда вырождающийся капитализм перешел в капитализм государственный, и его положение напомнило то, в котором он был в конце Средневековья, когда система гильдий, официально поддерживаемая, уменьшила себе во вред сферу свободной конкуренции. Рождение капитализма улучшило положение евреев, его исчезновение вновь им угрожает». «Das Judentum erreicht seinen Hôhepunkt in der Vollendung der burgerlichen Gesellschaft» [ «Еврейство достигает своего апогея в завершении гражданского общества» (нем.), — писал Карл Маркс в «Zur Judenfrage», — «К еврейскому вопросу»].
(обратно)[380]
Raïssa Maritain. En esprit, en vérité. — «Lettre de Nuit, la Vie Donnée».
(обратно)[381]
«С другой стороны, создавая книгу о бедных, как мог бы я не сказать о евреях? Какой другой народ так беден, как еврейский народ? О, я хорошо знаю, что существуют банкиры, спекулянты. Легенда хочет, чтобы все евреи были бы ростовщиками. Люди отказываются думать иначе. Речь идет о подонках еврейства. Кто знает этот народ и относится к нему без предубеждения, знает другой аспект его жизни, то, что он несет свою нищету в течение многих веков, и его страдания бесконечны. Некоторые из наиболее благородных натур, которых я встретил в жизни, были евреи. Мысль Церкви во все времена: Святость присуща этому исключительному, единственному в своем роде вечному народу, хранимому Богом, как зеница ока, среди истребления стольких народов, для осуществления Своих грядущих замыслов», — Léon Bloy. Le vieux de la Montagne (2 janvier 1910).
(обратно)[382]
[Насильственно и против их воли, не будем забывать этого (см.: P. Démann. Juifs et Chrétiens à travers les siè es. — «Lumière de Vie», N37, 1958). Каждый раз, когда это оказывается для них возможным, они обращаются к свободным профессиям, прежде всего — к медицине. В иных исторических условиях они обращаются к деятельности, которая кажется противоречащей их естественным склонностям. С появлением сионистского очага мы видели евреев, «повернувшихся к земле» и с большим успехом занимающихся сельским хозяйством. И теперь эта трансформация обычаев полностью проявилась в государстве Израиль.]
(обратно)[383]
В уже цитированной работе Артура Руппина можно найти серьезный социологический анализ этих причин.
(обратно)[384]
Они его преодолели ради жизни вечной. Заповеди Божии нетяжки, писал ап. Иоанн, «ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1Ин 5: 4–5).
(обратно)[385]
[Здесь речь идет о риске, о котором стоит упомянуть. Вот почему государство Израиль не является и, я думаю, несмотря на неминуемые попытки, никогда и не будет государством таким же, как другие.]
(обратно)[386]
[Советский режим объявляет себя противником антисемитизма. Однако в СССР существуют настроения, нечуждые антисемитизму. Во всяком случае, не говоря даже о непримиримой оппозиции советского правительства сионизму, еврейская религия и культура сильно пострадали от этого режима. См. нашу статью: Les Juifs parmi les nations, p. 91–93.]
(обратно)[387]
Léon Bloy. Le salut par les Juifs. Среди трудов католических авторов по изучению проблемы Израиля процитируем упоминаемые ранее эссе: Erik Peterson. Le mystère des Juifs et des Gentils das l'Église; Louis Massignon. Pro Psalmis (Revue Juive, 15 Mars 1925); Jean de Menasce. Situation du Sionisme et Quand Israël aime Dieu (le Roseau d'Or); R. P. Joseph Bonsirven. Sur les ruines du Temple; Juifs et Chrétiens; Les Juifs et Jésus; (мы бы хотели, чтобы материалы конференций, в которых принимали участие данные авторы, были как можно скорее опубликованы); О. de Férenzy. Les Juifs et nous Chrétiens; труды, опубликованные в «Die Erfullung» (1937) под заголовком «Die Kirche Christi und die Judenfrage» и подписанные многими католическими профессорами и писателями; периодические издания: «La Question d'Israël» (бюллетень, публикуемый Les Pères de Notre-Dame de Sion) и «La Juste Parole» (Paris). См. также труды раввина Jacob Kaplan. Témoignages sur Israël, 1938. (Примечание из 1-го издания.)
(обратно)[388]
Гетто как таковое стало принудительным лишь к XIV–XV вв. Это своего рода символ для обозначения определенной политической правовой концепции, именно в таком смысле мы и употребляем слово «гетто». По поводу этой концепции см.: P. Browe, S. J. Dei Judengesetzgebung Justinians (Analecta gregoriana, VIII, Rome, 1935). О доктринально противоположных мнениях и средневековых аналогиях см. серьезную работу: A. Lukyn Williams. Adversus Judaeos (A Bird's eye View of Christian Apologiae until Renaissance), 1935, Cambridge University Press.
(обратно)[389]
He следует забывать, что антисемитизм был осужден Католической церковью (см. Декреты Святой Канцелярии от 25 декабря 1928). Заблуждения расистов, ранее обличенные с такой силой Пием XI в энциклике «Mit brennender Sorge», были также недвусмысленно осуждены в другом папскоом документе (Послание Конгрегации семинарий и университетов, 13 апреля 1938).
(обратно)[390]
Léon Bloy. Le vieux de la Montagne (1 janvier 1910).
(обратно)[391]
Читателю следует помнить о том, что этот текст был написана перед Второй мировой войной. И когда здесь говорится о «войне», имеется в виду Первая мировая война.
(обратно)[392]
См. прим. 30.
(обратно)[393]
«L'Impossible antisémitisme» появившийся сначала в сборнике «Les Juifs» (Paris, Plon, 1937), затем в моем труде «Questions de Conscience»» (Desclée De Brouwer, 1938). См. выше гл. III
(обратно)[394]
См. выше с. 311–312, 315–317, 320, 321–322, 328–333.
(обратно)[395]
Рим 9: 4–5.
(обратно)[396]
Рим 9: 15.
(обратно)[397]
Рим 11:25–32.
(обратно)[398]
См. выше прим. 40.
(обратно)[399]
«И прежде, — продолжает Леон Блуа, — ненавидели евреев, их охотно уничтожали, но их не презирали как расу. Напротив, их боялись, и Церковь молилась за них, помня, что ап. Павел, говоря от имени Святого Духа, обещал им все и что однажды они должны стать светом миру. Антисемитизм — это явление исключительно современное, оно есть наиболее страшная пощечина, которую наш Господь получил во время Его страданий, длящихся непрерывно, наиболее кровавая и неизвинительная, потому что Oн получил ее по Лицу Его Матери и от рук христиан» («Le vieux de la Montaggne», 2 janvier 1910).
(обратно)[400]
Arthur Ruppin. Les Juifs dans le monde moderne. Paris, Payot, 19334.
(обратно)[401]
В еврейском государстве — районе, населенном евреями, — которое советские деятели попытались создать в Биробиджане, собственно еврейская культура находится не в лучшем состоянии.
(обратно)[402]
Oval Leroi. «La Croix», 30–31 janvier 1938.
(обратно)[403]
Paul Fierens. «Revue des poètes catholiques», N 1, 1937.
(обратно)[404]
Заметим, что евреи составляют незначительную часть немецкого населения. До прихода к власти Гитлера в Германии было 550 тыс. евреев. На основании серьезных статистических исследований (доктор Курт Зайлензигер из Амстердама, журнал «Population») с 1933 до конца 1937 г. 1355 тыс. евреев покинули Германию; около 30 тыс. человек уехали в Европу, остальные — в Палестину, Южную Америку, США или в Южную Африку.
(обратно)[405]
По данным Института демографической статистики, следует придерживаться цифр от 760 тыс. до 765 тыс. Около 30 тыс. евреям, начиная с 1920 г. было отказано в натурализации; они получили лишь обязанности и никаких прав румынских подданных. Их контингент увеличился еще на несколько тысяч, у которых либеральное правительство Татареску, предшествовавшее антисемитскому правительству Гоги, незаконно отняло румынское гражданство.
(обратно)[406]
После установления нацизма в Германии множество немецких еврейских семей ехали через Румынию, которая принимала их лишь как транзитников. Остались очень немногие. Процент немецких евреев, осевших в Румынии после 1933 г., незначителен.
(обратно)[407]
Когда мы правили гранки, газеты сообщили о падении правительства Гоги.
(обратно)[408]
«Curentul», 18 août 1937.
(обратно)[409]
Те, кто восхваляют массовые бойкоты как экономическое лекарство против застоя нееврейской торговли, забывают, что можно стремиться заменить режим свободной конкуренции режимом общин организованного труда, но нельзя разрушать ход существующего режима путем насилия. Фактически бойкот, о котором идет речь, отвечает намерению довести до голода еврейских торговцев и ремесленников, чтобы вынудить их эмигрировать. (Будто бы евреи, в частности польские евреи, сами не хотят помочь значительной части эмигрантов, если бы только они могли это сделать] Если бы другие страны открыли свои границы!) Подобный бойкот усугубляет жесткость ситуации, которая и без того взрывоопасна. И то, чего он достиг, так это беспрепятственного развития дурных страстей.
(обратно)[410]
По проблеме еврейской драмы в Польше полезно обратиться к строго документальным статьям Oscar de Férenzi в «La Juste Parole» (1937 и 1938).
(обратно)[411]
«La Croix», 25 janvier 1938.
(обратно)[412]
О проблемах, рассматриваемых в общем, независимо от еврейского вопроса, см.: «L'Homme Réel», février-mars 1936 и различные статьи Mme Magdeleine Paz и Mme Ancelet-Hustache. Во Франции законопроект о юридическом статусе иммигрантов был внесен 11 декабря 1934 г.
(обратно)[413]
«Religion et Culture.»
(обратно)[414]
См.: «La Croix», 16 septembre 1938.
(обратно)[415]
«New York Times», Nov. 20, 1938.
(обратно)[416]
Это ответ на нападки, опубликованные в бельгийском периодическом издании на мой очерк «Невозможный антисемитизм» (его название теперь «Тайна Израиля») и тотчас использованные немецкой нацистской прессой. Этот ответ появился в «La Question d'Israël», «Bulletin des Pères de N.-D. de Sion» (1 juillet 1939), затем в моей книге «Raison et Raisons», Paris, LUF, 1947. Английский перевод этого ответа («Answer to One Unnamed») составил главу VII сборника «Ransoming the Time» (New York, Scribner, 1941).
(обратно)[417]
Erik Peterson. Le Mystère des Juifs et des Gentils dans l'Église. Desclée De Brouwer, 1936, p. 56–57.
(обратно)[418]
Св. Фома Аквинский. In Ер. ad Romanes, cap. XI, lect. 2 (в XI, 12 и XI, 15).
(обратно)[419]
[Это слово использовано в переводе, сделанном под руководством L'École biblique (Иерусалимская Библия).]
(обратно)[420]
Рим 11:1. Ср. «Не отверг Бог народа Своего, потому что многие обратились (11: 2–7), и если другие ожесточились (8-10), это ожесточение не более бесповоротно, чем наказания, которые иногда обрушивались на Израиль» (Lagrange. Ép. aux Rom., p. 206).
(обратно)[421]
Hist, univ., 2 Partie, en. XX.
(обратно)[422]
См. нашу статью «Евреи среди других народов» (ниже, гл. IV).
(обратно)[423]
Problèmes sociaux, Réponses chrétiennes, p. 62.
(обратно)[424]
Св. Григорий Великий. Horn. XXV in Evang.
(обратно)[425]
Св. Фома Аквинский. In Joann., XVIII, lect. 1.
(обратно)[426]
Эти страницы были написаны в 1939 г. С того времени более 6 млн. евреев были уничтожены нацистами во время самой огромной операции истребления, предпринятой человеческой жестокостью с помощью газовых камер и печей крематориев, лагерей медленной смерти, врачебных убийств, удушения в запломбированных вагонах и с помощью планомерного использования болезней, холода и голода. Но похоже, что еще остались антисемиты и люди, для которых «проблема евреев» не воскрешает в памяти никакой трагедии, никакой тайны, заставляющей дрожать христиан (Жак Маритен, 1946).
(обратно)[427]
[Я обратился к тому же вопросу, но более кратко, в работе «Pour une philosophie de l'histoire». Éd. du Seuil, 1959. В данном сборнике эти страницы во избежание повторов были опущены.]
(обратно)[428]
Ис 28: 16; 8:14.
(обратно)[429]
Ис 28: 16 (Септуагинта).
(обратно)[430]
Иоиль 2: 32 (3,5).
(обратно)[431]
Ис 52: 7.
(обратно)[432]
Ис 53:1.
(обратно)[433]
Пс 19 (18): 5.
(обратно)[434]
Втор 32: 21.
(обратно)[435]
Ис 65: 1–2.
(обратно)[436]
1 Цар 12:22; Пс 94 (93): 14.
(обратно)[437]
1 (III) Цар 19: 10, 14.
(обратно)[438]
1 (III) Цар 19: 18.
(обратно)[439]
Ис 29: 10; Втор 29: 4.
(обратно)[440]
Пс 69(68): 23–24.
(обратно)[441]
См. Втор 32: 21.
(обратно)[442]
Bossuet. Histoire Universelle, IIe parti, ch. XX.
(обратно)[443]
«Когда вы увидите нас входящими в Церковь и приближающимися к вам, — говорит аббат Леман, — это событие не будет больше вестником смерти, но вестником жизни. Мы вернемся не для того, чтобы возвестить конец, но чтобы помешать ему. Святой ап. Павел, обратившийся иудей, который ясно видел судьбы нашего народа, называет обращение евреев богатством мира. Еще он называет его возвращением от смерти к жизни; не с концом времен, но именно с моментом наиболее удивительного сияния мира совпадет обращение евреев» (La Question du Messie, p. 150).
О. Алло считает, что обращение Израиля произойдет скорее до, нежели после явления «человека греха». Нам кажется, что гораздо более соответствует многим эсхатологическим текстам Священного Писания мысль, что обращение совпадет с падением и уничтожением Антихриста. Св. Августин допускает, что между уничтожением Антихриста и концом мира будет какой-то интервал. Это будет, несомненно, долгий период времени, говорит о. Цуккони в своем комментарии на Апокалипсис. См.: R.P. Fortuné de la Vallette. Apocalypse de saint Jean. — «Revue de l'Université d'Ottawa», juillet-septembre 1938 à avril-juin 1939.
(обратно)[444]
См.: Ис 57: 19, 52: 7.
(обратно)[445]
В Первом послании к Фессалоникийцам ап. Павел объясняет им, что они претерпели от своих собратьев то, что церкви Иудеи претерпели со стороны иудеев — от тех иудеев, «которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и чрез это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца» (1 Фес 2: 15–16). Эти слова — против тех иудеев, которые, будучи надменными и злыми убийцами пророков и Христа, преследовали христиан, чиня им препятствия для проповеди Евангелия своей клеветой, о чем здесь негодует ап. Павел. Он не имеет в виду — и это совершенно очевидно — еврейский народ как таковой, по поводу которого он говорит совсем иначе в Послании к Римлянам. Поскольку «дары и призвание Божие непреложны», этот народ остается «всегда любимым ради отцов». См.: Lagrange. Épître aux Romains, p. 266.
(обратно)[446]
Чтобы сыны Израиля не видели больше исчезновения сияния его лица. Символ временного характера Ветхого Завета.
(обратно)[447]
Ис 59: 20–21; 27: 9.
(обратно)[448]
[См. выше прим. 70.]
(обратно)[449]
Ис 40: 13–14; Иов 41: 2 (heb.).
(обратно)[450]
Св. Фома Аквинский. In Joan., XVIII, lect. 1. — См. выше, с. 311.
(обратно)[451]
Организованного моим другом Борисом Миркиным-Гетзевичем, вицепрезидентом Высшей свободной школы, которое было посвящено Французскому университету в изгнании и трудам, выполненным им во время войны с замечательной самоотверженностью.
(обратно)[452]
Конгресс юристов, 1936.
(обратно)[453]
См.: Marie Syrkin. German Police Testifies, в «Jewish Frontier», November, 1942.
(обратно)[454]
Ibid., p. 27.
(обратно)[455]
Доклад, опубликованный польским правительством в изгнании «London Fortnightly Review», December, 1942).
(обратно)[456]
Hitler's Black Record (документация, собранная в нейтральной стране и затем переданная президенту Рузвельту Американским еврейским конгрессом), р. 4.
(обратно)[457]
The Mayor of the Warsaw Ghetto. — «Jewish Frontier», November, 1942.
(обратно)[458]
Ibid., p. 5.
(обратно)[459]
Там же, «The Nazis in Chelm» (доклад, полученный «United Relief Commitee for Polish Jews» в Тель-Авиве. November 10, 1940) и «The Extermination Center» (сообщение, полученное польской еврейской рабочей партией «Бунд»).
(обратно)[460]
«Jewish Frontier», November, 1942, p. 5, 32.
(обратно)[461]
Hitler's Black Record, p. 5.
(обратно)[462]
Hitler's Black Record, p. 6. «Jewish Frontier», p. 5.
(обратно)[463]
Hitlers Black Record, p. 6.
(обратно)[464]
Ibid.
(обратно)[465]
«Jewish Frontier», p. 4, 5.
(обратно)[466]
Ibid., November, 1942, p. 30–31.
(обратно)[467]
Ibid., p. 33. Hitler's Black Record, p. 6.
(обратно)[468]
«Jewish Frontier», November, 1942, p. 28.
(обратно)[469]
«New York Post», January 23, 1943.
(обратно)[470]
См. выше, с. 384–386.
(обратно)[471]
«Die historische Erfahrung hat gelehrt, dass die Vernichtung eines fremden Volkes nicht gegen die Lebensgesetze verstôsst, vorausgesetzt dass diese Vernichtung total ist». См.: Grossraum Ordnung und Grossraum Verwaltung. — «Zeitschrift fur Politik», Juin, 1942. Цит. Хаимом Гринбергом в «Jewish Frontier», ноябрь 1942, с. 7.
(обратно)[472]
Перевод с английского. Сборник «Pour la Justice» («За справедливость») включает те тексты об антисемитизме на английском языке, которые во избежание повторов не были переведены для данного сборника: «On Antisemi- tism» и «Christianity and Crisis», 6 октября 1941; «Help for the Persecuted», речь на собрании Emergency Rescue Commitee 28 марта 1942; «Atonement for All». — «The Commonweal», 18 сентября 1942; «Antisemitism as a Problem for the Jew». — «The Commonweal», 25 сентября 1942.
(обратно)[473]
См. прим. 130.
(обратно)[474]
«Contemporary Jewish Record», p. 47.
(обратно)[475]
Основная тема, избранная Union of American Hebrew Congregation для его 38-й конференции, была «Исцеление человечества».
(обратно)[476]
Чтобы письменно изложить текст радиопередачи, я использовал, сократив их, несколько страниц статьи «On Antisemitism» («Christianity and Crisis», Oct. 8, 1941), которая не была включена в этот сборник.
(обратно)[477]
Радиопередача в Рождество 1943 г., не приведенная в этом сборнике.
(обратно)[478]
… Дальше — Христос, распростертый.
Над миром греховным
В бездне пространства цвета слоновой
кости… На четыре стороны света
Полыхает яростное пламя
Бедные евреи отовсюду уходят
Некому за них заступиться
Нет на земле для них места
Чтобы отдохнуть, ни единого камня Евреи — вечные скитальцы..
Раиса Маритен. «Шагал», из «Ночного письма» (Paris, Desclée De Brouwer, 1939). Пер. А. Анненковой.
(обратно)[479]
На самом деле именно в силу обманчивых личин истории, слишком похожих на действительность в том, что касается человеческих ошибок, из Христа насильственно сделали символ разделения между евреями и христианами. В глубинной реальности Его дела искупления, в самой тайне Его смерти на кресте, в вечном замысле Божьем нет разделения, но есть единение двух народов: Израиля и язычников, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду… И, пришед, благовествовал мир вам, дальним [язычникам] и близким [евреям]» (Ап. Павел. Еф 2: 14–17). См. выше, с. 383.
(обратно)[480]
«Deus Excelsus Terribilis», позже опубликованная Раисой Маритен в ее книге «Au Creux du Rocher» (Paris, Alsatia, 1954).
(обратно)[481]
Тот, кто не избран для жизни вечной. Иуда был избран вместе с двенадцатью для апостольства. Иисус с самого начала знал, что тот Его предаст. «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол» (Ин 6: 70, 71–72). Но Он его выбрал, потому что любил, а не потому что Он знал, что Иуда Его предаст и потому, что в Его молитве о деле, на которое Он был призван, Иуда был указан вместе с одиннадцатью другими Отцом.
(обратно)[482]
О соотношении между вечным божественным позволением и свободой твари, являющейся первопричиной нравственного зла, первичная инициатива небытия которой предопределена в самом установлении вечного Божественного плана, см. книгу Жака Маритена «Dieu et la Permission du Mal», в особенности с. 93–98. — Прим. французского переводчика.
(обратно)[483]
[Здесь речь идет о том, что выше (с. 318) мы назвали кара-состояние в отличие от кары-события. См гл. III, 3, с. 317–319.]
(обратно)[484]
См. выше, с. 311–312, 374–375 и особенно с. 380–384.
(обратно)[485]
Этот текст также ранее цитировался в настоящем сборнике; см. выше, с. 383–384.
(обратно)[486]
В статье «Christianity and Crisis»; см. прим. 127.
(обратно)[487]
Le Droit et la vraie signification du Racisme, New York, 25 janvier 1943, в «Pour la Justice», New York, La Maison Française, 1945, ch. XXV. [См. выше, стр. 395–399. Отрывок со слов: «Направьте в определенную сторону…» и т. д. цитировался в моем письме, здесь я не привел его во избежание повтора.]
(обратно)[488]
[По правде сказать, мы касаемся здесь очень важной проблемы. Навыки бесцеремонности и негибкости языка, по причине которых члены одной группы людей используют, даже не замечая этого, необычный словарный запас, в большей или меньшей степени оскорбительный с точки зрения другой группы людей (если эта последняя принимается за столь чуждую, что фактически не имеет реального существования, психологического и морального, для членов первой группы). Эти навыки заслуживают специального исследования и особого внимания ради их исправления. Добавлю, что это замечание относится к евреям, которые слишком часто убеждаются в неприятии христиан, как и для христиан, часто убеждающихся в неприятии евреев.]
(обратно)[489]
См. выше, гл. XIV.
(обратно)[490]
См.: John M. Oesterreicher. Pro Perfidis Judaeis. — «Theological Studies», March 1947. Высочайшим постановлением Иоанна XXIII, датированным Великой Пятницей 1959 г., эти слова, впрочем, были устранены из литургии.
(обратно)[491]
См.: св. Фома Аквинский. Comm. in Ер. ad Romanos, с. XI, lect. 2.
(обратно)[492]
[Хотя, с другой стороны, был достигнут большой прогресс. Однако христианская лексика в отношении к Израилю остается в основном еще далекой от той, какой ей следует быть. В разговоре о евреях христианину никогда нельзя использовать такие слова, как отвержение и падение, пусть даже во временном смысле, так как предписание самого ап. Павла запрещает нам это. «Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак» (Рим 11: 1). Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак» (Рим 11: 11). Этим я исправляю мою ошибку, так как из- за слишком поспешного редактирования мне случалось (по милости Божьей — редко) позволить себе не заметить одно или другое из этих двух слов в каком-нибудь из текстов, собранных здесь мною (и которые я исправлял для этого сборника).]
(обратно)[493]
См. выше, с. 308, 331–332, 443.
(обратно)[494]
Временным и секулярным государство Израиль является и в самом принципе, и на основе права, но на самом деле оно будет таковым, лишь когда ему удастся освободиться от теократического нажима, оказываемого меньшинством, называемым «ортодоксальным», которое, вместо того, чтобы трудиться в религиозной сфере, вновь открывая вечные ценности, без которых немыслимо никакое духовное служение или миссионерство, упорствует в стремлении навязать в политическом аспекте некую видимость сакрального государства. Такие партии, как Национальная религиозная партия или «Агудат Израэль», идут против потока истории.
(обратно)[495]
Пс 137(136): 5–6.
(обратно)[496]
Речь перед римской знатью 14 января 1964 г.
(обратно)[497]
André Chouraqui. Histoire du Judaïsme. Paris, Presses Universitaires de France, 1963, p. 21.
(обратно)[498]
Ibid.
(обратно)[499]
Мы говорим здесь о мудрости в смысле познания, метафизике и теологии. Схоласты различают мудрость более высокую, в смысле сродства или соприродности божественному. Такая мудрость является одним из даров Святого Духа, она не ограничивается процессом познания, а познает с любовью и ради любви. «Contemplatio Philosophorum est propter perfectionem contemplantis, et ideo sistit in intellectu, et ita finis eorum in hoc est cognitio intellectus. Sed contemplatio Sanctorum, quae est catholicorum, est propter amorem ipsius, scilicet contemplati Dei: idcirco, non sistit in fine ultimo in intellectu per cognitionem, sed transit ad affectum per amorem»[2*] (Alb. Magnus (Jean de Castel). De adhaerendo Deo, cap. IX).
(обратно)[500]
«Finis practicae est opus, quia etsi "practici", hoc est operativi, intendant cognoscere veritatem, quomodo se habeat in aliquibus rebus, non tamen quaerunt earn tanquam ultimum finem. Non enim considérant causam veritatis secundum se et propter se, sed ordinando ad fmem operationis, sive applicando ad aliquod determinatum particulare, et ad aliquod determinatum tempus»[3*] (св. Фома. In lib. II Metaph., lect. 2; Аристотель. Met., 1. И, с 1, 993 b 21).
(обратно)[501]
Ср.: Хуан de Санто-Томас. Cursus philos., t. I. Log. IIa P., q. 1; Cursus theol. (Vives, t. VI), q. 62, disp. 16, a. 4.
(обратно)[502]
Работа художника по преимуществу человеческая и не может быть выполнена домашней скотиной или механизмом. Поэтому человеческая продукция в норме должна быть художественной, т. е. принадлежать рукам определенного мастера; ведь художник не терпит обобществления. С моральной точки зрения, вещи должны быть в общем пользовании, однако, с точки зрения производства, они должны иметь конкретного владельца; в развилку этой антиномии св. Фома ставит общественное противоречие.
Если работа становится нечеловеческой или скотской, из-за того что труд теряет творческий характер и материя подавляет человека, цивилизация неизбежно тяготеет к коммунизму и к самодовлеющему производству, при котором настоящие человеческие интересы забываются (и которое в конечном счете губит подлинное производство).
(обратно)[503]
Напротив, благоразумие есть правильное определение необходимых деяний (recta ratio agibilium), a наука — правильное определение познаваемых объектов (recta ratio speculabilium)[7*].
(обратно)[504]
Для простоты мы будем говорить здесь лишь о тех габитусах, которые совершенствуют субъект, однако же есть и такие задатки (например, пороки), которые предрасполагают его к злу. — Латинское слово габитус не столь выразительно, как греческое έξις, но постоянно употреблять этот последний термин было бы уж слишком большим педантством. Поэтому, за отсутствием французского эквивалента, мы оставляем повсюду латинское слово и надеемся, что эта неуклюжесть нам простится.
(обратно)[505]
Такие габитусы, совершенствующие не способности, а самую сущность, именуются сущностными.
(обратно)[506]
В данном случае мы говорим о естественных габитусах, которые, в отличие от сверхъестественных (таких, как врожденные нравственные или теологические добродетели, дары Святого Духа), являются не приобретенными, а врожденными.
(обратно)[507]
Г-н Равессон[8*] в своем знаменитом трактате о привычке этого различия не сделал, и потому мысль Аристотеля в его интерпретации окутана парами Лейбницевых рассуждений.
(обратно)[508]
См.: Каетан. In II–II, q. 171, а. 2.
(обратно)[509]
Аристотель. De Coelo, lib. I.
(обратно)[510]
Sum. theol., Ill, q. 55, a. 3.
(обратно)[511]
Ibid., a. 2, ad 1. Unumquodque enim quale est, talia operatur.
(обратно)[512]
См.: Каетан. In I–II, q. 57, a. 5, ad 3; Хуан де Санто-Томас. Cursus theol., t. VI, q. 62, disp. 16, a. 4: «Proprie enim intellectus practicus est mensurativus opens faciendi, et regulativus. Et sic ejus veritas non est penes esse, sed penes id quod deberet esse juxta regulam, et mensuram talis rei regulandae»[11*].
(обратно)[513]
Хуан de Санто-Томас. Curs. Phil., Log. IIa P., q. 1, a. 5.
(обратно)[514]
Так, например, св. Августин определяет добродетель как ars recte vivendi[14*] (de Civ. Dei, lib. IV, cap. 21). — Ср.: Аристотель. Eth. Nie, lib. VI; св. Фома. Sum. theol., II–II, q. 47, a. 2, ad 1; I–II, q. 21, a. 2, ad 2; q. 57, a. 4, ad 3.
(обратно)[515]
«Если говорить о произведениях искусства, то не были ли ими, еще до статуй Фидия, изваянные в человеческой глине подобия божественного лика?» (A. Gardeil. Les dons du Saint-Esprit dans les Saints Dominicains. Lecoffre, 1903. Introd., p. 23–24).
(обратно)[516]
Ис 40:31. «Ubi non absurde notandum, — прибавляет Хуан де Санто-Томас (Cursus theol., t. VI, q. 70, disp. 18, a. 1), — pennas aquilae promitti, non tamen dicitur quod volabunt, sed quod current, et ambulabunt, scilicet tanquam homines adhuc in terra viventes, acti tamen, et moti permis aquilae, quae desuper descendit, quia dona Spiritus, etsi in terra exerceantur, et actionibus consuetis videantur fieri, tamen pennis aquilae ducuntur, quae superiorum spirituum ac donorum communicatione moventur et regulantur; et tantum differunt qui virtutibus ordinariis exercentur, ab his qui donis Spiritus sancti aguntur, quantum qui solis pedibus laborando ambulant, quasi proprio studio et industria regulati; vel qui pennis aquilae, superiori aura inflatis moventur, et currunt in via Dei, quasi sine ullo labore»[16*]. Ср. с текстом французского перевода этого трактата: Jean de Saint-Thomas. Les Dons du Saint-Esprit. Trad, par Raïssa Maritain (2e éd. Paris, éd. Téqui), chap. I, p. 6.
(обратно)[517]
Sum. theol., III, q. 57, a. 3.
(обратно)[518]
Ibid., q. 21, a. 2, ad 2. — «To, что человек — отравитель, не может служить аргументом против его стиля» (Оскар Уайльд. Перо, карандаш и яд (Intentions, trad. Rebell et Grolleau. Paris, 1923).
(обратно)[519]
«Et ideo ad artem non requiritur, quod artifex bene operetur, sed quod bonum opus faciat: requireretur autem magis, quod ipsum artificiatum bene operaretur, sicut quod cultellus bene incideret, vel serra bene secaret, si proprie horum esset agere, et non magis agi quia non habent dominium sui actus»[17*] (Sum. theol., I–II, q. 57, a. 5, ad 1).
Когда великий Лейбниц, блиставший во всем, кроме эстетики, противопоставлял более низменному итальянскому искусству, «которое ограничивается почти исключительно тем, что создает безжизненные, неподвижные вещи, на которые можно только взирать извне», более возвышенное немецкое, которое всегда стремилось создавать нечто движущееся (часы, гидравлические машины и т. д.) (Bedencken von Aufrichtung etc., Klopp, I, 133 sq.), он в чем-то был недалек от истины, но досадным образом путал motus ab intrinseco[18*] часов и живого существа.
(обратно)[520]
И вообще, чтобы стать художником, он должен быть человеком. Таким образом, в силу специфики субъекта, само искусство находится в жизненно важной связи с нравственностью художника. См.: Frontières de la Poésie («Dialogues»).
(обратно)[521]
Sum. theol., I–II, q. 57, a. 4.
(обратно)[522]
Аристотель. Ethic. Nic, lib. VI. Ср.: Каетан. In I–II, q. 58, a. 5.
(обратно)[523]
См.: Sum. theol., I–II, q. 57, a. 1; q. 21, a. 2, ad 2.
(обратно)[524]
Eth. Nic, lib. VI, cap. 5.
(обратно)[525]
В них нет ничего варварского, скорее, они продиктованы глубоко целомудренным стремлением к чистоте и строгости.
(обратно)[526]
Sum. theol., I–II, q. 47, a. 8. «Горе мастеру, — писал Леонардо да Винчи, — чьи творения предваряют его суждение; и лишь тот совершенствует свое искусство, чье суждение предваряет творение» (L. de Vinci. Textes choisis, publiés par Péladan. Paris, 1907, § 403).
(обратно)[527]
«Ea quae sunt ad finem in rebus humanis non sunt determinata, sed multipliciter diversiflcantur secundum diversitatem personarum et negotiorum»[20*] (Sum. theol., II–II, q. 47, a. 15).
(обратно)[528]
Особенно, если нужно найти точную меру двух одновременно применяемых добродетелей, например, твердости и мягкости, смирения и благородства, милосердия и справедливости и т. д.
(обратно)[529]
Само собой разумеется, что все случаи одинаковы перед лицом нравственных законов в том смысле, что законы эти всегда следует соблюдать. Однако каждый из них отличается от других тем, каким образом будет достигаться это соответствие законам.
(обратно)[530]
Св. Фома. In Poster. Analyt. lib. I, lectio la, 1.
(обратно)[531]
Хуан de Санто-Томас. Cursus theol., t. VI, q. 62, disp. 16, a. 3-.
(обратно)[532]
«Intellectus practicus in ordine ad voluntatem rectam»[24*] (Sum. theol., I–II, q. 56, a.3).
(обратно)[533]
См. раздел VI («Правила искусства»), с. 468–476.
(обратно)[534]
Хуан de Санто-Томас. Loc. cit.
(обратно)[535]
Об этом говорят поэт: «Искусство — это наука во плоти» (Жан Кокто. Профессиональная тайна) — и художник: «Искусство — это очеловеченная наука» (Gino Severini. Du Cubisme au Classicisme). Оба таким образом подхватывают античное понятие scientia practica[26*].
(обратно)[536]
Sum. theol., I–II, q. 57, a. 4, ad 2.
(обратно)[537]
См.: Аристотель. Metaph., lib. I, с. 1; lect. 1 уев. Фомы, § 20–22; св. Фома. Sum. theol., II–II, q. 47, a. 3, ad 3; q. 49, a. 1, ad 1; Каетан. In III, q. 57, a. 4; in II–II, q. 47, a. 2.
(обратно)[538]
«Qui autem cum aliquibus conversatur, convenientissimum est ut se eis in conversatione conformet… Et ideo convenientissimum fuit, ut Christus in cibo et potu communiter se sicut alii haberet»[29*] (Sum. theol., III, q. 40, a. 2).
(обратно)[539]
Sum. contra Gent., lib. I, cap. 93.
(обратно)[540]
И даже в некотором смысле являл образ Его божественного смирения: «Est ibi aliud inflammans animam ad amandum Deum, scilicet divina humilitas… Nam Deus omnipotens singulis Angelis sanctisque animabus in tantum se subjicit, quasi sit servus emptitius singulorum, quilibet vero ipsorum sit Deus suus. Ad hoc insinuandum transiens ministrabit illis dicens in Ps. LXXXI: Ego dixi, dii estis… Haec autem humilitas causatur ex multitudine bonitatis, et divinae nobilitatis, sicut arbor ex multitudine fructuum inclinatur…»[30*] (Opusc. de Beatitudine, s. Thomae adscriptum, cap. II).
(обратно)[541]
Откровенно говоря, деление искусств на прекрасные (изящные) и полезные, как бы важно оно ни было само по себе, логики не отнесли бы к разряду «сущностных». Критерий его — преследуемая цель, но одно и то же искусство вполне может решать одновременно и утилитарные, и эстетические задачи. Лучший пример тому — архитектура.
(обратно)[542]
Sum. theol., MI, q. 57, a. 3, ad 3.
(обратно)[543]
Хуан de Санто-Томас. Curs, theol., t. VI, q. 62, disp. 16, a. 4.
(обратно)[544]
Любопытно заметить, что во времена Леонардо да Винчи эта классификация, так же как причисление живописи к служебным искусствам, уже казалась странной. «Живопись с полным правом сетует на то, что ее не считают свободным искусством, ведь она самая настоящая дочь природы и обращена к зрению, достойнейшему из наших чувств» (Textes choisis, Paris, 1907, § 355). Леонардо часто возвращался к этому вопросу, тщательно разбирал его per accidens[33*] и яростно нападал на поэтов, утверждая, что поэзия ниже живописи, поскольку имеет дело со словами и обращается к слуху, живопись же обращается к зрению и являет «подобие более совершенное». «Возьмите поэта, который описывает влюбленному его даму, и сравните с изображающим ее же художником, и вы увидите, кого предпочтет юный любовник» (ibid., § 368). Напротив, скульптура- «это не наука, а механическое искусство, занимаясь которым мастер физически устает и обливается потом…». «Верность сказанного подтверждается тем, — добавляет Леонардо, — что скульптор, ваяя свое произведение, прикладывает силу мускулов, когда раскалывает и обрабатывает резцом мрамор или другой твердый камень, чтобы извлечь словно замурованную в нем фигуру; это чисто механическая работа, от которой он потеет, покрывается пылью и крошкой, а лицо его от мраморной пыли становится белым, как у перепачканного мукой подмастерья пекаря. Сам он словно усыпан снегом, жилище его замусорено и завалено осколками. Совсем иное дело — живописец, если судить по тому, что рассказывают о лучших из них. Он спокойно сидит перед своим творением, он хорошо одет, он обмакивает легчайшую кисть в чистые краски. Он выбирает себе наряд по вкусу, дом его наполнен красивыми и изящными полотнами, нередко он зовет чтецов или музыкантов, чтобы за работой послушать стихи или музыку, и никакой шум и грохот не мешает ему наслаждаться» (ibid., § 379).
Значит, в то время «художник» отличал себя от ремесленника и уже начинал относиться к последнему с презрением. Однако если живописец уже принадлежал к «художникам», то скульптор — еще нет. Но довольно скоро его стали таковым почитать. Официально закрепил почетное положение скульптуры Кольбер, учредивший Королевскую академию живописи и скульптуры.
Слово «художник» (artiste), заметим мимоходом, имеет весьма причудливую историю. Сначала artiste, или artien, означало maître es arts (магистр искусств, к которым относились свободные искусства и философия):
«Lorsque Pantagruel et Panurge arrivèrent à la salle, tous ces grimaulx, artiens et intrans commencèrent frapper les mains comme est leur badaude coustume» (Rabelais. Pantagruel, И, с 18).
(«Когда Пантагрюэль с Панургом вошли в залу, все школяры, и младшие, и старшие, по своей дурацкой привычке захлопали в ладоши». — Рабле. Пантагрюэль, кн. II, гл. 18. Пер. Н. Любимова.)
Vrayement je le nye
Que légistes ou decretistes
Soyent plus sages que les artistes.
(Farce de Guillerme. Ane. Théâtre françois, II, p. 239)
Я не согласен,
Что законники и стряпчие
Умнее, чем магистры искусств.
(Фарс о Гильерме)
Те, кого сегодня мы называем словом artistes, тогда именовались artisans[34*]:
Les artisans bien subtils Animent de leurs outilz L'airain, le marbre, le cuyvre.
(J. Du Bellay. Les deux Marguerites) Умелые художники Оживляют своими инструментами Бронзу, мрамор и медь.
(Ж. Дю Белле. Две Маргариты)
«Peintre, poëte ou aultre artizan» {Montaigne).
(«Живописец, поэт или другой художник». — Монтень.)
В дальнейшем слово artiste стало синонимом слова artisan: «Artisan ou Artiste, artifex, opifex», — значится в «Словаре» Нико.
«Choses lesquelles se proposent tous bons ouvriers et artistes en cest art (de distillation)» (Paré, XXVI, 4).
(«Такими вещами занимаются все умельцы и мастера этого искусства (перегонки)». — Паре, XXVI, 4.)
Словом artiste, например, называли того, кто занимался великим искусством (т. е. алхимией) или магией; «Академический словарь» издания 1694 г. указывает, что оно «обозначает, в частности, тех, кто производит магические действия».
И только в издании «Академического словаря» 1762 г. слово artiste приобретает то значение, в котором употребляется и сегодня, противоположное значению слова artisan; таким образом, и в языке произошел разрыв между искусствами и ремеслами.
Этот разрыв отражал изменения в структуре общества, связанные главным образом с возвышением класса буржуазии.
(обратно)[545]
Ремесленник выполняет заказ, и чем лучше он в ходе работы сообразуется с условиями, ограничениями и препятствиями, которые этот заказ налагает, тем он считается искуснее. Современный же художник, напротив, рассматривает любые связанные с заказом ограничительные условия как кощунственное покушение на его свободу создавать прекрасное. Неспособность отвечать требованиям, предъявляемым практикой, с одной стороны, обличает слабость художника по отношению к искусству в его изначальном понимании; с другой, является расплатой за подчинение непререкаемым абсолютным требованиям прекрасного, которое он замыслил воплотить. Она также знаменует собой отмеченное на страницах 465 и 473 противоречие между формальными направлениями искусства и красоты в изящных искусствах. Художник должен обладать незаурядной силой, чтобы соблюсти полную гармонию между этими двумя формальными линиями, одна из которых ведет в материальный мир, а другая — в метафизический, духовный. В этом смысле можно сказать, что современное искусство с того времени, как оно оторвалось от ремесел, по-своему стремится к той же полной независимости, самосущности, что и современная философия.
(обратно)[546]
«Этот святой, — рассказывает Кассиан о св. Антонии, — произнес полные божественной мудрости слова о молитве: если верующий замечает, что молится, то молитва его несовершенна» (Cassian. Coll. IX, cap. 31).
(обратно)[547]
В Греции, в расцвет классической эпохи, мера и гармония в искусстве держались только на разуме. Сравнивая афинское искусство с искусством XII и XIII вв., можно увидеть некоторую разницу между «естественной» и «боговдохновенной» гармонией.
(обратно)[548]
Sum. theol., I, q. 5, a. 4, ad 1. Впрочем, здесь св. Фома дает определение лишь по результату. Определение же по существу он дает, когда описывает три составных части прекрасного.
(обратно)[549]
«Ad rationem pulchri pertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus»[36*] (Sum. theol., I–II, q. 27, a. 1, ad 3).
(обратно)[550]
Ibid.
(обратно)[551]
Sum. theol., I, q. 39, a. 8. «Ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem integritas, sive perfectio: quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia sunt. Et débita proportio, sive consonantia. Et iterum claritas: unde quae habent colorem nitidum, pulchra esse dicuntur»[38*].
(обратно)[552]
Св. Фома. Comment, in lib. de Divin. Nomin., lect. 6.
(обратно)[553]
Св. Фома. Comment, in Psalm., Ps. XXV, 5.
(обратно)[554]
De vera Relig., cap. 41.
(обратно)[555]
Opusc. de Pulchro et Bono, — произведение, которое приписывают то Альберту Великому, то св. Фоме. — Плотин (Эннеады, I, 6), говоря о прекрасном в телах, описывает его так: «нечто, чувственно воспринимаемое нами с первого взгляда, и душа схватывает его, как бы разумея, и, распознав, принимает в себя и как бы настраивается на один с ним лад». Он прибавляет, что «все бесформенное, способное по природе своей принять форму (μορφή) и идею (είδος) и лишенное, однако, ума и идеи (άμοιρον ον λόγου και είδους), безобразно и чуждо божественному уму». Из этой чрезвычайно важной главы о прекрасном следует запомнить еще замечание о том, что «простая… красота цвета [возникает] благодаря форме и преодолению темного начала в материи присутствием света, а свет бестелесен, он — ум и идея (λόγου και είδους όντος)»[44*].
(обратно)[556]
«Visus et auditus RATIONI DESERVIENTES»[45*] (Sum. theol., III, q. 27, a. 1, ad 3). Не потому ли вообще чувство наслаждается пропорциональными вещами, что оно само — мера и пропорция и находит подобие собственной природе: «Sensus delectatur in rebus débite proportionalis, sicut in sibi similibus, nam et sensus ratio quaedam est, et omnis virtus cognoscitiva»[46*] (Sum. theol., I, q. 5, a. 4, ad 1). О выражении ratio quaedam (ή δ'αϊσθησις ό λόγος) см.: Comm. in de Anima, lib. Ill, lect. 2.
Можно предположить, что в возрожденных телах все чувства, проникнутые духом, смогут служить для восприятия красоты. (См.: Summa theol., Шае Partis Suppl., q. 82, a. 3 et 4.) Уже и теперь поэты учат нас в какой-то мере предвосхищать это состояние, — так, Бодлер ввел в эстетику обоняние.
(обратно)[557]
Вопрос о постижении красоты интеллектом с применением чувств как инструментов заслуживает тщательного анализа и, как нам кажется, слишком редко привлекал утонченные умы философов. Его рассматривал Кант в «Критике способности суждения». К сожалению, ясные, интересные и иногда глубокие соображения, которые встречаются в этой «Критике» куда чаще, чем в двух прочих, искажены его манией системы и симметрии, а также, и более всего, изначальной ошибочностью и субъективизмом его теории познания.
Одно из его определений прекрасного заслуживает пристального внимания. Прекрасное, говорит он, это то, «что нравится абсолютно всем без понятий[557]». Истолкованное буквально, это определение может заставить забыть о важнейшей связи красоты и разума. Вот почему у Шопенгауэра и его учеников оно развилось в обожествление иррациональности музыки. Между тем оно по-своему преломляет гораздо более верную формулировку св. Фомы, согласно которой прекрасное — это id quod visum placet, то, что радует взор, т. е. постигается интуитивно. Из такого определения следует, что восприятие прекрасного — вовсе не смутное представление о совершенстве некой вещи или ее соответствии идеальному типу, как утверждала школа Лейбница-Вольфа. (См.: Критика способности суждения, Анализ прекрасного, параграф XV.)
В силу самой природы ума, вместе с восприятием прекрасного в нем возникает некое более или менее отчетливое понятие и зарождаются некие идеи[557]. Однако не этим определяется его отношение к форме; сияние, или свет, формы, которым лучится прекрасный предмет, предстает уму не через посредство понятий или идей, а с помощью самого этого, доступного чувствам, предмета, который постигается интуитивно и служит проводником света формы. Таким образом, можно сказать — на наш взгляд, это единственно возможное толкование слов св. Фомы, — что при восприятии прекрасного разум исключительно при помощи чувственной интуиции озаряется светом смысла (восходящего, как любая осмысленность, к изначальному смыслу божественных идей); это озарение заставляет любоваться красотой, оно неотделимо от сферы чувств, а потому не является рациональным познанием, выражаемым в понятии. Созерцая предмет при помощи чувственной интуиции, разум наслаждается представшим ему сиянием как явлением, смысл которого он не постигает. Отрешаясь от чувств для отвлеченного рассуждения, он лишается наслаждения и не соприкасается более с этим сиянием.
Чтобы лучше понять это, представим себе разум и чувство как нераздельное целое, т. е. некое, так сказать, «умственное чувство», которое доставляет душе эстетическое удовольствие.
Таким образом, разум не пытается — разве что задним числом — абстрагироваться от изумительного чувственного опыта, в созерцание которого он погружен, и анализировать причины своего наслаждения; прекрасное отлично стимулирует интеллект, но не развивает в нем способность к абстракции и рассуждению; восприятие прекрасного сопровождается своеобразным чувством насыщенности духа: нам кажется, что мы исполнены высшего знания о созерцаемом предмете, которое, однако, мы не в силах выразить, не в силах охватить мыслями и изложить научно. Так, музыка, быть может, больше всех прочих искусств заставляет нас радоваться бытию, но не дает знания о нем, нелепо было бы подменять ею метафизику. Удовольствие от художественного созерцания имеет прямое отношение к разуму, и следует согласиться с Аристотелем (Поэтика, IX, 1451 b 6), утверждающим, что «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»[48*], в то же время постижение всеобщего, или сверхчувственного, происходит при этом внесловесно и без мыслительных усилий[557]. Такое постижение духовной реальности непосредственно «сердцем», не прибегая к понятиям как формальному орудию, позволяет провести аналогию между эстетическим переживанием и мистическим вдохновением, хотя это явления разного плана и с совершенно разной психологической основой. [ «С совершенно разной психологической основой», — написал я. Действительно, мистическое созерцание осуществляется, поскольку оно родственно любви; в данном же случае, наоборот, любовь к прекрасному и чувство соприродности с ним возникают как следствие или прямой эффект эстетического впечатления или переживания, — эффект, который естественным образом зеркально отражается на самом этом переживании, стократно его усиливая, развивая, обогащая. Это различие, на наш взгляд, недостаточно ясно обозначил о. Томас Гилби (Gilby) в интересном сочинении «Poetic Experience» (London, Sheed and Ward, 1934). Ср. далее, прим. 148.]
Заметим также, что если само восприятие прекрасного происходит помимо слов и без участия абстрактного мышления, то в подготовке к этому акту концептуальный контекст играет огромную роль. В самом деле, хотя вкус, или восприимчивость к красоте, как и сама по себе добродетель искусства, предполагает врожденный дар, но развивается он в процессе воспитания и образования, в частности, путем изучения и анализа произведений искусства; при прочих равных условиях чем больше сведущ ум в правилах, приемах, трудностях искусства и особенно чем больше ему известно о целях и намерениях художника, тем лучше он подготовлен к восприятию, при помощи чувственной интуиции, исходящего от произведения незримого сияния, а также к тому, чтобы произведение постичь и оценить. Поэтому друзья художника, знающие, чего он хотел достичь — как ангелы знают идеи Создателя, — наслаждаются его творениями несравнимо больше, чем публика; поэтому же красота некоторых произведений остается скрытой, доступной немногим.
Говорят, что глаз и ухо постепенно привыкают к новым веяниям. Скорее, надо бы сказать, что ум принимает их тогда, когда усвоил, к чему они устремлены, каковы их эстетические принципы, и, таким образом, готов получить наибольшее удовольствие от проникнутого ими произведения.
Все это проясняет, какую роль играют понятия в восприятии прекрасного, — это роль вспомогательная и служебная. Я уже говорил, что вместе с восприятием прекрасного в уме возникает некое более или менее отчетливое понятие. В самом элементарном, крайнем случае это может быть само понятие красоты, ибо, обладая от природы способностью к самосознанию, ум, получающий удовольствие, знает (по меньшей мере смутно и in actu exercito[49*]), что получает удовольствие. И правда, приведенный в действие ум порождает обычно уйму этаких приблизительных соображений, невнятный аккомпанемент интуитивной радости. Едва проходит первое изумление, когда уста еще немы, как вырываются восклицания: как это сильно! как внушительно! и прочее в том же роде. И наоборот, порой достаточно одного слова, одного внедренного в ум суждения («Вы находите, что это великий художник? Просто у него хороший вкус»), чтобы заранее подавить, уничтожить радость, которую могло бы доставить то или иное произведение. Но роль понятий-суждений все же не выходит за рамки второстепенного фактора.
— Кант справедливо считает эмоцию в обычном смысле слова (как «возбуждение жизненных сил») чем-то вторичным и побочным в восприятии прекрасного (там же, параграф IX). Однако он видит первичное и главное в «эстетическом суждении» (хотя в разных местах высказывается на этот счет довольно противоречиво); мы же — в интуитивной радости ума и (во вторую очередь) чувств; выражаясь более полно и точно, можно сказать, что эта радость, связанная, по существу, со способностью желания (ad rationem pulchri pertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus), есть не что иное, как удовлетворение нашей потребности, успешное применение познавательной способности, которая при интуитивном восприятии прекрасного проявляется в самом совершенном и гармоничном виде. (См.: Sum. theol., I–II, a. 1, ad 2. Perfectio et finis cujuslibet alterius potentiae continetur sub objecto appetitivae, sicut proprium sub communi[50*].) Прекрасное затрагивает душу, это луч знания (intelligibilité), проникающий прямо в сердце и порой исторгающий слезы. Да, радость от прекрасного — это «эмоция», «чувство» (gaudium для «склонности ума», или воли, собственно радость, которая «объединяет нас с ангелами», — ibid., q. 31, а. 4, ad 3). Но чувство особого рода, возникающее только от познания и желанного насыщения, которое чувственная интуиция дает уму. Это высшая эмоция, источник которой духовного порядка, хотя она, как и любая другая эмоция, возбуждает весь чувственный механизм. Эмоция в обычном, биологическом смысле слова, т. е. включение страстей и чувств, не похожих на эту радость, есть, таким образом, ее — вполне закономерный — результат; она, действительно, вторична, не во временном, так в причинном плане, по отношению к восприятию прекрасного и остается вне его формальной сущности.
— Любопытно заметить, что «яд» субъективизма[557], распространившийся в метафизике после кантианской революции, почти фатальным образом заставляет философов, вопреки самому Канту, представлять эмоцию (в обычном смысле слова) сутью эстетического восприятия. Этот субъективизм находит выражение в остроумной, но необоснованной теории Einfuhlung[51*] Липпса и Фолькельта, которая сводит восприятие прекрасного к проекции или переносу наших чувств и эмоций на объект. (См.: M. De Wulf. L'Oeuvre d'art et la beauté. - Annales de l'Institut de philosophie de Louvain, t. IV, 1920, p. 421 sq.)
(обратно)[558]
«Pulchrum est quaedam boni species» (Каетан. In I-ÏI, q. 27, a. 1). — Греки выражали это одним словом — καλοκαγαθία[52*].
Как видим, прекрасное имеет прямое отношение к познавательной способности. В самом деле, ему, по определению, свойственно доставлять интуитивное наслаждение уму (а в нашем толковании, и чувствам). Однако, если успешное применение какой-либо способности, например ума, благоприятствует ей и стимулирует ее метафизическое развитие, поскольку удовлетворяет ее сущностную естественную склонность, это процветание является радостью, удовольствием или наслаждением лишь потому, что ему тотчас отвечает сама способность субъекта к чему-то склоняться (faculté d'appétition), appetitus elicitus[53*], которая находит в этом процветании свое завершение и успокоение[558]. Согласно приведенной в предыдущем примечании цитате из св. Фомы, «совершенство и цель всякой другой способности заключены в объекте способности желания, как особенное в общем» (Sum. theol., I–II, q. 11, a. 1, ad 2). Стало быть, прекрасное имеет сущностную и необходимую связь со стремлением. Поэтому оно является «разновидностью блага», и, как сказано в тексте, «приятность есть его характерное свойство». Суть прекрасного в том, чтобы удовлетворять желание ума, стремление к наслаждению, входящее в стремление к познанию.
Учение св. Фомы об этом предмете требует весьма тонкого толкования. Сначала, в «Комментарии к Сентенциям», он писал: «Pulchritudo non habet rationem appetibilis nisi inquantum induit rationem boni, sic et verum appetibile est; sed secundum rationem propriam habet claritatem»[55*] (In I Sent., d. 31, q. 2, a. 1, ad 4). Затем, в «De Veritate»: «Appetitum terminari ad bonum et pacem et pulchrum, non est terminari ad diversa. Ex hoc enim ipso quod aliquid appétit bonum, appétit simul pulchrum et pacem: pulchrum quidem, in quantum est in seipso specificatum et modificatum, quod in ratione boni includitur; sed bonum addit rationem perfectivi ad alia. Unde quicumque appétit bonum, appétit ex hoc ipso pulchrum. Pax autem importât remotionem perturbantium et impedientium adeptionem; ex hoc autem ipso quod aliquid desideratur, desideratur remotio impedimentorum ipsius. Unde et eodem appetitu appetitur bonum, pulchrum et pax»[56*] (De Ver., q. 22, a. 1, ad 12. Комментарий к аксиоме Дионисия в 4-й главе трактата «О божественных именах»: pulchrum omnia appetunt[57*]).
И, наконец, два важнейших фрагмента из «Суммы теологии»:
«Pulchrum et bonum in subjecto quidem sunt idem: quia super eamdem rem fundantur, scilicet super formam; et propter hoc bonum laudatur ut pulchrum. Sed ratione differunt. Nam bonum proprie respicit appetitum: est enim bonum, quod omnia appetunt; et ideo habet rationem finis, nam appetitus est quasi quidam motus ad rem. Pulchrum autem respicit vim cognoscitivam; pulchra enim dicuntur, qime visa placent; unde pulchrum in débita proportione consistit, quia sensus delectatur in rebus débite proportionatis, sicut in sibi similibus: nam et sensus ratio quaedam (λόγος τις) est, et omnis virtus cognoscitiva; et quia cognitio fit per assimilationem, similitudo autem respicit formam, pulchrum proprie pertinet ad rationem causae formalis»[58*] (Sum. theol., I, q. 5, a. 4, ad 1).
«Pulchrum est idem bono, sola ratione differens: cum enim bonum sit, quod omnia appetunt, de ratione boni est, quod in eo quietetur appetitus; sed ad rationem pulchripertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus… Et sic patet, quod pulchrum addit supra bonum quemdam ordinem ad vim cognoscitivam: ita quod bonum dicatur id, quod simpliciter complacet appetitui; pulchrum autem dicatur id cujus ipsa apprehensioplacet»[59*] (Sum. theol., I–II, q. 27, a. 1, ad 3).
Чтобы согласовать эти различные фрагменты, следует заметить, что прекрасное может быть связано с желанием двояким образом: либо как подпадающее под понятие блага и как возбуждающее желание (мы любим и желаем нечто, потому что оно прекрасно), либо как один из видов блага, который угождает способности желать, составляющей часть познавательной способности, и удовлетворяет естественную потребность (мы говорим, что нечто прекрасно, потому что нам нравится его вид). В первом случае прекрасное совпадает с благим лишь материально (re seu subjecto)[60*]. Во втором, напротив, из самого понятия прекрасного следует, что оно есть известная разновидность блага.
Сказанное в «Сентенциях» надлежит толковать с первой точки зрения: прекрасное желанно лишь в силу того, что оно рассматривается как благо (т. е., вообще говоря, как вещь, обладание которой представляется субъекту благом и на которую направлено его желание). Точно так же желанно истинное; эта желанность не входит в понятия истинного и прекрасного, хотя и является одним из важнейших свойств прекрасного. Со второй же точки зрения, доставлять то особенное благо, каким является наслаждение как часть познания, свойственно именно прекрасному и входит в его понятие; тогда прекрасное ни в чем не совпадает с истинным.
В тексте «De Veritate» речь идет о благе как таковом, которое, в отличие от прекрасного, заключается в том, что совершенствует предмет; таким образом, прекрасное и благое совпадают материально, но различаются в понятии (как истинное и благое). Тем не менее прекрасное, совершенствуя познавательную способность, для которой служит объектом наслаждения, включает в самое свое понятие некую связь с желанием.
Что же касается двух чрезвычайно важных фрагментов «Суммы», то из первого явствует, что если прекрасное и отличается (ratione) от благого тем, что прямо не предстает желанию и принадлежит к области формальных причин, однако оно, по определению, радует взор и потому имеет отношение к желанию. Второй же текст с полной отчетливостью показывает, что связь прекрасного как объекта, познание которого приносит удовольствие, с желанием входит в само его понятие. Таким образом, красота, при том что она, прежде всего, предстает познанию, косвенно затрагивает самой своей сутью область желания, что и было сказано выше. Ad rationem pulchri pertinet, quod in ejus aspectu seu cognitione quietetur appetitus.
(обратно)[559]
Дионисий Ареопагит. De Divin. Nomin., cap. 4; св. Фома, lect. 9. По давней традиции, мы продолжаем именовать Ареопагитом того, кого современная критика называет Псевдо-Дионисием.
(обратно)[560]
«Amator factus sum pulchritudinis illius»[62*] (Sap., VIII, 2).
(обратно)[561]
De Divin. Nomin., cap. 4; св. Фома, lect. 10.
(обратно)[562]
Критерии прекрасного в природе определены гораздо лучше, чем в искусстве, поскольку смысл созданий природы и сияние формы, которое может в них светиться, тоже гораздо более определенны, чем смысл и сияние формы в произведениях искусства. Например, в природе существуют некие идеальные пропорции мужского и женского тела (известные или неизвестные нам), потому что естественное предназначение человеческого организма есть нечто постоянное и неизменно определенное. Красота же произведения искусства иная, чем красота изображенного объекта, поэтому живопись и скульптура отнюдь не обязаны определять и воспроизводить эти идеальные пропорции. Искусство языческой древности вменило это себе в обязанность в силу внешнего условия: так как изображало, прежде всего, богов антропоморфной религии.
(обратно)[563]
«Сияние формы» должно сочетаться с онтологической красотой, тем или иным способом открывающейся нашему разуму, а не с понятийной ясностью. Тут важно устранить малейшую двусмысленность: слова «ясность», «внятность», «свет», которые мы употребляем, описывая роль «формы» в недрах вещей, означают не обязательно нечто ясное и внятное ДЛЯ НАС, но нечто ясное и сияющее В СЕБЕ, внятное В СЕБЕ, хоть для наших глаз оно нередко остается темным, то ли по вине материи, в которую оно погружено, то ли из-за принадлежности формы области умопостигаемого. Чем существеннее и глубже потаенный смысл, тем более он недоступен нам, так что утверждать, вслед за схоластами, что форма — залог внятности вещей, значит утверждать, что она — залог их таинственности. (В самом деле, где нечего познавать, там нет и тайны, она там, где таинственное превышает возможности нашего восприятия.) Определяя прекрасное как сияние формы, мы тем самым определяем его как сияние тайны.
Подменять ясность в себе ясностью для нас — картезианское заблуждение. В искусстве оно порождает академизм и обрекает нас на столь убогую красоту, что она способна возбудить в душе лишь мизерную радость.
Что же касается «разборчивости», то сияние формы может возникнуть как в «темном», так и в «прозрачном» произведении. С этой точки зрения, ни «темнота», ни «прозрачность» не имеют никаких преимуществ. [1927]
Впрочем, всякое по-настоящему новое произведение кажется поначалу темным. Со временем суждение отстаивается. «Говорят, — писал Хопкинс, — что в прежние времена, суда, отправляющиеся в дальнее плавание из лондонского порта, брали с собой запас воды из Темзы. При отплытии эта вода была грязной и дурно пахла, но постепенно грязь оседала, и спустя несколько дней вода становилась самой чистой, вкусной и полезной, какая только есть на свете. Не знаю, так это или нет на самом деле, но мне важен образ. Когда перед нами предстает такое смелое новшество, как "Deutschland"[64*], первые наши непосредственные впечатления — не лучшие и не самые верные; они поверхностны и преходящи, — это просто первое, что приходит на ум. Такие мнения банальны и опираются на общие места. Так случилось и с вами; отправляясь в первое плавание, "Deutschland" долго не могла отчалить и вызвала в вас неприязнь, потому что мутила и засоряла разум тиной и нечистотами (как видите, я последовательно выдерживаю образ); это время вы выбрали, чтобы выступить с критикой, еще зловонной и грязной (снова лексику диктует образ), тогда как, дай вы устояться мыслям, они бы очистились и пришлись мне больше по вкусу…» (Джерард Манли Хопкинс. Письмо Р. Бриджесу от 13 мая 1878 г. по поводу поэмы «The wreck of the Deutschland». Пер. Родити и Ландье, Mesure, 15 января 1935 г.).
(обратно)[564]
Τον θεοειδή νουν έπιλάμποντα[65*] (Плотин. Эннеады, I, 6, 5).
(обратно)[565]
См.: Lamennais. De l'Art et du Beau, ch. IL
(обратно)[566]
«Pulchritudo, sanitas et hujusmodi dicuntur quodammodo per respectum ad aliquid: quia aliqua contemperatio humorum facit sanitatem in puero, quae non facit in sene; aliqua enim est sanitas leonis, quae est mors homini. Unde sanitas est proportio humorum in comparatione ad talem naturam. Et similiter pulchritudo [corporis] consistit in proportione membrorum et colorum. Et ideo alia est pulchritudo unius, alia alterius»[66*] (св. Фома. Comment, in Psalm., Ps. XLIV, 2).
(обратно)[567]
Св. Фома. Comment, in lib. de Divin. Nomin., cap. IV, lect. 5.
Эжен Делакруа высказал чрезвычайно точные замечания художника на тему «Вариации прекрасного» (статья в «Revue des Deux Mondes», 15 июля 1857; Oeuvres littéraires, I, Études esthétiques. Paris, Crès, 1923, p. 37 sq.). Рассуждая о данном вопросе лучше, чем многие профессиональные философы, он понял, что множество форм прекрасного не наносит никакого ущерба его объективности: «Я не говорю, и никто не рискнет сказать, что красота может изменять свою суть, ибо тогда это была бы не красота, а всего лишь причуда или фантазия, однако характер ее может изменяться; то обличье красоты, которым восхищались в далеком прошлом, ничуть не трогает нас и не нравится нам, так как не отвечает нашим чувствам или, если угодно, нашим предрассудкам. Nunquam in eodem statu permanet[68*], - сказал о человеке ветхозаветный Иов». Выраженная иными словами, в этом пассаже заключена мысль об исконно аналогичном характере понятия красоты. (См. «Набросок статьи о прекрасном». - Ibid., p. 141 sq.)
(обратно)[568]
В работе 1923 г. («L'Esthétique de saint Thomas». - S. Tommaso d'Aquino, publ. délia Fac. di Filos. dell'Univ. del Sacro Cuore. Milano, Vita e Pensiero) о. Муннинк пытается оспорить это положение. Это говорит о чисто материальном толковании формулы «quod visum placet» и схоластического учения о прекрасном. (См. рецензию о. Вебера, «Bulletin thomiste», janvier 1925.) Классический перечень трансценденталий (ens, res, unum, aliquid, verum, bonum[69*]) не исчерпывает их все, и прекрасное не упомянуто в нем потому, что оно сводимо к одному из этих понятий (а именно к благому, ибо прекрасное есть то, что предстает разуму в вещах как объект наслаждения посредством интуиции). Св. Фома настаивает на том, что красота и благо (метафизическое) в реальном проявлении суть одно и то же, отличаются же друг от друга лишь в понятийном плане (pulchrum et bonum sunt idem subjecto, sola ratione differunt[70*], I, q. 5, a. 4, ad 1). Так происходит и с другими трансцендентальными сущностями, которые едины в вещах и различны в понятиях. Поэтому quicumque appétit bonum, appétit ex hoc ipso pulchrum[71*] (de Verit., q. 22, a. 1, ad 12). Если верно, что pulchrum est idem bono, sola ratione differens[72*] (I–II, q. 27, a. 1, ad 3), то прекрасное, как и благое, непременно должно быть трансцендентальным. Вообще прекрасное есть сияние всех соединенных трансценденталий. Где есть нечто существующее, там есть бытие, форма и мера, а где есть бытие, форма и мера, там есть красота. Красота есть как в чувственных вещах, так и — по преимуществу! — в духовных. Достойное благо обладает духовной красотой, «honestum dicitur secundum quod aliquid habet quamdam excellentiam dignam honore propter spiritualem pulchritudinem»[73*] (II–II, q. 145, a. 3). Красота в чистом виде присутствует в созерцательной жизни: «Pulchritudo consistit in quadam claritate et débita proportione… In vita contemplativa quae consistit in actu rationis, per se et essentialiter invenitur pulchritudo»[74*] (ibid., q. 180, a. 2, ad 3). Красота присуща (formaliter eminenter[75*]) Богу также, как прочие атрибуты: бытие, единство, благость. «Quia tot modus Pulchrum (divinum) est causa omnium, inde est, — учит св. Фома (Comment, in Nom. Divin., с. 4, lect. 5), — quod bonum et pulchrum sunt idem; quia omnia desiderant pulchrum et bonum, sicut causam, omnibus modis; et quia nihil est quod non participet pulchro et bono, cum unumquodque sit pulchrum et bonum secundum propriam formam»[76*]. Точно так же красота присуща Слову (Sum. theol., I, q. 39, a. 8).
Не следует забывать, что само свойство дарить радость, «услаждать», входящее в понятие прекрасного, имеет трансцендентальный и аналогичный характер и его нельзя, не искажая, свести к одному лишь чувственному удовольствию или к «усладительному благу», выделяющемуся в ряду других видов блага. («Honesta etiam sunt delectabilia»[77*], - замечает св. Фома, «Sum. theol.», I, q. 5, a. 6, obj. 2; и II–II, q. 145, a. 3: «Honestum est naturaliter homini delectabile… Omne utile et honestum, est aliquater delectabile, sed non convertitur»[78*]. И разве добродетель не делает отрадными трудные вещи? Разве нет возвышенного, духовного наслаждения в созерцании? И разве сам Бог не является высшей аналогией всего, что дарит радость? «Intra in gaudium Domini tui»[79*].) Поскольку же наслаждение, вызванное прекрасным, также имеет трансцендентальный и аналогичный характер, многообразие видов этого наслаждения не наносит ущерба его объективности. Это многообразие восходит к метафизической аналогии, а не к психологической «относительности» в современном смысле слова. См. прим. 69.
(обратно)[569]
Аналоги (analoga analogata) аналогичного понятия (analogum analogans) — это различные вещи, в которых оно реализуется и к которым применимо.
(обратно)[570]
Лишь в Боге все свойства обретают подлинную формальную сущность; в Нем Истина есть Красота, Добро, Единство, и все они суть Бог. В земных же вещах истина, красота, добро и т. д. суть аспекты бытия, различные по формальной сущности', истинное simpliciter (безусловно), возможно, будет хорошим или прекрасным лишь secundum quid (в некотором отношении); прекрасное simpliciter, возможно, будет хорошим или истинным лишь secundum quid… Вот почему красота, истина, добро (особенно когда речь идет не о метафизическом или трансцендентальном, а о моральном качестве), управляют разными сферами человеческой деятельности, и не следует a priori исключать возможность конфликтов между ними на том основании, что все трансцендентальные сущности неразрывно связаны друг с другом, — этот верный в метафизическом смысле принцип требует правильного понимания.
(обратно)[571]
De Divinis Nominibus, cap. 4, lect. 5 et 6 из «Комментария» св. Фомы.
(обратно)[572]
Св. Фома. Ibid., lect. 5.
(обратно)[573]
Sum. theol., I, q. 39, a. 8.
(обратно)[574]
Св. Августин. De Doctr. christ., I, 5.
(обратно)[575]
Baudelaire. L'Art romantique. Бодлер цитирует свое предисловие к переводу «Новых необыкновенных историй»; приведенный отрывок — почти дословное воспроизведение сказанного Э. По в статье «The Poetic Principle».
Приводим текст во французском переводе (весьма несовершенном)[83*]. «Нас снедает неутолимая жажда… Источник ее — человеческое бессмертие. Это и следствие, и проявление бесконечности человеческого существования. Это тяга мотылька к звезде. Это не только любовь к окружающей нас красоте, но и неуемное стремление к красоте надмирной. Провидческая уверенность в загробном блаженстве велит нам делать отчаянные усилия, чтобы, оставаясь в мире вещей и идей, подвластных времени, обрести хотя бы частицу этой высшей красоты, принадлежащей во всей своей полноте лишь вечности. Поэтому, если поэзия и музыка, самая упоительная поэтическая форма, исторгает из наших глаз слезы, мы плачем не от преизбытка удовольствия, как считает аббат Гравина, а от благодатной, пронзительной, страстной тоски, которую испытываем из-за неспособности вобрать в себя те волшебные божественные радости, слабые и краткие отголоски которых доносятся до нас посредством стихов и музыки.
Этому высокому стремлению овладеть сверхъестественной красотой, присущему здоровой душе, мы обязаны лучшими достижениями поэзии» (Э.А. По. Поэтический принцип. Лекция, прочитанная в 1844 г.). Интересно сопоставить эту мысль с точкой зрения философа: «In the appreciation of music and of pictures, we get a momentary and fleeting glimpse of the nature of that reality to a full knowledge of which the movement of life is progressing. For that moment, and so long as the glimpse persists, we realise in anticipation and almost, as it were, illicitly, the nature of the end. We are, if we may put it, for a moment there, just as a traveller may obtain a fleeting glimpse of a distant country from an eminence passed on the way, and cease for a moment from his journey to enjoy the view. And since we are for a moment there, we experience while the moment lasts that sense of liberation from the urge and drive of life, which has been noted as one of the characteristics of aesthetic experience» {C.EM. load. A Realist Philosophy of Life)[84*].
(обратно)[576]
Дионисий Ареопагит. De Divin. Nomin., cap. 4 (lect. 4 y св. Фомы).
(обратно)[577]
Opusc. LXVIII, in libr. Boetii de Hebdom., princ.
(обратно)[578]
Притч 8: 30–31.
(обратно)[579]
Метаф., кн. I, гл. 2, 982 b. Пер. А.В. Кубицкого.
(обратно)[580]
Рёйсбрук[88*] (Н. Hello. Vie de Rusbrock. - Rusbrock l'admirable. Oeuvres choisies. <Paris, 1902,> p. LU).
(обратно)[581]
Сегодня хотелось бы извиниться за то, как легкомысленно я принял это высказывание на свой счет. Нужно быть очень неискушенным в земных вещах или очень искушенным в божественных, чтобы произнести такое. Как правило, презрение к миру выражают докучные демагоги. Тварный мир достоин не презрения, а жалости, он существует потому, что любим. В нем много остроты, но он обманчив, потому что перед Господом вся острота его становится пресной. [1935]
(обратно)[582]
Совокупность таких правил можно назвать техникой, если расширить и возвысить обычный смысл этого слова, ибо имеются в виду не только и не столько практические приемы, сколько пути и средства духовного порядка, к которым прибегает художник в своем искусстве. Эти пути предопределены свыше и подобны заранее проложенным в дебрях тропам. Однако их надо найти. Лучшие из них, те, которые точнейшим образом соответствуют внутреннему замыслу художника относительно произведения, принадлежат лишь ему и не открываются никому другому.
(обратно)[583]
«Не подлежит сомнению, — пишет Бодлер, — что законы риторики и просодии суть не просто насильственно навязанные, произвольные каноны, а свод правил, обусловленный самой организацией духовного существа; и эти законы ни в коей мере не ограничивают и не замутняют самобытность произведения. Правильнее сказать, что они, напротив, способствуют ее раскрытию».
«Критик, ставший поэтом, — полагает он, — это нечто небывалое в истории искусств, нарушение законов душевной жизни, уродство; и наоборот, все великие поэты неизбежно становятся критиками. Поэт, ведомый одним инстинктом, неполноценен. В духовном развитии каждого истинного поэта наступает кризис, когда он ощущает потребность осмыслить свое искусство, открыть потаенные законы творчества и вывести правила, определяющие поэтическое совершенство. Критик может стать поэтом только чудом, в шь эте же всегда дремлет критик» (L'Art romantique).
(обратно)[584]
Высказывание художника Давида.
(обратно)[585]
Трактат, вступлением к которому должно было послужить «Рассуждение о методе», Декарт первоначально собирался назвать следующим образом: «Проект универсальной науки для достижения полного совершенства человеческой природы. С приложением Диоптрики, Метеоров и Геометрии в доказательство того, что и такие причудливейшие материи возможно с помощью предложенной автором универсальной науки толковать таким образом, чтобы они стали доступны разумению даже наименее образованных людей».
Несколько лет спустя, около 1641 г., Декарт начинает работать над французским диалогом (он так и остался незавершенным) под названием «Разыскание истины посредством естественного разумения, которое способно, не прибегая к религии и философии, дать обычному человеку необходимое представление обо всем, него может коснуться его мысль, и проникнуть в тайны причудливейших из наук».
(обратно)[586]
«Ut animus a rebus ipsis distincte cogitandis dispensetur, nec ideo minus omnia recte proveniant»[92*] (Gerh. Phil., VII).
(обратно)[587]
Sum. theol., III, q. 51, a. 1.
(обратно)[588]
Как известно, Королевская академия живописи и скульптуры была окончательно учреждена в 1633 г.
Отметим книгу А. Вайяна «Теория архитектуры» (A. Vaillant. Théorie de l'Architecture. Paris, 1919). В толковании академизма, как и самого понятия искусства, чисто позитивистские и несколько узкие воззрения автора удачно дополняются схоластической мыслью. «Преподавание изящных искусств начало принимать тот вид, который оно имеет сегодня, при Людовике XIV, — пишет Вайян. — Следует признать, что влияние академизма было в ту пору довольно велико, но вовсе не пагубно, поскольку эмпирические методы обучения и старинные обычаи мастеров сохранялись вплоть до отмены корпораций. По мере того как они отмирали, уменьшалась и эффективность обучения, ибо теория, душа искусства, органически содержалась в традициях, в том, как художник относился к заказу и как выполнял его…»
«Пока художники и ремесленники овладевали своим делом через ученичество, не возникало необходимости в общих рассуждениях. Например, у архитекторов существовала своя методика. Она основывалась на примере мастера и работе в тесном профессиональном контакте с ним, как показано в "Книге ремесел" Этьена Буало. Замена практического и разностороннего обучения у мастера школьным образованием была серьезной ошибкой».
«Разрыв академизма с малевалъщиками и полировщиками мрамора не принес ничего хорошего искусству и художнику, ремесленник же потерял живую связь с возвышенным и совершенным. Академисты не стали свободнее, но утратили вместе с техникой рациональную организацию творческого труда».
Одним из следствий этого разрыва стало исчезновение навыка растирания красок. Со временем забылось знание химических реакций, происходящих при смешении красок, состава скрепляющей основы и сама техника. «Картины Ван Эйка, пережившие пять веков, сохранили первоначальную свежесть! Можно ли надеяться на долговечность нынешних полотен?» — вопрошает Вайян. А Жак Бланш, говоря о Мане, словно отвечает: «Всего за несколько лет самая яркая картина портится, тускнеет. Кто из вас знает, какой была картина "Белье" ("Le Linge"), когда только появилась на свет? Если бы я не наблюдал собственными глазами, как за пять лет погиб шедевр Делакруа "Траян", я бы решил, что у меня испортилось зрение. Картина поблекла, потрескалась, изображение превратилось в какую-то коричневую кашу…» (Jacques-Emile Blanche. Propos de Peintre, de David à Degas. Paris, 1919).
В свою очередь, Огюстен Кошен писал: «Академическое образование, созданное энциклопедистами [вернее, возведенное в ранг единого и единственного], начиная с Дидро и кончая Кондорсе, убило народное искусство за время жизни одного поколения — едва ли не уникальный случай в истории. Обучать не в мастерской, а в классе, преподавать теорию, а не практику, объяснять, а не показывать и поправлять — вот в чем состояла реформа, задуманная философами и введенная во время Революции. Уцелели отдельные одиночки, которые подобны не высоким деревьям в лесу, а редким скалам среди штурмующего их моря посредственности и невежества» (Les sociétés de pensée. -Correspondant, 10 février 1920).
(обратно)[589]
«Потом явился Джотто; сей флорентиец, рожденный средь безлюдных холмов, где бродят только козы и прочий скот, и ощущающий нераздельность ликов природы и искусства, начал с того, что рисовал на скалах застывших в разных позах коз, которых пас, затем других животных, которые ему встречались; и после долгих упражнений достиг такого совершенства, что превзошел не только современных мастеров, но и художников времен минувших…» (L. de Vinci. Textes choisis, publ. par Péladan. Paris, 1907).
В отличие от Джотто или Мусоргского, Моцарт являет собой типичный, ярчайший пример того, что может получиться из сочетания природного дара (и какого!) с воспитанием, с сознательным, начатым сызмальства и наилучшим образом организованным развитием габитуса.
(обратно)[590]
Сходная мысль выражена Гёте в стихах из романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера»:
Zu erfinden, zu beschliessen
Bleibe, Kimstler, oft allein;
eines Wirkens zu geniessen,
Eile reudig zum Verein![95*]
(обратно)[591]
Человек не может обойтись без учителя. Однако в наше время, когда повсюду царит анархия, власть учителя, хотя и негласная, превращается в тиранию и не приносит пользы ученику.
«Поскольку каждый ныне желает править, никто не умеет управлять собой, — писал Бодлер. — Сегодня, когда все предоставлены самим себе, учитель имеет множество неведомых ему учеников, и его влияние выходит далеко за пределы его мастерской и простирается в такие области, где мысль его не может быть понятой» (Curiosités esthétiques. Salon de 1846).
(обратно)[592]
См.: Sum. theol., I, q. 117, a. 1; ibid., ad 1 et ad 3.
(обратно)[593]
См. прим. 71.
(обратно)[594]
Разные художественные дисциплины уточняют на свой лад эти правила, незыблемы они лишь в формальном и аналогическом плане.
«В эстетике не бывает ничего принципиально нового. Законы прекрасного вечны, и самые ярые новаторы подчиняются им, сами того не сознавая; но подчиняются на свой лад, в этом-то весь интерес» (Max Jacob. Art poétique. Paris, 1922).
(обратно)[595]
Из этого следует, что философы и критики могут и должны судить об истинности или ложности художественных школ, о том, хорошее или дурное влияние они оказывают; но эти критерии не применимы для суждения о самом художнике или поэте — здесь важно лишь распознать, действительно ли перед нами художник или поэт, т. е. человек, наделенный добродетелью искусства — добродетелью практической и действенной, а не созерцательной. Философ, если система его ложна, никуда не годен, так как в этом случае он не может выразить истину, разве что это получится случайно; художник же и при ложной системе способен на многое, так как он может создавать прекрасное невзирая на систему и на ущербность формы искусства, которой он привержен. Если в романтическом произведении присутствует габитус, в нем больше художественной правды (а значит, больше подлинной «классичности»), чем в классическом произведении, габитуса лишенном. Так что говорить о художнике или поэте следует осторожно: мы можем не распознать заключенной в нем добродетели и тем самым оскорбить нечто исконно священное.
(обратно)[596]
См. выше, с. 454.
(обратно)[597]
In I–II, q. 57, а. 5, ad 3.
(обратно)[598]
Зымысел произведения — совсем не то, что просто выбор сюжета (сюжет — лишь материал для замысла, и художнику или поэту бывает даже полезно — об этом хорошо говорит Гёте — получить этот материал от кого-то другого), и не то, что абстрактная идея, интеллектуальная тема или тезис, которые имеет в виду художник. Когда Гёте спросили, какую идею он хотел выразить в «Тассо», он ответил: «Какую идею? Откуда я знаю? Передо мной была жизнь Тассо и моя собственная жизнь… Не думайте, что непременно надо отыскать в произведении какую-нибудь идею, абстрактную мысль. Так же бессмысленно спрашивать меня, какую идею я собирался воплотить в "Фаусте". Как будто я сам это знаю и могу сказать! С небес на землю и до преисподней — вот единственное пояснение, которое я мог бы дать, но это не идея, а только ход действия…» (И.П. Эккерман. Разговоры с Гёте, 6 мая 1827 г.).
Наконец, замысел произведения — это и не набросок его или выработанный план (это уже само по себе осуществление, хотя и в уме). Это просто цельный вид будущего произведения — хотя потенциально изменчивый, — представляющий его неповторимую душу, это своего рода духовное семя, зародыш произведения, нечто близкое к тому, что Бергсон называет интуицией и динамической схемой', в замысле принимает участие не только ум художника, но и его воображение и чувства, он отражает некий невыразимый словами, уникальный настрой эмоций и симпатий. Главную роль здесь играет то, что художники называют своим «видением».
Замысел определяется всей совокупностью духовного и чувственного мира художника и, прежде всего, направлением его склонности в области прекрасного; он имеет прямое отношение к цели его деятельности и является в искусстве тем же, чем цель нравственной добродетели — в благоразумии. Он принципиально отличен от средств, способов осуществления, которые принадлежат собственно добродетели искусства, как способы достижения цели нравственных добродетелей принадлежат собственно добродетели благоразумия. В каждом отдельном случае замысел есть нечто точно определенное, для чего художник подбирает имеющиеся в его распоряжении средства искусства.
Г-н Бланш говорит, что «в живописи средства — это всё» (De David à Degas, p. 151). Тут требуются некоторые разъяснения. Средства принадлежат собственно художественному габитусу, и в этом смысле утверждение Бланша приемлемо. Но средства существуют лишь по отношению к цели, так что они не могут быть всем сами по себе, помимо замысла, или «видения», который они призваны осуществить и которому подчинено все, что делает художник.
Разумеется, чем более возвышен замысел, тем больше риск, что средства окажутся недостаточными. Яркий пример такой недостаточности средств при высоком замысле — живопись Сезанна. Он потому так велик и оказывает столь мощное влияние на современное искусство, что его замысел, его видение — высочайшего качества (он говорил: «мой взгляд»), средства же не поднимаются до этой высоты. Потому он и жаловался, что у него не получается («Представьте себе, господин Воллар, я не могу ухватить линию!»), и трогательно завидовал Бугро, у которого прекрасно получалось и который удачно «выразил себя».
(обратно)[599]
Οποΐος ποθ' έκαστος εστί, τοιούτο και το τέλος φαίνεται αυτό (Аристотель. Eth. Nie, lib. Ill, с. 7, 1114 a 32). Ср.: Коммент. св. Фомы, lect. 13; Sum. theol., I, q. 83, a. 1, ad 5. — Когда св. Фома учит (Sum. theol., I–II, q. 58, a. 5, ad 2), что «principia artificialium non dijudicantur a nobis bene vel male secundum dispositionem appetitus nostri, sicut fines qui sunt moralium principia, sed solum per considerationem rationis»[99*], он думает, с одной стороны, о нравственных аспектах желания (см.: Каетан. Loc. cit.), с другой — об искусстве постольку, поскольку «factibilia non se habent ad artem sicut principia, sed solum sicut materia»[100*] (ibid., q. 65, a. 1, ad 4), a это не касается изящных искусств (действительно, в прикладной деятельности цели и есть принципы, в изящных же искусствах истинная цель есть само произведение).
(обратно)[600]
Св. Августин. De Moribus Ecclesiae, cap. 15. «Virtus est ordo amoris»[101*].
(обратно)[601]
Приводится Этьеном Шарлем (Charles) в «Renaissance de l'Art français», avril 1918.
(обратно)[602]
Louise Clermont. Emile Clermont, sa vie, son oeuvre, Grasset, 1919.
(обратно)[603]
Поскольку аполлоническое начало решительно преобладает в греческом искусстве. Однако не следует забывать, что и дионисийство (если позволительно пользоваться этими терминами, ставшими общеупотребительными со времен Ницше) потаенно присутствует в нем. Нечто подобное показал Гёте, выведя во второй части «Фауста» форкиад и кабиров, нашедших себе место среди образов Классической Вальпургиевой ночи.
(обратно)[604]
«Omnium humanorum operum principium primum ratio est» (св. Фома. Sum. theol., Ill, q. 58, a. 2).
Привожу замечательное высказывание Делакруа:
«…Искусство — совсем не то, чем принято его считать, то есть не какое-то невесть откуда берущееся вдохновение, которое накатывает стихийно и является чем-то внешним и декоративным по отношению к сути вещей. Искусство — это сам разум, украшенный гением, но ведомый необходимостью и следующий высшим законам. По этому поводу можно вспомнить о различии между Моцартом и Бетховеном. "Причина того, что Бетховен бывает темным и нескладным, — говорил он [Шопен], - не в какой-то диковатой оригинальности, за которую его превозносят, а в том, что он изменяет вечным принципам; чего никогда не делает Моцарт"» (Дневник Делакруа, 7 апреля 1849 г.).
Само собой разумеется, все это отнюдь не отменяет первостепенного значения подлинного вдохновения, и можно, вслед за Аристотелем, сказать, что тот, кто движим высшим началом, не нуждается в советах человеческого разума. Разум — первый принцип всех людских произведений: только разум, если и масштаб этих произведений чисто человеческий, или разум, возвышенный инстинктом божественного происхождения, если это людские произведения (естественного порядка в сфере искусства и философии и сверхъестественного в сфере пророчества и даров Святого Духа) высшего масштаба. (См. ниже прим. 154.) Известно, что дьявол — обезьяна Господа Бога, точно такой же обезьяньей пародией истинного вдохновения, которое выше разума, выглядят попытки искать законы творчества (а не только некоторый более или менее ценный материал для него) в сновидениях или в темных органических силах, которые ниже разума.
(обратно)[605]
Бодлер также пишет: «Конструкция, так сказать, арматура — самая надежная гарантия таинственной жизни плодов духа» (Notes nouvelles sur Edgar Poe. Préface à la trad, des «Nouvelles Hist, extraord.»). «Все прекрасное и благородное есть результат разума и расчета» (L'Art romantique). Или еще: «Музыка дает представление о пространстве. В большей или меньшей степени это относится и к другим видам искусства, ибо в основе их число, а число передает пространство» (Mon coeur mis à nu).
Связь же искусств с Логикой еще более глубока и многогранна, чем связь их с наукой о Числе.
(обратно)[606]
С этой точки зрения, поучительны многие идеи Ле Корбюзье, в частности мысль о близости архитектуры и инженерного дела («Дом — это машина для обитания»). Однако полагать, что следует непременно все сводить к утилитарности, было бы тоже заблуждением, своего рода эстетическим янсенизмом. Если некоторые механические сооружения (автомобиль, пароход, вагон, самолет и т. д.) красивы, когда все в них тщательно рассчитано и все части пропорциональны целому, то это потому, что закон полезности в данном случае совпадает с другим, более значительным законом математической гармонии или, шире, с законом логики, который он и воплощает собой. Логика придает эстетическую ценность полезности и далеко превосходит полезность. В природе есть множество примеров чистой орнаментальности, не имеющей никакого практического применения. Узор на крыльях бабочки ничему не служит, но все в нем логически оправдано (по отношению к некой произвольной идее).
Делакруа отмечал, что у хорошего архитектора «прочное рациональное мышление неразрывно связано с высоким вдохновением. Главные и исходные в архитектуре соображения полезности опережают заботу о красоте. Однако, будучи художником, он облекает эту полезность в подходящие для нее красивые формы. Я говорю подходящие, потому что даже после того, как будет составлен проект, учитывающий все практические требования, архитектор может украсить его лишь определенным образом. Он не волен увеличивать или уменьшать количество украшений по своей прихоти, а должен точно так же сообразовывать их с проектом, как сам проект сообразован с практическими требованиями» (Дневник, 14 июня 1850 г.). Огюст Перре любит говорить, что лучший трактат по архитектуре написан Фенелоном и заключен в одной фразе из его «Речи в Академии»: «В здании не должно быть ни одной части, предназначенной лишь для украшения, но, руководствуясь все той же заботой о сообразности, следует превращать в украшения все части, необходимые для прочности здания».
(обратно)[607]
См.: Maurice Denis. Les nouvells Directions de l'Art chrétien. - Nouvelles Théories, Rouart et Watelin, 1992. «В храме истины любая ложь нестерпима».
(обратно)[608]
Paul GselL Rodin.
(обратно)[609]
Le Symbolisme et l'Art religieux moderne. - Op. cit.
(обратно)[610]
Хуан de Санто-Томас. Curs, theol., t. VI, q. 62, disp. 16, a. 4.
(обратно)[611]
Известно, что у Парфенона геометрически неправильные формы. Они подчинены логике и правилам более высокого порядка; отклонения колонн храма от вертикали, кривизна его горизонтальных линий и внутренних помещений возмещают мнимую, зрительную деформацию пропорций, а также, возможно, придают ему большую устойчивость при сейсмических колебаниях аттической почвы.
(обратно)[612]
Так ли? Боюсь, я приплел Шатобриана ради красного словца или из какой-то смутной предвзятости. Лучше и правильнее было бы продолжить: логичен Малларме, логичен (и даже изумительно рационален) Клод ель. Совсем иначе, без всякой рассудочности, логичен и Пьер Реверди, у которого сознательное движение мысли вытеснено архитектурой сновидения, — логичен темной, бессознательной логикой, выражающейся в естественности чувства. Этот закон распространяется и на Поля Элюара, и даже на сюрреалистические тексты, когда в них есть поэтический смысл. Даже случайное в душе поэта логично. (Но следует ли отдаваться на волю случая? Вряд ли можно считать нормальным для поэзии, когда ее в порядке эксперимента, чтобы проверить на прочность, ставят в экстремальные условия, душат, оставляя теплиться последнюю, чуть живую искорку.) [1927]
(обратно)[613]
См. выше, с. 474.
(обратно)[614]
Хуан де Санто-Томас. Ibid.
(обратно)[615]
В архитектуре можно также найти множество замечательных примеров того, что средневековое искусство отдавало предпочтение интеллектуальной и духовной стороне произведения, пренебрегая материальной точностью, недостижимой при тогдашнем уровне теоретических знаний и технических возможностей зодчих. В средневековой архитектуре «нет никакой геометрической правильности: ни ровных линий, ни прямых углов, ни симметрии, сплошные огрехи и неточности. Поэтому даже в самых совершенных средневековых сооружениях кривизну каждой арки приходилось рассчитывать отдельно. И своды, и пролеты были одинаково неровными. Хромало и расположение частей. Замки сводов не совпадали с центром, и отклонение могло быть очень велико… Правая сторона здания почти никогда не бывала симметрична левой… Все весьма приблизительно в этом, впрочем, основанном на расчете, искусстве. Быть может, именно невинная небрежность придает этой архитектуре обаяние естественности и искренности…» {A. Vaillant. Op. cit., p. 119, 364). Тот же автор замечает, что в те времена невозможно было вычертить подробный архитектурный проект: бумагу еще не делали, а пергамент был материалом редким и дорогим, который берегли и, отмывая, использовали многократно, а потому «изготовляли уменьшенную модель постройки, показывавшую ее основные элементы. Детали продумывались, лишь когда до них доходило дело и были уже известны размеры, — тогда уж применялись привычные навыки и инструменты. Все строительные проблемы выявлялись, рассматривались и решались прямо на месте, по ходу работы. Точно так же иной раз происходит и в наши дни, с той разницей, что нынешние работники, не имея ни образования, ни выучки, способны строить лишь нечто грубое и однообразное».
«Когда подумаешь о том, сколько расходуется бумаги для разработки современных конструкций, сколько требуется произвести сложных вычислений для самого скромного проекта, диву даешься, каким могучим интеллектом, обширной памятью, неистощимым талантом должны были обладать старинные мастера, создававшие эти огромные прекрасные сооружения, каждый раз что-то изобретая и усовершенствуя. При всей скудости и неразвитости теории, средневековое искусство обладает огромной мощью».
Неловкость средневековых художников объясняется не только их малыми техническими возможностями, но и, так сказать, рассудочным реализмом. «Они неуклюжи потому, — пишет Морис Дени, — что изображают предметы так, как представляют себе их в быту, а не исходя из априорных эстетических канонов, как современные художники. Примитив… предпочитает реальность ее видимости. Его неискушенный глаз не интересуют законы перспективы, и он сообразует изображения вещей со своим знанием о них» (Théories. Paris, Rouart et Watelin). Можно сказать, что его глаз повинуется рациональному инстинкту.
(обратно)[616]
Stultae quaestiones — это такие вопросы, которые противоречат изначальным условиям, задаваемым той или иной наукой или дисциплиной. (См.: св. Фома. Comment, in ер. ad Titum, III, 9; по поводу выражения св. Павла: stultas quaestiones devita[108*].)
(обратно)[617]
Точнее, отвергая то, что отличает живопись от искусства в самом широком, обобщенном смысле. Я писал эти строки почти десять лет тому назад, сегодня уже не существует кубистской школы, но сделанное ею дало свои плоды. Теории теориями, а практически бунт кубистов, напомнив живописи о требованиях, присущих искусству вообще, сослужил ей добрую службу, напомнив о ее собственной сущности. [1927]
(обратно)[618]
Нам так прожужжали уши всякими теориями, что слово «классический» стало избитым и вызывает только раздражение. Что ж, можно подыскать какие угодно другие слова. Главное — отличать настоящий порядок от фиктивного (а их нередко путают) и понимать, что порядок ведет к свободе.
Джино Северини опубликовал в 1921 г. интересную книгу под названием «От кубизма к классицизму» (G. Severini. Du Cubisme au Classicisme. Paris, Povolozky), в которой призывает пользоваться транспортиром и циркулем и прибегать к вычислениям, чтобы не изощряться и не полагаться на вкус. Конечно, научные и технические критерии, относящиеся к материальной стороне искусства, не являются исчерпывающими, и ими нельзя ограничиваться. Однако это необходимые критерии добротного искусства, и в этом смысле книга Северини весьма поучительна.
(обратно)[619]
Жан Кокто. Петух и Арлекин.
(обратно)[620]
Государство, кн. X.
(обратно)[621]
И все же существует поэтическое познание, часто превосходящее геометрию (см. ниже прим. 140). Но оно не имеет ничего общего с подражанием.
«Мы слишком привыкли оценивать правдивость искусства только с точки зрения подражания. Однако можно, не боясь парадокса, утверждать, что как раз имитация подлинности и есть ложь, причем ложь преднамеренная. Картина соответствует истине, своей истине, если выражает то, что должна выразить, и выполняет свою функцию украшения» (Maurice Denis. Loc. cit.).
«Какое заблуждение полагать, будто достоинство рисунка в его точности! Рисунок — это стремление к некой форме; чем больше силы и разума в этом стремлении, чем прекраснее рисунок. И это все! Лучшие из примитивных художников хороши не своей наивностью, как принято считать, а чувством гармонии, которое проявляется именно в рисунке. Лучшие из кубистов в этом на них похожи» (Max Jacob. Art poétique. Paris, 1922). -Любопытно отметить сходство определений искусства, которые дает томизм (recta ratio factibilium) и тот же Жакоб: «Искусство — это стремление выразить себя верно найденными средствами («Comet á des», Preface). To, что он далее называет «постановкой» и отличает от искусства и стиля, относится к духовной стороне произведения. «Когда автор правильно "поставил" свое произведение, он может применять любые средства для его украшения: язык, ритм, музыкальность и остроумие. Когда у певца хорошо поставлен голос, он может развлекаться руладами». Прибавлю от себя: когда философское произведение хорошо «поставлено», автор может позволить себе особый шик, который заключается в употреблении варварских специальных терминов.
(обратно)[622]
Поэт., IV, 1448 b 5-14.
(обратно)[623]
Или, вернее, стремился обозначить какой-то предмет с помощью идеограммы, возможно, с магической целью — ведь рисунки, находившиеся, естественно, в полумраке, не могли предназначаться для зрителей. В общем — как показывает, в частности, изучение недавно найденных в Сузах сосудов, относящихся к третьему тысячелетию до н. э., - искусство графики вначале было искусством письма и служило для иероглифических, идеографических или даже геральдических целей, совершенно чуждых эстетике; забота о красоте появилась гораздо позднее.
(обратно)[624]
Поэт., I, 1447 а 28.
(обратно)[625]
«[Сезанн] спросил меня, что думают ценители о Розе Бонёр[109*]. Я ответил, что все хвалят "Землепашца из Ниверне". "Да, — сказал Сезанн, — это до отвращения правдоподобно"» (Ambroise Vollard. Paul Cézanne. Paris, Cres, 1919).
(обратно)[626]
Мы уже поясняли выше (прим. 65), как следует понимать этот «свет формы». Дело не в ясности или простоте, с которой изображаются знакомые предметы, идеи, чувства. Сами изображаемые вещи: чувства, идеи и представления — для художника лишь средства, материалы, опять-таки знаки. Только плоский гедонизм может приписывать всю силу поэзии ее благозвучности. Прекрасные стихи волнуют нас духовными связями, которые невыразимы сами по себе, но проявляются при рождении, воистину чистом, словесного творения. «Темное» оно или «ясное» — вопрос второстепенный.
Впрочем, не надо забывать, «что темнота текста может зависеть от двух факторов: как от читаемого, так и от читателя. Но редкий читатель станет винить сам себя» (F. Lefevre. Entretiens avec Paul Valéry). Почти всех великих художников современники упрекали в темноте. Правда, многие из невеликих темноту напускали для важности. Как бы то ни было, хотя сегодня у «гамлетовского» субъективизма больше сторонников, чем в то время, когда Макс Жакоб писал свое «Поэтическое искусство», но в целом нынешняя поэзия не ставит себе целью быть темной и, наоборот, «злится, что ее не понимают». [1927]
(обратно)[627]
В нескольких статьях, опубликованных в журнале «Nord-Sud» (см. особенно номера за июнь-июль 1917 г., октябрь 1917 г., март 1918 г.), Пьер Реверди наиболее отчетливо изложил принципы чисто созидающей эстетики, отрицающей всякую заботу о сходстве и подражании; эти принципы отвечают глубинной сущности кубизма, но выходят далеко за его рамки, ибо являются крайним выражением одного из самых радикальных устремлений искусства.
Я полагаю, мы достаточно ясно показали, что сходство с реальностью или подражание ни в коей мере не есть цель искусства, но что тем не менее наше искусство способно создать свой собственный мир, свою автономную «поэтическую реальность», лишь выбрав определенные формы. Таким образом, оно сходно с реальными вещами, и сходство это более глубокое и мистическое, чем при простом копировании.
«Образ, — пишет Реверди, — это чистое творение ума. Он рождается не из сравнения, а из сближения двух более или менее удаленных сфер… Сила образа не в том, что он эффектен или необычаен, а в том, что находит точную ассоциативную связь очень далеких друг от друга вещей… Из сравнения (всегда весьма приблизительного) двух не сопрягающихся сфер не получится образа. Сближая же, без всякого сравнения, две раздельные сферы, связь между которыми постижима лишь уму, мы создаем сильный, новый образ».
Эти слова следует иметь в виду, рассматривая современную поэзию и поэзию вообще. Образ в таком истолковании есть нечто противоположное метафоре, которая сравнивает одну известную вещь с другой, чтобы лучше выразить первую, скрывая ее за второй. Образ же открывает одну вещь с помощью другой — и одновременно их сходство, — он позволяет познать неизвестное. Мы уже говорили об этом более обобщенно (Petite Logique, N 20): «Самые яркие и неожиданные поэтические образы возникают, быть может, из трудностей, которые испытывает человек, когда желает высказать и при этом буквально показать самому себе самые обычные вещи с помощью образных средств языка, — трудностей, которые и заставляют его обогащать эти средства». См.: Jean Paulhan. Jacob Cow, ou si les mots sont des signes.
Да, слова — это не только звуки, но и знаки, в разговоре мы заменяем ими вещи, которые в данный момент отсутствуют (Аристотель. О софистических опровержениях, I), потому на заре человеческой речи слова были облечены такой огромной, страшной и магической силой; первобытные люди могли еще плохо владеть словом, но метафизический инстинкт заставлял их чувствовать природу знака и ту мистическую власть, которая дарована человеку вместе со способностью именовать. Но слова — не настоящие («формальные»), а довольно несовершенные знаки, они быстро обрастают субъективностью, каждое окрашено психологией целого народа. Длительное хождение в социальной среде замутняет их духовную сущность, превращает их из знаков в самоценные вещи, на которые ум реагирует, прежде чем вмешается смысл, который мало-помалу вовсе перестает вмешиваться. Много важных соображений высказано на этот счет в «Опыте пословицы» («Expérience du Proverbe») Жана Полана.
Недостаток Гюго в том, что он способствует этой материализации слова-вещи. На мой взгляд, поэт, хоть и использующий слова как материал для своих произведений, должен противостоять тенденции превращения знака в вещь и поддерживать или возрождать в чувственной плоти слова духовную природу языка. Именно это он делает, когда создает новые образы, кажущиеся темными, но продиктованные заботой о точности. Современная поэзия с порой доходящим до нелепости мужеством выполняет задачу очищения языка. При всей внешней противоречивости, при всех экстравагантных отклонениях, вроде недавнего дадаизма и «освобожденных слов»[110*], она устремлена к объективности, ищет лишенный фальши способ выражения, при котором дух вынуждал бы слово, с его материальным весом, неукоснительно выполнять свою знаковую функцию в замкнутом пространстве стихотворения.
(обратно)[628]
Однажды на заседании Академии живописи, посвященном «Елиезеру и Ревекке» Пуссена, Филипп де Шампень посетовал, что художник не изобразил на картине «верблюдов, о которых упоминает Писание». На это Лебрен ответил, что «господин Пуссен, всегда старающийся сделать сюжет своих произведений предельно ясным и стройным и лучше представить основное действие, отбросил все причудливые детали, которые могли бы рассеять внимание зрителя, отвлечь его на незначительные мелочи». К сожалению, скатиться к напыщенной пошлости и банальности очень легко, и Делакруа имел основание сказать о том же Пуссене, «философе в живописи», что его «потому так и прозвали, что он уделял идеям больше места, чем требуется в живописи» (Variations du Beau. - Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1857; Oeuvres littéraires, I, Études esthétiques[628]). Тем не менее само предписание было полезным[628].
Нечто сходное говорил Ницше о стиле: «Чем характеризуется декаданс в литературе?. Тем, что распадается цельность жизни. Слово становится независимым и выпирает из фразы, фраза разбухает и затемняет смысл страницы, страница живет самостоятельной жизнью в ущерб целому, и целое теряет цельность. Это и есть признак декадентского стиля, непременно связанного с анархией атомов, распадом воли, "свободой личности", говоря языком морали, или, прибегая к политической лексике, "равными правами для всех". Сама субстанция жизни, ее пыл и трепет загнаны в самые ничтожные органы, — это не жизнь, а жалкие ее остатки. Повсюду усталость, паралич, каталепсия или же хаос и вражда; то и другое бросается в глаза тем больше, чем выше степень организации. А все в целом абсолютно безжизненно, это какое-то мертвое нагромождение, искусственное скопление, фиктивное соединение».
«Виктор Гюго и Рихард Вагнер, — писал далее Ницше, — явления одного плана, доказывающие, что во времена упадка цивилизации, когда господствует толпа, подлинность становится чем-то излишним, вредным, обрекает на отверженность. Только актерство вызывает восхищение. Наступает золотая пора для комедиантов и им подобных. Вагнер, с дудками и барабанами, идет во главе целой армии разного рода артистов: ораторов, толкователей, виртуозных исполнителей…» (Ницше. Казус Вагнер).
«Произведения Гюго, — записал Делакруа в 1844 г., - похожи на черновик талантливого человека: он говорит все, что приходит ему на ум» (Дневник Эжена Делакруа, 22 сентября 1844 г.).
(обратно)[629]
Я раскаиваюсь в таком суждении о Стравинском. Когда писались эти строки, я слышал лишь его «Весну священную», хотя, впрочем, уже и по ней мог бы понять, что Стравинский отвернулся от всего, что нам претит в Вагнере. А с тех пор он показал, что гений не только сохраняет силу, но даже набирает, обновляет ее ясностью. Именно его на диво упорядоченная, дышащая подлинностью музыка — сегодня лучший пример творческой мощи и той самой классической строгости. Его чистота, искренность, сила духа рядом с гигантизмом «Парсифаля» или тетралогии Вагнера — все равно что чудеса Моисея рядом с волшбой египтян. [1927]
(обратно)[630]
Иер 1: 6. Искусство не есть собственно познание (созерцательное), разве что оно практически познает будущее произведение; но как раз поэтому оно заменяет нам прямое духовное познание частных вещей, которым наделены ангелы. Оно выражает частное не в словесно-концептуальном виде, а в виде материального произведения, которое оно создает. Чувственным путем оно ведет художника к неясному эмпирическому восприятию (не поддающемуся умозрительному выражению) отдельных явлений, не выделяя их из цельной картины мира. «Для ребенка, — писал Макс Жакоб, — каждая личность — единственная в своем роде, для взрослого человека личность составляет часть рода, для художника она — вне рода». См. ниже прим. 140.
(обратно)[631]
Св. Фома. Comment, in Psalm., Prolog.
(обратно)[632]
Само по себе наслаждение чувств потребно искусству лишь ministerialiter[113*], поэтому художник поднимается гораздо выше его и свободно им распоряжается, однако же такая потребность есть.
(обратно)[633]
То есть наличие того, что мы назвали выше (с. 479) вторичным материсиюм.
(обратно)[634]
По замечанию Бодлера, именно в силу этих законов «картина Делакруа, даже если смотреть на нее со слишком большого расстояния, не позволяющего судить о сюжете и даже разобрать его, производит сильнейшее впечатление на душу, радует или печалит ее» (Curiosités esthétiques. Salon de 1855). В другом месте (Ibid. Salon de 1846) Бодлер пишет: «Лучший способ распознать, есть ли в картине гармония, это взглянуть на нее издалека, так что ни линии, ни фигуры нельзя различить. Если она гармонична, в ней все равно будет некий смысл и она западет в память».
(обратно)[635]
По правде говоря, трудно определить, в чем же именно состоит это подражание-копирование, хотя понятие его кажется предельно ясным умам, довольствующимся упрощенными схемами небогатого воображения.
Быть может, это имитация, или копирование, того, что есть вещь сама по себе, и ее умопостигаемого типа? Но названное здесь — объект понятия, а не ощущения, нечто, чего нельзя ни видеть, ни осязать и чего, следовательно, не в состоянии непосредственно воспроизвести искусство. Или, может быть, это имитация, или копирование, ощущений, вызванных в нас вещью? Но ощущения эти являются сознанию каждого уже преломленными сквозь внутреннюю среду воспоминаний и эмоций; к тому же они беспрестанно меняются, образуя поток, где все постоянно деформируется и перемешивается, так что с точки зрения чистого ощущения надо согласиться с футуристами, что «у скачущей лошади не четыре, а два десятка ног, что наши тела проникают в диван, когда мы усаживаемся, а диваны проникают в нас самих, что автобус наскакивает на дома, проезжая мимо, а дома, в свою очередь, несутся навстречу автобусу и объединяются с ним…».
Таким образом, оказывается, что воспроизведение, или точное копирование, природы даже не может быть поставлено как цель. Это понятие, которое ускользает от нас, когда мы хотим уточнить его. На практике оно сводится к идее представления вещей, подобного тому, какое дает фотография или муляж, или, вернее, поскольку эти механические приемы сами приводят к «ложным» для нашего восприятия результатам, к идее такого представления вещей, которое способно создать у нас иллюзию и обмануть чувства (что, впрочем, уже не является просто копией, а, наоборот, предполагает хитрую подделку), словом, к идее натуралистического обмана зрения, имеющего отношение разве что к искусству, выставленному в музее Гревена[115*].
(обратно)[636]
См.: Louis Dimier. Histoire de la peinture française au XIXe siècle. Paris, Delagrave.
(обратно)[637]
Ambroise Vollarld. Paul Cézanne. Paris, Crès, 1919. — «На природе» — значит, наблюдая природу и вдохновляясь ею. Если бы тут подразумевалось, что нужно «переписывать» Пуссена так, чтобы писать с натуры, на натуре, тогда высказывание Сезанна заслуживало бы той критики, без которой, конечно же, не обошлось. «Классиком делает не ощущение, а разум» (Gino Severini. Du Cubisme au Classicisme). См.: G. Severini. Cézanne et le Cézannisme. - L'Esprit Nouveau, N 11–12, 13 (1921); Emile Bernard. La Méthode de Paul Cézanne. - Mercure de France, 1er mars 1920; L'erreur de Cézanne. - Ibid., 1er mai 1926.
С другой стороны, известно очень верное, уже давнее, определение, принадлежащее Морису Дени: «Помнить, что картина — это не только… изображение какого-нибудь сюжета; по существу это, прежде всего, плоская поверхность, покрытая красками, расположенными в определенном порядке» (Art et Critique, 23 août 1890).
«Не надо писать с натуры», — говорил, со своей стороны, такой внимательный наблюдатель природы, как г-н Дега (это высказывание приведено у Ж.-Э. Бланша: J.-É. Blanche. De David à Degas).
«…Все истинные графики, — замечает Бодлер, — имеют дело с образом, запечатленным в их мозгу, а не с натурой. Если с нами не согласятся, ссылаясь на великолепные зарисовки Рафаэля и Ватто и многих других мастеров, мы скажем, что все это — лишь наброски, пусть даже очень детальные. Когда настоящий художник вступает в заключительный этап той или иной работы, модель будет для него скорее помехой, чем подспорьем. Случается, что даже такие художники, как Домье и г-н Г<ис>, издавна привыкшие упражнять память и пополнять ее образами, как бы теряют власть над главным своим дарованием, имея перед собой модель со всеми ее бесчисленными деталями.
И тогда стремление все увидеть, ничего не упустить вступает в единоборство с навыком памяти быстро схватывать общий колорит и силуэт, арабеску контура. Художника, наделенного совершенным чувством формы, но привыкшего в первую очередь основываться на памяти и воображении, словно осаждают со всех сторон негодующие детали, и все враз требуют справедливости с ожесточением толпы, жаждущей полного равенства. И если художник поддается им, истинная справедливость неизбежно нарушается, гармония, отданная на заклание, гибнет, любая пошлая деталь обретает непомерное значение, а мелочи вытесняют существенное. Чем беспристрастнее художник откликается на зов деталей, тем сильнее возрастает анархия. Каким бы зрением он ни обладал — близоруким или дальнозорким, — всякое соотношение величин и их соподчинение исчезают из его работы» (L'Art romantique)[116*].
(обратно)[638]
«Напротив, художник видит, иными словами, — разъяснял Роден, нашедший удачную формулировку, — глаз его, послушный сердцу, читает в глубине природы» (Rodin. Entretiens, réunis par Paul Gsell. Paris, Grasset, 1911). Здесь нам следовало бы остановиться на совершенно особом познании, благодаря которому поэт, живописец, музыкант постигают в вещах формы и секреты, скрытые от других и изъявляющие себя только в произведении, — такое познание можно назвать поэтическим познанием, оно относится к познанию через соприродность или, как сейчас говорят, экзистенциальному познанию. Кое-какие разъяснения на этот счет можно найти в нашей книге «Границы поэзии» («Frontières de la Poésie»), в частности в главе «Clef des chants». См. также: Thomas Gilby. Poetic Experience. London, Sheed and Ward, 1934; Theodor Haecker. La notion de vérité chez Sôren Kierkegaard. - Courrier des îles, N 4, Paris, Desclée De Brouwer, 1934.
(обратно)[639]
Baudelaire. Curiosités esthétiques (Le Musée Bonne-Nouvelle).
Изложенные нами в этой работе соображения позволяют согласовать два ряда внешне противоречащих друг другу выражений, употребляемых художниками.
Гоген и Морис Дени, художники вдумчивые и в высшей степени сознательные — как много в современной живописи иных! — скажут вам, например, что «самое плачевное» — это «идея, будто искусство есть копирование каких-то вещей» (Théories); думать, что Искусство состоит в том, чтобы копировать, или в точности воспроизводить, вещи, — значит извращать смысл искусства (ibid.). Слово «копировать» взято здесь в собственном смысле, речь идет о подражании, понимаемом материально, как имеющем целью обман зрения.
Напротив, Энгр или Роден, более страстные и обладающие не столь отточенным умом, скажут вам, что надо «попросту копировать, всего-навсего рабски копировать то, что у вас перед глазами» (Amaury-Duval. L'Atelier d'Ingres); «во всем слушаться природы и никогда не пытаться ею повелевать. Единственное мое стремление — рабски следовать ей» (Paul Gsell Rodin)… Слова «копировать» и «рабски» употреблены здесь в весьма неточном смысле, в действительности речь идет не о том, чтобы рабски имитировать объект, а о другом — о том, чтобы как можно более верно, ценой каких угодно «деформаций» показать форму или луч сверхчувственного, сияние которого улавливается в реальности. Энгр, как убедительно доказывает Морис Дени (Théories), подразумевал копирование красоты, которую он распознавал в природе, изучая творения греков и Рафаэля[639]. Он «думал, — говорит Амори-Дюваль, — будто убеждает нас копировать природу, тогда как убеждал нас копировать ее такою, какою он ее видел»; он первым стал «создавать монстров», по выражению Одилона Редона. Роден, со своей стороны, нападал — и совершенно справедливо! — лишь на тех, кто хочет «приукрасить» или «идеализировать» природу с помощью эстетических рецептов, изобразить ее «не такой, какая она есть, а такой, какой ей надлежит быть», и ему пришлось признать, что он подчеркивает, усиливает, преувеличивает, чтобы передать не только «наружность», но, «кроме того, и дух, который, несомненно, тоже составляет часть природы», — «дух» обозначает у него то, что мы называем формой.
Заметим, однако, что «деформации», осуществляемые живописцем или скульптором, чаще всего в гораздо большей степени являются чисто спонтанным следствием личного «видения», нежели результатом взвешивающей рефлексии. Психологам нетрудно объяснить этот феномен. Художники думают, что просто добросовестно копируют природу, а между тем выражают в материи тайну, которую она поведала их душе. Если я что-то изменил в отношении природы, говорил Роден, «то бессознательно, в момент творчества. В это время на мой глаз влияло чувство, и я видел природу сквозь его призму. Если бы я захотел изменить то, что вижу, и "сделать красивее", то ничего бы не вышло»[118*]. Поэтому «можно сказать, что все новаторы, начиная с Чимабуэ», одинаково заботясь о вернейшей интерпретации, равно «считали, что они подчиняются Природе» (J.-É. Blanche. Propos de Peintre, de David à Degas).
Таким образом, художник ради подражания трансформирует предмет, как говорил Тёпфер[119*], доброжелательный и словоохотливый предшественник современных критиков, в своих «Заметках» высказавший много верных соображений; но обычно он трансформирует предмет неосознанно. Эта иллюзия, в некотором смысле естественная, это несоответствие между тем, что художник делает в действительности, и тем, что он делает в собственных глазах, возможно, объясняет странное расхождение между великим искусством греческих и римских классиков, по-сыновнему свободным в отношении к природе, и их идеологией, порою плоско натуралистической (взять, к примеру, анекдот о винограде Зевкеида[120*]). — Надо признать, что от подобной идеологии над их искусством, стоило ему только ослабить свои усилия, нависала серьезная угроза натурализма. В самом деле, от греческого идеализма, который стремится копировать идеальный образец природы, очень легко (это удачно подметил автор «Теорий»[121*]) перейти к натурализму, копирующему самое природу в ее подвластной случаю материальности. Таким образом, «обман зрения» восходит к античности, как утверждает Жак Бланш; совершенно верно, но отнюдь не к шедеврам античного искусства.
Средневековое искусство спасали от этого зла его возвышенная наивность, его смирение, а также религиозные традиции, усвоенные им от византийских мастеров, поэтому обычно оно удерживается на таком уровне духовности, которого последующее классическое искусство достигает лишь в отдельных своих шедеврах. А вот искусство Возрождения не избежало пагубного влияния.
Не странно ли, что столь великий мыслитель, как Леонардо да Винчи, в своей апологии живописи прибегает к поистине уничижительным аргументам? «Случалось, что, увидев изображенного на картине отца семейства, внуки, еще не вышедшие из младенческого возраста, принимались ласкать его; домашние собака и кошка тоже ластились к портрету, — чудесное это было зрелище». «Однажды я видел портрет, обманывавший собаку сходством с хозяином, так что животное при виде этой картины проявляло бурную радость. Приходилось мне тоже наблюдать, как собаки лаяли и пробовали укусить своих сородичей на картине; и как обезьяна гримасничала перед написанной красками обезьяной; и как ласточки подлетали к решеткам, изображенным на окнах зданий, и пытались на них опуститься». «Один живописец написал картину, и кто на нее смотрел, тот сейчас же зевал, и это состояние повторялось все время, пока глаза были направлены на картину, которая также изображала зевоту» (L. de Vinci. Textes choisis, publ. par Péladan, § 357, 362, 363)[122*].
Благодарение Богу, Леонардо чувствовал живопись не так, как мыслил ее, хотя в его трудах «окончательно утверждается эстетика Возрождения, виражение через предмет»[639] и хотя было бы правильно сказать о нем вместе с Андре Сюаресом: «Он, кажется, живет только ради познания — в гораздо меньшей степени ради творчества… Поскольку он изучает и наблюдает, он раб природы. Когда он изобретает, он раб своих идей; теория гасит в нем трепещущий огонь созидания. Рожденные из пламени, образы его по большей части сохраняют лишь остаточное тепло, а иные и вовсе холодны»[639]. Во всяком случае, именно идеи, подобные тем, которыми довольствовался Леонардо да Винчи, идеи, впоследствии систематизированные академическим образованием, вынудили художников Нового времени откликнуться и побудили их осмыслить свою творческую свободу по отношению к природе (природа — только словарь, любил повторять Делакруа); при этом некоторые из них утратили наивность видения — ведь ее ставят под угрозу расчет и анализ, к величайшему ущербу для искусства.
В этой связи нелишним будет напомнить об указанном выше (прим. 100) различии между «видением» художника или же его выдумкой, замыслом его произведения, — и средствами исполнения, или осуществления, задуманного, которые он применяет.
С точки зрения видения или замысла, наивность, спонтанность, не сознающая себя искренность — драгоценнейший дар художника, дар уникальный, наивысший из даров; Гёте считал его «дьявольским» — таким он предстает незаслуженным и настолько превосходит всякий анализ.
Если дар этот уступает место системе или расчету, упрямой приверженности «стилю», вроде той, в какой Бодлер упрекал Энгра, или той, какую отмечают у некоторых кубистов, тогда наивная «деформация» или, точнее, трансформация, обусловленная духовной верностью форме, блистающей в вещах, и их глубинной жизни, уступает место «деформации» искусственной, деформации в отрицательном смысле слова, т. е. искажению или лжи, а искусство между тем блекнет.
Что же касается средств, то здесь, наоборот, требуются именно обдумывание, сознательность и хитрость: между замыслом и готовым произведением есть пространство — подлинная область искусства и его средств; оно заполняется игрой обдуманных комбинаций, и поэтому осуществление замысла — «результат последовательной и вполне осознанной логики» (Поль Валери) и бдительного самоконтроля. Так, живописцы венецианской школы хитро подменяют магию солнца «равноценной магией цвета» (Théories), или, к примеру, в наши дни трансформации, которым подвергает предметы Пикассо, представляются в сущности произвольными.
Итак, если «деформации», связанные с видением или замыслом художника, появляются у него — постольку, поскольку его искусство обладает жизнью — с чистой и как бы инстинктивной спонтанностью, то возможны и другие, определяемые средствами искусства, и такие деформации намеренны и рассчитаны[639]. Мы без труда нашли бы у мастеров, и даже у величайшего среди них, у Рембрандта, немало примеров подобных сознательно осуществленных трансформаций, деформаций, сокращений, перестановок. Произведения художников позднего Средневековья и раннего Возрождения (так называемых примитивов) изобилуют всем этим, потому что они больше заботились о том, чтобы обозначить предметы или действия, нежели о том, чтобы воспроизвести их внешнюю сторону. В этом плане Гёте, воспользовавшись одной гравюрой Рубенса, дал прилежному Эккерману полезный урок (Беседы Гёте с Эккерманом, 18 апреля 1827 г.). Гёте показывает Эккерману гравюру, и тот перечисляет все ее детали.
«Все, что изображено здесь, стадо овец, воз с сеном, работники, возвращающиеся домой, с какой стороны это освещено?
— Свет падает на них, — отвечал я, — со стороны, обращенной к зрителю, тени же они отбрасывают в глубь картины. Всего ярче освещены работники на первом плане, и эффект, таким образом, получается великолепный.
— Но чем, по вашему разумению, Рубенс его добился?
— Тем, что эти светлые фигуры выступают на темном фоне, — отвечал я.
— А откуда взялся этот темный фон?
. — Это мощная тень, которую купа деревьев отбрасывает им навстречу. Но как же получается, что фигуры отбрасывают тень в глубь картины, а деревья, наоборот, навстречу зрителю? Выходит, что свет здесь падает с двух противоположных сторон, но ведь это же противоестественно!
— То-то и оно, — усмехнувшись, сказал Гёте, — Здесь Рубенс выказал все свое величие, его свободный дух, воспарив над природой, преобразил ее сообразно своим высшим целям. Двойной свет — это, конечно, насилие над природой, и вы вправе утверждать, что он противоестественен. Но если художник и пошел против природы, то я вам отвечу: он над ней возвысился, и добавлю: это смелый прием, которым гениальный мастер доказал, что искусство не безусловно подчинено природной необходимости, а имеет свои собственные законы…
У художника двойственные отношения с природой: он ее господин и он же ее раб. Раб — поскольку ему приходится действовать земными средствами, чтобы быть понятым, и господин — поскольку эти земные средства он подчиняет и ставит на службу высшим своим замыслам.
Художник являет миру целое. Но это целое не заготовлено для него природой, оно плод собственного его духа, или, если хотите, оплодотворяющего дыхания Господа.
При поверхностном взгляде на этот ландшафт Рубенса все кажется нам простым, естественным и списанным с натуры. Но это не так. Столь прекрасной картины никто и никогда в природе не видывал, так же как и ландшафтов, подобных ландшафтам Пуссена или Клода Лоррена, — они выглядят очень естественными, хотя в природе их тоже не сыщешь»[123*].
См.: Conrad Fiedler. Ueber die Beurtheilung von Werken der bildenden Kunst. Leipzig, Hirzel, 1876. «Nicht der Kiinstler bedarf der Natur, vielmehr bedarf die Natur des Kiinstlers»[124*], - писал Фидлер, предвосхищая знаменитое высказывание Уайльда. В этом небольшом сочинении мы найдем верные соображения об искусстве и о созидательном интеллекте, и в частности о чувстве существования, специфическом Weltbewusstsein[125*], связанном с развитием художнических способностей и характеризующемся сочетанием и как бы совпадением интуиции и необходимости. «So wird ein Mann, — говорил Гёте, — zu den sogenannten exacten Wissenschaften geboren und gebildet, auf der Hone seiner Verstandesvernunft nicht leicht begreifen, dass es auch eine exacte sinnliche Phantasie geben kônne, ohne welche doch eigentlich keine Kunst denkbar ist»l26*
(обратно)[640]
См.: Sum. theol., q. 45, a. 8. — Свойство материи повиноваться человеку, художнику, который получает от нее результаты, превосходящие все, что она могла бы дать под воздействием физических факторов, даже доставляет теологам (см.: св. Фома. Compendium theologiae, cap. 104; Garrigou-Lagrange. De Revelatione, t. I, p. 377) глубочайшую аналогию способности повиновения по отношению к Богу, наличествующей в вещах и в душах и покоряющей их до самой глубины их бытия необоримой силе первого Действователя, дабы от мощи его они возвышались до сверхприродного порядка, или порождали чудесные явления. «И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале… И было слово Господне ко мне: не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев» (Иер 18: 3–6).
(обратно)[641]
См.: св. Фома. In I Sent., d. 32, q. 1, 3, 2m.
(обратно)[642]
Древнее изречение: «Ars imitatur naturam» не означает «Искусство подражает природе, воспроизводя ее», но имеет другой смысл: «Искусство подражает природе, действуя, или созидая, как она, ars imitatur naturam IN SUA OPERATIONE». Поэтому св. Фома применяет это изречение, в частности, к медицине, которую уж никак не назовешь «искусством подражания» (Sum. theol., I, q. 117, a. 1).
В таком смысле надо понимать и высказывание Клоделя: «Наши произведения и средства их создания не отличаются от произведений и средств природы» (Art poétique).
(обратно)[643]
Paul Claudel. La Messe là-bas. — «Si che vostr'arte a Dio quasi è nepote»[130*], - писал Данте.
(обратно)[644]
Высказывание, приведенное Альбером Андре в книге о Ренуаре {A. André. Renoir. Éd. Crès).
(обратно)[645]
Суждение о вкусе- совсем не то, что суждение об искусстве, оно созерцательного порядка. Вкус относится к способности восприятия и наслаждения, принадлежащей тому, кто созерцает или слушает произведение, сам по себе он не затрагивает созидательного интеллекта, и, сколь бы ни были благодетельны для его развития знания и общение с искусством и с творческим разумом[645], он не предполагает по сути своей ни малейшего зачатка самого художнического габитуса; он всецело пребывает в сфере созерцательных способностей. Вот почему греки (здесь, по нашему мнению, кроется главное заблуждение платонизма) считали, что лучше и благороднее быть способным наслаждаться творениями Фидия, нежели быть самим Фидием. И не случайно вкус так опасен для творца — благодетелен, и опасен, и обманчив: ведь он пребывает в сфере созерцательного интеллекта (и чувства), а не практического интеллекта. Многие крупные художники обладали довольно дурным вкусом. И наоборот, многие люди, имеющие совершенный вкус, были посредственными творцами. Что такое музыка Ницше в сравнении с его суждениями о музыке?
Вкус — это даже не габитус созерцательного интеллекта, у него нет необходимого и достаточно определенного объекта приложения. Он касается чувства в той же мере, что и ума, а ума — постольку, поскольку ум связан с чувством: не существует познавательного универсума более сложного и более изменчивого. Действительно, каким бы непогрешимым он ни был, эстетический вкус происходит не от габитуса в собственном смысле слова, а от устойчивого расположения и способности, точно так же как и вкус у дегустатора вин. И он всегда зависит от изобретения — художником — новых видов произведений, где проявится еще какой-то аспект красоты.
(обратно)[646]
С этой точки зрения символистская концепция, как ее излагает Морис Дени, не устраняет всей путаницы.
«Символизм, — пишет он (Nouvelles Théories), — есть искусство отражать и вызывать различные состояния души через соотношения красок и форм. Эти придуманные или заимствованные у природы соотношения становятся знаками или символами состояний души: они обладают способностью передавать их… Символ… предназначен к тому, чтобы сразу породить в душе зрителя всю гамму человеческих эмоций посредством соотносительной с нею гаммы красок и форм, а точнее ощущений…» Цитируя Бергсона: «Цель искусства — усыпить действующие или, вернее, оказывающие сопротивление силы нашей личности и тем самым привести нас в состояние полного повиновения, в котором мы усваиваем внушаемую нам идею или испытываем выражаемое чувство»[133*], Морис Дени прибавляет: «Оживляя таким образом все наши смутные воспоминания, возбуждая все наши подсознательные силы, произведение искусства, достойное этого имени, создает в нас некое мистическое или, во всяком случае, аналогичное мистическому видению состояние и в какой-то мере позволяет нам сердцем почувствовать Бога».
Совершенно верно, именно таков результат искусства: оно вызывает в нас определенные аффективные состояния; но не в этом его цель, — нюанс пусть и тонкий, но имеющий исключительное значение. Все искажается, если принимают за цель то, что является не более чем необходимым результатом или следствием, а самую цель (создать произведение, в котором сияние формы бросало бы отблеск на соответствующую материю) полагают всего лишь средством (вызвать в других определенные состояния души и определенные эмоции, усыпить их силы сопротивления и возбудить в них бессознательное).
Как бы то ни было, специфический результат искусства — думается, нам уже удалось это показать — в том, что человек, наслаждающийся произведением, становится сопричастным поэтическому познанию, составляющему привилегию художника (см. выше прим. 140). Эта сопричастность — один из элементов эстетического восприятия или эстетической эмоции, в том смысле, что, возникая непосредственно как специфический результат благодаря восприятию или чувствованию красоты (взятому в его чистом сущностном содержании), она питает его, расширяет и углубляет. Именно так следует понимать приведенную выше, в прим. 77, страницу из сочинения С.Э.М. Джоуда. Causae ad invicem sunt causae[134*].
Возражения, которые представил нам о. Артур Литтл в интересной, более того, блестящей аналитической работе (A. Little. Jacques Maritain and his aesthetic. - Studies, Dublin, sept. 1930), обязывают нас уделить им внимание. Как писал наш друг о. Леонардо Кастельяни в своем отклике на эту статью (L. Castellani. Arte y Escolâstica. - Criterio, Buenos Aires, 10 sept. Ί931), «критик путает цель произведения (finis operis) и цель производящего (finis operantis)»; к тому же он истолковывает нашу позицию «в узком и одностороннем смысле, что лишено основания».
О. Кастельяни прекрасно показал, что в действительности в этой дискуссии затрагиваются вопрос о спецификации габитусов и разногласия скотизма и томизма относительно ума и воли. Мы думаем, лучше всего отослать читателя к его статье.
По мнению о. Артура Литтла, сущность искусства — в сообщении опыта (the communication of experience). Мы не исключаем (как он полагает) этого сообщения, не рассматриваем его как всецело акцидентальное и внешнее по отношению к искусству; мы знаем, что оно играет первостепенную роль в деятельности художника, как явствует, например, из превосходного стихотворения Шелли «One word»[135*]. На самом деле оно связано с общественной сущностью человека и с потребностью сообщаться, свойственной духу как таковому, интеллекту и любви; кто же говорит не затем, чтобы быть услышанным? Но мы утверждаем, что оно не составляет специфицирующей цели художнического габитуса. В смысле, уточненном в данном примечании (т. е. для художника как важнейшее условие деятельности, а для того, кто наслаждается произведением, как необходимый результат восприятия прекрасного), это один из элементов деятельности художника, а также и эстетической эмоции.
(обратно)[647]
См.: Аристотель. Полит., VIII, 7, 1341 b 40; Поэт., VI, 1449 b 27.
(обратно)[648]
Lettres de Marie-Charles Dulac. Bloud, 1905. Письмо от 6 февраля 1896 г.
(обратно)[649]
Искусство церковное, или культовое, и религиозное различаются не столько предназначением, сколько качеством и вдохновенностью, что особенно очевидно сегодня, когда большей части церковных произведений не хватает религиозного вдохновения. Мне хотелось бы, однако, отметить здесь практическую важность этого различия, которой часто не понимают как светская публика, так и духовные лица. Этим объясняется прискорбное обыкновение судить о любом произведении с ярко выраженным духовным началом слишком узко, как о части храмовой утвари или молитвенного оби^ хода. Между тем многие из таких произведений, даже если в них присутствует религиозный сюжет, имеют другое предназначение, они созданы не для того, чтобы на них смотрели или их слушали в храмах, и не для нужд благочестия. Именно таковы — в силу понятных причин — некоторые из лучших современных произведений: они проникнуты искренним и подчас глубоким религиозным чувством и при этом не отвечают канонам и требованиям церковного искусства. Они вызывали бы куда меньше смелых толкований и преувеличенно негодующей критики, если бы к ним не применяли чуждые им церковные нормы. И наоборот, далеко не каждое произведение на религиозный сюжет, отвечающее всем традициям церковного искусства и удовлетворяющее потребности верующих, имеет высокую художественную ценность и выполнено с искренней верой. [1935]
(обратно)[650]
Не существует школ, обучающих христианскому искусству в том смысле, в каком мы определили здесь «христианское искусство». Напротив, вполне возможны школы, обучающие церковному искусству, или религиозному искусству, у него есть своя цель, есть и свои условия, и — увы! — у него есть также огромная потребность преодолеть упадок, который оно переживает.
Об этом упадке мы здесь не говорим, — слишком многое потребовалось бы сказать. Приведем только строки, написанные Мари-Шарлем Дюлаком: «Есть нечто, чего бы я желал и о чем я молюсь: это чтобы все прекрасное было посвящено Богу и служило к Его восхвалению. Все, что зримо в тварях и в творении, — все должно быть обращено к Нему, и меня удручает, что Его супруга, матерь наша святая Церковь, облечена уродствами. Она так прекрасна, а между тем все, что предназначено для ее внешнего выражения, безобразно; все усилия направлены на то, чтобы выставить ее на смех; сначала тело ее бросали, обнаженное, на растерзание диким зверям: потом художники вкладывали душу в ее убранство, дальше в дело вмешивается тщеславие и наконец сноровка, и вот Церковь, выряженная в шутовской наряд, становится смешной. Это зверь иного рода, не такой царственный, как лев, и куда опаснее…» (Письмо от 25 июня 1897 г.).
«…Они довольны мертвыми произведениями… Они находятся на нижайшем уровне, в смысле понимания искусства, — я говорю сейчас не о вкусе публики. И это я отмечаю уже в эпоху Микелапджело, Рубенса в Нидерландах: я не могу обнаружить никакой жизни души в этих крупных телах. Вы понимаете, что я говорю не столько о величине, сколько о полном отсутствии внутренней жизни. Вслед за эпохой, когда сердце стало таким многообъемлющим, когда язык его был так искренен, возвратились к грубой пище язычества, а потом дошли до непотребства Людовика XIV.
Но ведь Вы знаете, художника создает не художник, а те, которые молятся. Молящиеся же обретают лишь то, чего они просят у Бога; в наше время их не побуждают стремиться к большему. Я надеюсь, что появятся хоть какие-то проблески; ибо если мы посмотрим на современных греков, копирующих суровые образы прошлого, на протестантов, которые ничего не делают, и на католиков, делающих что угодно, мы увидим, что в действительности Господу не желают служить отображением прекрасного, что изобразительные искусства не воздают Ему хвалу за те милости, которые Он им ниспосылает, что художники даже впали в грех, отвергая святое и доступное нам и принимая тронутое скверной» (Письмо от 13 мая 1898 г.).
См. на эту тему эссе аббата Марро (Marraud) «Религиозная живопись и народное искусство» («Imagerie religieuse et Art populaire») и исследование Александра Сенгриа «Упадок религиозного искусства» (A. Cingria. La Décadence de l'Art Sacré. Nouvelle éd., corr. et aug. Paris, éd, Art Catholique).
Эту книгу Поль Клодель рассматривает как «самую обстоятельную и самую вдумчивую беседу… на печальную тему». В одном важном письме Александру Сенгриа он пишет:
«Все они [причины этого упадка] могут быть сведены к одной: это особенно болезненно сказавшийся в прошлом веке разрыв между положениями вероучения и теми способностями воображения и чувства, которыми художник одарен в наивысшей степени. С одной стороны, определенная религиозная школа, главным образом во Франции, где ереси квиетизма и янсенизма мрачно подчеркивали проявления такого разрыва, отвела слишком исключительную роль в акте приятия веры духу, лишенному плоти, тогда как получил крещение и должен восстать из праха в Судный день весь человек в полном и нерасторжимом единстве своей двоякой природы. С другой стороны, искусство эпохи, начавшейся после Тридентского собора, известное в основном под нелепым названием "искусство барокко" (впрочем, я, как и Вы сами, — Вам это известно — испытываю к нему живейшее чувство восхищения), кажется, поставило целью не отображать для народа, как это делало готическое искусство, конкретные события и исторические истины веры наподобие развертывающейся огромной Библии, а показывать, крикливо, пышно, красноречиво и часто с самой проникновенной патетикой, то пустое, как медальон, пространство, куда прегражден доступ нашим чувствам, торжественно выставляемым вон. Это и святые, лицами своими и позами указующие нам на неизъяснимое и незримое, и все беспорядочное изобилие декора, и ангелы, взмахами крыльев поддерживающие неясную, скрываемую культом картину, и статуи, как бы движимые мощным дуновением, исходящим от чего-то неведомого. Но перед этим неведомым воображение отступает, оробевшее и обескураженное, и всем своим богатством служит обрамлению, главная цель которого — восславлять неведомое с помощью почти что официальных приемов, слишком быстро вырождающихся в готовые рецепты и в надоедливые повторы».
Отметив, что в XIX в. «кризис не находящего потребной пищи воображения» довершил разрыв между чувствами, «отвратившимися от того сверхприродного мира, который ничто не делало для них доступным и желанным», и богословскими добродетелями, Клодель продолжает: «В результате вместе со способностью принять эту цель всерьез было неприметно затронуто главное движущее начало творца — воображение, а именно стремление своими собственными средствами немедленно создать для себя самого и для ближнего, составить из отдельных элементов, определенный образ мира, одновременно восхитительного, обладающего смыслом и разумного.
Что же до Церкви, то, утратив облачение искусства, она уподобилась в прошедшем столетии человеку, с которого совлекли одежду: это священное тело, состоящее из людей верующих и грешных, впервые физически показалось перед всеми в своей наготе, словно беспрестанно выставляя на обозрение свои немощи и язвы. Для того, кто осмелится на них глядеть, современные церкви с их патетикой представляют интерес как пародия вероисповедания. Их безобразность — это проявление всех наших грехов и пороков, нашей слабости и убожества, непрочности веры и чувств, сердечной черствости, отвращения к сверхъестественному, господствующих условностей и штампов, непомерно раздутого беспорядочного индивидуального опыта, мирской роскоши, скупости, чванства, угрюмости, напыщенности, фарисейства. Но душа внутренне остается живой, бесконечно скорбной, терпеливой и не потерявшей надежду; такая душа угадывается во всех тех бедных пожилых женщинах в жалких нелепых шляпках, к чьим молитвам на скромных, без песнопения, мессах всех часовен мира я присоединяюсь вот уже тридцать лет… Да, даже в таких суровых церквах, как Нотр-Дам-де-Шан, как церковь св. Иоанна Евангелиста в Париже или базилики Лурда, более трагичные для созерцателя, чем руины Реймского собора, присутствует Бог, мы можем Ему довериться, а Он может быть уверен в нас: за отсутствием достойного благодарения мы всегда обеспечим Ему нашими малыми личными средствами уничижение столь же великое, как вифлеемское» (Revue des Jeunes, 25 août 1919).
(обратно)[651]
«Искусство, — согласно известной формулировке Леона Блуа, — это паразит на коже первого змея. Из ее соков черпает оно свою беспредельную гордыню и силу внушения. Оно самодостаточно, как бог, и узорчатые короны князей в сравнении с его венцом из молний кажутся железными обручами. Оно не склонно ни к повиновению, ни к обожанию, и никакая человеческая воля не повергает его ни к какому алтарю. Оно может подать милостыню от избытка своей роскоши храмам или дворцам, соблюдая собственную выгоду, но не надо просить у него даже самой малости сверх необходимого…
Можно встретить на редкость несчастных людей, сочетающих в себе художника и христианина, но не может быть христианского искусства» (Belluaires et Porchers).
Здесь Блуа, как это часто с ним бывает, доходит до крайности, чтобы заставить нас почувствовать глубокую антиномию. Не спорю, антиномия эта чрезвычайно затрудняет приход христианского искусства, даже в особой духовной сфере. Но она, однако, не является неразрешимой, ибо природа не порочна в своей сущности, как думали приверженцы Лютера и янсенисты. Как бы ни была она уязвлена грехом, природа может быть исцелена благодатью, в особенности там, где она бывает возвышена. Или вы полагаете, что благодать Христова бессильна, что она встречает непреодолимое сопротивление в некоторых Божьих созданиях, притом самых благородных, что она неспособна освободить искусство и красоту и покорить их Духу Божиему, ad obediendum fidei in omnibus gentibus?[137*] Ничто не противоречит Богу. Ум человеческий может и должен быть предан Ему. Надо только заплатить свою цену, более высокую цену, чем представлялось христианскому гуманизму. [Безусловно, более высокую, чем думал и я сам, когда писал эти строки; я до сих пор еще не могу ее помыслить. По правде говоря, человеку не дано ясно представить себе все, что связано с искуплением, — наверное, к счастью, ибо кто тогда отважился бы пуститься в путь? Достаточно все это переживать.] Хотя и верно, что дьявол всегда к услугам художника и что снисходительность ко злу облегчает художнику многое, но утверждать вслед за Андре Жидом, что дьявол участвует в создании всякого произведения искусства, подменять фактическую частоту логической необходимостью — значит впадать в своего рода манихейское богохульство. Надо подчеркнуть, что гиперболы Леона Блуа имеют совсем другой смысл, они лишь бросают свет на таинственную перипетию. (См.: Stanislas Fumet. Le Procès de l'Art. Paris, Pion; Mission de Léon Bloy. Paris, Desclée De Brouwer.)
Приведем здесь одну страницу из весьма ценного сочинения[651]: «Люцифер набросил на нас невидимую, но прочную сеть иллюзии. Иллюзия заставляет дорожить мгновением в ущерб вечности, суетой в ущерб истине. Она убеждает нас, что мы в состоянии любить сотворенное существо, только обожествляя его. Она усыпляет нас, она заставляет нас грезить (и толкует наши сны), она побуждает нас к творчеству. Человеческий дух попадает тогда в болотные воды. Дьявол немало преуспел, убеждая художников и поэтов, что он их необходимый, неизбежный соработник и страж их величия. Согласитесь с ним в этом, и вы тотчас признаете вместе с ним, что христианству невозможно следовать на практике.
Вот так он и царствует в этом мире. Действительно, кажется, что все принадлежит ему и что надо все у него отнять. Однако у него уже все отнято… Мир спасен, избавлен от него. Но при одном условии: искупительная кровь должна быть распространена на мир и принята в души… Пусть она будет принята, драгоценная кровь, и все возродится. То, что ныне только прельщение и плод смерти, — искусство, погибающее от роскоши, наука, обезумевшая от гордыни, власть, снедаемая алчностью, — все это может родиться заново, как и сам человек. Благодаря труду всех святых и всех людей доброй воли уже совершаются эти новые рождения».
(обратно)[652]
Это божественное вдохновение естественного порядка явно признавали древние, в частности, автор «Евдемовой этики» в известной главе об удаче (кн. VII, гл. 14). Св. Фома тоже признает его, отличая от вдохновения, по существу своему сверхъестественного, принадлежащего к дарам Святого Духа (Sum. theol., I–II, q. 68, a. 1 et 2). См.: Ответ Жану Кокто, прим. 3 (см. наст, изд., с. 571); Frontières, p. 50, note.
«Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения… Поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать… Один поэт зависит от одной Музы, другой — от другой. Мы обозначаем это словом "одержим"… А от этих первых звеньев — поэтов — зависят другие одержимые…» (Платон. Ион)[138*].
«Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству (τέχνη) станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых» (Платон. Федр)[139*].
Пусть силы бессознательного, образы и инстинкты подземного мира в немалой степени причастны вдохновению, о котором говорит Платон, — мир этот имеет ту же цену, что и душа поэта, он тем божественнее, чем она глубже и духовнее. И нет ничего более доступного сверхчеловеческим влияниям, собственно вдохновению (естественного либо сверхъестественного порядка), чем этот зыбкий и яростный мир.
(обратно)[653]
Мы не утверждаем, что для создания христианского произведения художник должен быть святым, подлежащим канонизации, или мистиком, достигшим преображающего единения. Мы утверждаем, что де-юре мистическое созерцание и святость в художнике — это предел, к которому сами собой устремлены формальные требования христианского произведения как такового; и что де-факто произведение является христианским в той мере, в какой — сколь бы несовершенным образом это ни осуществлялось — нечто от жизни, делающей святыми и монахами, проходит через душу художника.
Это очевидные истины, простое применение вечного принципа: operatio sequitur esse, «действие соответствует бытию». «В этом всё, — говорил Гёте. — Надо чем-то быть, чтобы мочь что-то делать». Леонардо да Винчи иллюстрировал тот же самый принцип довольно курьезными замечаниями: «Живописец, у которого неуклюжие руки, будет делать их такими же в своих произведениях; то же самое случится у него с каждым членом тела, если только длительное обучение не оградит его от этого… Если он быстр в разговоре и в движениях, то его фигуры так же быстры; если мастер набожен, таковыми же кажутся и его фигуры со своими искривленными шеями; если мастер не любит утруждать себя, его фигуры кажутся срисованной с натуры ленью… и так каждое свойство в живописи следует за собственным свойством живописца» (L. de Vinci. Textes choisis, publ. par Péladan, § 415, 422)[140*].
Как получилось, спрашивает Морис Дени в лекции «Религиозное чувство в искусстве Средних веков» (Le sentiment religieux dans l'art du moyen âge. -Nouvelles Théories), что талантливые художники, чья личная вера была чистой и живой, — например, Овербек или некоторые ученики Энгра — создали произведения, мало затрагивающие наше религиозное чувство?
Думаю, ответить на этот вопрос нетрудно. Возможно, что слабость эмоции происходит попросту от недостаточности самой добродетели искусства, отличной и от таланта, и от школьного знания. Далее, вера и богопочитание в художнике, строго говоря, недостаточны для того, чтобы произведение вызывало христианскую эмоцию: такой эффект всегда зависит от некоторого созерцательного элемента, сколь бы недостаточным его ни предполагали, а само созерцание предполагает, согласно теологам, не только добродетель веры, но также и влияние даров Святого Духа. Наконец, и это главное, могут возникать, например из-за догматических принципов школы, препятствия, prohibentia, мешающие искусству быть движимым и превозвышаемым всей душой в ее целостности. Ведь тут недостаточно добродетели искусства и сверхприродных добродетелей христианской души, — нужно еще, чтобы первая находилась под влиянием последних, как это и бывает естественным образом, при условии, однако, что никакой чуждый элемент не составляет препятствия. Религиозная эмоция, сообщаемая нам примитивами, отнюдь не результат каких-то ухищрений, она — следствие естественности и свободы, с какою эти питомцы матери Церкви выражают в искусстве свою душу.
— Но как же получилось, что художники, далекие от набожности, как многие мастера XIV–XV вв., создали произведения, исполненные глубокой религиозной эмоции?
Во-первых, эти художники при всем их предполагаемом язычестве были проникнуты верой, в ментальной структуре своего бытия, в неизмеримо большей степени, чем допускает наша недалекая психология. Разве не были они еще совсем близки к тому бурному и страстному, но героически христианскому Средневековью, чей след в нашей цивилизации не могли изгладить четыре столетия антропоцентрической культуры? Какие бы забавы они себе ни позволяли, они хранили в себе все еще живую vis impressa[141*] средневековой веры, и не только веры, но и тех даров Святого Духа, которые с такой полнотой и свободой воплощались в искусстве в христианские века. Так что не будет дерзостью утверждать, что «вольные искатели наслаждений», о которых говорит Морис Дени, используя выражение Боккаччо, за работой оказывались на поверку большими «мистиками», нежели многие религиозные люди в нашу отмеченную черствостью эпоху.
Во-вторых, христианское достоинство начинает снижаться именно в их произведениях. Прежде чем стать, у Рафаэля и уже у Леонардо да Винчи, чистой человечностью и чистой природой, оно уже было только лишь ощутимым обаянием у Боттичелли или у Филиппо Липпи; во всей своей строгости оно сохранилось только у великих примитивов — Чимабуэ, Джотто, Лоренцетти — или позднее у Анджелико, который, будучи святым, способен перенести весь свет внутренних небес в искусство, само по себе уже менее суровое.
В сущности, надо проникнуть в Средневековье достаточно глубоко, надо взойти к чудесной умиротворенности св. Франциска, чтобы обнаружить самую чистую эпоху христианского искусства. Воплотилось ли где-нибудь полнее, чем в скульптурах и витражах кафедральных соборов, совершенное равновесие между мощной духовной иератической традицией — без которой невозможно религиозное искусство — и тем свободным и наивным чувством реальности, которое присуще искусству по закону свободы? Ни одна из последующих интерпретаций не достигает поистине священнической и богословской высоты сцен Рождества Господня (хор собора Нотр-Дам в Париже, витражи Тура, Санса, Шартра и т. д., - ponitur in praesepio, id est corpus Christi super altare[142*]) или Венчания Святой Девы на царство (Санлис), какими их представляли в XII и XIII вв. (См.: Emile Male. L'Art religieux du XIIIe siècle en France; Dom Louis Baillet. Le Couronnement de la Sainte Vierge. - Van Onzen Tijd, Afl. XII, 1910.)
Но искусство в те времена было также и плодом человечности, в которой действовали все животворные силы Крещения. Конечно, есть все основания говорить о наивности примитивов и связывать с этой наивностью эмоцию, овладевающую нами перед их творениями. Однако всякое великое искусство наивно, но не всякое великое искусство — христианское, разве только в уповании. Если наивность великих средневековых художников отдает сердце живому Богу, то именно потому, что наивность эта — редчайшего достоинства; это христианская наивность, это как бы данная свыше добродетель восхищенной наивности и сыновнего чистосердечия перед всем созданным Святой Троицей, в искусстве это подлинный знак веры и Даров, нисходящих на него, чтобы возвести его на невиданную прежде высоту.
Именно благодаря своей религиозной вере художник-примитив инстинктивно знал то, что в муках познала современная поэзия, — что «форма должна быть формой духовной. Не способом выражать вещи, а способом мыслить их»; и что «только реальность, даже глубоко скрытая, обладает способностью волновать душу» {Jean Cocteau. Le Rappel à l'Ordre).
И напрасно Гастон Латуш уверяет нас, что потолок капеллы в Версале представляется ему столь же «религиозным», как и свод церкви в Ассизи, — Жувене[143*] ничто в сравнении с Джотто, и так будет, пока над христианским сердцем не возобладает мрачный «классицистский» фанатизм.
Николай Бердяев утверждает, что совершенный классицизм, т. е. классицизм, способный черпать из природы счастливую насыщающую гармонию, невозможен после распятия и смертной муки Христа; он убежден, что классицизм эпохи Возрождения несет в себе рану христианства[144*]. Я думаю, что Бердяев прав. Но существовала ли даже в Греции совершенная классическая безмятежность? Таинственная темная сила осаждала эту грезу; ведь и в Греции тоже человеческая природа была уязвлена и взывала к искуплению.
(обратно)[654]
«Sicut corpus Jesu Christi de Spiritu sancto ex integritate Virginis Mariae natum est, sic etiam canticum laudum, secundum coelestem harmoniam per Spiritum sanctum in Ecclesia radicatum»[145*], - пишет св. Хильдегарда в замечательном послании капитулу Майнца, где она настаивает на свободе церковного песнопения (Migne, col. 221).
(обратно)[655]
Любопытно, что в самых смелых своих изысканиях современное искусство, похоже, стремится следовать всему тому, что в отношении структуры произведения, простоты, смелости и рациональности средств, идеографической систематизации выражения характеризует искусство примитивов. Посмотрите с этой точки зрения на миниатюры из «Scivias» св. Хильдегарды, воспроизведенные в прекрасной работе дона Байе (Dom Baillet. Les miniatures du Scivias conservé à la bibliothèque de Wiesbaden, 1er fasc. du t. XIX des Monuments et Mémoires de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, 1912), и вы найдете там весьма впечатляющие аналогии с некоторыми современными исканиями, например с кубистскими перспективами. Но это чисто материальные аналогии, внутренние принципы здесь совершенно различны. Тем, чего большинство современных «передовых» художников ищет в холодном мраке расчетливой анархии, примитивы изначально обладали в безмятежности своего внутреннего строя. Измените душу, внутреннее начало, зажгите свет веры и разума вместо сильного раздражения чувств (а порой и вместо stultitia[146*]), — вы получите искусство, способное к высоким духовным достижениям. В этом смысле современное искусство, несмотря на то что во многих других отношениях оно антипод христианству, гораздо ближе к христианскому искусству, чем к искусству академическому.
(обратно)[656]
Само собой разумеется, что мы понимаем слово «нравственность» не в стоическом, мирском или протестантском смысле, а в смысле католическом, согласно которому весь порядок нравственности, или человеческого действования, предполагает в качестве своей конечной цели блаженное видение и любовь к Богу ради Него самого, превосходящую всякую иную любовь, и достигает совершенства в сверхприродной жизни богословских добродетелей и ниспосланных свыше даров.
(обратно)[657]
Свидетельство поэта столь ревностного в служении искусству, как Бодлер, в связи с этим представляет большой интерес. Его статья «Школа язычников» («L'École païenne»), где он ярко и убедительно показывает, какое заблуждение для человека — подчинять себя искусству как высшей цели, заканчивается такой страницей:
«Необузданное пристрастие к форме порождает чудовищные и неведомые крайности. Понятия добра и истины исчезают, оттесненные яростной страстью к прекрасному, загадочному, обольщающему взгляд формой и красками. Исступленная страсть к чисто формальному искусству подобна язве, которая разъедает все вокруг себя. А поскольку полное отсутствие добра и истины в искусстве равносильно отсутствию самого искусства, то художник утрачивает цельность; чрезмерное развитие одной-единственной способности ведет к небытию. Я понимаю ненависть иконоборцев и мусульман к изображениям божества. Я понимаю всю глубину раскаяния св. Августина, когда он вспоминал о виденных им зрелищах. Опасность настолько велика, что я готов оправдать даже уничтожение предмета поклонения. Маниакальное отношение к искусству так же губительно, как тирания рационального начала. Деспотическое преобладание любого из них порождает ограниченность, бессердечие, безмерную гордыню и себялюбие» {Baudelaire. L'Art romantique)[147*].
(обратно)[658]
Св. Фома. Sum. theol., И-П, q. 169, а. 2, ad 4.
По этому поводу вспомним также известный текст св. Фомы, комментирующего «Этику» Философа и показывающего вслед за ним, что политической науке, в качестве науки управляющей, свойственно повелевать «практическими науками», такими, как механические искусства, не только в том, что касается применения этих наук, но и в том, что касается самой детерминации произведения (так, она повелевает ремесленнику, изготовляющему ножи, не только пользоваться своим искусством, но и пользоваться им таким-то или таким-то образом, изготовляя ножи такого-то рода): «ведь и то и другое подчинено цели человеческой жизни». Умозрительными науками политика тоже повелевает, но лишь в том, что касается применения этих наук, а не в том, что касается детерминации произведения; ибо она, конечно, предписывает, чтобы одни преподавали, а другие изучали геометрию, «поскольку такие акты, будучи произвольными, имеют отношение к предмету нравственности и могут быть подчинены цели человеческой жизни»; но она не предписывает геометру, что он должен заключить относительно треугольника, ибо «это не принадлежит к области человеческой жизни, а зависит только от природы вещей» (Comment, in Ethic. Nicom., lib. I, lect. 2).
Св. Фома не говорит здесь непосредственно об изобразительных искусствах, но совсем нетрудно приложить к ним эти принципы, отметив, что они причастны благородству умозрительных наук в силу трансцендентности своего предмета, каковым является красота — ни один politicus[150*]He мог бы вмешаться в ее законы, — но что они тем не менее остаются по своей родовой сущности искусствами, «практическими науками», и поэтому все духовные и нравственные ценности, которые вбирает в себя произведение, естественно подлежат контролю со стороны того, кто должен заботиться об общем благе человеческой жизни. К тому же и Аристотель прибавляет, что политике присуще использовать для своих целей самые благородные искусства, такие, как военачалие, домоправление и риторика.
(обратно)[659]
Met., 1. XII, с. X, 1075 а 15. У св. Фомы lect. 12. См.: Sum. theol., I–II, q. III, a. 5. ad 1.
(обратно)[660]
«Magis est bonum exercitus in duce, quam in ordine: quia finis potior est in bonitate his quae sunt ad finem; ordo autem exercitus est propter bonum ducis adimplendum, scilicet ducis voluntatem in victoriae consecutionem»[153*] (св. Фома. Толкования на приведенный отрывок из Аристотеля, éd. Cathala, § 2630).
(обратно)[661]
«Становясь национальной, литература занимает свое место в культуре человечества и обретает звучание в общем многоголосии… Есть ли что-либо более испанское, чем Сервантес, более английское, чем Шекспир, более итальянское, чем Данте, более французское, чем Вольтер или Монтень, Декарт или Паскаль, более русское, чем Достоевский? И есть ли что-либо более общечеловеческое, чем их творчество?» (André Gide. Réflexions sur l'Allemagne). — «Чем больше поэт поёт на своем генеалогическом древе, тем меньше он фальшивит» (Жан Ко кто).
(обратно)[662]
Св. Фома. In II Sent., d. 18, q. 2, 2.
(обратно)[663]
Sum. theol., I–II, q. 30, a. 4.
(обратно)[664]
Sum. theol., II–II, q. 35, a. 4, ad 2. См.: Eth. Nie, VIII, 5 et 6; X, 6.
(обратно)[665]
Sum. theol., I–II, q. 3, a. 4.
(обратно)[666]
«Ad hanc etiam [se. ad contemplationem] omnes aliae operationes humanae ordinari videntur, sicut ad finem. Ad perfectionem enim contemplationis requiritur incolumitas corporis, ad quam ordinantur artificialia omnia quae sunt necessaria ad vitam. Requiritur etiam quies a perturbationibus passionum, ad quam pervenitur per virtutes morales et per prudentiam, et quies ab exterioribus passionibus, ad quam ordinatur totum regimen vitae civilis, ut sic, si recte considèrentur, omnia humana officia servire videantur contemplantibus veritatem»[156*] (Sum. contra Gent., lib. III, cap. 37, 6). Эта доктрина, имеющая аристотелевскую основу, приобретает у св. Фомы особое свойство — ясную и утонченною иронию, так как св. Фома знал, что в конкретном существовании «цель всех прочих человеческих деяний» — не интеллектуальное и философское созерцание, увенчивающее совершенно гармоничное человечество, а созерцание в любви, преизобилуюшей милосердием, труд искупительной любви в уязвленном человечестве. Такая доктрина позволяет уяснить сущностную, коренящуюся в самом соподчинении целей противоположность христианского общества обществу современного «гуманизма», целиком ориентированному на практику, на «производство» и «потребление», а не на созерцание.
Примечательно, что Уайльд сознавал: «Если во мнении общества созерцание есть тягчайший грех, в каком только может быть повинен гражданин, то во мнении людей, обладающих высшей культурой, это единственное занятие, подобающее человеку» (Замыслы. Критик как художник). Но вместе с тем этот несчастный был убежден, что «мы не можем возвратиться к святости» и что «гораздо больше можно узнать от грешника», а это великое заблуждение. «Довольно того, что веровали наши отцы, — полагал он. — Они исчерпали отпущенную человеческому роду способность веровать… Г-н Пейтер[157*] где-то пишет: кто согласится променять очертания одного-единственного лепестка розы на то бесформенное неосязаемое Бытие, которое так высоко ставит Платон?» Βίος θεωρητικός[158*], которой тщеславился Уайльд, теперь могла быть только самой глупой и лживой карикатурой созерцания — эстетизмом, — и ему пришлось прилагать усилия, чтобы обманывать свою душу этой видимостью духовной жизни. Но все усилия оказались напрасны. По фатальному закону, изложенному нами в другом месте[666], отсутствие любви к Богу неизбежно склоняло его к низменной любви, ведомой его дорогим грекам, и он стал тем сверкающим орудием дьявола, которое обожгло современную литературу.
(обратно)[667]
De Div. Nomin.. cap. IV.
(обратно)[668]
Исх 35: 30–35.
(обратно)[669]
Sum. theol., I–II, q. 43, a. 3. «Cum igitur homo cessât ab usu intellectualis habitus, insurgunt imaginationes extraneae, et quandoque ad contrarium ducentes; ita quod nisi per frequentem usum intellectualis habitus quodammodo succidantur, vel comprjmantur, redditur homo minus aptus ad bene judicandum; et quandoque totaliter disponitur ad contrarium; et sic per cessationem ab actu diminuitur vel etiam corrumpitur intellectualis habitus»[162*].
(обратно)[670]
Ibid., q. 42, a. 3.
(обратно)[671]
Жан Кокто. Петух и Арлекин. «Тщательно оберегай свою добродетель чудотворства, ибо, проведав, что ты миссионер, они вырвали бы тебе ногти и язык».
(обратно)[672]
Отсюда столько разногласий между благоразумным и художником, например по поводу изображения наготы. В прекрасном обнаженном теле первый, интересуясь только изображенным предметом, видит всего лишь животность, — и не без основания страшится животности своей и чужой; второй, интересуясь только самим произведением, видит лишь формальный аспект красоты. Морис Дени (Nouvelles Théories) указывает нам тут на творчество Ренуара и справедливо подчеркивает прекрасную живописную чистоту его образов. Эта чистота произведения, однако, не исключала у самого художника живой чувственности видения и потворства чувственному началу. (А что, если бы речь шла не о Ренуаре, а о великом фавне-труженике Родене?)
Как бы ни обстояло дело с этой частной проблемой, к которой Средневековье подходило очень строго, а Возрождение — чересчур широко (даже в росписях церквей), в общем только католицизм сам по себе в состоянии воистину примирить Благомудрие и Искусство, вследствие всеобщности, даже кафоличности мудрости, охватывающей всю реальность. Вот почему протестанты обвиняют его в имморализме, а гуманисты в ригоризме, доставляя, таким образом, с противоположных сторон свидетельства превосходства его позиции.
Так как у большинства людей не воспитана художественная культура, благомудрие с полным основанием опасается знакомить народ со многими прекрасными произведениями. И католицизм, зная, что зло находится ut in pluribus[164*] в роде человеческом, а с другой стороны, неустанно заботясь о благе массы, в определенных случаях вынужден ради сущностных интересов человека отказывать искусству в свободах, которыми оно дорожит.
Упомянутые здесь «сущностные интересы человека» следует соотносить не только с плотскими страстями, но и с первоосновой всех добродетелей, и прежде всего с правильностью ума. Я уже не говорю об интересах самого искусства, о его потребности быть защищенным религиозными влияниями от уничтожения всего человеческого.
Без сомнения, здесь трудно соблюсти должную меру. Но, как бы то ни было, бояться искусства, бежать от него и побуждать к такому бегству других, конечно же, не выход. Есть высшая мудрость в том, чтобы как можно больше полагаться на духовные силы человека. Хотелось бы, чтобы современные католики помнили, что одной только Церкви удалось возвысить народ до красоты, оберегая его при этом от «испорченности», ответственность за которую Платон и Жан-Жак Руссо возлагают на искусство и поэзию. Мы непричастны духу Лютера, Жан-Жака или Толстого; если мы защищаем права Бога в сфере морального блага, мы защищаем их также и в сфере ума и красоты, и ничто не обязывает нас ходить на четвереньках из любви к добродетели. Всякий раз, когда в христианской среде дьявол находит презрение к разуму или к искусству, т. е. к истине и красоте (а ведь это божественные имена), будьте уверены, он ставит свою метку.
Я не отрицаю необходимости запретительных мер. Они неизбежны из-за человеческой слабости, ее надо защитить. Однако ясно, что, сколь бы они ни были необходимы, запретительные меры остаются по природе своей менее эффективными и менее значимыми, чем здоровая духовная и религиозная пища, дающая умам и сердцам силы витально сопротивляться всякому тлетворному началу.
Что касается свободы художника в отношении изображаемых предметов, то проблема эта, на наш взгляд, обычно ставится неверно, так как забывают, что предмет — всего лишь материя произведения искусства. Главный вопрос не в том, вправе ли романист живописать тот или иной аспект зла. Главный вопрос в том, на какой высоте он находится при таком живописании. Достаточно ли чисты его искусство и его сердце и достаточно ли они сильны, чтобы дело обошлось без потворства злу. Чем глубже затрагивает современный роман человеческое ничтожество, тем в большей мере требует он от романиста сверхчеловеческих добродетелей. Чтобы написать произведение Пруста так, как ему следовало бы быть написанным, понадобился бы внутренний светоч св. Августина. В действительности же происходит обратное, и мы видим, как наблюдатель и наблюдаемое явление, романист и его предмет, состязаются в низости. С этой точки зрения весьма показательны влияние Андре Жида на французскую литературу и те крайности, каким он предается в своих последних сочинениях.
Я говорил о романе. В отличие от других литературных жанров, роман имеет целью не создание вещи, которая обладала бы в мире artefacta[165*] своей собственной красотой и для которой человеческая жизнь доставляла бы лишь отдельные элементы, а прослеживание самой человеческой жизни в вымысле, как это делает в реальности провиденциальное Искусство. Его творческая цель — сформировать само человеческое начало, исследовать его и управлять им как особым миром. Именно такой представляется мне отличительная черта искусства романа[672]. (Я говорю о современном романе, основоположник которого — Бальзак; Эрнест Элло (Hello) в очерке, хотя и довольно витиеватом, убедительно показал его коренную противоположность роману античности, который был, прежде всего, странствованием в мире чудесного и идеального, освобождением воображения.)
Отсюда ясно, какова должна быть для романиста полнота, подлинность, всеобщность его реализма: только христианин, более того, только мистик, обладая некоторым понятием о том, что заложено в человеке, может довершить труд романиста (не без опасности для себя, поскольку он нуждается в опытном знании сотворенного существа, а это знание имеет только два источника — старое древо познания зла на вкус либо дар знания, получаемый душой вместе с другими дарами благодати…). «Ни единой черточки, — говорил Жорж Бернанос, касаясь творчества Бальзака*, - ни единой черточки нельзя добавить всем этим страшным личинам, но он не добрался до скрытого источника, до последнего тайного уголка сознания, где зло движет извне, супротив Бога и во имя любви к смерти, ту часть нашего существа, равновесие которой нарушил первородный грех…» И далее: «Возьмем героев Достоевского, тех, кого он сам называет бесами. Мы знаем, какой диагноз поставил им великий русский писатель. А какой диагноз поставил бы, к примеру, кюре из Арса?[166*] Что увидел бы он в этих темных душах?»
(обратно)[673]
См.: Sum. theol., III, q. 66, a. 3; II–II, q. 47, a. 4.
(обратно)[674]
Ck.: Sum. theol., I–II, q. 66, a. 3, ad 1: «Quod autem virtutes morales sunt magis necessariae ad vitam humanam, non ostendit eas esse nobiliores simpliciter, sed quoad hoc; quinimo virtutes intellectuals speculativae, ex hoc ipso quod non ordinantur ad aliud, sicut utile ordinatur ad flnem, sunt digniores…»[168*]
(обратно)[675]
Eth. Nic, X, 7; ср.: Sum. theol., II–II, q. 47, a. 15.
(обратно)[676]
Sum. theol., I–II, q. 66, a. 5.
(обратно)[677]
См. замечания ученого богослова о. Аринтеро (Arintero) в трактате «Cuestiones misticas». Salamanca, 1916. См. также, и в особенности, труд о. Гарригу-Лагранжа «Христианское совершенство и созерцание» (R.P. Garrigou-Lagrange. Perfection chrétienne et contemplation. Paris, éd. du Cerf).
(обратно)[678]
Это, впрочем, невозможно: чистый дух не подвержен изменениям.
(обратно)[679]
Я противопоставляю «естественность» сущностной сверхъестественности благодати Христовой. Однако в другом смысле как первая философия именуется мета-физикой, так и поэзия может быть названа сверхъ-естественной, поскольку она хотя и не выше всего строя природы сотворенной и творимой, но выше чувственно воспринимаемой природы и всех законов материального мира и ценности ее — трансцендентального порядка.
(обратно)[680]
Или, вернее, автор «Евдемовой этики»: «Быть может, кто-либо усомнится, не счастливая ли удача такого человека заставляет его желать того, чего должно, и когда должно. Без размышления, расчета или обсуждения думает он о наиболее подобающем и желает его. В чем причина этого, если не в счастливой удаче? Но что же она такое, эта удача, и как возможны столь счастливые внушения? Мы исследуем здесь вопрос: что служит началом движения в душе? Ясно, что как во вселенной, так и в душе это начало — Бог. Божество в нас каким-то образом приводит в движение все… Начало разума — не разум, а нечто высшее. Но что же превосходит и знания и ум, как не Бог?…Вот почему древние говорили: счастливы те, которые без расчета побуждаются к правильным действиям. Это исходит не от собственной их воли, а от присутствующего в них начала, которое выше их ума и воли… Иные благодаря божественному вдохновению даже провидят будущее»[14*].
Не одними только древними философами признается это особое влияние Бога в естественном порядке — признают его и теологи. Я приведу здесь составленную о. Гарригу-Лагранжем классификацию различных способов божественного побуждения (Vie Spirituelle, juillet 1923, p. 419).
(обратно)[681]
Очень часто забывают, что понятия, представления для поэта всего только средство — и знак. Вы нам говорили об этом в один из наших недавних вечеров. Суждения о стихах почти всегда бывают ошибочны: ясное стихотворение — это хрусталь, темное — агат; люди восхищаются первым, потому что усматривают в нем что-то им знакомое, и осуждают второе, потому что ничего в нем не узнают, или же хвалят его, улавливая там какие-то настроения, какие-то отголоски, что-то им напоминающие. А следовало бы смотреть на чистоту материала и качество шлифовки. И на духовный луч, который там отражается.
(обратно)[682]
«Деятельность (agibile) в узком смысле, как понимали ее схоласты, состоит в свободном применении наших способностей, или в осуществлении свободного выбора, не в отношении самих вещей или создаваемых произведений, а лишь относительно применения нашей свободы…
Творчество (factibile), в отличие от деятельности, схоласты определяют как производящее действие, которое соотносится не с тем, как мы распорядимся своей свободой, а лишь с самим создаваемым произведением.
Это действие является должным и благим в своей сфере, если оно сообразуется с правилами и целью создаваемого произведения; и результат его, если оно окажется благим, — в том, что произведение будет хорошим само по себе. Таким образом, творчество всегда подчинено какой-либо частной, обособленной и самодовлеющей, цели, а не общей цели человеческой жизни, оно имеет отношение к благу или совершенству не действующего человека, а создаваемого произведения.
Область творчества — это и есть область искусства в самом широком смысле слова» (Искусство и схоластика, <гл. Ш>. Пер. Н.С. Мавлевич).
(обратно)[683]
Позвольте мне повторить уже сказанное мною в другом месте: «Он не должен ни на йоту отклоняться от линии искусства, должен постоянно и бдительно остерегаться не только банального соблазна легкого пути и успеха, но и тысячи более изощренных искушений, не допускать ни малейшего ослабления внутреннего напряжения… Художник обязан трудиться ночами, блюсти свою чистоту, добровольно уходить с тучных, вспаханных земель на каменистую, неизведанную целину. В некоторой сфере и в некотором отношении, а именно в сфере творчества и в отношении блага произведения, он должен быть смиренным, великодушным, благоразумным, честным, простым, чистым, невинным… Вот почему он так легко впадает в тон моралиста, когда говорит или пишет об искусстве, — ведь он ясно понимает, что обязан лелеять некую добродетель» (Искусство и схоластика, гл. IX. Пер. Н.С. Мавлевич). Приведу еще одну цитату: «В нас обитает ангел, которого мы постоянно оскорбляем. Мы должны быть хранителями этого ангела. Тщательно оберегай свою добродетель чудотворства, ибо, проведав, что ты миссионер, они вырвали бы тебе ногти и язык» (<Ж. Кокто. У Петух и Арлекин).
(обратно)[684]
«Никто, — говорит св. Фома, — не может жить без наслаждения. Поэтому тот, кто лишен духовных наслаждений, предается плотским».
(обратно)[685]
Помещаю здесь два отрывка из письма о. Сюрена, великого духовного подвижника, который изгонял в Лудёне бесов из одержимых и сам в течение двадцати лет был одержим. Он писал своему собрату, иезуиту о. д'Аттиши, в Рен:
«…С того времени как отправил я Вам последнее письмо, я впал в состояние, вовсе мною не предвиденное, но вполне согласное с Божьим промыслом о моей душе. Теперь я уж не в Марене, а в Лудёне, где и получил письмо Ваше. С недавних пор я пребываю в постоянном общении с демонами, отчего обрел я сокровища, о которых коротко не расскажешь и которые заставили меня более, чем когда-либо прежде, дивиться благости Божией. Хочу рассказать Вам кое-что, и рассказал бы больше, будь Вы человеком более скрытным.
Я вступил в противоборство с четырьмя демонами, из самых могучих и злобных обитателей ада, — это я-то, чьи слабости Вам известны. По воле Божией сражения наши были столь жестокими, а поползновения на меня столь частыми, что изгонять нечистых духов приходилось беспрерывно, ибо враги появлялись украдкой, ночью и днем, досаждая тысячью разных способов. Вы можете представить себе, как отрадно полагаться на одну только милость Господню. Об этом нечего и говорить. Мне будет довольно того, что, зная о моем состоянии, Вы станете молиться за меня. Так вот, уже три с половиною месяца я никогда не бываю один: надо мною всегда усердствует какой-нибудь демон. Дело зашло так далеко, что Господь попустил, видно за грехи мои, нечто, быть может, никогда еще не виданное в Церкви, — когда отправляю я свои обязанности, демон выходит из тела одержимого и набрасывается на мое, вселяется в меня и мучает, на глазах у всех трясет меня и корчит, завладевая мною на долгие часы, вроде как бесноватым. Не могу Вам описать, что происходит тогда со мной, и как дух этот соединяется с моим, не отнимая у меня ни ясности сознания, ни свободы моей души, но делаясь, однако ж, словно другим моим "я", как если бы у меня было две души, из коих одна лишилась своего тела и способности пользоваться органами его и держится в стороне, глядя, как действует та, что в него вошла. Два духа сражаются на поприще, каковым стало мое тело, и душа точно раздвоилась; в одной своей части она подлежит дьявольским наваждениям, а в другой — испытывает побуждения, свойственные ей либо внушаемые Богом. При этом чувствую я великую умиротворенность по благоволению Божию, и даже не ведаю, как приходят безудержная ярость и враждебность к Нему, вызывающие неистовые порывы отвергнуться Его, которые изумляют тех, кто их наблюдает. В одно и то же время я ощущаю великую радость и умиление, а с другой стороны — печаль, изъявляемую в сетованиях и вскриках, подобных бесовским. Я чувствую на себе состояние проклятия, страшусь его и ощущаю себя точно уязвленным жалами отчаяния в той чуждой душе, которая кажется мне моею, а другая душа, в целости сохраняя веру, смеется над таковыми чувствованиями и беспрепятственно проклинает того, кто причиняет их; чувствую даже, что одни и те же вскрики, исторгаемые моими устами, равно исходят от этих двух душ, и с трудом различаю, производит ли их веселие либо неукротимая ярость, меня переполняющая. Содрогания моего тела, когда я причащаюсь, происходят, мне кажется, в равной мере и от ужаса Его присутствия, которое для меня невыносимо, и от трепетного сердечного благоговения, так что я не могу вменить их одной либо другой душе и не в силах сдержать их. Когда одна из этих двух душ побуждает меня осенить крестным знамением уста мои, другая тотчас отводит мою руку и бешено вцепляется мне в перст зубами. Наверно, никогда не бывало у меня молитвы легче и покойнее, чем при этаких потрясениях. В то время как тело мое кружится на месте и служители церкви говорят со мною как с демоном и утишают заклятиями, я испытываю несказанную радость оттого, что стал демоном не чрез мятеж против Бога, но через бедствие, показывающее мне как есть состояние, в которое я ввергнут грехом, — и оттого еще, что, принимая на себя все эти заклятия, моя душа обретает возможность низринуться в небытие… Поистине милость Божия — постигнуть, из какого состояния исторг меня Иисус Христос, и познать, сколь велика Его искупительная жертва, не из наставлений, а испытав само это состояние. И как благодетельно быть способным одновременно изведать это несчастие и возблагодарить милосердие, избавившее нас от него ценою крестных страданий! Вот что происходит со мною ныне едва ли не каждодневно. Обо мне идут жаркие споры, et factus sum magna quaestio[17*], одержим я или нет и может ли статься, чтобы служители Евангелия претерпевали таковые скорби. Одни толкуют, что это кара Божия надо мною в воздаяние какого-то заблуждения; другие судят иначе, а я так и живу и не променял бы участь свою ни на какую другую, будучи твердо убежден, что нет ничего благотворнее, нежели быть ввергнутым в величайшие бедствия…» (Текст этого письма я взял из сочинения аббата Лериша: P.A. Leriche. Études sur les possessions et sur celle de Loudun en particulier. Paris, Henri Plon, 1859.)
(обратно)[686]
Сердце у человека, говорит Фрейд, пустое и наполнено мерзостью. Нет, это Паскаль говорит.
(обратно)[687]
Уязвимость Жида в том, что он отказывается признать эти земли более низменными, чем другие. Поэтому он странствует только в равнинных краях. Верить в дьявола — это хорошо. Но пытаться в то же время сочетать небеса и преисподнюю — значит как раз отрицать дьявола.
(обратно)[688]
«Церковь, — говорит Боссюэ, — это Иисус Христос, но Христос розданный и сообщенный людям». — «Вся тайна Церкви, — писал о. Клериссак, — кроется в равнозначности и взаимозаменимости двух слов: "Христос" и "Церковь". Этот принцип проясняет все богословские аксиомы, касающиеся Церкви. Например: Не может быть спасения вне Церкви означает на самом деле: Не может быть спасения без Христа» (H. Clérissac. Le Mystère de l'Église).
Церковь зрима и необъятна. В нее входят все крещеные — живые члены, если на них благодать, и мертвые, если они утратили любовь. Но помимо того ей принадлежат, как живые члены, еще не вошедшие в нее и тем не менее незримо единые с ее душою, все некрещеные, пребывающие в состоянии благодати, как бы они ни заблуждались относительно правой веры. Поэтому всё, что от Бога, исходит также и от Церкви.
(обратно)[689]
Религии нужно было возродиться из руин, оставленных революцией. Она сильно пострадала от ущерба, нанесенного ей в эту пору. Одновременно на нее давил тяжкий груз ложной философии.
(обратно)[690]
В особенности я хочу выделить очень важное 9-е замечание из Вашего Письма.
(обратно)[691]
Так и святые расширяют свою молитву. Св. Гертруда желала возвратить всю любовь Иисусу:
«В другой раз, когда читали на том же празднике [Богоявления] слова Евангелия "Et procidentes adoraverunt eum", "и, пав, поклонились Ему"[30*], она воодушевилась примером блаженных волхвов, возгорелась великим рвением и пала к стопам Господа с самым смиренным благоговением, дабы поклониться Ему ради всего сущего на небесах, на земле и в преисподней. Но, не найдя даров, достойных Бога, она вознамерилась обойти свет, движимая страстным желанием отыскать во всем творении нечто такое, что можно было бы принести в дар ее Возлюбленному. Когда, измученная жаждой, задыхаясь и сгорая от любви, она блуждала в знойных пустынях, нашла она вещи презренные, которые всякая тварь отвергла бы как не подобающие для восславления Спасителя. Но, алкая, она завладела ими, чтобы принести их Тому единственному, Кому должно служить всякое создание.
И вот она приняла в сердце свое все горести, скорби, страхи и тревоги, какие только могут испытывать твари — не от славы Создателя, а по причине человеческой немощи, и поднесла их Господу, как превосходную мирру. Затем собрала она всю мнимую святость, всю показную набожность лицемеров, фарисеев, еретиков и прочих людей такого рода и поднесла ее Господу, точно воскурила фимиам. Ради третьего дара она старательно собрала естественные привязанности и даже ложную и нечистую любовь, понапрасну расточаемую столькими созданиями, дабы принести все это Господу, как драгоценнейшее золото. От великой силы ее горячего, любовью порожденного желания обратить все, что ни есть на свете, во славу своего Возлюбленного, эти жалкие приношения стали как золото, расплавленное в огне и отделенное от всех примесей. И вот она вознесла их Господу, придав им такую дивную ценность» (Le héraut de l'Amour divin, livre IV, ch. VI).
(обратно)[692]
Acta Apostolicae Sedis, 5 novembre 1925.
(обратно)[693]
Я уже указывал ранее на этот духовный аспект еврейского вопроса и отмечал развивающееся ныне в Церкви широкое движение, подхватившее призыв молиться об обращении Израиля (Доклад на Неделе католических писателей 1921 г., опубликованный в журнале «Vie Spirituelle», juillet 1921 ив «Bulletin Catholique International», février 1926).
(обратно)[694]
«Écho de Paris», 11 mai 1925. «Скандирующая толпа знает, кто во всем виноват: расплачиваться неожиданно пришлось г-ну Шрамеку. Тысячи голосов истошно кричат: "Абрам! Абрам!"»
(обратно)[695]
«В апологии "De Adventu Messiae praeterito", написанной около 1070 г., обращенный иудей из Марокко (раввин Самуил де Фез) усматривает этот знак божественного установления в том, что лиризм Синагоги восприняла Церковь и что она одна возносит песнопение новое и всеобщее, предвозвещенное пророками» (H. Clérissac. Le Mystère de l'Église). См. также: Dom Rabory. Le chant chrétien preuve de la divinité du christianisme. - Univers, 10 juillet 1912.
(обратно)[696]
То же самое справедливо говорил Жозеф де Местр о французской революции. Робеспьер и Сен-Жюст меня мало волнуют. Что касается комитетов общественного спасения, я дивлюсь только святой инквизиции (римской).
(обратно)[697]
Пс67: 19.
(обратно)[698]
Вы знаете, как быстро совершается порой такое исцеление. Один трагический и счастливый пример недавно показал нам это. Мы видели, как Бог, яко тать, восхитил свою добычу на небеса[36*].
(обратно)[699]
Издание работ Э. Жильсона предпринято несколько ранее: 1-й том «Избранного», «Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского» вышел в 2000 г.
(обратно)[700]
Это больше относится к Маритену, чем к Жильсону, поскольку ценность исторических исследований Жильсона не зависит от того, считать или нет философию томизма достаточно современной.
(обратно)[701]
Опубликовано в виде La pholosophie bergsonienne (1914). Имеется английский перевод: Bergsonian Philosophy and Thomism, by M.L. Andison and J.G. Andison (Ν. Υ., 1955). (Ссылки в работе даны по источнику.)
(обратно)[702]
То есть не признавал правомочным критическое исследование познавательных человеческих возможностей в качестве отправного пункта для философии.
(обратно)[703]
Очевидно, что могут быть и возражения. Но Маритен твердо придерживался того понимания, что, хотя с психологической точки зрения идеи — это умственные модификации реальности, интенциональный объект как таковой (объект, на который направлено сознание), является тем же самым исходным объектом. На схоластическом языке это означает, что Маритен всегда отказывался преобразовывать medium quo в mediua quod, иначе говоря, принимать средство за цель.
(обратно)[704]
The Degree of Knowledge, ed. by G.B. Phelan (Ν. Υ., 1959).
(обратно)[705]
Les degrés du savoir (1932), p. 90.
(обратно)[706]
Создания рассудка, имеющие основания в вещах (лат.).
(обратно)[707]
The range of reason, p. 87.
(обратно)[708]
The range of reason, p. 6.
(обратно)[709]
Ibid., p. 6.
(обратно)[710]
Ibid., p. 4.
(обратно)[711]
Les degrés du savoir, p. 269–270.
(обратно)[712]
Ibid., p. 346.
(обратно)[713]
Les degrés du savoir, p. 11. — Маритен подчеркивает здесь не то, что метафизика («первая философия», по Аристотелю) обращается только к тому, что за пределами чувственной реальности, а то, что предмет ее мысли — бытие как таковое. Но раз она абстрагируется от материальности, она может достичь духовной реальности.
(обратно)[714]
То, что Аристотель называл физикой, больше соответствует философии Природы у Маритена.
(обратно)[715]
Les degrés du savoir, p. 10.
(обратно)[716]
См., напр.: Sept leçons sur l'être (1934, английский перевод: A Preface to Metaphysics: Seven Lectures on Being. L. and N. Y., 1939), а также Court traité de l'existence et de l'existant (1947, английский перевод: Existence and the Existent, by L. Galantiere and G.B. Phelan. N. Y., 1948). Однако это касается и книг Маритена о познании, таких, как упомянутая The Degrees of Knowledge, ведь это тоже метафизические трактаты. Потому что для Маритена знание и метафизика тесно связаны между собой.
(обратно)[717]
The Range of Reason, p. 70. Через такое понимание ясно раскрывается отношение Маритена к атеизму. Помимо «практических атеистов» (убежденных, что они верят в Бога, но отрицающих его на деле своими поступками) и «абсолютных атеистов» он находит еще и «псевдоатеистов» (кто убежден, что он не верит в Бога, но фактически Ему верит бессознательно). Ср.: Ibid., р. 103.
(обратно)[718]
См. также работу Art et scolastique, впервые опубликованную в 1920 г.; Art and Scolasticism and the Frontiers of poetry в переводе Дж. Эванса (Ν. Υ., 1962) содержит также английскую версию Frontières de la poésie (1935). См. также: Creative Intuition in Art and Poetry (Ν. Υ., 1953).
(обратно)[719]
Труды Маритена по этому вопросу включают в себя: Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale (Nine lectures on the first notions of moral philosophy), опубликовано в 1951 г., и La philosophie morale, vol. 1, появившийся в I960 г. (английский перевод: Moral Philosophy, by M. Suther and others, 1946).
(обратно)[720]
Humanisme integral (1936), p. 224.
(обратно)[721]
The Person and the Common Good, p. 27 (английский перевод 1947 г. работы La Personne et le bien commun, 1946).
(обратно)[722]
J. Maritain. Man and the State. Chicago, 1951, p. 13.
(обратно)[1*]
Это произведение Маритен посвящает своей жене и единомышленнице. Раиса Маритен (1883–1960) — автор нескольких книг, главным образом религиозно-философского содержания, и соавтор трех книг Ж. Маритена*.
(обратно)[2*]
Итальянский доминиканец, профессор теологии Петр Бергамский (Пьетро далл" Альмадура) (ум. 1482) известен как составитель таблицы, или своего рода предметного указателя, к сочинениям Фомы Аквинского. Указатель Петра Бергамского, гораздо более подробный и совершенный, чем предшествующий, составленный в XIV в., много раз переиздавался с последовательными доработками.
(обратно)[3*]
Книга Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто» (1943) содержит основоположения его феноменологической онтологии человеческого существования.
(обратно)[4*]
Честной игры (англ.).
(обратно)[5*]
Хайдеггер сказал (лат.).
(обратно)[6*]
Истина следует существованию вещей(лат.).
(обратно)[7*]
Идеально представляемого (лат.).
(обратно)[8*]
Мыслимыми предметностями (греч.).
(обратно)[9*]
Эмиль Ласк (Lask) (1875–1915) — немецкий философ неокантианского направления.
(обратно)[10*]
Сообразно с тем, чем является сущее (лат.).
(обратно)[11*]
Знание о (англ.).
(обратно)[12*]
В осуществляемом акте (лат.).
(обратно)[13*]
Акта бытия (лат.).
(обратно)[14*]
Существование как обозначенное (лат.).
(обратно)[15*]
Во второй операции интеллекта, которая затрагивает само бытие вещи (лат.)
(обратно)[16*]
Согласно этой второй операции интеллекта (лат.).
(обратно)[17*]
Посредством этой операции интеллект может верно абстрагировать лишь то, что отделено соответственно вещи (лат.).
(обратно)[18*]
Те <объекты>, которые мыслятся один без другого, являются в то же время соответственными вещи (лат.).
(обратно)[19*]
Абстрагирования формы от чувственной материи (лат.).
(обратно)[20*]
Согласно той операции, которая собирает воедино и разделяет (лат.).
(обратно)[21*]
Так как он замечает, что одно не содержится в другом (лат.).
(обратно)[22*]
Отделение соответственно самому бытию вещи (лат.).
(обратно)[23*]
И поскольку некоторые не поняли отличия двух последних от первого, они впали в заблуждение, полагая математические сущности и универсалии отделенными от чувственно воспринимаемого, — как, например, пифагорейцы и платоники (лат.).
(обратно)[24*]
Посредством этой второй операции интеллект не может верно абстрагировать то, что взаимосвязано соответственно вещи, поскольку абстрагирование обозначает отделение соответственно самому бытию вещи — к примеру, если я абстрагирую человека от белизны, говоря: «Человек не бел», то я обозначаю тем самым существующее в самой вещи разделение… Итак, посредством этой операции интеллект может верно абстрагировать лишь то, что отделено соответственно вещи, как, например, когда говорят: «Человек не есть осел» (лат.).
(обратно)[25*]
Хуан де Санто-Томас, Хуан Пуанса (Poinsat) (1589–1644) — испанский теолог, доминиканец (его отец, бельгиец по происхождению, состоял на службе у кардинала Австрийского). Преподавал философию и теологию в Алькала. Выражая свою приверженность учению Фомы Аквинского, взял его имя (в переводе с испанского: Иоанн Святого Фомы); у современников звался вторым Фомой и остался в истории как один из крупнейших томистов. В многочисленных сочинениях, написанных на латинском и испанском языках, дал тщательное и глубокое изложение доктрины своего учителя.
(обратно)[26*]
Хотя предметом этого исследования и является всеобщее сущее, речь в нем все же идет о том, что отделено от материи согласно бытию и разуму. Ибо отделенным согласно бытию и разуму называется не только то, что никоим образом не может пребывать в материи, подобно Богу и интеллектуальным субстанциям, но также и то, что может существовать помимо материи, как всеобщее сущее. Однако это было бы невозможно, если бы оно по условиям своего бытия зависело от материи (лат.).
(обратно)[27*]
Самого существующего бытия (лат.).
(обратно)[28*]
Наиболее общий род (лат.).
(обратно)[29*]
Акт веры не ограничивается высказыванием, но завершается в вещи. Ведь мы составляем высказывание только затем, чтобы через его посредство приобрести знание о вещах, — как в науке, так и в вере (лат.).
(обратно)[30*]
За пределами причин или за пределами ничто (лат.).
(обратно)[31*]
Возможность сказывается в отношении к действительному (лат.).
(обратно)[32*]
To, что я называю существующим, есть действительность всякой действительности и вследствие этого совершенство всех совершенств (лат.).
(обратно)[33*]
То, что является наиболее формальным из всего, есть само бытие; само бытие есть совершеннейшее из всего (лат.).
(обратно)[34*]
<Будучи> вне всякого рода с точки зрения целого (лат.).
(обратно)[35*]
Первоматерии (лат.).
(обратно)[36*]
Философский труд (лат.).
(обратно)[37*]
Рациональной формы (лат.).
(обратно)[38*]
Хуан де ла Крус, Иоанн Креста (Хуан де Йепес Альварес) (1542–1591) — испанский теолог и поэт, мистик; в своих сочинениях сочетал стихи с пространным богословским комментарием. Главные темы творчества Хуана де ла Круса — очищение души от чувственного знания и чувственных привязанностей; путь души, начинающей служение Богу, к конечному состоянию духовного единения с Христом; состояние души, сбросившей бренную оболочку и ставшей сопричастной божественной славе и любви.
(обратно)[39*]
Условным правилам (лат.).
(обратно)[40*]
Духовного человека (лат.).
(обратно)[41*]
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (лат.).
(обратно)[42*]
Корень всякой свободы находится в разуме (лат.).
(обратно)[43*]
Действия суть действия субъектов (лат.).
(обратно)[44*]
Под бытийствованием (subsistence) Маритен понимает субстанциальный модус, характеризующий конкретное единство сущности и существования в сотворенных Богом образованиях материального мира.
(обратно)[45*]
Самое по себе (лат.).
(обратно)[46*]
Здесь: нечто, подлежащее рассмотрению (лат.).
(обратно)[47*]
Здесь: сущность (лат.).
(обратно)[48*]
Я (англ.).
(обратно)[49*]
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (лат.). — Ин 1: 18.
(обратно)[50*]
С. Моэм. Избр. произв. в 2-х томах, т. 1. М., 1985, с. 383.
(обратно)[51*]
Φ. Кафка. Соч. в 3-х томах, т. 1. Москва — Харьков, 1995, с. 427.
(обратно)[52*]
Самостоятельно существующего бытия (лат.).
(обратно)[53*]
Ничто; бытия (лат.).
(обратно)[54*]
Человек есть причина греха; первопричина недостатка благодати находится в нас самих (лат.).
(обратно)[55*]
Без Меня не можете сделать ничего (лат.).
(обратно)[56*]
До предвидения заслуг (лат.).
(обратно)[57*]
Всемогущий Бог хочет, чтобы спаслись все люди без изъятия, но не всем подобает быть спасенными. Когда некто спасается, то спасение есть дар; когда же некто определяется на вечную погибель, то погибель есть воздаяние (лат.).
(обратно)[58*]
Ибо Бог никогда не оставляет без благодати своей праведных, если не оказывается прежде ими оставлен (лат.).
(обратно)[59*]
Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (лат.).
(обратно)[60*]
Бога всевышнего, страшного (лат.). — Пс 46: 3.
(обратно)[61*]
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (лат.).
(обратно)[62*]
Материально осязаемый предел (лат.).
(обратно)[63*]
Простое ограничение и материальный объект (лат.).
(обратно)[64*]
Бог не является творцом зла, поскольку он не является причиной стремления к небытию (лат.).
(обратно)[65*]
Бог — творец зла страдания, но не зла вины (лат.).
(обратно)[66*]
Бог не может быть причиной греха (лат.).
(обратно)[67*]
Бог никоим образом не является причиной греха, ни прямо, ни косвенно (лат).
(обратно)[68*]
Зло не имеет в Боге своей идеи — ни в качестве прообраза, ни в качестве основания {лат.).
(обратно)[69*]
Как человек (лат.).
(обратно)[70*]
Бог взыскует славы своей не ради себя, но ради нас (лат.).
(обратно)[71*]
Се в мире (лат.). См. ниже прим. 80*.
(обратно)[72*]
Бенжамен Фондам (Fondane, наст, имя: Барбу Фундойну) (1898–1944) — французский писатель и поэт румынского происхождения. Мировоззрение Фондана характеризуется явно выраженным антирационализмом. По его мнению, соблазн рационалистической очевидности заставляет одних мыслителей (таких, как Маркс) пренебрегать «метафизической реальностью», других же (таких «философов существования», как Кьеркегор, Бергсон, Хайдеггер) — отрекаться от экзистенциального опыта ради построения систем. Согласно Фондану, только поэтический опыт преодолевает противопоставление субъекта и объекта. Одна лишь поэзия, призванная разрушить построения разума, утверждает достоинство человека.
(обратно)[73*]
Несчастного человека (лат.).
(обратно)[74*]
Существования как осуществляемого (лат.).
(обратно)[75*]
И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее (лат.).
(обратно)[76*]
Марсель Жуандо (Jouhandeau) (1888–1979) — французский писатель, сочетающий в своем мировоззрении традиционные принципы католицизма с мистическим неоромантизмом; испытал влияние Хуана де ла Круса и Терезы Авильской.
(обратно)[77*]
Служанками (лат.).
(обратно)[78*]
Практика (лат.).
(обратно)[79*]
Из ничего (лат.).
(обратно)[80*]
Се в мире горечь моя горчайшая (лат.). — Ис 38: 17 (по Вульгате).
(обратно)[81*]
Для меня это как мякина <или: как солома> (лат.). — Слова, сказанные Фомой Аквинским незадолго до смерти относительно его незавершенной «Суммы теологии» (см.: J. Maritain. Art et scolastique. Paris, 1965, p. 62).
(обратно)[1*]
ШарльДюбо (1882–1932) — французский литературный критик, друг Ж. Маритена.
(обратно)[2*]
Интуитивному знанию (лат).
(обратно)[3*]
Проклята земля дел твоих (лат.). — Втор 28: 18.
(обратно)[4*]
Правителями мира сего (лат.).
(обратно)[5*]
Как бы сквозь тусклое стекло (лат.). — 1 Кор 13: 12.
(обратно)[6*]
Соответственно интеллигибельному бытию (лат.).
(обратно)[7*]
Соответственно вещи (лат.).
(обратно)[8*]
Здесь, конечно, имеется в виду нехристианский Восток.
(обратно)[9*]
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (лат.). — Ин 1:18.
(обратно)[10*]
Усилия, напряжения (лат.).
(обратно)[11*]
Согласно собственному благу (лат.).
(обратно)[12*]
Благодаря Богу и в Боге (лат.).
(обратно)[13*]
То, что кто-либо желает наслаждаться Богом, принадлежит к любви, в силу которой Бог любим любовью-вожделением; но мы скорее любим Бога любовью-дружеством, чем любовью-вожделением; ведь благо Бога само по себе больше, чем благо, которому мы можем быть причастны, наслаждаясь Им; и потому-то в христианской любви человек более ценит Бога, нежели самого себя (лат.).
(обратно)[14*]
«Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев» (Ис 45: 15).
(обратно)[15*]
«Но духовный судит о всем, а о нем никто судить не может» (1 Кор 2: 15).
(обратно)[16*]
Ин 10: 9.
(обратно)[17*]
Так, как есть (лат.).
(обратно)[18*]
Рациональной формы (лат.).
(обратно)[19*]
Хилэр Беллок (Belloc) (1870–1953) — английский писатель, автор политических эссе и бунтарской литературы для детей.
(обратно)[20*]
Святых отшельников.
(обратно)[21*]
Адриан (76-138) — римский император из династии Антонинов, реформатор, просветитель, делавший послабления для христиан.
(обратно)[22*]
1 Кор 2: 9; ср. Ис 64: 4.
(обратно)[1*]
Мертвую голову (лат.).
(обратно)[2*]
Люди понимающие полагают очевидным, что то, понятия чего различны,
тоже различно и что различное разобщено одно с другим (греч.).
(обратно)[3*]
Здесь и теперь (лат.).
(обратно)[4*]
В отношении того, что принадлежит разуму, общее — в большей степени
сущее, нежели особенное, в отношении же природного существования в
большей степени сущим является особенное (лат.).
(обратно)[5*]
Noli tangere circulos meos — «He прикасайся к моим кругам» (лат.). Фраза,
приписываемая Архимеду.
(обратно)[6*]
Одна вещь, по-разному понятая (лат.).
(обратно)[7*]
Сотворенная природа (лат.).
(обратно)[8*]
Пер. П.С. Попова.
(обратно)[9*]
Истинное следует бытию вещей (лат.).
(обратно)[10*]
Первая операция [ума] имеет отношение к самой природе вещи, вторая
операция имеет отношение к самому бытию вещи (лат.).
(обратно)[11*]
Соответствие вещи и понятия (лат.).
(обратно)[1*]
Любомудрию (греч.).
(обратно)[2*]
Мнению (греч.).
(обратно)[3*]
Естественная философия (лат.).
(обратно)[4*]
В определенном отношении (лат.).
(обратно)[5*]
Причины взаимно обусловливают друг друга (лат.).
(обратно)[6*]
Объединяющего знания (лат.).
(обратно)[7*]
Есть ли (лат.).
(обратно)[8*]
Что есть (лат.).
(обратно)[9*]
В вещи (лат.).
(обратно)[10*]
Формального абстрагирования (лат.).
(обратно)[11*]
Плоть и кость (лат.).
(обратно)[12*]
Духовное бытие (лат.).
(обратно)[13*]
Способ определения (лат.).
(обратно)[14*]
Формальное основание (лат.).
15> Сущее как изменяющееся (лат.).
(обратно)[16*]
Формальное основание, согласно которому (лат.).
(обратно)[17*]
Недостает, увы, только духовной связи (нем.).
(обратно)[18*]
Понимание (нем.).
(обратно)[19*]
Ибо время само по себе скорее есть причина разрушения, чем порождения
(обратно)[1*]
Габриэль Сеай (1852–1922) — философ-позитивист, воинствующий антиклерикал.
(обратно)[2*]
Хочешь ли бежать от Бога — беги к Богу (лат.).
(обратно)[3*]
Греши сильней и верь крепче (лат.).
(обратно)[4*]
Обсерванты — сторонники максимально строгого соблюдения монашеского устава; конвентуалы — течение в монашестве, допускавшее различные послабления.
(обратно)[5*]
Прими власть святительскую о живых и мертвых (лат.).
(обратно)[6*]
Уме (греч.).
(обратно)[7*]
«Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам» (Ин 14: 8).
(обратно)[8*]
Своезаконно, автономно (лат.).
(обратно)[9*]
Франц. cité соответствует латинскому civitas — град, город-государство, общество граждан.
(обратно)[10*]
Как часть (лат.).
(обратно)[11*]
Самостоятельным и самодеятельным (лат.).
(обратно)[12*]
Гал 2: 19–20.
(обратно)[13*]
По-немецки, как и по-французски, слово «разум» женского рода.
(обратно)[14*]
Все умозрительные науки суть не истинные… науки, а заблуждения (лат.).
(обратно)[15*]
Иоганн Таулер (ок. 1300–1361) — богослов-мистик, последователь Мейстера Экхарда.
(обратно)[16*]
Лк 22: 27.
(обратно)[17*]
Очевидно, имеется в виду Уильям Джемс.
(обратно)[18*]
Винцент Лютославский (1863–1954) — один из поздних представителей польского мессианизма.
(обратно)[19*]
Каетан (Томмазо де Вио из Каеты, 1469–1534) — богослов, один из авторитетнейших комментаторов Фомы Аквинского.
(обратно)[20*]
Антуан Леонар Тома (1732–1785) — литератор, член Французской академии.
(обратно)[21*]
Туренъ — французская провинция, где родился Декарт.
(обратно)[22*]
Пути послушания (лат.).
(обратно)[23*]
В предварении (лат.).
(обратно)[24*]
Разрешения в материи (лат.).
(обратно)[25*]
Сияние предмета (лат.).
(обратно)[26*]
В осуществляемом акте (лат.).
(обратно)[27*]
Умопостигаемая форма, в соответствии с которой творит Зиждитель (лат.).
(обратно)[28*]
Спор древних и новых — полемика рубежа XVII и XVIII в., во многом определившая направление развития французской литературы. Буало и Расин в ее ходе отстаивали необходимость опираться на образцы классической древности, а упоминаемые ниже поэт и критик Шарль Перро (1628–1703), поэт Антуан Удар де Ла Мот (1672–1731), литератор Бернар Ле Бовье де Фон-тенель (1657–1757) и др. утверждали безусловное превосходство новой словесности как более развитой.
(обратно)[29*]
Луи Ружье (1889–1982) — философ, последователь логиков Венского кружка), историк. Здесь речь идет о его работе «Схоластика и томизм» (1925).
(обратно)[30*]
Вечной философии (лат.).
(обратно)[31*]
Гюстав Лансон (1857–1954) — ведущий литературовед-позитивист конца XIX в.
(обратно)[32*]
Фердинан Брюнетьер (1849–1906) — теоретик литературы, католический мыслитель.
(обратно)[33*]
Суждение о таких мужах подобает произносить скромно и осмотрительно (лат.). «Гуроны» и «топинамбуры» — презрительные клички, которые Буало давал своим противникам.
(обратно)[34*]
Тереза — гражданская жена Руссо.
(обратно)[35*]
«Доброй маменькой» Руссо называл г-жу де Варане, хозяйку имения, где он жил в ранней молодости. Ле Шармет — ее поместье.
(обратно)[36*]
«По рассуждению человеческому» (Рим 6: 19).
(обратно)[37*]
Оливье де Корансе (ум. 1810) — издатель «Парижского дневника» Руссо.
(обратно)[38*]
Возможно, имеется в виду Бенуа Лабр (см. ниже в тексте).
(обратно)[39*]
Бомье — публицист и стихотворец конца XVIII в.; биографических сведений о нем не имеется.
(обратно)[40*]
Амадис Гальский — герой одноименного рыцарского романа, опубликованного в 1508 г.
(обратно)[41*]
Мигель де Молимое (1628–1696) — испанский теолог, родоначальник квиетизма; Жанна Мари Бувье де Ла Мот-Гюйон (1648–1717) — одна из известнейших писательниц этого религиозного направления.
(обратно)[42*]
«Не успокоится сердце наше, <пока не найдет Тебя>» (бл. Августин).
(обратно)[43*]
Когда был среди людей, менее был человеком (лат.).
(обратно)[44*]
Правительство для совершенных, следовательно, совершенное правительство (лат.).
(обратно)[45*]
1789 г.
(обратно)[46*]
Леман — другое название Женевского озера.
(обратно)[47*]
Романдия — франкоязычные кантоны Швейцарии.
(обратно)[48*]
Менций — латинизированная форма имени Мэн-цзы (IV в. до Р. X.), авторитетнейшего, наряду с самим Конфуцием, учителя конфуцианства.
(обратно)[49*]
Будучи сынами Воскресения… равны ангелам небесным (Лк 20: 36).
(обратно)[50*]
Бенуа Жозеф Лабр (1748–1783) — подвижник римской церкви, прославившийся крайним нестяжанием.
(обратно)[51*]
«Аз рех: Бози есте» (Пс 81: 9).
(обратно)[52*]
Снятие запретов (лат.).
(обратно)[53*]
В плане влечения (лат.).
(обратно)[54*]
«Сила… в немощи совершается» (2 Кор 12: 9).
(обратно)[55*]
Имеется в виду исповедание согласия с энцикликой «Pascendi» (1907), осуждавшей модернизм.
(обратно)[56*]
Врачующая благодать (лат.).
(обратно)[57*]
«<Аз еемь лоза истинная, и> Отец Мой делатель есть» (Ин 15: 1).
(обратно)[58*]
Любовь моя — бремя мое (лат.).
(обратно)[59*]
Рим 8: 15.
(обратно)[60*]
2 Кор З: 17;Гал5: 18.
(обратно)[61*]
Иоганнес Кохлеус (1479–1552) — католический богослов, автор многочис-леных сочинений против Лютера.
(обратно)[62*]
Га! Это не я, не я! (лат.).
(обратно)[63*]
Сей Цербер, безудержно лающий, и Антей, на земле оставшийся неодо-ленным (лат.).
(обратно)[64*]
Нем. Turmerlebnis.
(обратно)[65*]
Нет Филлиды сисястей нашей монашки (лат.).
(обратно)[66*]
Сии дурные помышления томили меня более нескончаемых моих трудов. Сколько раз я обнимал и щупал свою обнаженную жену, чтобы сим ощущением прогнать таковые сатанинские помышления (лат.).
(обратно)[67*]
Уверен можешь быть через вероятное предположение и через то доверие, которое возникает из чистой совести (лат.).
(обратно)[68*]
Не оставляет нас Бог в полном неведении о благодати, ибо дает нам знать ее через аффективное познание в опыте и в ощущении Божией сладости, сущей в благодати (лат.).
(обратно)[69*]
Приемлемо суждение, что опытным знанием можем знать о пребывании в нас благодати (лат.).
(обратно)[70*]
Если же убивать всякого человека, пребывающего в достоинстве, само по себе есть зло, то, напротив, убивать человека согрешившего бывает благом, как и убить зверя, ибо злой человек злее зверя и более вредит, как Философ говорит в I книге «Политики», глава 2, и в VII книге «Этики», глава 6 (лат.).
(обратно)[71*]
Общее благо гражданства и единичное благо единой личности различаются не как многое и малое, но соответственно формальному различию. Ибо различны понятия Блага общего и Блага единичного, как различны понятия целого и части. Так же и Философ в книге I «Политики» пишет, что нехорошо говорят те, кто утверждает, будто бы город и дом и прочее подобное различаются лишь по количеству, а не по виду (лат.).
(обратно)[72*]
Поскольку же цель благой жизни, которой живем в настоящем, — небесное блаженство, по этой причине к царской должности принадлежит обеспечивать множеству благую жизнь, что совпадает с путем к небесному блаженству, и, конечно, предписывать то, что ведет к небесному блаженству, противное же тому, елико возможно, запрещать. А что именно находится на истинном пути блаженства и каковы на нем помехи, познается из Закона Божия, научение которому принадлежит к священному служению (лат.).
(обратно)[73*]
Так и греши, грешник, крепко, но крепче того веруй и радуйся о Христе, Который есть Победитель греха, смерти и мира. Должно нам грешить, поскольку мы таковы; эта жизнь — не юдоль праведности, но узрим, как вещал Петр, новое небо и новую землю, в них же правда живет. Довольно нам признать богатством славы Божией Агнца, понесшего грех мира; тогда он не отринет нас во грехе, хотя бы тысячи и тысячи раз на дню мы блудили и убивали. Или думаешь, столь малым было возмещение и искупление наших грехов, что свершилось в такой-то или такой-то год? (лат.).
(обратно)[74*]
Ее [математическую науку] «следует черпать не из книг, но из собственного упражнения и искусства… Но не все люди к ней способны: к тому требуется математический дар, который следует шлифовать упражнением (лат.).
(обратно)[75*]
Запечатленной формы (лат.).
(обратно)[76*]
Ибо каждая из них есть вещь только мыслящая (лат.).
(обратно)[77*]
«Подобно тому, как актеры, дабы скрыть стыд на лице своем, надевают маску, так и я, собирающийся взойти на сцену в театре мира сего, в коем был до сих пор лишь зрителем, предстаю в маске» (пер. Я.А. Ляткера).
(обратно)[78*]
1 января 1619 г. (лат.).
(обратно)[79*]
Употребление же законов и добрых дел должно быть иным, а относится оно до дисциплины плоти и гражданских нравов (лат.).
(обратно)[1*]
Да не будет! {лат.).
(обратно)[2*]
Разводное письмо (лат.).
(обратно)[3*]
Предательство иудеев (лат.).
(обратно)[4*]
Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства (лат.).
(обратно)[5*]
Глупости (лат.).
(обратно)[6*]
Мистическое тело (лат.).
(обратно)[7*]
Без сучка, без задоринки (лат.).
(обратно)[8*]
Соглашения (лат.).
(обратно)[9*]
J. О. С. — Jeunesse ouvrière chrétienne, «Христианская рабочая молодежь» — организация, созданная в 1927 г.
(обратно)[10*]
Неужели Бог отверг народ Свой? Никак (лат.).
(обратно)[11*]
Присущего человеку милосердия (лат.).
(обратно)[12*]
Перевод А. Анненковой.
(обратно)[13*]
См. выше прим. 3*.
(обратно)[14*]
См. выше прим. 4*.
(обратно)[15*]
Не обращение, но полнота (лат.).
(обратно)[16*]
Прииди, Господи Иисусе (лат.).
(обратно)[1*]
«Мыс Доброй Надежды» — поэма Ж. Кокто (1919).
(обратно)[2*]
«Свадьба на Эйфелевой башне» — пьеса Ж. Кокто (1923).
(обратно)[3*]
Жорж Орик (Auric) (1899–1983) — французский композитор, член Шестерки, находившийся под влиянием Сати и Стравинского. Написал музыку ко всем фильмам Кокто.
(обратно)[4*]
«Петух и Арлекин» — эссе Кокто об искусстве, посвященное главным образом музыке (1918).
(обратно)[5*]
Ремон Радиге (Radiguet) (1903–1923) — французский писатель, в своих психологических романах старался придерживаться классических образцов. «Бес в крови» — роман Радиге (1923).
(обратно)[6*]
Имеется в виду роман Радиге «Бал графа д'Оржель» (1924).
(обратно)[7*]
Роман «Самозванец Тома» был написан Ж. Кокто в 1922 г. и опубликован в 1923 г.
(обратно)[8*]
Французский поэт Пьер Реверди (Reverdy) (1889–1960), приверженец сюрреализма, в 1925 г. покидает Монмартр и в одиночестве и молитве работает над стихами в аббатстве Солем.
(обратно)[9*]
Случайностью (лam.).
(обратно)[10*]
Рим 8: 28.
(обратно)[11*]
Словно новорожденные (лат.).
(обратно)[12*]
Константин Бранкузи (Brancusi) (1876–1957) — скульптор, основоположник абстрактной скульптуры в искусстве XX в.
(обратно)[13*]
Филипп Нери (1515–1595) — итальянский священник, католический святой, основатель конгрегации ораториан, сыгравшей важную роль в Контрреформации. Канонизирован в 1622 г.
(обратно)[14*]
Маритен дает весьма свободный перевод, точнее пересказ, пассажа из 14-й гл. VII книги «Евдемовой этики», 1248 а 16–39. Часть этого отрывка цитируется им в III гл. книги «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» (в конце § 5), тоже в свободном переводе. В переводах, сделанных Маритеном в разное время, есть несовпадения. Так, например, выражение όρμήσωσι κατορθοϋν в «Интуиции» трактуется как «преуспевают во всех своих начинаниях», в «Ответе» — как «побуждаются к правильным действиям».
См. перевод Т.А. Миллер в кн.: А.А. Гусейнов, Г. Иррлитц. Краткая история этики. М., 1987, с. 524 (так как перевод выполнен по изданию Ф. Зуземиля, этот пассаж находится здесь в кн. VIII, гл. 2).
(обратно)[15*]
Божественный Гектор (греч.).
(обратно)[16*]
Ch. Baudelaire. Notes nouvelles sur Edgar Poe. Préface aux «Nouvelles Histoires extraordinaires». Вторая цитата дана в переводе В.П. Гайдамака.
(обратно)[17*]
И я послужил поводом для обстоятельного исследования (лат.).
(обратно)[18*]
Счастливую вину (лат.).
(обратно)[19*]
«Сократ» (1918) — симфоническая драма Сати по мотивам диалогов Платона. «Свадебка» (1923) — танцевальная кантата И.Ф. Стравинского. «Орфей» (1925) — пьеса Кокто. В 1951 г. Кокто снял одноименный кинофильм.
(обратно)[20*]
Характер античной героини привлекал Кокто. В 1922 г. им была написана драма, впоследствии положенная на музыку А. Онеггера (1927).
(обратно)[21*]
Ведь не вчера был создан тот закон — Когда явился он, никто не знает.
Софокл. Антигона, 460–461. Пер. С. Шервинского и Н. Позднякова
(обратно)[22*]
«Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал 5: 18).
(обратно)[23*]
Ин 8: 59.
(обратно)[24*]
2 Тим 3: 12.
(обратно)[25*]
Папа римский Лев X (1513–1521) был меценатом и покровителем Рафаэля и Микеланджело.
(обратно)[26*]
«Сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф 23: 23).
(обратно)[27*]
Иер 7: 4.
(обратно)[28*]
Буре и натиску (нем.).
(обратно)[29*]
Французский писатель Макс Жакоб (1876–1944), живший в богемной среде Монмартра, во время одного из путешествий обратился в католичество.
(обратно)[30*]
Мф2: 11.
(обратно)[31*]
Рим 11:28.
(обратно)[32*]
Маритен дает себе здесь шутливое имя по аналогии с именем, которое взял себе испанский схоласт, бельгиец по происхождению, Хуан Пуанса (1589–1644), ревностный приверженец Фомы Аквинского: Хуан де Санто-Томас (или Иоанн Святого Фомы).
(обратно)[33*]
У друзей все общее (лат.).
(обратно)[34*]
Царство искусства (лат.).
(обратно)[35*]
На этом стою и не отступлюсь (лат.).
(обратно)[36*]
Речь идет об Андре Гранже. Этот молодой человек, пристрастившийся к наркотикам, прочитав издание сокращенных переводов из св. Иоанна Креста (Хуана де ла Круса), полученное им от Ж. Маритена, внезапно заболел и почувствовал, что дни его сочтены. Перед смертью, несмотря на жестокие физические страдания, он был исполнен радости и повторял: «Это все совершил святой Иоанн Креста».
(обратно)[37*]
Logica major- главнейшая логика (лат.). Prima Philosophia — первая философия (лат.). Имеются в виду логическое учение и метафизика Аристотеля.
О четырех модусах самосущности (франц. perséité, лат. perseitas) трактует Фома Аквинский в комментариях к сочинению Аристотеля «Об истолковании» и к «Первой аналитике».
Начало спору о Quo и Quod было положено в ранней схоластической философии. Гильберт Порретанский (1076–1154), развивая мысль Боэция (ок. 480-ок. 525) о различии между бытием (esse) и тем, что есть (id quod est), говорит о присущем всем сотворенным вещам различии между конкретным бытием (id quod est, «то, что есть») и тем, благодаря чему (id quo) вещь есть то, что она есть (например, человек является человеком благодаря причастности человеческой природе). В дальнейшем развитии схоластики эта дистинкция обсуждалась с разных точек зрения, и в данные выражения вкладывался различный смысл.
(обратно)

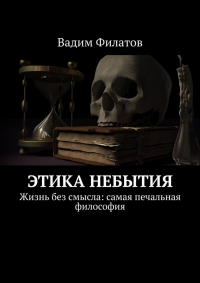
Комментарии к книге «Избранное: Величие и нищета метафизики», Жак Маритен
Всего 0 комментариев