В.Ю. Антонов
Зеркало: онтология невидимого
В сущности, человеческое лицо – это, прежде всего, инструмент соблазна. Любуясь собой, человек подготавливает, "оттачивает", полирует это лицо, этот взгляд, все орудия искушения. Зеркало – это поле для "командно-штабных учений" агрессивной любви… К существу, глядящемуся в зеркало, можно обратиться с двойным вопросом: для чьей пользы ты любуешься собой? во вред кому ты любуешься собой? осознаешь ли ты свою красоту или силу?
Гастон Башляр
Может показаться, что в самом сочетании слов “онтология невидимого” скрыта тавтология: ведь онтология как учение о предельных основаниях бытия вещей – это как раз о невидимом, о невидимой сущности зримых вещей, о том, что лежит за их видимостью, феноменальной явленностью. В онтологии, благодаря ее средствам, предельные основания Бытия становятся “зримыми”, в смысле их умопостигаемости. Однако, следовало бы предположить существование таких вещей, визуализация которых с помощью “умственного взора” онтологии, ничего на самом деле не проясняет, а наоборот, уводит нас не только от постижения сокрытой истины, но даже от простого восприятия явлений. Следует предположить существование вещей, которые если и познаются, то познаются именно как невидимые, которые самоустраняются, уходят в Ничто, как только на них начинает падать свет нашего “умственного взора”. Тем не менее, такие принципиально невидимые вещи необходимо учитывать при исследовании видимого и сокрытого, так как первые влияют на остальные. Делая принципом онтологии прояснение сущности вещей, как будто все сущности находятся в ожидании “умственного взора” и должны проясняться под лучами “прожектора разума”, мы, в таком допущении, приходим к искаженному пониманию не только тех вещей, чьей “сущностью” является быть невидимыми, но и видимых вещей. Если мы осветим ночь, то она не будет ночью. Если мы проясняем тьму, то в результате тьмы уже не получится. Но если мы не знаем ночи, что мы можем сказать о свете дня?
Можно предположить существование четырех планов Бытия, формально образованных путем комбинаций критериев “видимое” и “умопостигаемое”, имеющих свои отрицания “невидимое” и “непостижимое” соответственно:
1) видимое и умопостигаемое – видимые вещи, явления (феномены), в своей совокупности образующие мир эмпирических фактов; то, что принято обозначать как “Природа”, и устойчивых фактов сознания, которые могут становиться объектами научного теоретизирования и допускают применение процедур верификации, что позволяет их также включить в реальность природной данности;
2) видимое, но непостижимое – случайные явления, акциденции, особенное, единичности, не допускающие над собой применение логических и синтезирующих операций интеллекта; то, что выявляет эстетическое и “понимающее” (герменевтическое) восприятие; то, что принадлежит “чистому” Искусству, а также диалектическому Становлению, обозначаемому как “История”;
3) невидимое, но умопостигаемое – многие математические объекты, платоновские “идеи”, сущности вещей, которые невидимы, но познаваемы (сокрытое, но требующее раскрытия), ценности; то, что принадлежит сферам Сверх-Природного, Трансцендентного; то, чем занимаются метафизика, этика и теология, допускающие возможности “чистого” теоретизирования и интеллектуально-нравственного озарения, но исключающие эмпирическую проверку своих умозаключений и откровений;
4) невидимое и непостижимое – такие “вещи” и их “сущности”, которые принципиально невидимы и непознаваемы, но, тем не менее, должны учитываться при рассмотрении видимых вещей и проявляемых из сокрытости сущностей; они должны учитываться именно как непознаваемые в своей непознаваемости. Назовем этот “класс” “сущностно невидимое” или просто “невидимое”. Можно сказать, что этот “класс вещей” – “объекты” возвратно-рас-трансцендированной веры, которые не являются “вещами” и “объектами”, поскольку не допускают своего о-существовления ни в качестве эмпирической Реальности, ни в качестве диалектического Становления, ни в качестве вынесенной в Сверх-Природное Трансценденции. Они не допускают по отношению к себе как эмпирической проверки, так и любого теоретизирования. Не являясь “объектами”, они не допускают применительно к себе процедуры классификации, а поэтому могут быть названы “классом” только по аналогии. Они не могут быть строго названы “они”, поскольку, не являясь классом, теряют Множественность и предстают как интуитивно схватываемое Единство. В этом случае не-эмпирическое Я имеет дело со сферой Иного, инаковость которого не может быть снята простым диалектическим отрицанием, и единство которого не может быть разъединено и расклассифицировано в структурированное множество. В более узком, привычном и практическом смысле – это сфера Трансцендентного, которая, будучи возвратно-рас-трансцендирована в человеческое существование, предстает в качестве Моей-Свободы, Моего-Творчества, Моей-Смерти и Моей-Любви-к-Тебе. Однако при всей их невидимо-непознаваемой проблематичности, такие “объекты” могут быть охвачены философской рефлексией, результатом которой должно стать внедрение в классическую субъект-объектную философию (“философию-к-Оно”) экзистенциальной философии (“философию-к-Я”), наполняющей абстрактные символы содержанием конкретного Моего, и философии “второго лица” (“философии-к-Ты”), подводящей ко всем “Моим” знаменатель “к-Тебе”.
Говоря о невидимом, как не вспомнить кантовские “вещи в себе”, точнее, “вещи, существующие для самих себя”, то есть не для нас (в отличие от вещей, прагматически, инструментально захватываемых нашим существованием). Есть “вещи”, которые, существуя для нас, принципиально невидимы, незримо присутствуют с нами в их незримости, и, при попытке их осветить, они перестают быть для нас, как бы отказываются нам “служить”. Последующее развитие немецкой классической философии – от Фихте до Гегеля – можно отследить как путь борьбы с этой проглядывающей уже в кантовской “вещи в себе” сферой Иного, которую не вмещает субъект-объектная классическая философия.
То, что сущностно невидимо, должно оставаться невидимым.Кантовская “вещь в себе” должна оставаться в нетронутом бытии-для-себя, без ее преодоления гегелевским диалектически проясняющим движением. Именно это невидимое придает глубину видимому, необходимую для различения вещей. Тень мира есть условие его контрастной проявленности. Мы должны избавить невидимое от наших бесконечных претензий все визуализировать. Иначе это визуализированное все предстанет однородной неразличимостью вещей. Человек затеряется в иллюзорной видимости объективного познания, творчества смыслов, значений и образов, иллюзии исторической жизни без жизни и жизни без смерти, будет заполнен иллюзией тотальности Я в отсутствии Ты.
Но, предполагая онтологическую необходимость невидимого, прежде всего, следует выяснить, что значит “видеть”, что предшествует зрению, что я могу увидеть с очевидностью, и как видимое соотносится с познанным.
1
Чему еще можно доверять, если не очевидному. Слова “увидеть” и “познать” издавна используются как синонимы. Еще Аристотель писал, что на пути к познанию люди влекомы чувственными восприятиями, “их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать: зрение больше других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах]” [1]. Так, где-то в глубине веков, на заре интеллектуальной истории человечества, возникает “окулярная метафора” познания или метафора “Умственного Взора”.
Против “оптического” обмана “окулярной метафоры” выступает Р. Рорти. Теория познания, по его мнению, основывается на “окулярной метафоре”, “узаконенной” Декартом, неблагополучное наследие которой до сих пор воспринимают и современные философы. “Мы утверждаем, – пишет Рорти, – что не было никакой особой причины, чтобы эта окулярная метафора захватила воображение основателей Западной мысли. Но это случилось, и современные философы до сих пор все еще разрабатывают ее следствия. Понятие "созерцания" неизбежно делает Умственный Взор моделью наилучшего познания” [2] . Является ли случайным, что именно эта метафора лежит в основаниях теории познания? Смотреть – значит познавать, увидеть – значит познать. Почему, например, не "почесывание", не "растирание ногой по полу", или не "половые сношения"?”, – спрашивает Рорти.
В последнем случае Рорти зря иронизирует, натыкаясь, сам того не ведая, на альтернативную метафору познания. Метафора познания как половых сношений издавна существует в качестве альтернативы “окулярной метафоре” и конкурирует с ней, а в конечном счете, ее дополняет. Обыденное сознание говорит нам, что познать женщину, значит вступить с ней в половые отношения. Чему еще можно доверять, если не телесному слиянию с другим в сексуальных отношениях? О чем может судить мужчина, не познавший женщины? О чем может судить женщина, не познавшая мужчины? Для такого “познания” зрения оказывается недостаточным: необходимо телесное действие, которое желает укрыться в темноте. В этом случае само тело становится органом познания. “Познать” в половом смысле – значит соприкоснуться телесно, и сама полнота телесного соприкосновения, осязания достигается в половом акте. Таким образом, может показаться, что “половой акт” выступает в качестве наиболее адекватной метафоры познания.
Фиксация полового акта в качестве метафоры познания выводит на передний план действенность осязания. Действительно, что может быть более достоверным, если не наше осязание. “Зрение зависимо от движения”, – воспроизводит феноменологический тезис М. Мерло-Понти [3] , а Х. Ортега-и-Гассет замечает, что “было бы серьезной ошибкой предположить, что зрение является главным “чувством”. Первичным чувством было осязание, от него впоследствии отпочковались все прочие”. “Осязание – основная форма нашего общения с вещным миром, осязание и соприкосновение являются решающими факторами, определяющими строение нашего мира”, – заключат Ортега-и-Гассет. “В отличие от чистого видения, это не похоже на отношение между нами и неким призраком; это отношение двух тел: нашего и чужого”. “При соприкосновении мы ощущаем вещи изнутри нас, из нашего тела, а не вне нас, как это происходит со слухом и зрением” [4] .
С биологической точки зрения, первичность осязания следует из первичности функции размножения в животном мире: ведь размножаются и незрячие животные, а зрячие должны вначале родиться, а потом уже начинают видеть. Слепые котята вначале осязают, телесно соприкасаются с другими телами, и лишь затем прорезаются их глаза: сначала мутные, они постепенно набирают остроту зрения и приобретают привычку вначале видеть, а затем брать. Осязательные ощущения, привычка к которым складывается раньше привычки видеть, чаще всего не дает усомниться в телесной реальности видимого окружения.
Первое, что интересует человека, когда в нем начинает просыпаться страсть к познанию – это natura. Термин “natura” изначально, на языке латинских фермеров, обозначал “утробное отверстие самки четвероногих”, “место, через которое происходит рождение” [5] , и лишь затем им стали обозначать “природу” в привычном для нас смысле слова, понимаемую как реальность объектов, визуализированных посредством просветляющей “оптики познания” и потому исчислимых и пригодных для изучения. Возможно, такая метаморфоза понятий закрепляет в языке тот факт, что познание, в частности познание природы, – преимущественно мужское занятие: почти всем открытиям мы обязаны мужскому напору, который сродни сексуальному напору самца, домогающегося телесной “натуры”.
Таким образом, к оптической метафоре познания добавляется еще и половая (или, в более широком смысле, осязательная) метафора на вполне законных основаниях: половая метафора или метафора полового соприкосновения вполне конкурентоспособна, она должна быть принята во внимание при рассмотрении “мифов” познания.
Даже метафилософская рефлексия Рорти, противопоставляющая эпистемологию (как поиск оснований для соразмерного дискурса любых наук) и герменевтику (как понимание несоразмерности культурных дискурсов и “участие в разговоре”), неявно предполагает симметрию оптической и половой метафор относительно противопоставления “эпистемология – герменевтика” [6]. Если эпистемология, как к своему истоку, отсылается к зеркальной метафоре, то герменевтика не может возникнуть “вдруг”, как это происходит у Рорти, просто в качестве противопоставления эпистемологии на стадии ее рортиевской ликвидации. Следует предположить, что представления о герменевтической несоизмеримости присутствует параллельно требованиям эпистемологической соизмеримости, а своим вдохновляющим истоком эта линия имеет другую метафору, метафору, которая предполагает не выравнивание видящего и видимого в отражениях и оптических поглощениях, не метафору совпадения вещей и образов, а метафору, которая предполагает соприкосновение с иным без его поглощения и растворения в образах, которая трактует познание как соприкосновение, вступление в контакт (аналогичный половому) с иным без его ассимиляции подобным, без приведения иного к подобному. Так, параллельно ряду, который Рорти обозначил как “Зеркало Природы”, включающего в себя следующие элементы:
“метафора Зеркала”, “изобретение ума”, “науки о природе”, “эпистемология”, “соразмерность дискурсов”, “общие понятия”, “нормальный дискурс”, “философия науки”, “систематическая философия”;
выстраивается ряд, который можно было бы назвать “Зеркалом Культуры”, состоящий из следующих элементов:
“метафора полового акта” или “осязательная метафора”, “изобретение желания”, “науки о духе” или “науки о культуре”, “герменевтика”, “несоразмерность дискурсов”, “наставительный” или “анормальный дискурс”, “периферийные философии”, “культурная антропология” [7].
При выстраивании “герменевтического” ряда я пользовался понятийной “логикой” Рорти, единственно, сведя ее к предполагаемому метафорическому истоку – к осязательной метафоре, заполнив ее отрыв от “наук о духе” “изобретением желания”. Конечно, эти “линии” не пребывают в культуре изолированно друг от друга, и не только Рорти пытается привести их во взаимодействие: взаимодействие осуществляется уже на уровне метафор – метафора Зеркала входит во взаимодействие с осязательной метафорой.
Но, почему именно оптическая и половая метафоры неявно подразумеваются, когда мы говорим о познании, используются в качестве скрытой посылки теории познания? Ответ таков: потому что субъектом познания является человек, которого не следует рассматривать в отрыве от его телесности, а телесность человека во многом обуславливает и задает направление его познания. Познание антропоморфно не только с точки зрения таковости устройства познавательного аппарата, что в свое время открыл Кант, но и с точки зрения таковости устройства его тела: анатомии, морфологии и физиологии. Субъект познания теперь уже не может представляться в некоей абстрактного свойства “познавательной способности человека”, то есть в виде его “познающей части”, но должен предстать в виде человеческой целостности, включающей в себя, кроме стремления к умопостигаемой рациональности, еще и чувственно-телесную основу еще не просветленного Бытия.
Как природное существо, “феноменально” человек существует “через телесный аспект”. На это указывали многие. “Человек является действительно диалектичным, или человечным, – отмечает А. Кожев, – лишь в той мере, в какой он есть также Природа, пространственная и временная “идентичная” сущность: стать и быть подлинно человечным можно лишь будучи и оставаясь в то же самое время животным, которое, как и всякое животное, уничтожается в смерти” [8] . Тело – это аспект врожденной природы, не-приобретенной и уничтожаемой. Хотя Э. Левинас, в свою очередь, раскрывает онтологический “механизм” приобретения материального существования субъектом, этот аспект еще в большей степени усиливает фундаментальное значение телесности в онтологии и теории познания. Ведь телесная приобретенность есть необходимое условие самоидентификации Я в Самом Себе, то есть его не приобретенной (с физической точки зрения) телесной врожденности в Самого Себя. “Я приковано к себе …, – пишет Э. Левинас, – Я – это неотвратимо Я Сам. … Я вместе с ним потому, что он – это Я: Я существую не как бесплотный дух, не как улыбка или беззаботный ветерок … мое бытие удваивается обладанием “им” – Я загромождено собой”. В этой онтологически необходимой загроможденности Я Самим Собой проявляется то, что называют материальным существованием человека. Материальность “необходимо сопровождает возникновение субъекта в его свободе быть существующим”. “Постичь тело так, исходя из материальности, то есть конкретного события связи между Я и Самим Собой, значит свести его к онтологическому событию … Онтологические связи не суть бесплотно-обесчеловеченные узы…” [9] .
Таким образом, для использования именно этих метафор познания (оптической и осязательной) существуют веские причины, и они – в телесности человека. Других метафор существовать не может именно благодаря анатомическому и физиологическому устройству человека, а те, что существуют, существуют на вполне законных онтологических основаниях. Человек, погруженный в пространственно-временной мир своей телесностью, не просто “отражает” законы природы, но и сам обладает зеркальной сущностью, выявляющейся, например, через структуру “Я - Сам”, в силу чего укореняется “зеркальная метафора” теории познания. Зеркальность человеческого познания образуется в силу познавательного раскола зеркальности мира, который человек желает наблюдать как бы со стороны, будучи телесно в него включен. Так что, пока мы не можем просто исключить метафору зеркальности из философского обращения, как предлагает Р. Рорти, но, напротив, вправе ею пользоваться в качестве фундаментального принципа в исследовании человека, природы и самих онтологических структур. Использование зеркальной метафоры должно быть уравновешено усмотрением осязательной метафоры как равноправного источника стратегий реализации человека в Бытии.
2
Когда, в попытках определить “что есть человек”, мы понимаем, что окончательно запутались в сети определений его общих свойств (коннотаций), и нас парализует отчаянная невозможность прояснить эту многомерную насыщенность смыслов и значений, единственное, что нам остается, – это денатативно указать на первый попавшийся в поле нашего зрения конкретный “объект”, на то, что обычно называют человеком, и сказать: “это – человек”. В другом случае можно указать на себя и сказать: “Я – человек”. И в том, и в другом случае, в попытках определения через указующее наименование непосредственно участвует моя телесность – мои видящие глаза и указывающая рука [10] .
Однако, эти два случая отличаются друг от друга. В первом – я вижу “объект” – человека, на которого указываю – полностью, могу рассмотреть его с различных позиций, получить множественность визуальных репрезентаций, число которых в предельном случае оказываются бесконечным. Возможность получения бесконечного множества визуальных репрезентаций объекта актуализируется в синтетическом образе объекта, который всегда синтетичен, целостен. Своей актуальной синтетичностью образ заполняет отсутствующую возможность реализации бесконечных наблюдений объекта.
В другом случае я вижу, “объект” – Самого Себя – не полностью, т.к. не могу оказаться вне своего тела, обойти себя кругом. В этом случает невозможность получения бесконечного (в потенции) множества визуальных репрезентаций, при необходимо целостном характере образа, компенсируется дополнением неполного ряда визуализаций чем-то сверхвизуальным: человек ощущает некую потенцию потенциальности видения. Указание, которое не видит то, на чего оно направлено, только жест, обращенный вовнутрь тела, сопровождаемый одним звуком – “я”, выводит свою субъективность, свое Я. Это “Я” оказывается тем, что задает исходный вопрос, и в этом указании на невидимое замыкает вопрошающее на вопрошаемое.
То, что ускользает из поля моего зрения, я могу назвать субъективным во мне. Мое Я дает знать о Себе в визуальной неопределенности: оно есть, будучи не увиденным. Если все же попытаться визуализировать образ Самого Себя, посмотреть на Себя непосредственно, т.е. исключая при этом любые зеркально отражающие предметы, то Я увидит Себя не во всем объеме: некоторые части моего тела невидимы для меня. Понятно, что когда я просто указываю на другого человека, я указываю на его тело, имея возможность рассмотреть его со всех сторон, а когда я указываю на себя, то денотат не оказывается “чистым” по причине визуальной неопределенности Я, которое остается визуально неопределенным даже в потенции. Таким образом, возникает вопрос, отправляющий к коннотации “что такое Я?”, который уже не может разрешиться путем непосредственной визуализации.
Когда возникает мое Я, как нечто, не подлежащее непосредственному созерцанию, то после указания на тело другого человека, можно предположить, что у него тоже есть “Я”. “В чувственном отношении он [другой] предстает предо мной как некое тело, которое имеет свою характерную форму, движения, перемещает предметы. … Но самое удивительное, странное и в высшей степени загадочное состоит в том, что, хотя перед нами лишь телесная оболочка, совершающая определенные движения, мы различаем в ней и за ней по сути своей невидимое, нечто чисто внутреннее, что каждый непосредственно знает, прежде всего, по самому себе…”, – пишет Х. Ортега-и-Гассет [11] . Внутренние “я” других, подобных моему собственному, угадывается по внешнему облику тел, по жестам, мимике, поведению. Но в этом гипотетическом множестве “я” возникает неоднородность в определении его общих свойств. Эти “я” являются одновременно и индивидуализирующим, и объединяющим факторами в определении человека, что принуждает снова обратиться к денотации другого во взаимообразных “я как он” и “он как я”. “Тело другого человека для меня – изначальная и неоспоримая реальность, – пишет Х. Ортега-и-Гассет, – но то, что в этом теле живет некое квази -"я", что оно одушевлено некой другой квази-жизнью, – это моя интерпретация” [12] .
Такая интерпретация оказывается неслучайной перед лицом apriori восприятия тела другого не как простого объекта. Она имеет строго определенную направленность на искомое – на то, что воспринимает мое невидимое так же, как я воспринимаю видимое мне. Искомое должно быть такое-же-как, поскольку априорная целостность моего восприятия не терпит качественных разрывов, т.к. поле восприятия должно быть однородным. И когда я вновь указываю на другого человека, то я опять указываю на его тело, но при этом вынужден предположить наличие в нем чего-то еще, некий “плюс” к его телу, а именно, видящего мое невидимое, имеющее возможность замкнуть поле моего восприятия на Себя Самого. При этом значение “я” и “он” как “человек” существует где-то между “нами”, в зазоре нашего невидения Самих Себя, между нашими непроявленными в целостности телами, в указующих жестах и взглядах друг на друга и относительно друг друга.
Взгляд другого на меня и на предметы моего окружения, и даже само предполагание возможности такого смещенного относительно моего восприятия взгляда, замыкает целостность поля моего восприятия предположением о восприятии другим невидимого мной. Ж. Делёз отмечает: “Не видимую мне часть объекта я в то же время полагаю как видимую для другого; так что обогнув его, чтобы увидеть эту сокрытую часть, я соединюсь позади объекта с другим, чтобы совершить предполагаемое оцелокупливание. А эти объекты у меня за спиной … доделывают, формируют мир, именно потому что видимы и видны для другого. … Другой обеспечивает в мире кромки и переносы. Он – нежность смежности и сходства. Он регулирует преобразования формы и фона, изменения глубины. Он препятствует нападениям сзади …”. Таким образом, другой у Делёза “есть ни объект в поле моего восприятия, ни субъект, меня воспринимающий, – это прежде всего структура поля восприятия, без которой поле это в целом не функционировало бы так, как оно это делает”. Другой, понятый как структура поля восприятия, априорен и потенциален, он предшествует актуализирующим ее термам. “Другой – это существование свернутого возможного” [13] . И я бы добавил: свернутого для меня возможного.
Таким образом, тот факт, что мы усматриваем за телесным денотатом другого человека возможность дополнять невоспринимаемое мной, объясняется априорной структурой поля восприятия, допускающей множественность смещений относительно ее телесной актуализации. Такой актуализацией возможностей моего целостного восприятия является тело другого человека, которое, на основания априорной целостности моего восприятия, наделяется воспринимающей способностью. Человек – это, прежде всего, его воспринимающее и воспринимаемое тело: видящее/невидимое и видимое/невидящее, указующее и указуемое, телесно ощущающее и ощущаемое, фактически воспринимаемое и фантазийно конституированное. “Загадочность моего тела, – писал Мерло-Понти, – основана на том, что оно сразу и видящее, и видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом, что оно видит, “оборотную сторону” своей способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно видимо, ощутимо для себя… Это самосознание посредством смешения, взаимоперехода, нарциссизма, присущности того, кто видит, тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, чувствующего чувствующему – самосознание, которое оказывается, таким образом, погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим…” [14] .
Изначально данное непосредственно мое тело все же загадочно в этой непосредственности зазора ощущающего и ощущаемого. Ощущаемое и прочувствованное, частично видимое и дающее себе возможность дотронуться рукой до невидимых своих частей, полагающее замыкание поля своего восприятия через другого, оно распространяет свои органопроекции на весь мир. Поскольку восприятие человека жаждет целостной картины происходящего в условиях невозможности непосредственного наблюдения того, что оказывается вне поля его зрения, человек наполняет мир средствами для замыкания поля своего восприятия. Такими средствами в процессе формирования человека и общества оказываются пока еще неразличимые другие и другое. Люди расставляются по разным позициям, которые в целом должны были обеспечить целостность восприятия, давали бы уверенность в том, что со спины им ничто не угрожает. Бегущая стая вытягивается в линию: каждый, кроме одного, видит спину другого. Вожак, вырвавшийся вперед, на самом деле оказывается в более безопасном положении: его спину прикрывают множество взглядов, в то время как его взгляд, освобожденный от оглядывания назад, более эффективно концентрируется на цели. Пространственные позиции трансформируются в социальные. Остановившийся вожак превращается в вождя. Оказавшись вне динамики стаи, вождь располагается в центре и сверху, поскольку именно в центре могут перекрещиваться наибольшее число отдельных восприятий, а находящемуся в верхнем положении становится возможным максимально расширить поле своего видения. Абсолютный правитель отправляется в наивысшую точку Мира, с тем, чтобы видеть Все, и за его спиной уже ничего не стоит и не происходит.
Власть всегда желает занимать центральные и верховные позиции с тем, чтобы видеть под-данных. Понятно, что в социальной организации, другие – это другое, то есть средство для интеграции восприятий отдельных людей, обеспечивающее цель безопасного существования, которое, например, может использоваться для строительства оборонительных стен, в центре которых располагается властитель, и возвышений, на которых он восседает или покоится, – дворцов, замков, пирамид, мавзолеев и т.д.
В условиях отсутствия другого, когда отдельный человек оказывается в одиночестве, то есть вне поля зрения другого человека, или занимает в круге социального место на его границе, когда никто уже не видит его спину, способностью видеть наделяются вещи. Мир для такого человека предстает анимистически как органическое существо, подобное ему, его воспринимающее. Затем органопроекции технически внедряются в мир. Представления о мире теряют анимистичность, поскольку мир населяется искусственно созданными вещами, которые уже по причине своего происхождения и в силу приспособленности к человеку одухотворены уже при возникновении. В свою очередь, и мир, во всем своем непостижимом многообразии, находит воплощение в человеческом теле.
“Между Я и его телом, между Я и миром не существует перехода”, – говорит Мерло-Понти [15] . У мира без другого, мира, который сам – другое, есть глаза и уши, сердце и мозг. “Космос каким-то образом тронут нарциссизмом. Мир хочет видеть себя”, – пишет Г. Башляр [16]. В нашем одиночестве являются миру стихии: огонь и вода, земля и воздух. Звезды светят внутри нас, приковывая наш взор к небу, со-зерцают себя. Наши внутренние вершины манят нас, зовут совершить восхождение. В исходной позиции бытия-восприятия пока еще нет никакого Внутри и Вовне: “…выясняется, что так называемый естественный взгляд на мир, не смешенный с субъектом здесь, не смешанный с объектом там, совершенно не является естественным, напротив, только приобретенным. … Только шизофренические атавизмы, сегодня совершенно неестественные, позволяют воспроизвести когда-то полностью естественный образ человека-мира” [17].
Мы пленники телесности, сопряженной с телесностью мира, но эта телесность открывает и в нас, и в мире невидимые горизонты свободы, порождает формы, обретает цели, вскрывает причины. Природа и материя говорят в нашем теле и через тело достигают собственного Бытия. “Наше тело превращает в тела все прочие предметы и весь мир”, – пишет Х. Ортега-и-Гассет [18] . “…Тело – это то, в чем индивид обретает мир, и то, в чем мир обретает индивида”, – отмечает Д.В. Михель. “…Человек вписывается в тело, воплощается, чтобы соотносить себя с другими воплощениями: вещами или людьми. В телесном обличье он противопоставляет себя им или обнаруживает сходства с ними… Только в теле и через тело человек оказывается тем, то он есть” [19] . И здесь вырисовываются две возможности: 1) возможность противостояния человека вещам и людям или 2) возможность обнаружения сходства между ними.
Между Я и Миром в самом деле не существовало бы перехода, если не принимать во внимание априорность структуры другого. Структура другого встаем между Я и Миром. Таким, до неразличимости единым, по мнению Делёза, предстает мир без другого в романе Мишеля Турнье. Свернутые другим миры распрямляются, и объекты, “Стихии”, становятся тождественными Субъекту: Робинзон становится сознанием острова [20] .
Тем не менее, все, что мы, не замечая функционирования априорной структуры другого, непосредственно эмпирически ощущаем, и что ощущается в нас – это, прежде всего, чувствующее и чувствуемое тело. Испытующий взгляд всегда скользит от тела Вовне и от Вовне к Внутри, пытаясь угадать Я в этом беспрестанном сканировании, и эти попытки превращают тело в призрак. “Я живет внутри, ограниченное кожей, – пишет Э. Блох, – Снаружи ее, в том, что называется Вовне, живут вещи. В пространстве без нас, которое мы постоянно, подобно посетителям, проходим насквозь, даже вмешиваясь собственной рукою. Субъект, проходящий так, замутнен именно для самого себя самого, даже если он хочет рассмотреть себя, он дан себе как состояние, но не как предмет. Как собственная голова до самых плеч полностью выпадает из поля зрения, подобно некой дыре в самосозерцании Я, так и наше Самобытие вообще выпадает как невидимое из любого сосредоточенного и столь очевидного окружающего мира” [21] .
То, что ощутимо телесно, желает быть оптически ощутимо. Взгляд подтверждает телесно ощущаемое, делает его оче-видным. Когда мой взгляд направляется на меня самого как на тело, я многое не вижу того, что можно видеть, когда я смотрю на другого человека и вижу его тело. Но зато я ощущаю в себе то, чего не вижу у другого – мое Я. И это “дополнение” компенсирует невидимость некоторых частей моего тела. Первое, что я не могу видеть, – это моя голова. Второе, если бы я был женщиной, – значительная часть половых органов. Третье – спина, невидимость которой наполняет мир угрозой, или “нежностью” (Ж. Делёз), когда предполагается видимость ее другими.
“На место” моей невидимой головы “встает” мое Я. Может быть поэтому укоренено представление, что Я, моя субъективность имеют место, локализуется в голове, в мозге? Если это так, то многие философские проблемы, и первая из них – психофизическая, обусловлены анатомически: они возникают как эффекты нашего зрительного восприятия. Может быть поэтому многие психологические проблемы, например, индивидуализирующие женские страхи, состояние тревоги, неврозы, возросшие на их основе, проблемы личности связаны с опасениями за состояние гениталий после мастурбации, при дефлорации, во время менструаций, после родов? Но об этом позже. Сначала о невидимости головы.
3
Загадочность моей головы обусловлена тем, что я не могу ее непосредственно наблюдать собственными глазами. Голова выпадает из поля зрения наблюдающего за самим собой, и поэтому кажется, что голова со всем ее “содержимым” – некий надприродный (согласно ее верхнему телесному расположению) “орган”, в котором представлена вся ненаблюдаемая надприроднасть мира: разум, сознание, идеи, трансцендентные сущности и т.д., то есть все не-оче-видное.
Выражением моей индивидуальности, моего Я становятся части тела, недоступные непосредственному наблюдению. Я, моя самоидентичность и моя смертность представлены моим лицом. Большая смысловая часть Я, которая запечатлевается на фотографических изображениях, подтверждающих мою личность в документах, и которое должно умереть, –- это мое лицо. Оно обращено к миру, мир видит меня, но я не вижу непосредственно своего лица в пространстве, как не вижу непосредственно своей смерти во времени жизни. Когда я смотрю в лицо другому, я знаю, что он не видит своего лица, но он видит мое лицо, пытаясь увидеть в нем как бы отраженную часть себя, невидимое дополнение себя. Общение, изначальная направленность на другого, происходит от недостатка себя, точнее, от невозможности увидеть себя (в прямом, оптическом смысле) целиком. В этом – исток общения и взаимопонимания, а также неприятия и отторжения. Человек, входящий в общение со мной, предоставляет мне беззащитность своего лица. Как пишет Э. Левинас, лицо предстает как “сама подверженность другого человека смерти”, и “смерть другого человека затрагивает меня, ставит под вопрос, как будто мое безразличие превращает меня в соучастника преступления, и я должен отвечать за эту смерть другого, не дать ему умереть в одиночку” [22] . Встреча лицом к лицу выводит на необъективированный уровень понимания действительности. Предстояние лицом к лицу не сводимо к опыту простого объектного постижения.
Мое Я выдают мои глаза. Они видят и не видимы для меня, но видимы другому. “Глаза – "окна души" – могут сказать нам больше, чем что-либо иное, поскольку взгляд, как нечто исходящее, исходит из внутри”, – отмечает Х. Ортега-и-Гассет [23] . В общении с другим всегда дается нечто большее, чем доступно нам в одиночестве. И первое, что доступно другому – невидимо для нас самих. Если бы наши глаза были бесконечно малого размера и были вынесены на подвижных “антеннах” достаточной длинны, и мы могли бы разглядывать себя во всей целостности, то, возможно, мы не могли бы общаться друг с другом, у нас не было бы потребности в этом. Кроме того, мы вряд ли обладали самосознанием как интеллектуальным дополнением к невидимому.
В пределе то, что в нас видит – глаза, невидимы для нас: видящее невидимо. Мы не можем вглядеться в свои глаза непосредственно, не имея зеркального посредника, и предоставляем их другому. Наши глаза, по причине их принципиальной недоступности взору, больше чего бы то ни было выражают нашу индивидуальность, которая должна быть сокрыта в одиночестве или раскрыта в общении, понятом как предоставление другому невидимых для нас частей собственного тела. Не желая раскрываться, разоблачаться перед другим, мы боимся открытых прямых взглядов в глаза. Наше невидимое есть повод для стыдливости. Мы боимся отдать самого себя другому, если предполагаем угрозу с его стороны: он может похитить нас у самих себя, всматриваясь в наши глаза. Мы надеваем черные очки не только для защиты глаз от яркого света: мы защищаем невидимую индивидуальность собственного Я от несанкционированного доступа других людей. Мы отдаем себя другому, если мы ему доверяем. Когда мы отдаем себя другому в надежде быть им понятыми, мы позволяем смотреть ему в наши глаза, снимаем черные очки и не отводим глаз. Открывая наш взгляд, мы открываем себя для другого во всей полноте нашего незнания самого себя, во всей его интимности. Мы бежим к зеркалам, чтобы обрести уверенность в собственном существовании, и в том, что мы предоставляем другому нечто по-настоящему ценное.
4
Существуют вещи, делающие видящее видимым, в которых мое Я замыкается на Самом Себе в попытке узреть невидимые части тела, – зеркала. Если верить гипотезе Яна Линдблада, в которой предполагается, что наши предки на какой-то стадии своего развития избрали средой своего обитания реки, их берега и отмели, находя пропитание не только на суше, но и на мелководье [24] , то наш предок имел возможность многократно наблюдать свое отражения на поверхности воды, и, видимо, на каком-то этапе он установил связь образа на водяной поверхности с самим собой, то есть приобрел опыт самоидентификации.
Итак, зеркала. Сначала естественные, такие как поверхность воды, затем искусственные отражающие поверхности, потребность в которых есть потребность самоидентификации и соответствует влечению увидеть себя в собственном теле – нарциссизму, аутоэротизму и скоптофилическому инстинкту.
Зеркало имеет огромное значение для формирования самосознания, человеческого Я и в онтогенезе, и в филогенезе. Пожалуй, ни одно изобретение не повлияло так на становление человека, его сознания и культуры, как зеркало. Человек, смотрящийся в зеркало, оптически самодостаточен, он поглощен самим собой, он может сказать, всматриваясь в свое отражение: “Я есть”.
На идентифицирующую функцию зеркала указывал Жак Лакан [25] . В процессе самоидентификации субъекта он выделяет “стадию зеркала”, которая начинается у ребенка, примерно, с шестимесячного возраста, когда младенец еще “погружен в моторное бессилие и зависимость от питания”, когда он еще не овладел ходьбой, не способен без поддержки зафиксироваться в вертикальном положении. Однако, уже в это время проявляется “символическая матрица, в которой Я оседает в первоначальной форме”, формируется образ собственного Я: только когда ребенок видит свое отражение в зеркале, он начинает мыслить себя в качестве отдельного существа, воспринимает себя в отделенности от других вещей. “…Субъективность обретает свое существование только в момент, когда начинает воспринимать образ своего тела в пределах рефлексивной поверхности – то есть через визуальный статус. По мнению Лакана, именно визуальный образ формирует основу ego и репрезентативные стратегии субъективности”. Но вместе с радостью самоидентификации развертываться настоящая “зеркальная драма”: “в визуальный образ ego при этом … входит не только собственная внешняя репрезентация субъекта, но и образы других”. “Идентифицируясь со своим зеркальным образом, ребенок … вводит его в свое собственное субъективное ego, однако его отношение к этому образу является отчужденным, т.к. зеркальный образ одновременно является и не является образом самого себя: ведь в него входят фантазматические субъективные представления и конструкции. Другими словами, ребенок идентифицируется с образом самого себя, который одновременно является образом Другого; образ – это всегда образ Другого…. Поэтому субъективная идентификация на уровне “стадии зеркала” может быть только частичной, желаемой, предполагаемой, то есть она никогда не может быть полностью репрезентирована на уровне возникшего зеркального образа”. “В результате основным парадоксом феномена идентификации через визуальный образ … оказывается то, что субъект идентифицируется с тем, что она/он не есть” [26] .
“Зеркальное отображение, – пишет В. Подорога, – убеждает нас, что мы телесно присутствуем в мире, что наше тело может существовать наряду с другими телами, не только в качестве внутреннего образа (чувство Я),... но и в качестве внешнего. Мое Я находится в зеркале, некотором не-месте, именно это не-место дарует мне знание о том, что Я есть, существую. Всегда опережающий нас феномен зеркальности – ведь мы не способны познавать себя без зеркального двойника” [27] . Так, невидимая локализация внутреннего Я в голове (“место”) уступает место видимой внешней не-локальности (“не-месту”) моего зеркального отражения, но вместе с тем, моя зеркальная идентичность качественно отличается от телесной, осязательной идентичности. В случае зеркальной идентификации Я осязание других предметов подменяется видением меня среди предметов. Почему я вообще знаю, что передо мной отражение меня? Почему я могу отличать свое отражение от отражения других предметов, которые мной не являются? Что мне может гарантировать уверенность в том, что я вижу свое отражение? Нет ли в таком уверенном самоидентифицирующем знании проявления онтологического удваивания, когда зеркальное отражение вырывает нас в другой пласт Бытия, в котором мы тождественны самим себе, но ощущаем свое отсутствие и возможность не быть? Такая априорная уверенность в том, что мое ощущаемое тело и его зеркальное отражение соответствуют друг другу, есть присутствие во мне онтологически укоренной зеркальности как принципа раздвоения, что в конечном счете, говорит о многоплановости Бытия, в котором пребывает не только то-же-самое, но и другое. Навстречу такому другому и отсылает меня мой двойник, возможность существования которого проявляет идентификация Я через зеркальный образ.
Мы не можем рассмотреть, распознать Другого, поглощенные созерцанием зеркального образа самого себя, т.е. своего другого. Вглядываясь в отражение себя, мы, как пишет Г. Башляр, готовимся к соблазну другого или к агрессии против него: отраженное лицо – это инструмент соблазна, а зеркало – “поле для поле для "командно-штабных учений" агрессивной любви”. “Зеркала – слишком явные орудия для взывания "механических" грез, и поэтому сами приспособиться к онирической жизни они не могут” [28]
Обратный образ зеркала, зеркала, преодолевающего натурализирующую инструментальность, появляется у Ж. Бодрийяра. Здесь уже само зеркало становится активно наблюдающим и соблазняющим: “Нельзя доверять смиренной покорности зеркал. Скромные слуги видимостей, они только и могут, что отражать предметы, оказавшиеся против них, не в силах скрыться или отстраниться, за что им все и признательны (только когда смерть в доме, их нужно прикрывать). Это просто-таки верные псы видимости. Однако верность их лукавая, они только того и ждут, чтобы вы попались в западню отражения” [29] . Зеркало оказывается взаимообратимым: мы его используем как инструмент соблазна, но и оно нас способно соблазнить.
Такая седуктивная взаимообратимость зеркала следует из феноменологической связи “видящего” и “видимого”, раскрытой М. Мерло-Понти. “Как и все другие технические предметы и приспособления, как инструменты, знаки, зеркало появилось в открытом кругообращении видящих тел в тела видимые. Оно прорисовывает и расширяет метафизическую структуру нашей плоти. Зеркало может появится, потому что я суть видящее-видимое, потому что существует своего рода рефлексированность чувственного и зеркало ее выражает и воспроизводит. Благодаря ему мое внешнее дополняется, все самое потаенное, что у меня было, оказывается в этом облике, этом плоском закрытом в своих пределах сущем, которое уже предугадывалось в моем отражении в воде... Призрак зеркала выволакивает наружу мою плоть, и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые представления – в вещи, меня – в другого, и другого в меня” [30] , – пишет Мерло-Понти.
Зеркало становится техническим инструментом нашей самоидентификации и последующей онтологизации, средством проверки нашей бытийственной укорененности в другом. Увидеть невидимое, сделать видящее видимым становится нашей страстью. Оптика с ее техническими приложениями (техника линз и зеркал, микроскопы телескопы, фотография, телевидение, и т.д.) – одна из самых развитых научных и технических областей. Интерес к оптике формируется еще в античности и не ослабевает на протяжении всей истории [31] . И это неслучайно, поскольку техника создания и передачи изображений соответствует нашей визуально-онтологической недостаточности и, следовательно, потребности удостоверить и укрепить свое бытие и Бытие как таковое через визуализацию невидимого, а также наполнить мир проекциями самих себя.
Сопрягая анатомию зрения с онтологией видения, можно сказать, что голова есть “прокол” в Самобытии, и тем самым оно открыто Бытию сверху. Голова – это то, что связывает наши Внутри с Вовне по вертикальной “онтологической оси”. Также онтологизируются и другие функции, соотнесенные с головой: дыхание, питание, слух. Онтологическая функция зеркал – в подмене “вертикальной” открытости Бытию “горизонтальным” проецированием невидимого, в открытии собственного Я как образа посредством символической структуры другого.
5
Функция невидимого органа связывается с “функцией” Бытия. Если “функция” Бытия – мыслить, то “мыслю, следовательно, существую”. Если – смотреть, то “вижу, следовательно, существую” и т.д., что в данном контексте не имеет значения, поскольку “мыслить” и “видеть” – “функции” невидимой головы. Я закрываю глаза, и меня нет. Так “прячутся” дети, зажмурив глаза, изъяв свой взгляд из мира, сделавшись тем самым “недоступными” миру.
Не только Верхнее-Невидимое дает повод говорить о Бытии. П.А. Флоренский отмечает зеркальную конституцию человека: “Что же можно сказать о строении нашего тела? Прежде всего замечается симметрия верхней и нижней части тела – так называемая гомотипия ... низ человека – как бы зеркальное отражение верха его. Органы, кости, мускульная, кровеносная и нервная система... оказываются полярно сопряженными... А это... означает, что онтологическим средоточием тела служит... центр гомотипии, то есть срединная часть человека” [32] . Не увлекаясь такой “геометрической онтологией” и принимая все же голову за “онтологическое сосредоточие тела”, скажем, что симметрия верхней и нижней частей тела означает следующее: если мы находим в верхней части тела “онтологический центр” – голову, то на роль его зеркального отражения, претендуют половые органы. Мы не можем сказать, что здесь отражаемое, а что отражающее. Голова и гениталии меняются местами, проецируя друг на друга собственную невидимость. В такой проекции мы имеем второй “онтологический центр”, сопряженный с первым, и их взамоотражения, порождающие глубину перспективы сознания, его ясность или замутненность.
Как указывают психоаналитики и сексологи, влечение к собственному телу, нарциссизм и аутоэротизм, предшествует оформлению недифференцированного Я. Можно даже предположить, что именно обращение к собственному телу непосредственно участвует в формировании Я. Сознание и самосознание приковано к телу, и в этом обращении формирует себя, чтобы, имея “под собой твердую почву”, оттолкнуться от нее и обрести автономность собственного существования. Этому процессу соответствует стадия половой дифференцировки индивида, выделенная Д. Мани, когда формируется генитальная внешность человека [33] . Формирование личности связано с осознанием половой принадлежности, а процесс половой идентификации предполагает самосознание человека: “половая идентичность не имеет аналога в животном мире”, – отмечает И. Кон [34] . Половая идентичность – важный компонент антропологизации и формирования сознания как особой антропной характеристики. Исследователи отмечают, что в процессе половой дифференцировки в мозге формируется соответствующий “половой центр”, то есть происходит половая дифференцировка мозга [35] . Можно предположить, что генитальная внешность запечатлевается в самих структурах головного мозга и образует неразрывное единство с образом лица в индивидуальном восприятии человеком самого себя.
В процессе половой дифференцировки важную роль играет зрительная функция: удаление глаз млекопитающих намного замедляет их половое созревание [36] . Можно предположить, что для человека это справедливо еще в большей степени. Генитальный образ тела – прежде всего визуальный образ, столь важный в половой идентификации, которая, в свою очередь, связана с самосознанием индивида. Но визуализация генитального образа связана с оптическими трудностями непосредственного наблюдения половых органов. Это касается, в основном, формирования генитального образа женщины.
Таким образом, есть еще и Нижнее-Невидимое, связанное с сексуальностью и функцией размножения. Человек – половое существо. То, что находится Внизу – пол человека, отражается Наверху и дает индивидуализирующее сознание половой принадлежности. Верх и Низ связаны в человеке. Тот, кто хочет говорить на языке разума, не должен тешить себя иллюзией того, что этот язык изолирован от половой принадлежности говорящего, что в разуме не проявлена плоть.
Человек – не только половое, но прямостоящее и прямоходящее существо. Особенности анатомического устройства прямоходящего существа не только конституируют онтологическую ось “Верх-Низ”, но также выводят человека на иной уровень как межполового общения, так и межличностного общения вообще. Прямохождение, во-первых, высвобождает передние конечности животного, которые превращаются в человеческие ласкающие руки, но немаловажным, и даже весьма значительным, оказывается тот факт, что половые органы прямоходящего человека теперь оказываются не сзади, а снизу и спереди. Они, следуя за лицом, обращаются к другому. Теперь уже лицо и половые органы находятся в единой визуальной плоскости и становятся доступны другому спереди, что позволяет перейти от обезличенности животного полового акта, когда самец оказывается сзади и видит спину самки, к буквально личному общению, когда партнеры, вступая в половые отношения, соприкасаясь телесно, могут видеть лица друг друга. Такая позиция детерминирует возникновение женской сексуальности как феномена, свойственного только самкам Homo sapiens. Вполне вероятно, что самка животного именно из-за невидимости партнера “оценивает” половой акт как угрозу, что, возможно, сопровождается чувством страха. Еще К.. Лоренц отмечал, что самки животных обычно испытывают чувство страха при совокуплении, в то время как для самца ведущим чувством в репродуктивном поведении является агрессия. Такое распределение в системе “агрессия-страх” для самцов и самок соответственно является нормальным и вполне способствует продолжению рода. Однако, обратная ситуация, когда бы самец испытывал чувство страха, а самка стала агрессивной, согласно Лоренцу, делает невозможным результативное половое взаимодействие животных [37] . Тот факт, что женщина нередко испытывает страх перед половой жизнью, особенно перед ее началом, возможно есть отголосок “древней” сексуальной диспозиции, зафиксированной архетипически в глубинных пластах коллективного бессознательного. “Человеческая” сексуальная позиция дает возможность самке Homo sapiens если не проявлять агрессию, так, по крайней мере, дает большие возможности для проявления двигательной активности. Кроме получения возможности видеть лицо партнера, проявлять активность в отношении к нему, а также кроме устранения “визуальной” причины животного страха, физиологически женщина (как прямоходящее существо) получает дополнительную сексуальную стимуляцию за счет клитора. Этот второстепенный “рудимент” животного царства, “заготовка” для формирования мужского органа преобразуется в важный орган полового чувства: его стимуляция становится важным условием достижения женщиной оргазма – чувства, недоступного самкам животных.
Формирование единой визуальной плоскости “лицо – половые органы” становятся условием возникновения не просто человеческой сексуальности, но человеческой эстетики, способствует эротической символизации сексуальных отношений в культуре. В результате выпрямления тела эрегированный фаллос устремляется вверх, становясь символом угрозы. Признавая чужую силу, первобытный мужчина пожимает член другого мужчины в знак особого к нему расположения, что преобразуется в цивилизованный обычай пожатия руки при встрече. Выпрямление тела женщины образует сходящиеся складки внизу живота, формирует лобок. Само это название неслучайно. Оно не просто фиксирует округлую выпуклость выставленного вперед телесного пространства, оно есть выражение антропологического взаимопроецировании Верха и Низа. Женский лобок, не являясь функционирующим органом, несет на себе большую эротическую смысловую нагрузку: его выпуклая пустота, отмеченная (как голова) волосяным покровом, с едва только намечающейся или угадываемой половой щелью, желает быть дополнена чем-то более значительным, возбуждает воображение и становится обещанием восполнения отсутствия чего-то более зримого.
6
Сексуальные функции легко символизируются в культуре. Одними из первых они запечатлены в мифологии и религиозных культах, что дает повод Ю. Эволе говорить о “метафизике пола”, как будто через фиксацию символического характера сексуальности в культуре мы неизбежно должны прийти к метафизике. В этой “точке” рефлексии то метафизически предполагаемое невидимое, которое визуализировалось в зеркале культуры, распадается на мужское и женское начала.
Первый естественный отражающий посредник – гладкая водная поверхность. Вода в традиционном символизме олицетворяет женское начало. “"Вода" – первобытная недифференцируемая субстанция, предшествующая всякой жизни, точнее всякой форме…”, – пишет Ю. Эвола. “Воды аналогичны женскому началу вообще и прежде всего Великой Богине Матери” [38] . “Вода, олицетворяющая неоформленную жизнь, предшествующую форме, то, что течет, все переменчивое, есть, в тоже время, начало всякого плодородия и роста, принцип рождения в мире”. “Вода символизирует горизонтальное, … лежащее, противоположное всякому вертикальному…, восстающему, прямому, правому, мужскому началу, изображаемому древними … символикой фаллической” [39] .
Происхождение символизма Воды, отождествляемого с проявлением женского начала, связано с сексуальной "функцией" водного отражения. Сексуальная "функция" водного отражения – “воскресить в подсознании женскую наготу”. “До чего же прозрачная вода: С какой верностью она отразит прекраснейший из образов!”, – должен восклицать, по мнению Г. Башляра, человек, прогуливающийся около водоема. “Вода навевает воспоминания о естественной наготе, которая, возможно, хранит невинность”. “В некоторых грезах все, что ни отражается в воде, отмечено печатью женственности” [40] .
Мифологическая традиция дает неоднозначное толкование Воды. Можно подумать, что Вода символизирует и мужское начало. Посейдон – бог воды. В первом, посейдоническом проявлении мужского начала мы встречаемся с символизмом Воды. Но мужское не из Воды, но над Водой. Во втором проявлении мужского начала мы находим символизм огня: Гефест-Вулкан – бог подземного огня [41] . Вода становится символом женственности, над которым парит мужской огненный дух.
Другим символом женственности с древнейших времен является Луна, а мужественности – Солнце. “Луна – светило изменчивое; поэтому она отождествляется с текучестью и движением, как Вода … Светило ночи, царица ночи – в моралистической трактовке "звезда измены" – все это очень женское и естественно отождествляется с божественным женским архетипом…” [42] . Луна, как и вода, является отражающим, естественным зеркалом. Луна – символ женственности является небесным телом, отражающим солнечные лучи, то есть является зеркалом Солнца [43] .
Понятно, что женское в культуре фиксируется в символике отражающего. Вода и Луна – не только нечто изменчивое, но и отражающее. Женское предстает в образах, обманчивых и иллюзорных. Образ – это и то-же-самое и другое по отношению к вглядывающемуся в него. Другое, появившееся в зеркальных отражениях, первоначально рассматривается как мое, но затем обретает собственное существование в символической реальности. Так, пройдя “стадию зеркала”, культура породила Женщину как другое по отношению к мужскому взгляду. Вода как стихия, субстанция первична всякому оформлению. Поэтому в субстанциальном смысле женское понимается как нечто стихийно первичное, но, как сформированный на поверхности этой субстанции образ, Женщина возникает посредством бытия, вызывающего эти образы, то есть Мужчины. И теперь уже сам образ требует зеркальности вглядывающегося.
7
Анатомические различия по критерию “наблюдаемости – ненаблюдаемости” половых органов мужчин и женщин накладывают не только психологический отпечаток, но и по-своему выражают онтологическое соответствие разнополых существ. Мужчина и женщина по-разному вписаны в Бытие. Анатомическая дифференциация полов – это внедрение в нашу анатомию онтологического распада мира на мужское и женское начала. Это – сама разнополярность Бытия, анатомически запечатленная в нас. С другой стороны, наша половая телесность поддерживает Бытие, ускользающее в символическое воспроизводство.
Действительно, для многих людей половой акт дает основание для уверенности в собственном бытии: “Я совокупляюсь, следовательно, существую”. Потребность в сексе часто не физиологична, и даже не психологична. Она онтологична и связана с базальной тревогой существования обособленного Я.
Особое значение имеет сокрытость половых органов от непосредственного наблюдения их обладателем. Причем, невидимы половые органы женщины для нее самой: о невидимости “снизу” можно говорить только о женских гениталиях: женские половые органы недоступны для непосредственного наблюдения самой женщиной. В этом факте скрывается ключ к пониманию “вечной загадки женщины”. К. Хорни отмечает: вследствие того, что гениталии женщины сокрыты от непосредственного наблюдения, женщина представляет великую и вечную загадку для самой себя. Мужчина же, в связи с доступностью собственному взору своих половых органов представляет предмет “вечно живой зависти для женщин”. С точки зрения психоанализа, благодаря анатомии половых органов, женщина не может в полной мере удовлетворить изначальный скоптофилический инстинкт и стремление к уретральному эротизму, одинаково присущие обоим полам на определенных стадиях развития. Ограничиваются возможности для удовлетворения влечения к собственному телу – аутоэротизма, нарциссизма и мастурбации. Хорни отмечает, что девочки и женщины не могут осмотреть свои гениталии, чтобы проверить, “имеют ли место ужасные последствия онанизма”. “Девочки … в буквальном смысле "пребывают во мраке" по этому поводу и остаются в полном неведении в порядке ли их гениталии” [44] . Женщина в своем бытии удаляется в тайну. В этом удалении, “уклонении от света” заключен способ бытия женского. “Способ существования женского – скрывать себя”, – отмечает Левинас [45] . В своей сокрытости женщина предстает как по-настоящему другое не только по отношению к мужчине, но и по отношению к самой себе. Можно даже сказать, что через существование женщины прорывается в мир тайна, бытие невидимого.
Анатомическая обусловленность невозможности непосредственного созерцания собственного лица (как инструмента сексуального соблазна), осмотра своих половых органов (для реализации скоптофилического инстинкта, уретрального эротизма, нарциссизма и онанизма) толкает женщину на поиски внешних отражающих посредников – зеркал. В литературе по сексологии приводятся примеры, когда при мастурбации девочки и женщины используют зеркала [46] . Аутоэротизм иногда считают “первопричиной” онанизма, реализуемого перед зеркалом [47] . Совершая половые сношения перед зеркалом некоторые женщины получают значительно более сильный оргазм, нежели при обычном коитусе [48] . Зеркала в сексуальной жизни используют также мужчины [49] и мужчины-гомосексуалисты для наблюдения своей анальной области [50] . Типичными также можно считать случаи взаимного разглядывания девочками гениталий друг друга [51] . В последнем примере роль “зеркала” играет уже другой индивид. Поэтому “зеркало”, исполняющие сексуальные функции, следует понимать не только как “физическое зеркало”, но в более широком психологическом смысле, как то, что обостряет сексуальные переживания, и в онтологическом смысле, как то, что удостоверяет существование и состояние половых органов как части собственного Я, дает онтологическую уверенность. В этих смыслах таким зеркалом может служить голова (мозг и сопрягаемое с ним сознание), в которой формируется образ собственных гениталий. Центр женской сексуальности, таким образом, перемещается именно в голову. Оргазм женского типа формируется не только как проявление физиологии половых органов, но, еще в большей степени, как психическое и даже интеллектуальное явление [52] .
Возможно, женщина в большей степени, чем мужчина, ощущает недостаток собственного бытия. Если мужчина получает физическое удовлетворение от полового акта почти всегда, то для женщины акт сам по себе не приводит к удовлетворению. Механизмы женского оргазма намного тоньше, психологичней. Но даже если женщина не получала ни физического, ни психологического удовлетворения от полового акта, она все равно идет на это снова и снова, хотя бы только для того, чтобы удостовериться в собственном бытии посредством воплощения знаково-символических структур сексуальности, путем отождествления себя с образами (гендерными идеалами), навязываемыми культурой в ее функции “экрана” (понятие Ж. Лакана).
Онтологически это выглядит так, что проявленное в женщине Бытие уходит через ее Нижнее-Невидимое и таким же путем к ней должно возвратиться. Невозможность зрительного доступа к половым органам приковывает внимание Верхнего женщины к Нижней стороне Бытия, и Нижняя сторона Бытия делает женщину своим проводником и представителем. Нижнее женщины становится ее вторым зеркалом. Для женщины Бытие открывается Снизу. Но, принимая во внимание, что женщина имеет в себе два зеркала, возвращенное Бытие теряется в бесконечности зеркальных отражений.
8
Одним из проявлений человеческой зеркальности является “мужское и женское начало – пол как основа индивидуальности человека”. “Индивидуальность предполагает встречу “Я” с “не-Я” – Другим, своей противоположностью – по полу, характеру, интеллекту и прочим характеристикам” [53] .
В этой связи вспоминается “закон полового притяжения” Отто Вейнингера, основывающийся на его же открытии человеческой бисексуальности: сумма “М” и “Ж” одинакова у взаимодополняющих друг друга лиц противоположного пола [54] . Согласно этому “закону”, мужественный мужчина стремится к женственной женщине, а женственный мужчина стремится к мужественной женщине: “в тех же случаях, когда, при наличности большей доли “М”, имеется известная часть “Ж”, дополняющее существо должно принести недостающую долю “М”, одновременно дополнив собой и недостающую часть “Ж” [у другого существа]” [55] . Таким образом, сущностная зеркальность человека не обладает полнотой индивидуальной зеркальности: в нашем внутреннем зеркале мы не находим полного отображения себя, а следовательно, своей полной онтологической реализации. Я переходит за рамки собственного тела и требует тела Другого и соответственно его бытия в качестве зеркала в широком онтологическом понимании последнего.
Вейнингер отмечает, что морфологическое отделение мужских половых органов от всех других частей тела, их пространственная локализация, связаны с тем, что мужчине свойственно четкое разграничение половой и неполовой сферы: “Мужчина – сексуален и обладает еще многим сверх этого”. Он не испытывает постоянной во времени довлеющей над ним сексуальности: “мужчину захватывает еще много других вещей…”. “Половое влечение женщины не может выделиться временным ограничением, или внешне локализованными признаками, доступными глазу. Поэтому мужчина сознает свою сексуальность, а женщина не может дойти до осознания ее и, благодаря этому не в состоянии отречься от нее. Женщина всегда непременно сексуальна”, она – “сама сексуальность”, ей недостает “двойственности” для наблюдения своей собственной сексуальности [56] .
Я бы сказал, что “двойственность”, понятая как “зеркальная двойственность”, когда зеркальная сущность распадается на Верхнее и Нижнее зеркала, мешает женщине осознать свою сексуальность и саму себя вне сексуальности. Для отражения Бытия, тонущего во взаимных отражениях двух зеркал, необходимо третье зеркало, расположенное под соответствующим углом к первым двум.
Отражать женскую потаенную сущность призвано аполлонически-светоносное Мужское: мужчина есть зеркало для женщины. Можно подумать, что, наоборот, женщина – зеркало мужчины. Но женщина для мужчины более замутненное зеркало, в то время как мужчина для женщины может дать отражение, которое дополняет оригинал и становится “лучше” оригинала. Возможно, что “оригинала” женщины не присутствует в раскрытом Бытии, и тогда может оказаться, что она изначально присутствует в открытости как “образ”, она есть онтологизируемая “конструкция” мужского сознания и (или) интеллектуального и чувственного усилия самой женщины, помещенной в образно-символический мир маскулинной культуры. “Абсолютный тип женщины живет бессознательно, она “получает свое сознание от мужчины”, – пишет Вейнингер. Женщина всегда ожидает от мужчины “прояснения своих темных представлений”. “Половая функция типичного мужчины по отношению к типичной женщине – это превращать бессознательное в сознательное” [57] . Мужской образ женщины в своем возвратном движении прописывается в Бытии. В этом смысле можно говорить, что онтологически женщина зависит от Мужского. “Оптическое место” Мужского может занимать не только конкретный мужчина, но и “М” в самой женщине, а также обобществление Мужского в культуре.
Если сущность женщины связывается с анатомией ее половых органов, которые недоступны для непосредственного наблюдения, то женщина без посредника в лице зеркала-мужчины остается непознанной и онтологически нераскрытой. Ей нужна зеркальность мужского сознания. Женщина чаще является познаваемым и наблюдаемым, мужчина – познающим и наблюдающим, поскольку морфологическая вынесенность половых органов лишает его загадочности по отношению к самому себе. Мужчина не тонет, не растворяется, не теряет своей сути в бесконечности зеркальных отражений Верхнего и Нижнего зеркал, как женщина. Имея только одно Верхнее зеркало, в силу своей более ясной “зеркальной сущности” мужчина способен непосредственно отражать образы Мира и Бога.
Мужское отражение женской двузеркальности таит в себе опасность. Мужчина-зеркало может попытаться отразить оба зеркала сразу или сами зеркала повернутся к нему, нарушив свою двойную перспективу, включив в него и третье зеркало. Тогда мужчина-зеркало заблудится в зеркальных отражениях, сам став частью этой круговой системы бесконечных отражений. Он войдет в призрачный мир зеркальных отражений и будет думать, что для него открылся целый мир, хотя настоящий, неотраженный мир будет для него потерян, возможно навсегда. Но откуда мы можем знать, что этот “настоящий мир”, который мы беспристрастно исследуем, изгоняя из него и из себя Любовь к Единственному, не есть зеркальное отражение чьего-то невидимого в чьих-то любящих глазах?
9
“Оптическая метафора” теории познания имеет непосредственный выход к “метафизике пола”. Зеркальность анатомии человека, зеркальность взаимоотношений полов в культуре как проявления метафизической зеркальности мужского и женского начал может соблазнить нас к построению “теории эроса”. Но при попытке построить такую теорию на “оптической” или “зеркальной метафоре” нас все больше и больше терзают сомнения. Мы замечаем некоторую наивность зеркальных представлений не только Декарта. Преодолены представления раннего психоанализа, вызывают критическое отношение воззрения Вейнингера, перемещающего мужское и женское в единую смысловую плоскость, переводящего инаковость в дискурс простой различимости.
С применением зеркальной метафоры возникают много неразрешимых вопросов по поводу тождества, различимости и инаковости отражаемого и отражения, их сущностей: Насколько точно или инаково наше зеркальное отражение в отношении к нашей сущности? Инаковость отражения – это то же самое отражаемое, только наоборот? Инверсия ли? Другой вопрос: не видим ли мы вообще только отражения; не живем ли мы в мире отражений и отражений отражений; существует ли еще что-нибудь, кроме отражений; существует ли отражаемое в субстанциальном смысле; если имеет, то какова его субстанция?
Поскольку “зеркальная метафора” порождает столько неразрешимых вопросов, то, как представляется, прогресс в области “теории эроса”, как и в теории познания, связан с отходом от зеркальных представлений. Вскрывая некоторые первичные связи в отношениях полов, в объяснении того, как есть, “оптическая метафора” вредит, когда мы пытаемся показать, как должно быть. Если мы претендуем не только на знание-как и знание-как-есть, но и на знание-почему и знание-как-должно-быть, то метафора отражения не может претендовать на полноту описания познания. И особенно там, где двоичность субъект-объектных отношений нарушается внедрением в структуру другого конкретного любящего и любимого Ты.
Если Любовь должна быть, но не всегда реализуема в этом мире, то применением зеркальной метафоры не может исчерпываться понимание того, что есть Любовь. Любимый, который всегда есть Другой, не может быть простым зеркальным отражением меня, моим двойником или моим дополнением по любому моему же признаку (полу, характеру, интеллекту и т.п.). Существуют такие положения меня относительно зеркального другого, в которых проявляется эффект множественности отражений. В таком положении в Одной я вижу Множество. Одна в этом случае не становится Единственной. Конкретная женщина выглядит для меня как множество женщин, выступает как обезличенная женственность, символически зафиксированная в культуре. Я могу при этом сохранять формальную верность Одной, но в ее лице вступать в связь с многими в их зеркальной мнимости.
Я не могу денатативно указать на любимого человека и сказать: “это – человек, я его люблю” или: “это – человек, он может стать объектом моей любви, т.к. по своим телесным параметрам он есть дополнение моей половой неполноты” или “этот человек похож на идеальный образ, который я созерцал в фантазии, по телевизору и т.д.”. В лучшем случае в таком указании, жесте, из многих объектов я выделяю более предпочтительный объект для приложения своей сексуальности. Здесь между моим желанием и объектом не возникает Другого. Я могу указать на лицо противоположного пола и сказать: “этот человек мог бы стать отражением моей сексуальности и ее половым дополнением”, однако, абсурдно говорить так, указывая на действительно любимого мной человека.
Если для первичной реализации желания в объекте достаточно приобретения зеркальной иллюзии полноты восприятия собственного пола, восполнения своего эгоистического Я его половым образом и отражением, то истинная Любовь проистекает в направлении от разряжения иллюзорной полноты образа Я, через установление функции структуры другого, к актуализации Ты как предела всех невидимых возможностей Мира. Полнота моего Я, которая не находит себя в Себе Самом, есть полнота уверенного стремления к Ты, а не полнота обладания Собой с дополнительным обладанием другим, вычисленным по характеристикам моего дополнения. Любовь в такой ее интенциональности не терпит сомнений и возможна только благодаря вере, которая абсолютизируется через двойное apriori: apriori функции другого, и apriori ее предельного воплощения. Понятно теперь, что любовь от неуверенности – это проявление “невротической потребности в любви” (по терминологии К. Хорни) со стороны такого Я, которое за-ставленно его культурно-символическим заполнением, но не Любовь в ее абсолютном смысле.
Зеркало действительно помогает человеку идентифицировать свое Я, прийти к осознанию половой принадлежности, обрести “полноту” себя в своем поле и возвратиться к себе, но помогает не более, чем нам помогают в чем-то другие технические средства для обеспечения нашей жизни. Зеркало есть средство для достижения цели, цели обретения Я Вовне. Но когда мы не в силах пожелать чего-то большего, мы тонем в средствах и средствах этих средств, как в зеркальных отражениях. Когда мы порождаем технические средства, не предполагая цели вне средств, мы замыкаем Мир на мир образов, на культуру. Мир становится подобным Нарциссу. Но зеркало имеет другую, нетехническую функцию. От обретения своего Я посредством зеркального образа, человек подходит к пониманию мнимости такого обретения. При этом полнота себя оборачивается его недостаточностью. Теперь уже Я не желает тонуть в образах, предлагаемых ему посредником: от намека на существование Другого, Я желает перейти к непосредственному его распознанию.
Непосредственное отношение исключает любого посредника. Посредники разрывают связь непосредственного отношения и порождают иллюзии отношений. Открывая мир иллюзий, мы не можем перейти за пределы иллюзий, не познав свою незеркальную сущность, которая не может просто так отразиться и быть воспринята как видимость. Не все может отразиться, что-то должно поглощаться. Достоверность отражений есть видимость, иллюзия достоверности, подмена Я Самим Собой и моего Другого другими в их образно-символическом представлении.
Отражаться могут только вещи. Легко сказать: существуют вещи и Я как вещь среди вещей, как многоликое отражение, заселяющее мир многоликими другими. Легко не дать жизни Ты. Пусть существуют и другие “я” как “они”, и каждое “я” обособлено в своем существовании, ограничено в пространстве и во времени. Для моего Я все “они” неотличимы от других вещей и в этом становятся объектами, на которые можно указать, которые можно отразить, исследовать, познавать, использовать. Но связь “Я-Оно” не единственная в этом мире. Существует соотнесенность “Я-Ты”, на которую указывал М. Бубер. В этом соотнесении привычная зеркально отражаемая связь “субъект-объект” не может претендовать на полноту выражения Бытия. “Нет Я самого по себе, – пишет М. Бубер, – есть только Я основного слова Я-Ты и я основного слова Я-Оно”. “Жизнь человеческого существа … не сводится лишь к такой деятельности, которая имеет нечто своим объектом”. Существует “Царство Оно” – мир объектов, вещей над которыми можно совершать действия, изучать, познавать, которыми можно обладать. “Человек движется по поверхности вещей и испытывает их. Он извлекает из них знание об их наличном состоянии, некий опыт… Но не один только опыт позволяет человеку узнать мир. Ибо приобретая опыт, человек узнает лишь мир, состоящий из Оно… Приобретая опыт, я узнаю Нечто”. Но существует “Царство Ты”, которое “имеет другое основание”. “Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто как объектом. Ибо там, где есть Нечто, есть и другое Нечто; каждое Оно граничит с другим Оно; Оно существует лишь в силу того, что граничит с другим. Но когда говорится Ты, нет никакого Нечто. Ты безгранично”. (Буквально, “Ты не граничит” [58]). “…Человек, которому я говорю Ты, не встречается мне в каком-либо Где и Когда”. “Если я пред-стою человеку как своему Ты…, он не вещь среди вещей и не состоит из вещей. Этот человек не Он или Она, он не ограничен другими Он и Она; он не есть некая точка в пространственно-временной сети мира, он не есть нечто наличное, познаваемое на опыте и поддающееся описанию… Но он есть Ты, не имеющий соседства и связующих звеньев, и он заполняет все поднебесное пространство. Это не означает, что кроме него, ничего другого не существует: но все остальное живет в его свете” [59] .
Ты “не граничит”, хотя в делёзовской “функции другого” и обеспечивает “кромки” и “переходы”. Не граничит Само, а значит – не подлежит отражению. То, по-настоящему невидимое другое, которое не выявляет в нас зеркало, становится Ты. Зеркальное отражение меня всего лишь Оно, которое накладывается на реальное, порождая Объект, расширяющий возможности моего видения. Мир, населенный видящими объектами, обретает для меня оптическую глубину и временную перспективу. Но по-настоящему невидимое другое, проявляя для меня “кромки” и “переходы” объектов, испытывает обратное движение в сторону своего сокрытия. Его не удовлетворяет видность в присутствии моего взгляда, уходящая в видимость при его отсутствии. Он не согласен на роль еще одной точки зрения наряду с множеством других точек зрения, отличной от моей. Эта неудовлетворенная видимость есть Ты, и Ты невидимо и достоверно в своей невидимости. Почему мои глаза могут смотреть на Тебя бесконечно? Почему меня постигает разочарование, когда я не могу на Тебя насмотреться? Даже если мои руки будут касаться Тебя, я не смогу ограничить Тебя твоим телом. Указание “это – Ты”, пользуясь словами Лакана, есть “экстатический предел”, где для Я “раскрывается шифр его смертной судьбы”, где начинается “истинное путешествие” [60] .
Нас не всегда удовлетворяет зрение. Даже соединенное со зрением других, оно не даст нам подлинных онтологических перспектив. Нам нужно большее, нежели простая уверенность в том, что другой охраняет меня со спины. Мы начинаем сомневаться в достоверности полученных при помощи зрения сведений. Оче-видное становится не-достоверным. Мы можем уже не смотреться в зеркала. Мы уже получили свое Я как Оно со всеми его другими. Теперь “зеркало, мерцающее в сумерках, таит в себе угрозу, оно разрушает, двоит. Двойник, лишенный собственного взгляда, становится нашим Я” [61] . Я-Оно может входить в отношение с другим как с Оно. Мы не то, что не доверяем зеркалам, они нас больше не удовлетворяют. Отныне нам тяжело носить в себе всегда наблюдающее Оно, с требованием постоянного в-него-всматривания. Мое зеркальное отражение вонзается в меня. Я получаю Себя обратно в искаженном культурно-закодированном символическом виде, но хочу отдать себя Другому в подлинности своего непросматриваемого Я, Другому по преимуществу, размыкающему структуру другого, цепь видений меня другими. Другому, которому я говорю: “Это – Ты!”.
Зеркало ничего не получает от меня. Я получает от зеркала только видимость Себя как другого и других как возможностей, возможных зрителей меня. Отражаясь, Я опять становится Я-Оно. Зеркала не удовлетворяют невидимое Ты. Я всегда могу подойти к зеркалу, и оно всегда отразит меня как другого и как меня одновременно. Оно ничего ни убавит от меня и не прибавит ко мне, кроме моего Я-Оно. Зеркало не даст большего, чем отражение во множестве возможных образов. Отражение живет во мне и не дает мне узнать Себя.
Зеркальное отражение Я – оборачивается мнимым обретением Себя. Из онтологически активного инструмента, зеркало становится онтологически пассивным, сохраняя свою активность только в качестве инструмента для культурного поглощения истинной субъективности. Теперь оно ничего не порождает в действительном Бытия – оно генерирует символическое Культуры. Зеркало – только технический посредник моего воздействия на Себя. Оно имеет силу воздействия на меня, но только в качестве проводника, замыкающего мою суть на культуру, и через нее обратно, на Самого Себя. Причем это мое, становится не моим, когда зеркало превращается в экран, на котором, по словам Лакана, развертывается “визуальная драма субъективности”, основанная “на разрыве между тем, чем субъект является, и тем, как он визуально репрезентирован” [62] . Теперь уже визуальная репрезентация занимает место Я, определяет субъекта в его кажущейся саморефлексии.
Мир зеркал – безмолвный мир. Он наполняется шумом, когда зеркало становится экраном. Экраны кричат. Но мы можем не только видеть кричащие вещи в их бесконечных самовоспроизводящихся отражениях. Мы должны вспомнить, что можем говорить. Я могу просто сказать: “Это – Ты”. Ты не жестикулирует, не указывает пальцем. “…Я становлюсь Я, соотнося себя с Ты; становясь Я, я говорю Ты” [63] .
Если мы хотим познавать мир как совокупность вещей, тогда наше познание основывается на зеркальной метафоре. Такое познание отражает или удваивает мир без гарантии соответствия отражаемого отражаемому. В этом случае либо гипотеза объективности мира запечатлевает себя в познании, либо познающий проецирует (объективируя) гипотезу себя вовне. Но если я люблю Тебя, люблю не как вещь, объект, то мое любящее Я ничего не отражает: оно принимает и дарует. Мои ласкающие руки не просто сейчас дотрагиваются до твоей кожи, они вычерчивают Тебя в пространстве настоящего и одновременно снимают эту пространственно-временную наполненность, переводят ее в иное, внепространственное и вневременное качество.
Так, если мы хотим вырваться из мира объектов и их отражений, то мы отказываемся от “окулярной метафоры”, оставив ее науке. Пусть она сама ищет другого, необходимого даже ей в качестве того, что сличает отражаемое с отражением и свидетельствует о их совпадении или различии. Если мы хотим вырваться из “царства бескрылого Эроса” с его Он или Она и обрести Ты, мы должны отказаться от зеркал и экранов, оставив их науке и культуре.
“Царство бескрылого Эроса – мир зеркал и отражений. Но там, где властвует крылатый Эрос, отражения не действуют; там я, любящий, мыслю этого другого, любимого, человека в его инаковости, в его самостоятельности и действительности и мыслю его всей силой моей души. Конечно, я мыслю его как того, кто присутствует обращенным ко мне, но в той же не входящей в меня, но охватывающей меня реальности, в которой я присутствую как направленный к нему. Я не переношусь душой в то, что живет рядом со мной, я обещаю его себе, а себя ему, я обещаю, я верю”. “Лишь тот, кто имеет в виду действительно другого человека и отдается ему, обретает в нем мир. Лишь существо, чья инаковость, принятая моим существом, живет рядом во всей своей экзистенции, приносит мне сияние вечности. Только если два человека всем своим существом говорят друг другу: “Это – ты!” – между ними пребывает сущее” [64] .
10
Зеркальные отражения могут выступать как символы, а символы – как зеркальные отражения, то есть образы могут терять свою визуализацию и становиться “чистыми” значениями и смыслами, а смыслы обретают полное право на воплощение в образах. Такие взаимные переходы делают возможным трансляцию непосредственного эстетического чувства, мистического опыта и опыта философской рефлексии отдельного человека другим людям, то есть обеспечивают существование искусства, религии, философии. Например, человек может видеть себя в зеркальном отражении “образа и подобия Божьего”, и это есть символ [65] . Переход от непосредственного чувствования, от невербального выражения к словам и символам, означает переход к зеркальным отражениям и подмену непосредственного восприятия “зеркальной сущностью” понимания символов. В случае Любви, это переход от непосредственного восприятия Любимого к его образу (и подобию!), а значит к символу любимого. При этом возникает не Единственная, а символ единственной женственности, который я вижу как многократное отражение образа женственности, по отношению к которому идентифицируется мое мужское. Можно любить женщин, но не любить Тебя. Можно любить Тебя, но не любить женщин. И там, где есть Ты, там нет зеркальных отражений “ее-их”, ставших образами, символами, понятиями. Или же символический образ “женщина” (“мужчина”) был задан той культурно-символической средой, в которой мы пребывали? За этими образами Я не видел Тебя, а Ты – Меня. Нам пытались объяснить, что такое “женщина” и что такое “мужчина”, что такое “любимая” и “любимый”, что такое “любовь”. Но все это оставалось только понятиями даже в реальном общении с другими. Это – символы, навязанные нам культурой, которые не возникли из нас самих, а возникали посредством зеркальной сущности символов, в которых мы пытались увидеть себя самих. И все, что с нами произошло, произошло в один момент. Мы просто остановились на мгновение в потоке становления Бытия, а Мир успел уже повернуться относительно нас, изменилась перспектива видения, и когда исчезли зеркальные отражения, мы оказались Лицом к Лицу друг к другу и сказали: “Это – Ты!”.
На проблему зеркальных отражений сознания обратил внимание М. Мамардашвили. Он отмечал наличие “наслаивающихся образований”, скрывающих от нас мысль, как она есть. Речь идет о распаде целостности воспринимаемого события, когда мы заранее не имеем понятия о том, что наблюдаем и хотим помыслить. “Значит, мы имеем зеркала”, – пишет Мамардашвили. “И весь мир видим в зеркальных отражениях. В том числе и самих себя. То, что в нас происходит, нам более всего недоступно. Например, что я на самом деле чувствую, думаю и т.д.” [66] . Устранение зеркальных отражений, сдвиг, изменение перспективы видения есть, согласно Мамардашвили, “реальная философия”, акт непосредственного философствования, не обросшего еще философскими понятиями.
Мамардашвили, видимо, сам того не ведая, близок к актуализму Джованни Джентиле, согласно, которому, философские категории “должны рассматриваться не как объективные логические полагания, а как моменты сознания в акте, моменты "мыслящей мысли"”, и в такой актуальной самоопределяющей тождественности мысли и мышления предстают как единственная категория – “духовный акт”. Выведение такой категории становится возможным постольку, поскольку мысль разделяется на “мысль мыслящую и мысль помысленную: первая – это мысль в акте, т.е. сам процесс мышления; вторая – продукты мышления, т.е. то, что из акта превратилось в факт” [67] . Здесь мы обнаруживаем зеркала мысли, когда сама мысль в сваей актуальности, продумывании, теряется в зеркальных отражениях ее фактичности, мышление теряется в помысленности. “Продукты мышления” заслоняют сам процесс мышления, мыслительный акт, который в обычных условиях, то есть вне философской рефлексивной установки, как правило не схватывается, и человек “видит” только то, что способно “отразиться” – факты, в которых мысль уже получила объективацию.
Я буду говорить об аналогии философского акта и События Любви. По этой аналогии, наслаивающиеся зеркальные отражения другого и меня в другом скрывают Другого, как он есть, скрывают в мнимости его раскрытия. Множественность отражений скрывает от меня Любовь, как она есть, в ее актуальности. Как будто для того, чтобы испытать Событие Любви, я должен заранее “иметь понятие” о любви, о том, какой она должна быть. Но это только иллюзорное условие, которое затем уточняется вплоть до его полной метаморфозы. То, что затем происходит, происходит моментально. Происходит онтологический “сдвиг”. Невозможно “обрести” Единственную (Единственного) на основании фактических данных, прочувствованных чувств и промысленных мыслей, но возможно – только в единый момент, как говорят, “с первого взгляда”. “Первый взгляд” – это и есть тот актуальный “сдвиг”, разрывающий образы и понятия, при котором происходит совпадение явления и сущности, феномена и понятия. Здесь мы не можем не увидеть, не разглядеть, не узнать, как в случае незамеченного явления атомного распада, зафиксированного в отчетах Ферми (о чем вспоминает Мамардашвили). Если у нас нет такого совпадения, когда “нет причины, чтобы видеть”, то в отношениях с другим мы имеем зеркала, зеркально множественные образы, живем прочувствованным и промысленным, и мы никогда не увидим Единственного.
О сознании, которое несомненно присутствует в акте единовременного восприятия Другого в Событии Любви, Мамардашвили пишет так: “Если мы определили … сознание, как сферу, объединяющую всесвязно разные перспективы и разные точки, то эта сфера должна каким-то образом сдвинуться, чтобы исчезли, стерлись зеркальные отражения… Сдвиговая дисимметрия сферы сознания, стирающая зеркальные отражения и ставящая нас лицом к Лицу. Лицом к Лицу с чем-то, что свидетельствует, и тогда мы что-то видим. В том числе и самих себя. Не в отражениях, не косвенно, не в знаках и не намеках, требующих расшифровки и перевода, а непосредственно” [68] . Для Мамардашвили в этом “сдвиге” и существует событие философского акта. И далее, философия есть “запись сдвига”, “запись события сдвига”, когда “моя мысль встречается с мыслью; лицом к лицу”. Это случившееся движение в сознании, “не похоже ни на какую форму, живущую в зеркальных отражениях”. “Это что-то радикально иное” [69] . Человек, переживающий это событие, “не может выбирать: быть ему философом или не быть. Ибо философом он быть обречен” [70] .
В сходном положении оказывается и человек, испытавший Событие Любви. Оно непохоже ни на что другое, не имеет ничего общего ни с какой зеркальной формой. Влюбленный не может выбирать: любить ему или не любить. Он обречен любить. И в этом “сдвиге” исчезает зеркальная множественность. Я становлюсь Лицом к Лицу. И это Лицо – Единственно. И далее, единовременное Событие Любви, расширяется до пределов всего мира и жизни, поглощая и мир, и жизнь, заполняя все пространство и время.
Кажется, что событие философского акта и Событие Любви имеют общую природу: и там, и тут – “сдвиг” сознания, просветление, переживание опыта, близкого к мистическому, запечатление, “остановка”, “пауза”, “недеяние”, возникновение “зазора бытия”, “сверхчувственного интервала”. Мамардашвили сам (в скобках) проводит эту аналогию, когда пишет, что “удивление этому чуду (в себе и других) – начало философии (и … любви)” [71] . Так, проводя аналогию философского акта и События Любви, выводя Любовь из скобок, можно ли сказать, что если тебе доступна философия как “реальная философия”, которая “присуща нам, если мы живем как сознающие существа”, а не как “философия понятий и схем”, в которой опыт уже ушел “в толщи культуры” [72] , то тебе доступно и Событие Любви? Означает ли это, что любить по-настоящему может только философ – человек, испытавший событие “сдвига”? Если это так, то философия есть любовь, а любовь есть философия? Не выполняет ли философия, наряду с функцией “поучения смерти”, которую выделял еще Ионанн Дамаскин, функцию “поучения любви”?
Но в претензии философии быть любовью и поучать любви есть, с одной стороны, нечто разрушающее Любовь, если к этой претензии относиться серьезно, а с другой – нечто смешное, если видеть слабость уверенной серьезности философских претензий говорить о любви. “Мудрец – что знает он о женщине?, – иронически вопрошает Кнут Гамсун, – Во-первых, он не мог стать мудрым, пока не состарился, следовательно, он знает женщину лишь по воспоминаниям. А во-вторых, у него нет и воспоминаний, ибо он никогда не знал ее. Человек, имеющий предрасположение к мудрости, всю свою жизнь занят только этим предрасположением, и ничем другим, он холит его и пестует, трясется над ним, живет для него. Никто не ходил к женщине, чтобы набраться мудрости”. Мудрейшие мира “сидели и выдумывали ее; они были стариками, независимо от того, молодыми или преклонных лет… Они не знали женщину в святости ее, не знали женщину в прелести ее, не знали, что без женщины нельзя жить. Но оно писали и писали о женщине. Подумать только, писали, никогда не видав ее. Боже, упаси меня от мудрости!…” [73] .
Тайна любви вынуждают человека говорить или молчать о ней. Философы – тоже люди. Рассуждая о любви, они так, или иначе привносят в философию свои жизненные пристрастия. Как отмечает М. Фуко, эллинистическая эротика “принимала за отправную точку любовь к мальчикам”. Таким образом, античный философ сократовско-платоновского типа оказывается приверженцем гомосексуальных связей. Такой философ и в самом деле не ходил к женщине за мудростью. Он призывал ходить к нему “мальчиков”, отождествляя стремление к мудрости с сексуальным стремлением к лицам одного с ним пола. Воздержание от сексуальных удовольствий с подчеркиванием духовной стороны отношений играет в рамках этой эротической системы самую важную роль. Любовь к “мальчикам” ценилась так высоко именно потому, что от нее требовалось физическое воздержание, без которого она не могла бы сохранить свое духовное значение [74] . Понятно, что противоестественный ректальный половой акт физиологически затруднителен и болезнен, по сравнению с обычным, вагинальным, поэтому первый не может практиковаться с требуемой частотой. Отсюда – перенос всей тяжести гомосексуальной любви в духовную сферу и открытие греками “мудрости”, которая замещает им гомосексуальность.
Гомосексуальная направленность эллинистического мира была как будто преодолена с возникновением и упрочением христианства. “Содомский грех” в рамках христианской морали более тяжек, нежели гетеросексуальные отношения. “Новая Эротика строится вокруг симметрической взаимообратимой связи мужчины и женщины; главными ее ценностями становятся девственность и тот всеобъемлющий совершенный брачный союз, в котором девственность эта обретает свое завершение” [75] . В этой “новой Эротике” – эротике первых и последующих веков новой эры – место “мальчиков” стали занимать “девочки”, а требование физического воздержания, физиологически и анатомически оправданное в случае любви к “мальчикам”, сохранилось и стало распространяться на “девочек”, знаменуя собой возникновение идеала рыцарского бескорыстного “служения женщине”. Так и стали к “девочкам” относиться также целомудренно как и к “мальчикам”, неоправданно требуя сексуального воздержания от любви мужчины и женщины, делая из женщины объект духовного поклонения, наделяя ее “святостью”, так, что ко времени Фрейда женская истерия обретает характер эпидемии, и основателю психоанализа приходится резко заявить о сексуальной природе человека, которую невозможно игнорировать.
Вероятно, существует связь между сексуальным поведением философа и типом его теоретизации. Греческий идеал самодостаточности, проживаемый Диогеном Синопским “вживую”, когда он прилюдно мастурбируя, показывает афинским гражданам, что для счастья не требуется ничего, кроме самого себя, и что сексуальное удовлетворение получить проще, чем утолить голод, надолго блокирует тему Другого в философии. Сократ, его теоретизирующие и “безумствующие” последователи совершили “открытие Человека”, но этот человек представал только в аспекте своего “Я”. Другой еще не распознан в этой эйфории эгоистической самодостаточности, а без узнавания Другого не может разворачиваться тема подлинной Любви. Так Платон был склонен наделять истинностью тождество. Различие – проявление ложности: чем больше различий, тем меньше мера истинности. И в своей теории эроса в качестве более истинного “объекта любви” Платон рассматривал сходное с ними по полу, отсылая при этом к “прекрасной душе”. Если любовь, согласно Платону, –- это стремление породить себя в прекрасном, то что может быть прекрасней самого себя или, по крайней мере, сходного с ним по половой принадлежности? “Верховной идей” для Платона на деле оказывается он-сам-в-тождестве-самому-себе. Вот истинное Бытие, а остальное оказывается истинным только в той степени, в какой не показывает отличий от этой “верховной идеи”. “Идеальным” тогда представляется половое сношение со своим двойником. И поскольку зеркальный двойник пока еще не может выйти из-за зеркальной поверхности и обрести свою плоть в клоне, то греческому мудрецу остается превозносить Мышление как то, что реально способно взаимодействовать с Самим Собой и со своими продуктами. На этой почве, в этом стремлении стереть все различия возникает аристотелевский Интеллект, мыслящий о Самом Себе, имеющий Себя в этом акте и не любящий никого, кроме Себя. Здесь же возникает пайдейя – задача воспитания древнего грека при тесном (включая и половую составляющую) взаимодействии учителя с учеником, в результате которого ученик воспринимает мудрость учителя, в идеале становясь его интеллектуальным двойником.
Сексуально воздержанные философы, типа Оригена, Августина (каким тот желал предстать в зрелой жизни) или Н.Ф. Федорова, скорее всего проявляют себя как утописты. Они констатируют воссоединение в Боге или строят проекты обеспечения бессмертного состояния, которым одариваются либо все, либо, как у Августина, достаточно большое число богоизбранных, предопределенных Богом для спасения во Граде Божием. Из мира утопии, как правило, Любовь изгоняется: рождение плоти в Федоровской суперутопии заменяется ее восстановлением, или же, как в случае “основоположника жанра” Т. Мора, сексуальная практика сводится к целесообразному функционированию полов. Любовь с ее конкретной направленностью на Другого, если этот Другой – не Бог и не Государство – существенная помеха обеспечения всеобщего благоденствия. Атеистический же философ-утопист компенсирует собственное отсутствие опыта Любви и Веры любовью ко всему человечеству, почитанием предков и верой в потомков. Если счастье может быть достигнуто, то оно обязательно должно быть всеобщим и справедливо-рациональным.
Тип воздержанного от Любви философа, видимо по причине юношеских разочарований, но в общем не отрицающего сексуальной и бытовой сторон жизненной практики, может быть представлен Г.В.Ф. Гегелем. При устранении Любви как высшего смысла человеческой жизни, у таких философов на передний план философствования выдвигается тема исторической самореализации смертного человека.
Но бывают такие философы, которые знают, что Любовь есть. Они не спешат изгонять ее во имя всеобщего благоденствия, не утверждают, что есть “дела” поважнее (например, активное участие в историческом становлении человечества во имя светлого будущего последующих поколений). К такому типу философов, я полагаю, следует отнести философов “второго лица”, для которых очевидна реальность Другого и его несводимость ни к объекту, ни к субъекту. Их взгляд должен быть крайне осторожен: здесь нельзя пробивать бреши в сопротивляющейся познанию твердыни посредством силы одного лишь интеллекта.
Любовь – это то невидимое, которое избегает пристального взгляда и боится Света. Она показывается нам различными ликами, но ни одно из них не выдает ее полностью. Когда философия начинает свой разговор о Любви, то кажется, что она всегда говорит о чем-то другом. Любовь можно ощущать как озарение, близкое к философскому, мистическому, эстетическому, но о ней следует молчать, ибо слова уводят ее от нее самой. Необходимо преодолеть искушение говорить о Любви, поскольку истинная Любовь – в молчании о ней. Любящие молчаливы. Слова, прошедшие через множество рук, уже бывшие в употреблении и используемые всеми желающими, не могут касаться всегда первой и небывалой Любви. Небывалость Любви захватывает слова в поток своей актуальности. В актуальном проговаривании слова создаются заново. Поток актуальности прогорваривания никогда не течет по одним и тем же руслам. Он не вос-производит, а про-изводит слова всегда впервые, наделяет их особым смыслом, который перестает быть смыслом в его общезначимости, и проявляется лишь единовременно и только между Любящими. Он всегда возвращает к Началу, Истоку, Сотворению Мира, сбрасывая со слов налет Истории, стирает отпечатки многочисленных пальцев.
Откуда же такая потребность высказывания о Любви, попытка повторения неповторимого? Может быть, все-таки говоря о Любви постороннему, Любящий тем самым хранит ее, и просто пускает пыль в глаза всему тому, что может ее поглотить или вывернуть наизнанку? Тогда, каким образом должен быть выстроен дискурс “молчания о любви”, чтобы, говоря о любви, он уводил Любовь в сокрытость Бытия, оставляя на поверхности Культуры либо накипь своего неистового бурления, либо гладкую отражающую поверхность, на которой властвует сила образов, скрывающих мутные глубины? … Может быть так, чтобы, совершая экскурсы в Культуру, оставлять россыпи вопросов о том, что само собой понятно Любящему, и что даже не является для него вопросами? Возможно, так, чтобы все это либо оставалось в ней без ответа, либо давалось в виде ответов, уводящих доверчивого слушателя и созерцателя в других направлениях, пока тот не обретет собственного незеркального проживания Мира, получившего свое разделенное единство в актуальности Другого.
Примечания
Данный текст является очередной, я надеюсь, последней редакцией одноименной статьи представленной в Сети c 1999 года. В этом варианте он включен, в качестве первой главы, в книгу “Второе лицо. Опыт преодоления культуры”, которая ждет своего “бумажного” издателя. Автор. AntonovVY@info.sgu.ru
1. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.,1976. С.65.
2. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С.29-30.
3. См.: Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С.13-14.
4. Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. “Дегуманизация искусства” и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. М., 1991. С.286-287.
5. Шадевальд В. Понятие “природа” и техника у греков // Философия техники в ФРГ. М., 1989. С.90.
6. См.: Рорти Р. Указ. соч. С.233-238, 254-292.
7. О последней, то есть о культурной антропологии, Рорти говорит, что это – “есть все, что нам нужно”. (Рорти Р. Указ. соч. С.282).
8. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М., 1998.С.74.
9. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998. С.45.
10. М. Мерло-Понти отмечает связь слова и жеста, руки и мысли: “никакое усилие, направленное на то, чтобы отделить друг от друга мою руку и мысль, которая живет в слове, не может быть успешным – наши пальцы сохраняют в себе чуточку словесного материала”. (См.: Мерло-Понти М. О феноменологии языка // Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. С.54). Х. Ортега-и-Гассет обращает внимание на то, что “…когда мы говорим слово, наши мышцы сокращаются и производят еле заметное … толкательное движение, направленное … и пространственно ориентированное”. (Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. С.295).
11. Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. С.304.
12. Там же. С.307.
13. Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб. СПб., 1999. С. 286–288.
14. Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С.14.
15. Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. С.8.
16. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М., 1998. С.54.
17. Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1997. С.74.
18. Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. С.286-287.
19. Михель Д.В. Тело, территория, технология. Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре. Саратов, 2000. С.7.
20. См.: Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб. СПб., 1999.
21. Блох Э. Тюбингенское введение в философию. С.68-69.
22. Левинас Э. Философское определение идеи культуры // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М, 1990. С.96.
23. Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. С.305.
24. Это объясняет приобретение человеком многих своих антропных признаков: таких например, как прямохождение, высвобождение рук, формирование кисти руки, замена волосяного покрова подкожным жиром, характерное изменение носа, гортани и т.д. (См.: Линдблад Я. Человек – ты, я и первозданный. М., 1991).
25. См.: Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте // Кабинет: Картины мира I / гл. ред. В. Мазин. СПб., 1998. С.136-142.
26. См.: Жеребкина И. “Прочти мое желание…”. Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. М., 2000. С.93-94, 103.
27. Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995. С.171. (Цит. по: Маслов Р.В. О зеркальной сущности человека // Наука и феномен культуры. Саратов, 1999).
28. Башляр Г. Вода и грезы. С.44.
29. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000. С.187-188.
30. Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С.23.
31. Отметим, что оптикой занимались многие ученые всех времен: Архимед, Герон, Евклид, Птолемей, Альхазен, Роджер Бэкон, Франческо Мавролик, Джован Баттиста Порта, Паоло Сарпи, Декарт, Галилей, Кеплер, Гюйгенс, Эразм Бартолин, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Пьер Бугер, Иоганн Ламберт, Томас Юнг, Френель, Гамильтон и др.
32. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С.266. (Цит. по: Маслов Р.В. О зеркальной сущности человека).
33. См.: Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1990. С.46.
34. Там же. С.50.
35. См: Там же. С.48-49.
36. Там же. С.48.
37. См.: Лоренц К. Агрессия (так называемое “зло”). М., 1994.
38. Эвола Ю. Метафизика пола. М, 1996. С.169.
39. Там же. С.191.
40. Башляр Г. Указ. соч. С.62.
41. Эвола Ю. Указ. соч. С.209.
42. Там же. С.202.
43. Интересно, что Луна стала символом женственности задолго до того, как было обнаружено и научно доказано, что она светит отраженным светом.
44. См.: Хорни К. Женская психология. СПб, 1993. С.36.
45. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998. С.94.
46. См.: Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. М., 1995. С.91.
47. См.: Здравомыслов В.И., Анисимова З.Е., Либих С.С. Функциональная женская сексопатология. Пермь, 1994. С.210-211.
48. См.: Здравомыслов В.И. и др. Указ. соч. С. 194.
49. См.: Старович З. Судебная сексология. М., 1991. С.232.
50. См.: Каприо Ф. Указ. соч. С.234.
51. См.: Там же. С.101., С.221.
52. Например И. Кон, обращаясь к данным социологических опросов, отмечает, что женщины, занятые умственным трудом, ведут более активную половую жизнь и получают большее удовлетворение от нее, чем домохозяйки. (См.: Кон И.С. Указ. соч. С.223).
53. Маслов Р.В. О зеркальной сущности человека. С.118. Здесь необходимо отметить, что Другой не есть простая различаемая противоположность, “не-Я”. Зеркальное отражение, простая половая (или какая угодно) дополнительность, “не-Я” как совокупность объектов есть всегда то мое, которое как раз и заслоняет реальность Другого.
54. “… Существуют бесчисленные переходные ступени между мужчиной и женщиной, так называемые промежуточные формы пола … Нам следует пользоваться понятиями идеального мужчины “М” и идеальной женщины “Ж” только как типичными половыми формами, которых в действительности в абсолютном виде нет”. “…Мы предполагаем, что у каждого индивидуума количество безусловно равняется нехватки мужественности”. (См.: Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. М., 1991. С.8, С.12).
55. Вейнингер О. Пол и характер. М., 1991. С.12.
56. Там же. С.42-45.
57. Там же. С.48-49.
58. Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.16-17, 437.
59. Там же. С.19-20.
60. Лакан Ж. Указ. соч. С.142.
61. Подорога В.А. Указ. соч. С.171.
62. И. Жеребкина поясняет позицию Лакана: “Для понимания роли визуального в репрезентативных стратегиях субъективности Лакан обращается к понятию “экрана” вместо зеркальной рефлексии, имеющей место на стадии зеркала. Экран – это определенное культурное имаго, обеспечивающее функцию “взгляда” (…) по отношению к субъективности и идентификацию субъекта с тем, чем он никогда не может быть, – с гендерным идеалом (…)”. “Лакан настаивает на том, что детерминирующим для субъективности является не то, как мы видим или хотим видеть самих себя, но то, как мы восприняты культурным взглядом – это и есть “экран”, демонстрирующий, что мы не можем произвольно выбирать, как мы “видимы” в культуре”. (См.: Жеребкина И. Указ. соч. С.103-104).
63. Бубер М. Указ. соч. С.21.
64. Бубер М. Диалог // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.116-117.
65. См.: Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С.58.
66. См.: Мамардашвили М.К. Указ. соч. С.52.
67. Зорин Л.А. Жизнь и творческий путь Джованни Джентиле // Джентиле Дж. Введение в философию. СПб., 2000. С.13-16.
68. Мамардашвили М.К. Указ. соч. С.52.
69. Там же. С.53.
70. Там же. С.55.
71. Там же. С.58.
72. Там же. С.54.
73. Гамсун К. Странник играет под сурдинку: Роман // Гамсун К. Собр. соч. в 6 т. Т.3. М., 1994. С.131-132.
74. См.: Фуко М. История сексуальности - III: Забота о себе. Киев-М.,1998. С.255.
75. Фуко М. Указ. соч. С. 249.


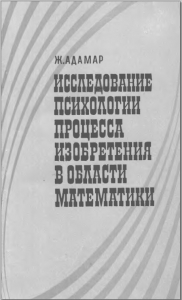
Комментарии к книге «Зеркало. Онтология невидимого», Владимир Юрьевич Антонов (философ)
Всего 0 комментариев