Георг Вильгельм Фридрих Гегель
ЭСТЕТИКА
В четырех томах
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» МОСКВА 1969
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
ЭСТЕТИКА
Том второй
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» МОСКВА 1969
Под редакцией Мих. Лифшица,ЛЕКЦИИ ПО ЭСТЕТИКЕ
Часть вторая
РАЗВИТИЕ ИДЕАЛА В ОСОБЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕКРАСНОГО В ИСКУССТВЕ
ВВЕДЕНИЕ
Хотя все то, что мы рассмотрели в первой части, касалось действительного осуществления идеи прекрасного как идеала искусства, однако, с каких бы сторон мы ни рассматривали понятие идеального художественного произведения, все эти определения относились лишь к идеальному художественному произведению вообще. Но идея прекрасного, как идея, представляет собой также целостность существенных различий, которые в качестве таковых должны выступить и осуществиться. Мы можем назвать их в целом особенными формами искусства, поскольку они развивают собой то, что заключено в понятии идеала и получает существование посредством искусства. Однако если мы говорим об этих формах искусства как о различных видах идеала, то мы не должны понимать «вид» в обычном смысле этого слова, так, будто идеал образует всеобщий род по отношению к этим особенностям и они извне входят в него и модифицируют его; «вид» должен обозначать не что иное, как отличные друг от друга и, следовательно, более конкретные определения идеи прекрасного и идеала самого искусства. Всеобщность изображения определяется здесь не внешним образом, а в самой себе через свое собственное понятие; таким образом, само это понятие есть то, что развертывает себя в целостность особенных видов художественного формообразования.
Точнее говоря, формы искусства как развернутое осуществление прекрасного находят свое происхождение в самой идее таким образом, что последняя осуществляет и изображает себя через них и, смотря по тому, выступает ли она для себя самой в своей абстрактной определенности или в своей конкретной целостности, она и являет себя в той или иной реальной форме выражения. Ибо идея есть поистине идея лишь как развивающаяся для самой себя посредством собственной деятельности, а так как в качестве идеала она непосредственно представляет собой явле-
7
кие, и притом тождественную своему явлению идею прекрасного, то на каждой особенной 'ступени, на которую поднимается идеал в ходе своего развития, с каждой внутренней определенностью данной ступени непосредственно связано иное реальное формообразование. Поэтому безразлично, будем ли мы рассматривать поступательное движение в ходе этого развития как внутреннее поступательное движение идеи, взятой в себе, или как поступательное движение формы, в которой идея дает себе существование. Каждая из этих обеих сторон непосредственно связана с другой, и завершенность идеи как содержания является также и завершенностью формы, а недостатки художественной формы в равной мере обнаруживают неудовлетворительность самой идеи, поскольку последняя составляет внутренний смысл внешнего явления и становится в нем реальной для самой себя.
Поэтому если мы встретим здесь художественные формы, еще не соразмерные с истинным идеалом, то это следует понимать не в том смысле, в каком обычно говорят о неудавшихся художественных произведениях. Последние или ничего не выражают, или неспособны достигнуть воплощения того, что они должны были бы изображать. Здесь же определенный образ, который содержание идеи сообщает себе на каждой ступени развития в виде особенных форм искусства, всегда соразмерен этому содержанию, и недостаточность или завершенность заключается лишь в сравнительной истинности или неистинности той определенности, в качестве которой идея выступает для самой себя. Содержание должно быть в самом себе истинным и конкретным, прежде чем оно сможет найти подлинно соответствующую ему, прекрасную форму.
Как мы уже видели в предпосланном общем делении, мы должны рассмотреть в этом отношении следующие три основные формы искусства.
Во-первых, символическую форму. В ней идея еще ищет своего подлинного художественного выражения, так как она еще абстрактна и неопределенна в самой себе и поэтому не имеет в себе и внутри самой себя соразмерного выявления, а оказывается перед лицом внешних ей вещей в природе и событий человеческой жизни. Непосредственно предчувствуя в той предметности свои собственные абстракции или принуждая себя вступить со своими лишенными определенности всеобщностями в конкретное существование, она искажает и извращает преднайденные образы. Беря их произвольно, она не приходит к полному отождествлению с ними, а достигает того, что смысл и образ лишь напоминают друг о друге и абстрактно согласуются между собою.
8
В этой не доведенной и не могущей быть доведенной до конца сплетенности смысл и образ обнаруживают как свою родственность, так и взаимную чуждость, соразмерность и внешний характер друг другу.
Во-вторых, идея согласно своему понятию не останавливается на абстрактности и неопределенности общих мыслей, а является свободной в самой себе бесконечной субъективностью и постигает последнюю в ее действительности как дух. Дух же, как свободный субъект, определен в себе и посредством самого себя и благодаря этому самоопределению обладает в своем собственном понятии также и адекватным ему внешним образом, с которым он может слиться как со своей, в себе и для себя принадлежащей ему реальностью. Это всецело соразмерное единство содержания и формы служит основой второй, классической формы искусства.
Однако, для того чтобы получилось действительно полное единство формы и содержания, дух, поскольку он делает себя предметом искусства, еще не должен быть безусловно абсолютным духом, находящим свое соразмерное существование лишь в самой духовности и внутренней жизни, а должен быть духом, который сам есть еще особенный дух и который поэтому страдает абстрактностью. Следовательно, свободный субъект, получающий образ в классическом искусстве, выступает как существенно всеобщий и потому освобожденный от всяких случайных и чисто своеобразных черт как внутреннего, так и внешнего мира; вместе с тем он наполнен лишь такой всеобщностью, которая в самой себе носит особенный характер. Ибо внешний образ в качестве внешнего есть определенный, особенный образ, который может воплотить в себе до полного слияния лишь определенное и потому ограниченное содержание; в то же время лишь особенный в себе дух может совершенно раствориться во внешнем явлении и слиться с ним в нераздельное единство.
Здесь искусство в такой мере достигло своего собственного понятия, здесь оно приводит идею как духовную индивидуальность в такую непосредственную и совершенную гармонию с ее телесной реальностью, что теперь впервые внешнее существование уже не сохраняет больше никакой самостоятельности но отношению к смыслу, который оно должно выражать. И, наоборот, внутреннее содержание в своем образе, выработанном для созерцания, показывает лишь само себя и утвердительно соотносится в нем с собою.
Но, в-третьих, когда идея прекрасного постигает себя как абсолютный и тем самым как свободный для себя самого дух, то
9
она перестает находить себя полностью реализованной во внешней форме, так как она, как дух, обладает своим истинным существованием лишь внутри себя. Поэтому она расторгает классическое единство внутренней жизни и внешнего явления и уходит от последнего, возвращаясь в самое себя. Это составляет основной тип романтической формы искусства. Так как содержание этой формы искусства вследствие своей свободной духовности требует большего, чем то, что может дать ей воплощение во внешнем, телесном материале, то образ становится для нее чем-то внешним и безразличным, так что романтическое искусство снова разделяет содержание и форму, хотя и с противоположной стороны по сравнению с символическим искусством.
Таким образом, символическое искусство ищет то совершенное единство внутреннего смысла и внешнего облика, который классическое искусство находит в воплощении субстанциальной индивидуальности для чувственного созерцания и за пределы которого выходит романтическое искусство в избытке своей духовности.
10
Первый отдел
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ИСКУССТВА
11
12
Введение О СИМВОЛЕ ВООБЩЕ
Символ в том смысле, в каком мы употребляем это слово здесь, составляет начальный этап искусства как согласно понятию, так и в порядке исторического появления н должен поэтому рассматриваться лишь как предыскусство. Этот этап характеризует главным образом Восток, и лишь после многообразных переходов, превращений и опосредствований он приводит нас к подлинной действительности идеала — классической форме искусства. Мы должны поэтому с самого начала делать различие между символом в его 'самостоятельном своеобразии, в котором он представляет законченный тип художественного созерцания и воплощения, и тем видом символического, который низводится на степень лишь несамостоятельной внешней формы. Этот последний вид символического мы снова встречаем в классической и романтической формах искусства, подобно тому как отдельные стороны символической формы искусства могут в свою очередь получать характер классического идеала или являть нам начальную стадию романтического искусства. Однако такие перекрещивания всегда касаются лишь второстепенных образований и изолированных черт, не составляя подлинной души и определяющей природы целых художественных произведений.
Там же, где символическое искусство развивается самостоятельно в своей своеобразной форме, оно носит общий характер возвышенного. Здесь должна получить свой облик еще безмерная и не свободно определенная в себе идея, и поэтому она не в состоянии найти в конкретных явлениях такую определенную форму, которая полностью соответствовала бы этой абстрактности и всеобщности. В этом несоответствии идея превосходит свою форму внешнего существования, вместо того чтобы раствориться или полностью войти в нее, а такой выход за пределы определенного явления и составляет общий характер возвышенного.
13
Что касается формальной стороны, то мы должны теперь— лишь в самом общем виде — объяснить, что мы понимаем под символом. Вообще говоря, символ представляет собой непосредственно наличное или данное для созерцания внешнее существование, которое не берется таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком и общем смысле. Поэтому в символе мы должны сразу же различить две стороны: во-первых, смысл и, во-вторых, выражение этого смысла. Первый есть представление или предмет безразлично какого содержания, а второе есть чувственное существование или образ какого-либо рода.
I. СИМВОЛ КАК ЗНАК
Символ есть прежде всего некий знак. При простом обозначении связь между значением и его выражением есть совершенно произвольное соединение. Данное выражение, данная чувственная вещь или образ в столь малой степени представляют сами себя, что вызывают в представлении, скорее, некоторое чуждое им содержание, с которым они отнюдь не должны находиться в какой-то необходимой специфической связи. Так, например, в языках определенные звуки являются знаками определенных представлений, чувств и т. д. Но преобладающая часть звуков того или иного языка связана с выраженными посредством них представлениями лишь случайным для содержания образом, хотя исторически и можно было бы доказать, что первоначальная связь между ними носила другой характер; различие между языками в том преимущественно и состоит, что одно и то же представление выражается в них разными звуками. Другим примером таких знаков служат цвета (les couleurs), употребляемые на кокардах и флагах для указания, к какой нации принадлежит данное лицо или данный корабль. Такой цвет не содержит в себе качества, которое было бы обще ему с его значением, то есть необходимо связывало бы данный цвет с нацией, которую он представляет. По отношению же к искусству мы не должны рассматривать символ в том же безразличии друг к другу смысла и его обозначения, так как искусство состоит как раз в соотношении, родственности и конкретном взаимопроникновении смысла и образа.
2. ЧАСТИЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ МЕЖДУ ОБРАЗОМ И СМЫСЛОМ
Иначе обстоит дело со знаком, который должен быть символом. Льва, например, берут как .символ великодушия, лисицу — как символ хитрости, круг — как символ вечности, треугольник — как
14
символ триединства. Но лев и лисица сами по себе обладают тем свойством, значение которого они должны выражать. Точно так же круг не дает нам той незаконченности, или произвольной остановки на некоторой границе, которая, будучи свойственна прямой или какой другой не возвращающейся в себя линии, характеризует также какой-либо ограниченный отрезок времени. А треугольник обладает в качестве некоего целого тем же числом сторон и углов, какое получается в идее бога, если подвергнуть исчислению те определения, которые религия находит в боге.
В подобных символах чувственно наличные предметы уже в своем существовании обладают тем значением, для воплощения и выражения которого они употребляются, и символ, взятый в этом более широком смысле, является не просто безразличным знаком, а таким знаком, который уже в своей внешней форме заключает в себе содержание выявляемого им представления. Вместе с тем он должен вызывать в нашем сознании не самого себя как данную конкретную единичную вещь, но лишь то всеобщее качество, которое подразумевается в его значении.
3. ЧАСТИЧНОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ МЕЖДУ ОБРАЗОМ И СМЫСЛОМ
Далее, мы должны заметить, что хотя символ не может, подобно чисто внешнему и формальному знаку, быть совершенно неадекватным своему значению, однако, для того чтобы оставаться символом, он не должен быть полностью соразмерным с ним. Ибо если содержание, составляющее смысл, и образ, употребляемый для его обозначения, и совпадают в одном свойстве, то символический образ все же содержит еще и другие определения, совершенно независимые от того общего им обоим качества, которое этот образ однажды означал. Точно так же и содержание не обязательно должно быть абстрактным содержанием, подобно силе и хитрости, а может быть конкретным содержанием, которое, в свою очередь, заключает в себе особые качества, отличные от того свойства, которое составляет значение его символа, и тем более отличные от остальных характерных черт этого образа. Так, например, лев не только силен, лисица не только хитра; и бог, в особенности, обладает еще и совершенно иными свойствами помимо тех, которые могут быть выражены числом, математической фигурой или образом животного. Содержание остается поэтому безразличным к образу, который представляет его, и абстрактная определенность, которая составляет это содержание, может существовать и в бесчисленных других существах и образованиях.
15
Также и конкретное содержание имеет в себе многие определения, для выражения которых могут служить другие образования, обладающие теми же определениями. То же самое верно относительно того внешнего предмета, в котором находит свое символическое выражение некое содержание. И этот предмет в качестве чего-то конкретного обладает многими определениями, символом которых он мог бы быть. Так, например, первым приходящим на ум символом силы, несомненно, служит лев; однако таким же символом служит бык, рог и т. д., и, наоборот, бык, в свою очередь, обладает массой других символических значений. А число форм и образований, употреблявшихся в качестве символов бога, уже прямо бесконечно.
Из этого вытекает, что символ согласно своему понятию остается, по существу, двусмысленным.
а) Двусмысленность символа
Во-первых, созерцание символа тотчас же вызывает у нас сомнение: следует ли или не следует принимать образ за символ, и это сомнение возникает даже в том случае, если мы оставим в стороне другую двусмысленность — относительно определенного содержания символа, ибо один и тот же образ благодаря более отдаленным ассоциациям может употребляться в качестве символа нескольких значений.
В символе мы прежде всего имеем перед собой фигуру, облик, образ, которые уже сами по себе вызывают у нас представление о чем-то непосредственно существующем. Лев, например, орел или определенный цвет представляют себя сами и могут быть признаны достаточными для себя. Поэтому возникает вопрос, выражает и означает ли лев, образ которого находится перед нами, лишь самого себя, или он, кроме того, обозначает и представляет еще и нечто другое, некое абстрактное содержание — например, голую силу, или более конкретное содержание — например, героя, время года, земледелие; словом, возникает сомнение, должны ли мы понимать такой образ в собственном смысле, или одновременно и в переносном смысле, или же только в переносном смысле. Последнее, например, верно по отношению к символическим выражениям языка, таким словам, как begreifen', schließen2 и т. д. Когда они обозначают духовную деятельность, мы непосредственно представляем себе только это их значение духовной деятельности, не вспоминая при этом о чувственных действиях охваты-
' Охватывать, понимать (нем.). 2 Замыкать, заключать (нем.).
16
вания, замыкания и т. д. Но когда перед нами образ льва, мы воспринимаем не только тот смысл, символом которого он в данном случае служит, но созерцаем и сам этот чувственный образ, само это чувственное существо.
Такая двусмысленность прекращается лишь тогда, когда каждая из обеих сторон получает определенное название, то есть точно указывается, какая из них есть смысл и какая — образ, и вместе с тем ясно устанавливается связь между ними. Но в таком случае представляемое конкретное существование является уже не символом как таковым, а лишь простым образом, и отношение между образом и смыслом получает известную форму сравнения, притчи. В притче нашему умственному взору должны являться обе стороны: во-первых, общее представление и, во-вторых, его конкретный образ. Если же размышление еще не дошло до того, чтобы фиксировать отдельно общие представления и особо обозначать их, то и родственный чувственный облик, в котором должен найти свое выражение более общий смысл, еще не мыслится отдельно от этого смысла,— они остаются для понимания в непосредственном единстве. В этом, как мы еще увидим позже, состоит различие между символом и сравнением. Например, Карл I- Моор при виде заходящего солнца восклицает: «Так умирает герой!» Здесь смысл явно отделен для Моора от чувственного изображения, и в образ он одновременно вкладывает смысл.
Правда, в других случаях это отделение образа от смысла и соотнесение их не так ясно очерчены, и связь между ними остается более непосредственной. Но в таких случаях из общего контекста речи, из положения, занимаемого в ней образом, и из других обстоятельств уже должно быть ясно, что образ сам по себе не должен удовлетворять слушателя,— что под ним подразумевают то или иное определенное и недвусмысленное значение. Если, например, Лютер говорит: Могучий замок наш господь
или если мы читаем: На горделивых судах отправляется юноша в море, Чуть уцелевший челнок к пристани правит старик,—
то у нас нет никакого сомнения, что под образом замка подразумевается защита, что под образом моря и горделивых судов подразумевается мир надежд и планов, а под образом челна и гавани подразумеваются ограниченные цель и достижения — маленький надежный уголок. И точно так же если мы читаем в Ветхом завете: «Боже, раздроби зубы в их пасти, разбей, господи, челюсти
17
львам»,— то сразу же понимаем, что «зубы», «пасть», «челюсти львов» взяты не сами по себе, а служат лишь образами и чувственными наглядными .представлениями, которые следует понимать
не в собственном их значении, и что нас интересует здесь лишь .их смысл.
Эта двусмысленность выступает в символе как таковом тем в большей степени, что образ, обладающий смыслом, называется символом преимущественно лишь в том случае, когда этот смысл не выражен особо и не ясен сам по себе, как это бывает в сравнении. Правда, подлинный символ также и лишается своей двусмысленности благодаря тому, что вследствие 'самой этой неопределенности соединение чувственного образа и смысла становится привычным и превращается в нечто более или менее условное (необходимое требование для простых знаков), тогда как притча представляется чем-то придуманным для данного случая, чем-то единичным, которое ясно само по себе, так как само приводит с собою свой смысл.
Однако если определенный символ благодаря привычке и ясен тем, кто существует в таком условном круге представлений, то дело обстоит совершенно иначе по отношению ко всем тем, кто не вращается в том же круге представлений или для кого он лежит в прошлом. Им дано сначала лишь непосредственное чувственное изображение, и для них каждый раз остается сомнительным, должны ли они довольствоваться тем, что предлежит им, или это непосредственно предлежащее указывает еще и на иные представления и мысли. Если мы, например, замечаем в христианских церквах на видном месте стены треугольник, то для нас тотчас же становится ясным, что здесь не имеется в виду чувственное созерцание этой фигуры как простого треугольника, а что дело заключается в ее смысле. Если же эту фигуру мы увидим в другом помещении, то нам будет столь же ясно, что ее не следует принимать за символ или знак триединства. Но другие, нехристианские народы, у которых нет такой привычки и такого знания, будут находиться в сомнении, и даже мы сами не всегда можем с одинаковой уверенностью определить, следует ли понимать находящийся перед нами треугольник символически или просто как треугольник.
Ь) Двусмысленность символа в мифологии и искусстве
Что касается этой неуверенности, то речь идет не об ограниченном числе случаев, в которых мы встречаемся с ней, а об очень обширных областях искусства, о содержании лежащего
18
перед нами громадного материала,— о содержании почти всего искусства Востока. Вступая в мир древнеперсидских, индийских, египетских образов и созданий, мы чувствуем себя сначала не по себе; мы чувствуем, что странствуем посреди каких-то задач. Сами по себе эти создания нас не привлекают, непосредственное созерцание их не доставляет нам удовольствия и не удовлетворяет нас; они сами как бы требуют от нас, чтобы мы перешагнули через них и пошли дальше, к их смыслу, который есть нечто более широкое, более глубокое, чем эти образы.
В других произведениях этого рода с первого же взгляда становится ясно, что они, подобно детским сказкам, представляют собой голую игру образами и случайными странными сочетаниями. Дети удовлетворяются такой вздорной праздной игрой поверхностными образами и их неопределенными колеблющимися сочетаниями. Но народы, хотя бы они и находились в своем детском возрасте, требовали какого-то существенного содержания, и мы действительно находим такое содержание в художественных образах индийцев и египтян, хотя в загадочных созданиях этих народов даны лишь намеки на смысл образов и разгадывание их встречает большие трудности. В какой мере это несоответствие между смыслом и непосредственным художественным выражением следует приписать бедности искусства, нечистоте и безыдейности самой фантазии и в какой мере оно вызвано тем, что более ясное, более правильное формообразование не было бы в состоянии выразить имеющийся здесь глубокий смысл и фантастическое и гротескное как раз и 'вводится для создания более широкого, далеко идущего представления,— это именно тот вопрос, ответ на который в значительной мере и прежде всего может казаться двусмысленным.
Даже в области классического искусства мы встречаемся кое-где со. случаями подобной неопределенности, хотя классический характер искусства в том и состоит, что оно по своей природе не символично, но всецело ясно и отчетливо в самом себе. Ясен классический идеал именно (потому, что он охватывает истинное содержание искусства, то есть субстанциальную субъективность, и тем самым находит также и истинный образ,— который в самом себе высказывает не что иное, как это подлинное содержание. Таким образом, здесь нет иного смысла и значения, кроме того, которое действительно заключено во внешнем образе, ибо обе эти стороны полностью соответствуют друг другу, тогда как в символическом искусстве, в притче и т. д. образ всегда выражает еще и нечто иное помимо того значения, образом которого он служит. Но и в классическом искусстве есть своя двусмысленность, так
19
как по отношению к античным мифологическим созданиям может возникнуть сомнение, должны ли мы остановиться на внешних образах как таковых и восхищаться ими лишь как прелестной игрой счастливой фантазии,— ведь мифология будто бы лишь бесцельное выдумывание побасенок,— или же мы должны задаться вопросом о скрывающемся за ними .более широком и глубоком смысле.
Последнее требование может прийти нам в голову главным образом там, где содержание этих фантазий касается жизни и деятельности самого божественного, так как истории, которые нам сообщают, казалось бы, следует рассматривать как недостойные абсолюта и совершенно неадекватные, безвкусные вымыслы. Когда, например, мы читаем о двенадцати работах, исполненных Геркулесом, или слышим рассказ, как Зевс сбросил Гефеста с Олимпа на остров Лемнос,- так что Вулкан благодаря этому стал хромым, то нам кажется, что все это — лишь выдуманная красивая сказка. И многочисленные любовные приключения Юпитера могут казаться нам всего лишь произвольным вымыслом. С другой стороны,— так как подобные истории рассказываются именно о высшем божестве,— снова становится вероятным, что за ними
скрывается другой, более широкий смысл, чем тот, который непосредственно дается мифом.
В этом отношении были выдвинуты два противоположных воззрения. Одно считает мифологию чисто внешними историями, которые, разумеется, недостойны богов; и хотя сами по себе они, может быть, прелестны, милы, интересны и даже прекрасны, они, однако, не дают повода к дальнейшему раскрытию более глубокого смысла. Мифологию следует поэтому рассматривать чисто исторически, видеть в ней лишь то, что она дает нам в своей наличной форме, так как, с одной своей стороны, а именно с художественной, она в своих созданиях, образах, богах, их действиях и приключениях оказывается сама по себе достаточной для того, чтобы в самой себе дать свое объяснение подчеркиванием некоторых значений. С другой же стороны, по ее историческому возникновению, мифологию можно рассматривать как обусловленную произволом жрецов, скульпторов и поэтов, влиянием исторических событий, чужестранных сказок и преданий. Другое воззрение, напротив, не хочет удовлетвориться одним лишь внешним смыслом мифологических образов и рассказов, а настаивает на том, что в них есть более глубокий общий смысл и что раскрытие этого сокровенного смысла и составляет настоящую задачу мифологии как научного рассмотрения мифов. Поэтому мифологию следует понимать символически. «Символически» означает здесь
20
лишь то, что сколь странными, шуточными, гротескными ни казались бы мифы и сколько ни было бы примешано к ним случайных созданий внешней, произвольной фантазии, они все же рождены духом и должны заключать в себе значения, то есть общие мысли о природе бога, философемы.
В настоящее время главным представителем второго воззрения является Крейцер. В своей «Символике» он начал изучать мифологические представления древних народов не в обычной манере, рассматривающей их с внешней стороны и прозаически или с точки зрения их художественной ценности,— а стал искать в них внутреннюю разумность их смысла. Он исходил при этом из предположения, что мифы и легендарные рассказы берут свое начало в человеческом духе; последний, правда, способен играть своими представлениями о богах, однако с возникновением интереса к религии он вступает в высшую область, в которой разум становится изобретателем образов, хотя разум и продолжает страдать тем главным недостатком, что не в состоянии прежде всего адекватно выявить свою внутреннюю мысль.
Это предположение само по себе истинно: религия находит свой источник в духе, который ищет свою истину, предчувствует ее и осознает ее в каком-нибудь образе, более или менее родственном этому содержанию истины. Но если разум изобретает образы, то возникает потребность познать этот разум. Лишь это познание действительно достойно человека. Кто оставляет его в стороне, тот получает только массу внешних сведений. Если же Мы будем докапываться до внутренней истины мифологических представлений, то, не отвергая другой стороны, а именно случайности и произвола воображения, условий того места, где зародился миф, и т. п., мы сможем дать оправдание различным мифологиям. Оправдание же человека в его духовном созидании и формировании есть благородное занятие, более благородное, чем голое собирание внешних исторических фактов.
Правда, на Крейцера обрушились с упреком, что он по примеру неоплатоников вносит подобного рода широкие значения в. объясняемые им мифы лишь от себя и что он ищет в них мысли, относительно которых не только нельзя исторически установить, что они действительно содержатся в них, но можно даже доказать, что, для того чтобы найти их в мифах, их надо было сначала внести в последние. Ибо народ, поэты и жрецы понятия не имели об этих мыслях, которые совершенно не соответствуют всему уровню образования их времени (это не мешает тому, что теперь говорят о великой тайной мудрости жрецов). Последнее утверждение, несомненно, совершенно правильно. Народы, поэты,21
жрецы, действительно, те всеобщие мысли, которые лежат в основании их мифологических представлений, осознавали не в этой форме всеобщности, не облекали их намеренно, с самого начала в символическую форму. Но Крейцер этого и не утверждает. Однако если древние, создавая свою мифологию, и не думали о том, что мы теперь в ней видим, то из этого еще отнюдь не следует, что их представления в себе не являются символами и что мы не должны их считать таковыми. В ту эпоху, когда народы создавали свои мифы, они жили поэзией и поэтому осознавали свои самые внутренние и глубокие переживания не в форме мысли, а в образах фантазии, не отрывая общих абстрактных представлений от конкретных образов. Что это действительно было так, мы должны признать здесь несомненным фактом, допуская в то же время, что при таком символическом способе объяснения, как и при объяснении происхождения слов, часто могут вкрасться произвольные остроумные комбинации.
с) Ограничение понятия символического искусства, Но как бы мы ни соглашались с тем, что мифология с ее рассказами о богах и вымыслами никогда не ослабевавшей фантазии заключает в себе некое разумное содержание и глубокие религиозные представления, все же по отношению к символической форме искусства мы должны поставить вопрос, действительно ли следует понимать всякую мифологию и всякое искусство символически; Фридрих фон Шлегель, например, утверждал, что во всяком художественном изображении следует искать аллегорию. Символичность или аллегоричность понимаются при этом таким образом, что в основании каждого художественного произведения и каждого мифологического образа лежит общая мысль, которая, самостоятельно выделенная в ее всеобщности, должна нам объяснить, что означает то или иное произведение и представление.
Этот способ рассмотрения в новейшее время сделался довольно обычным. Так, например, в новейших изданиях Данте, у которого действительно встречается много аллегорий, комментаторы стремятся каждую песнь объяснить всецело аллегорически; Гейне 'в примечаниях к своим изданиям античных поэтов тоже стремится уяснить общий смысл каждой метафоры в абстрактных, рассудочных определениях. Рассудок в особенности спешит добраться до символа и аллегорий, отделяя смысл от образа и разрушая этим художественную форму, о которой не заботятся при
22
этом символическом объяснении, лишь бы извлечь из произведения общую мысль как таковую.
Такое распространение символического на все области мифологии и искусства представляет собой отнюдь не то, что мы имеем в виду здесь при рассмотрении символической формы искусства. Ибо мы не стремимся здесь дознаться, в какой мере художественные образы могут быть истолкованы символически или аллегорически в указанном смысле этих слов; наоборот, мы ставим вопрос, в какой мере само символическое может быть причислено к формам искусства. Мы хотим установить художественное отношение между смыслом и его образом, поскольку это отношение носит символический характер в отличие от других способов изображения, свойственных преимущественно классическому и романтическому искусству. Наша задача должна поэтому состоять не в том, чтобы распространить символическое понимание на всю область искусства, а наоборот, мы должны определенно ограничить круг того, что в самом себе изображено как символ и должно поэтому рассматриваться как символическое. В этом смысле мы уже дали выше деление идеала в искусстве на символическую, классическую и романтическую форму.
Эта символичность в нашем значении слова тотчас же прекращается там, где содержанием и формой художественного произведения являются не общие абстрактные представления, а свободная индивидуальность. Ибо субъект есть нечто для себя самого значащее и само себя объясняющее. Все, что он чувствует, мыслит, делает, создает,— его свойства, действия, его характер —все это есть он сам, и весь круг его духовного и чувственного явления не имеет другого значения, кроме как значения субъекта, который в этом своем распространении и развертывании лишь делает наглядным самого себя как властелина всей своей объективности. Смысл и чувственное изображение, внутреннее и внешнее, предмет и образ уже не отличаются больше друг от друга и обнаруживают себя не только в качестве родственных между собою, как это имеет место в собственно символическом, а в качестве единого целого, в котором явление не обладает никакой другой сущностью и сущность никаким другим явлением вне себя или рядом с собою. Проявляющее и проявляемое сняты, чтобы перейти в конкретное единство.
В этом смысле 'мы не должны понимать символически греческих богов, поскольку греческое искусство ставит их перед нами как свободных, самостоятельно замкнутых в себе индивидов и они вполне раскрываются в их для-себя-бытии. Именно для искусства действия Зевса, Аполлона, Афины суть поступки лишь
23
этих индивидов и не должны представлять собою ничего другого, кроме их могущества и силы их страстей. Если же от таких свободных в себе субъектов абстрагируют общее понятие в качестве их смысла и ставят последний рядом с особенным как объяснение всего индивидуального явления, то оставляют без внимания и разрушают все то, что в этих образах есть художественного. Поэтому-то художники и не могли мириться с таким символическим толкованием всех художественных произведений и мифологических фигур. То, что еще остается в упомянутом виде художественного изображения как действительно символический намек или как аллегория, касается второстепенных деталей и явно низводится самим художником на степень простого атрибута и знака, как, например, орел, сидящий возле Зевса, и бык, сопровождающий евангелиста Луку,— между тем как египтяне верили, что созерцают в Аписе само божество.
Но затруднение при этом художественном явлении свободной субъективности состоит в том, что нелегко узнать, обладает ли то, что нам представляют как субъект, действительной индивидуальностью и субъективностью, или же оно есть лишь пустая видимость их, голое олицетворение. В этом последнем случае личность есть лишь поверхностная форма, которая не выражает в особенных поступках и телесном образе свое внутреннее содержание и не проникает собою всю внешнюю сторону своего явления как свою собственную, а в качестве значения этой внешней реальности обладает еще и другим внутренним содержанием, которое не является самой этой личностью и субъективностью.
В этом состоит та основная точка зрения, которой мы должны руководствоваться при ограничении понятия символического искусства.
Следовательно, при рассмотрении символического мы стремимся к тому, чтобы познать внутренний ход возникновения искусства, поскольку этот процесс можно вывести из понятия идеала, развивающегося в истинное искусство. Тем самым ступени символического искусства в их последовательности мы познаем как ступени на пути к истинному искусству. В какой бы тесной связи между собой ни находились религия и искусство, нашей задачей является не изучение самих символов и религии — как совокупности символических или эмблематических представлений в широком смысле слова, а рассмотрение в них только той стороны, которая принадлежит искусству как таковому. Рассмотрение религиозной стороны мы должны предоставить истории мифологии.
24
4. ДЕЛЕНИЕ
Для более точного деления символической формы искусства нужно прежде всего установить те пограничные пункты, в пределах которых совершается ее развитие.
В общем, как мы уже говорили, вся эта область образует лишь предыскусство, ибо в ней мы имеем лишь абстрактные, существенно не индивидуализированные в самих себе значения, так что непосредственно связанное с ними формообразование носит столь же адекватный, сколь и неадекватный характер. Первой пограничной областью является поэтому высвобождение художественного созерцания и изображения; противоположную границу образует искусство в собственном смысле, к которому символическое искусство поднимается как к своей истине.
Если говорить субъективно о первом выступлении символического искусства, то можно вспомнить высказанную мысль, что художественное созерцание, так же как и религиозное, или, вернее, одновременно и то и другое, и даже научное исследование началось с удивления. Человек, которого еще ничто не удивляет, живет в состоянии тупости. Его ничто не интересует, для него ничего не существует, потому что он еще не отличил себя для себя самого и не отделился от предметов и их непосредственного единичного существования. С другой стороны, тот, кого больше уже ничто не удивляет, рассматривает всю совокупность внешних фактов как нечто такое, что он вполне уяснил самому себе— либо абстрактно, рассудочным образом, как это делает общечеловеческое просвещение, либо в благородном и более глубоком сознании абсолютной духовной свободы и всеобщности,— уяснил, превратив предметы и их существование в духовную самосознательную установку по отношению к ним.
Удивление появляется лишь там, где человек как дух, оторвавшись от непосредственнейшей, первоначальной связи с природой и от ближайшего, чисто практического отношения к вещам — отношения вожделения, выходит. за пределы природы и собственного единичного существования и отныне ищет и видит в вещал всеобщее, в себе сущее и пребывающее. Лишь тогда его начинают поражать предметы природы; они представляют собой некое иное, которое должно существовать для него и в котором он стремится снова найти самого себя, мысли, разум. Предчувствие чего-то высшего и сознание внешнего еще остаются нераздельными, но вместе с тем между природными вещами и духом существует противоречие, в котором предметы оказываются как притягивающими, так и отталкивающими друг друга и ощущение которого при стремлении устранить его порождает удивление.
25
Ближайший продукт этого состояния удивления состоит в том, что человек, с одной стороны, противопоставляет себе природу и вообще предметный мир в качестве основы и поклоняется ему как силе, с другой же стороны, он удовлетворяет потребность сделать для себя внешним субъективное ощущение некоего высшего, существенного, всеобщего начала и созерцать его как предметное. Это соединение непосредственно ведет к тому, что отдельные предметы природы — и главным образом стихийные: море, реки, горы, звезды,— взятые не в их единичной непосредственности, а возведенные в представление, получают в этом представлении форму всеобщего, в себе и для себя сущего существования.
Искусство начинается с того, что, беря эти представления в их всеобщности и существенном в-себе-бытии, оно воплощает их в образе, снова делая их- объектами созерцания для непосредственного сознания, и ставит их перед духом в предметной форме этого сознания. Поэтому непосредственное поклонение предметам природы, культ природы и фетишей еще не является искусством.
Взятая с объективной стороны, начальная стадия искусства находится в теснейшей связи с религией. Первые произведения искусства носят мифологический характер. В религии доводит себя до сознания человека абсолютное вообще, хотя бы это абсолютное осознавалось со стороны своих наиболее абстрактных и скудных определений. Ближайшим раскрытием, существующим для абсолютного, служат явления природы, в существовании которых человек смутно предчувствует абсолютное и потому делает его для себя наглядным в форме предметов природы.
В этом стремлении искусство берет свое первое начало. Однако и в этом отношении оно впервые выступает лишь там, где человек не только непосредственно усматривает абсолютное в действительно наличных вещах и довольствуется этим способом реализации божественного, но где сознание порождает из самого себя понимание абсолютного в форме чего-то в самом себе внешнего, ц также объективное воплощение этого более или менее соразмерного соединения. Ибо искусство предполагает постигнутое духом субстанциальное содержание, которое выступает, правда, как внешнее, однако эта внешняя сторона не только непосредственно налична, а впервые производится духом в качестве существования, охватывающего в себе и выражающего собой это содержание. Первым же переводчиком религиозных представлений, сообщающим им форму, является только искусство, ибо прозаическое рассмотрение предметного мира проявляется впервые
26
лишь тогда, когда человек как духовное самосознание освободил себя внутри себя от власти непосредственности и противостоит последней в этой свободе, разумно воспринимая объективность как нечто чисто внешнее.
Это разделение всегда представляет собою лишь позднейшую ступень. Первое же знание об истинном является некиим средним состоянием между лишенным духа погружением в природу и всецело освобожденной от нее духовностью. Это среднее состояние, в котором дух ставит перед своим взором свои представления в виде предметов природы лишь потому, что он еще не пробился к высшей форме, и стремится в этом соединении сделать соразмерными друг другу обе стороны,— это среднее состояние представляет собой в общем, в противоположность прозаическому рассудку, точку зрения поэзии и искусства. Поэтому вполне прозаическое сознание появляется впервые только там, где получает осуществление принцип субъективной духовной свободы в его абстрактной и поистине конкретной форме,— в римском, а позднее в новейшем христианском мире.
Конечной целью, к которой стремится символическая форма искусства и с достижением которой она разлагается и перестает быть символической, является классическое искусство. Хотя последнее и достигает истинного явления искусства, однако оно не может быть первой по времени формой искусства; в качестве своей предпосылки оно получает многообразные опосредствующие и переходные ступени символического искусства. Ибо его соразмерным содержанием является духовная индивидуальность, которая в качестве содержания и формы абсолютного и истинного может вступить в сознание только после многообразных опосредствований и переходов. Сначала всегда выступает абстрактное и неопределенное по своему значению; духовная же индивидуальность должна быть существенно конкретной в себе и для самой себя. Она представляет собой понятие в его соразмерной действительности, которое определяет себя из самого себя и которое может быть постигнуто лишь после того, как оно предпослало себе в их односторонней разработке те абстрактные стороны, опосредствованием которых оно является. Раз это произошло, то понятие своим вступлением в качестве целостности кладет конец прежним абстракциям. Это имеет место в классическом искусстве. Оно кладет конец предварительным попыткам искусства, носящим чисто символизирующий и возвышенный характер, потому что духовная субъективность в самой себе обладает своим и притом адекватным обликом, точно так же как и само себя определяющее понятие порождает из самого себя соразмерное ему
27
особенное существование. Когда оказывается найденным для искусства это истинное содержание и тем самым истинный образ, тогда непосредственно прекращается искание этих обеих сторон искусства и стремление к ним, а в этом искании и состоит недостаток символического искусства.
Если мы зададимся вопросом, оставаясь в пределах указанных конечных пунктов, каков более частный принцип деления символического искусства, то должны будем ответить, что, поскольку последнее лишь с трудом продвигается к подлинному смыслу и соответствующему ему способу формирования, таковым принципом является вообще борьба между противящимся истинному искусству содержанием и столь же мало однородной с таким содержанием формой. Хотя обе 'эти стороны и соединяются в тождество, однако они не совпадают ни друг с другом, ни с истинным понятием искусства и стремятся поэтому снова выйти из этого неудовлетворительного соединения. Все символическое искусство можно понимать в этом отношении как непрерывную борьбу за соответствие между смыслом и образом, и различные его ступени суть не столько различные виды символического искусства, сколько стадии и виды одного и того же противоречия между духовным и чувственным.
Сначала эта борьба существует лишь β себе, то есть несоразмерность объединенных и насильственно сведенных вместе сторон еще не стала таковой для самого художественного сознания, потому что последнее не знает и не умеет охватить ни одной из этих сторон; оно не знает взятого им смысла самого по себе в его всеобщей природе, не умеет также самостоятельно охватить реальный образ в его завершенном бытии и исходит поэтому из непосредственного тождества этих 'двух элементов, вместо того чтобы поставить перед своим взором различие между ними. Начальным исходным пунктом является поэтому еще не раздельное и в этой противоречивой связи не устоявшееся и загадочное единство художественного содержания и того символического выражения, которое ему пытаются дать,— а настоящая, бессознательная, первичная символика, создания которой еще не установлены
как символы.
Конечная стадия, напротив, являет нам исчезновение и саморазложение символического искусства, так как борьба этих двух элементов, ранее существовавшая в себе теперь вошла в художественное сознание и символизирование становится сознательным отделением ясного для себя смысла от его чувственного, родственного ему образа. В этом отделении остается вместе с тем явное соотнесение, но это соотнесение не представляется непо-
28
средственным тождеством, а обнаруживает себя лишь как голое сравнение этих двух элементов, в котором выступает также незнаемое ранее отличие и отделение этих элементов.
Это область символа, который знают как символ; это смысл, который знают и представляют себе в его всеобщности, конкретное явление которого намеренно низводится к голому образу и сопоставляется с последним в целях художественной наглядности.
Посредине между указанной выше начальной стадией и этим конечным этапом — место возвышенного искусства. В нем впервые смысл как духовная, для себя сущая всеобщность отделяется от конкретного существования и являет последнее как свое отрицательное, внешнее и служебное, которому он не может позволить существовать самостоятельно, чтобы выразить себя в нем, а должен установить это конкретное существование как неудовлетворительное в самом себе и подлежащее устранению, несмотря на то, что этот смысл не располагает для выражения себя ничем иным, кроме как этим внешним ему и ничтожным материалом. Блеск этой возвышенности смысла предшествует, согласно понятию, сравнению в собственном смысле именно потому, что конкретная единичность природных и прочих явлений должна прежде всего трактоваться отрицательно и применяться лишь в качестве нарядного украшения для недостижимой мощи абсолютного значения,— прежде чем сможет выявиться то решительное отделение друг от друга и избирательное сравнение явлений родственных и вместе с тем отличных от смысла, образ которого они должны дать.
Эти намеченные три главные ступени расчленяются далее внутри самих себя следующим образом.
а) Бессознательная символика
а. Первая ступень сама еще не может ни называться символической в собственном смысле, ни считаться принадлежащей области искусства. Она только пролагает путь для искусства вообще и для символического искусства в частности. Это непосредственное субстанциальное единство абсолютного как духовного смысла с его нераздельным чувственным существованием в природной форме.
ß. Вторая ступень образует переход к символу в собственном смысле. На этой ступени первоначальное единство начинает распадаться; с одной стороны, всеобщий смысл возвышается для себя над единичными явлениями природы, а с другой стороны, в этой представляемой всеобщности он должен все же осознавать-
29
ся в форме конкретных предметов природы. В этом двойственном стремлении одухотворить природное и дать чувственное воплощение духовному проявляются на этой ступени их дифференциации вся фантастика и путаница, все неустановившееся и беспорядочное брожение разнородных элементов символического искусства, которое смутно чувствует несоразмерность своего формирования и воплощения, однако не может помочь этому иначе, как искажая образы и сообщая им несоизмеримость чисто количественной возвышенности. На этой ступени мы живем в мире, полном чистых вымыслов, невероятностей и чудес, не встречая, однако, подлинно прекрасных произведений искусства.
γ. Пройдя через эту борьбу между смыслом и его чувственным изображением, мы достигаем третьей 'ступени — символа в собственном смысле. Лишь на этой ступени символическое художественное произведение -полностью выявляет весь свой характер. Формами и образами больше не являются чувственно существующие предметы, которые, как это происходит на первой ступени, не будучи созданиями искусства, непосредственно совпадают с абсолютным в качестве его бытия или, как на второй ступени, могут устранить свой разлад со всеобщностью смысла только посредством напыщенного расширения фантазией особенных предметов природы и событий. То, что теперь становится наглядным в качестве символического образа, (представляет собой созданное искусством произведение, которое, с одной стороны, должно представлять само себя с присущим ему своеобразием, но, с другой стороны, должно выявлять не только этот единичный предмет, но и дальнейший всеобщий смысл; последний должен быть приведен в связь с этим предметом и познан в нем, так что эти образы предстают нам как задачи, требующие, чтобы мы угадали вложенный в них внутренний смысл.
Относительно этих более определенных форм первоначального символа мы можем предварительно заметить, что они проистекают из религиозного миросозерцания целых народов. Поэтому мы напомним здесь их историческую сторону. Разграничение, однако, нельзя провести здесь с полной строгостью, ибо отдельные виды формирования и изображения, как это вообще свойственно художественной форме, смешиваются друг с другом, так что форма, которую мы рассматриваем как основной тип, характеризующий миросозерцание одного народа, встречается и у 'более ранних или более поздних народов, хотя у них она играет подчиненную роль и встречается редко. В общем же мы должны искать конкретных наглядных примеров первой ступени в древнеперсидской религии, второй — в Индии, а третьей — в Египте.
30
Благодаря указанному ходу развития смысл, до сих пор более или менее затемненный своим особенным чувственным образом, наконец выбрался на свободу и осознается для себя в своей ясности. Тем самым разложилось собственно символическое отношение, и теперь, когда абсолютный смысл понимается как всеобщая, всеохватывающая субстанция всего мира явлений, искусство субстанциальности — как символика возвышенного — сменяет собою голые символико-фантастические намеки, искажения и догадки.
Здесь мы должны различать главным образом две точки зрения, которые находят свое основание в двояком отношении между субстанцией как абсолютным и божественным началом и конечностью явлений. Это отношение может быть положительным и отрицательным, хотя в обеих формах в вещах должны стать наглядными не их частный образ и частный смысл, а их всеобщая душа и их положение по отношению к этой субстанции, так как именно всеобщая субстанция всегда должна найти свое выявление.
а. На первой ступени это отношение понимается таким образом, что субстанция как свободное от всяких своеобразных черт всеохватывающее и единое начало имманентна определенным явлениям, как порождающая и животворящая их душа. В этой имманентности субстанция узревается как нечто утвердительно присутствующее и постигается и изображается отрекающимся от самого себя субъектом посредством любовного погружения в ту сущность, которая находится во всех этих вещах. Такое понимание дает нам искусство возвышенного пантеизма, каким мы находим его в зачатке уже в Индии, каким оно затем получило самое блестящее развитие в магометанстве и его искусстве мистики и каким мы его, наконец, вновь встречаем — в более углубленном субъективном виде — .в некоторых явлениях христианской мистики.
β. Отношение, присущее возвышенному в собственном смысле, отрицательное отношение, мы можем найти только в еврейской поэзии, в этой поэзии величественного, которая умеет прославлять и возвеличивать не имеющего образа царя неба и земли лишь таким образом, что представляет весь сотворенный им мир как акциденцию его могущества, а все творения — как посланцев его славы, как украшения его величия. Эта поэзия даже самому наивеликолепному отводит роль слуги бога, полагая его отрицательным образом, так как она не в состоянии найти адекватное и достаточно утвердительное выражение для силы и власти высшего существа и достигает положительного удовлетворения толь-
31
ко в покорности твари, которая лишь в чувстве та. положенном бытии своей недостойности становится соразмерной самой себе и своему значению.
с) Сознательная символика сравнивающей формы искусства
Благодаря тому что смысл, знаемый для себя в своей простоте, приобрел самостоятельность, уже совершилось в себе отделение его от положенного не соразмерным ему явления. Если же внутри этого действительного разделения образ и смысл всё же приводятся в отношение некоторого внутреннего родства, как того требует символическое искусство, то это соотнесение их друг с другом не содержится непосредственно ни в смысле, ни в образе, а некоем субъективном третьем, которое 'после субъективного созерцания находит в них. черты сходства и, полагаясь на это, делает наглядным и объясняет ясное само по себе значение с помощью родственного единичного образа.
В этом случае образ, вместо того чтобы по-прежнему быть единственным выражением абсолютного, представляет собой лишь украшение. Благодаря этому получается отношение, не соответствующее понятию прекрасного, так как образ и смысл противостоят друг другу, вместо того чтобы быть сплетенными друг с другом, как это, хотя и несовершенно, имеет место в собственно символическом искусстве. Художественные произведения, делающие эту форму своей основой, носят поэтому второстепенный характер, и их содержанием не может быть само абсолютное, но лишь какое-нибудь ограниченное состояние или событие. Художники пользуются такими формами большей частью лишь случайно, как чем-то дополнительным.
При более подробном рассмотрении мы должны и в этой главе разграничить три основные ступени.
а. К первой ступени принадлежат типы изображения, свойственные басне, притче и иносказанию. Здесь отделение образа от смысла, составляющее характерную черту всей этой области искусства, еще не дано определенно и субъективная сторона сравнивания еще не подчеркивается; следовательно, главным остается изображение отдельного конкретного явления, исходя из которого становится возможным объяснение всеобщего смысла.
β. Напротив, на второй ступени всеобщий смысл сам по себе получает преобладание над разъясняющим образом, который может выступать еще лишь как простой атрибут или произвольно выбранный образ. Сюда относятся аллегория, метафора, сравнение.
32
Наконец, на третьей ступени происходит полный распад тех сторон, которые ранее либо были непосредственно объединены в символе, несмотря на их относительную чуждость друг к другу либо в своей самостоятельности и разделении все же соотносились друг с другом. Художественная форма сделалась чем-то совершенно внешним для содержания, знаемого само по себе в его прозаической всеобщности, как это имеет место в дидактической поэме. с другой стороны, само но себе внешнее постигается изображается в своем чисто внешнем характере в так называемой описательной поэзии. Таким образом исчезает символическое объединение и соотнесение, и мы должны искать вокруг себя иное
подлинно соответствующее понятию искусства объединение содержания и формы.
2 Гегель т. 2
33
Первая глава БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
Приступая теперь к более близкому рассмотрению особенных ступеней развития символического искусства, мы должны начать это рассмотрение с начальной формы искусства, проистекающей из самой идеи последнего. Таковой, как мы видели ранее, является символическая форма в ее непосредственном виде, когда ее еще не знают и не установили как голый образ и сравнение,— бессознательная символика. Но прежде чем эта последняя сможет достичь своего собственного символического характера как в самой себе, так и для нашего рассмотрения, мы должны принять некоторые предпосылки, определенные самим понятием символического.
Первоначальный исходный пункт можно определить следующим образом.
С одной стороны, символ имеет своей основой непосредственное соединение всеобщего и вследствие этого духовного смысла и столь же соответственного, сколь и несоответственного чувственного образа, несовпадение которых, однако, еще не получило осознания. Но, с другой стороны, эта связь должна быть воплощена фантазией и искусством, а не просто восприниматься как непосредственно наличная божественная действительность. Символическое возникает для искусства лишь с отделением всеобщего смысла от непосредственно наличного в природе, так что абсолютное постигается фантазией как действительно присутствующее β этом природном существовании.
Первой предпосылкой возникновения символического искусства является поэтому не порожденное искусством, а помимо него найденное в действительных предметах природы и человеческой деятельности непосредственное единство абсолютного и его существования в мире явлений.
34
А. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО СМЫСЛА И ОБРАЗА
В это созерцаемое непосредственное тождество божественного, осознаваемого неразрывно со своим существованием в природе и человеке, не вошли ни природа как она есть, ни абсолютное, взятое для себя, оторванное от природы и сделанное самостоятельным. Следовательно, нельзя говорить о различии между внутренним и внешним, смыслом и образом, потому что внутреннее еще не отделилось от своей непосредственной действительности в существующем. Поэтому если мы говорим здесь о смысле, то это наша рефлексия, проистекающая из нашей потребности рассматривать форму, которую приобретает духовное и внутреннее начало в созерцании, как нечто, 'вообще говоря, внешнее, сквозь которое, для того чтобы его донять, мы желаем заглянуть во внутреннее, в душу и смысл. Поэтому, касаясь таких всеобщих созерцаний, мы должны делать существенное различие в тех случаях, когда народы, воспринимающие их впервые, имели в виду само внутреннее как внутреннее и как смысл, и в тех случаях, когда лишь мы познаем в них некий смысл, получающий свое внешнее выражение в созерцании.
Следовательно, в этом первом единстве нет такого различия между душой и телом, понятием и реальностью. Чувственное и телесное, природное и человеческое суть не только выражение некоего смысла, который следует отличать от них, но само являющееся понимается как непосредственная действительность α присутствие абсолютного. Последнее не получает для себя какого-нибудь самостоятельного существования, а состоит лишь в непосредственном присутствии предмета, который представляет собою бога или божественное. Например, поклоняясь ламе,— этого единичного, действительного человека знают и понимают непосредственно как бога, подобно тому как в других природных религиях солнце, горы, реки, луна, отдельные животные — бык, обезьяна и т. д.— рассматриваются как непосредственно божественные существа и почитаются как священные.
Нечто подобное, хотя и в более углубленном виде, обнаруживается отчасти также и в христианских воззрениях. Например. согласно католическому учению, освященный хлеб есть действительное тело бога, вино — его действительная кровь, и Христос непосредственно присутствует в них. Даже согласно лютеранской вере, хлеб и вино превращаются посредством набожного вкушения их в действительное тело и кровь. В этом мистическом тождестве не содержится ничего чисто символического, которое появляется лишь в протестантском учении, благодаря тому, что здесь
35
духовное отделяется само по себе от чувственного и внешнее берется как простой намек на отличный от него смысл. В чудотворных образах девы Марии божественная сила действует как непосредственно присутствующая в них, а не в качестве лишь символического намека посредством образов.
Но в наиболее распространенном и глубоко проникающем виде это воззрение о совершенно непосредственном единстве содержится в жизни и религии древнего зендского народа, представления и учреждения которого сохранились для нас в Зенд-Авесте.
1. РЕЛИГИЯ ЗОРОАСТРА
Религия Зороастра рассматривает свет в его природном существовании — солнце, звезды, огонь в его свечении и горении — как абсолютное, не отделяя -этого божества от света как простого выражения и отображения или эмблемы. Божественное начало, смысл, не отделено от всего существования, от светил. Ибо если свет и значит здесь благое, справедливое и тем самым благодетельное, сохраняющее и распространяющее жизнь, то все же он не считается простым образом блага, а 'само благо есть свет. Так же обстоит дело и с противопоставлением свету тьмы как нечистого, вредного, дурного, разрушительного, смертоносного и т. д.
Подразделяется и расчленяется это воззрение следующим образом.
а) Во-первых, божественное как светло-чистое в себе и противоположное ему темное и нечистое олицетворяются и получают имена Ормузда и Аримана. Однако это олицетворение остается совершенно поверхностным. Ормузд не является свободным в себе, нечувственным субъектом, подобно иудейскому богу, или подлинно духовным и личным, подобно христанскому богу, который представляется нам как действительно личный, самосознательный дух. Хотя Ормузда и называют царем, великим духом, судьей я т. д., его, однако, не отделяют от его чувственного существования в качестве света и светила. Он представляет собой лишь всеобщее начало всех особенных существ, в которых действительно существует свет, и, следовательно, представляет собою божественное и чистое; но он не возвращается в себя из всего существующего в качестве самостоятельной духовной всеобщности и для-себя-бытия. Он остается в существующих особенностях и единичностях, подобно тому как род находится в 'видах и индивидах. Правда, в качестве такого всеобщного он получает преимущество перед всем особенным и является первым, наивысшим, увенчанным золотом царем царей, самым чистым, наилучшим и т. д., но свое
36
существование он имеет во всем светлом и чистом, подобно тому как Ариман существует во всем темном, злом, гибельном и больном.
Ь) Вот почему это воззрение сразу расширяется и переходит в представление о царстве света и царстве тьмы и борьбе между ними. В царстве Ормузда находятся, прежде всего, амшаспанды в качестве семи главных небесных светил, которым воздаются божеские почести, потому что они представляют собою основные особенные существа света и в качестве великих и чистых обитателей неба составляют существование самого божества. Каждый амшаспанд, к которым принадлежит также и Ормузд, имеет свой день, в который он властвует, благословляет мир и благодетельствует ему. Ниже их стоят изеды и ферверы, которые хотя и олицетворяются подобно самому Ормузду, однако не получают определенного человеческого облика, сделавшего бы их наглядными, так что существенным для созерцания является не духовная и не телесная субъективность, а существование как свет, сияние, блеск, свечение, излучение.
Подобным же образом единичные предметы природы, которые сами не существуют в виде светил и светящихся тел,— животные, растения, равно как и человеческий мир в своей духовности и телесности, отдельные поступки и состояния, вся государственная жизнь, царь, окруженный семью вельможами, расчленение сословий, города, округа со своими начальниками, которые в качестве самых лучших и чистых людей должны быть образцами для других и оказывать им покровительство,— вообще вся действительность рассматривается как царство Ормузда. Ибо все, что носит в себе и распространяет преуспеяние, жизнь, сохранение, представляет собою существование света и чистоты и, следовательно, существование Ормузда. Всякая отдельная истина, доброта, любовь, справедливость, всякое отдельное живое существо, все благодетельное, покровительствующее, дух, блаженство, милосердие и т. д. рассматриваются Зороастром как светлое и божественное внутри себя. Царство Ормузда есть действительно наличные чистота и свет, и притом не делается никакого различия между явлениями природы и явлениями духа, подобно тому как в самом Ормузде свет и благость, духовные и чувственные качества непосредственно совпадают. Блеск какого-нибудь творения является для Зороастра совокупностью духа, силы и всякого рода жизненных проявлений, поскольку они направлены на положительное сохранение, на устранение всего дурного и вредного в самом себе. То, что в животных, людях, растениях является реальным и благом, есть свет, и мерой и качеством этого света опре-
37
деляется большая или меньшая степень блеска всех предметов. Такое же расчленение и те же ступени мы находим и в царстве Аримана — с той лишь разницей, что в этом круге достигает действительности и господства духовно дурное и природно плохое, вообще разрушительное и активно отрицательное начало. Но власть Аримана не должна получить дальнейшего распространения, и для всего мира целью ставится уничтожение царства Аримана; оно должно быть раздавлено, чтобы во всех присутствовал, жил и господствовал один лишь Ормузд.
с) Этой единственной цели посвящена вся человеческая жизнь. Задача каждого отдельного человека 'состоит не в чем ином, как в самоочищении духовном и телесном, равно как и в распространении этой благодати и борьбы с Ариманом в человеческих и природных состояниях и деятельности. Высшей, святой обязанностью является возвеличение Ормузда в его творениях, любовь ко всему, что пришло от этого света и чисто в самом себе, поклонение ему и стремление быть угодным ему. Ормузд есть начало и конец всякого поклонения. Поэтому парс прежде всего должен призывать в мыслях и словах Ормузда и молиться ему. После того как он воздаст хвалу тому, кто излучил из себя весь мир чистоты, он должен обратиться со своей молитвой к особенным предметам в порядке их величия, достоинства и совершенства; поскольку они благи и чисты, говорит парс, Ормузд пребывает в них и любит их как своих чистых сыновей, радуется им, как в начале возникновения всех существ, ибо все родилось через него новым и чистым.
Сначала человек должен обратиться с молитвой к амшаспандам как к ближайшим отображениям Ормузда, как к первым и самым блестящим представителям, окружающим его трон и помогающим его господству. Молитвы к этим небесным духам в точности касаются их свойств и занятий, а также времени их появления, если речь идет о звездах. Солнце призывается днем и всегда различным образом, смотря по тому, восходит ли оно, стоит в зените или заходит. С утра до полдня парс молится в основном о том, чтобы Ормузд увеличил свой блеск, а вечером он молится о том, чтобы солнце завершило свой жизненный путь под покровительством Ормузда и всех изедов. Но главным образом парс поклоняется Митре, который, как оплодотворитель земли и пустынь, изливает на всю природу питательные соки, а как могущественный борец против всех дивов раздора — войны, беспорядка и разрушения — является перводателем мира.
Далее парс восхваляет в своих в общем однообразных гимнах как бы идеалы, самое чистое и истинное в людях, а затем
38
ферверов как чистых человеческих духов, в какой бы части земли они ни жили. В особенности парс молится чистому духу Зороастра, а затем стоящим во главе сословий, городов, округов; духи всех людей рассматриваются теперь как вполне связанные между собою, как члены живого общества света, которые впоследствии в Горотмане еще больше станут едиными. Наконец, парс не забывает в своих молитвах и животных, горы, деревья. Обращая свой взор к Ормузду, он восхваляет благое в них, услуги, которые они оказывают человеку; в особенности он поклоняется первому и превосходнейшему в своем роде как некоторой форме существования Ормузда.
Помимо этого поклонения Зенд-Авеста настойчиво требует практического совершения добрых дел и чистоты в мыслях, словах и деяниях. Парс должен быть подобен свету во всем своем внешнем поведении и внутренней жизни; в своей жизни и делах он должен быть подобным Ормузду, амшаспандам, изедам, Зороастру и всем хорошим людям. Ибо последние живут и жили в свете, и все их деяния суть свет; поэтому каждый должен иметь их перед глазами как образец и следовать их примеру. Чем больше человек выражает в своей жизни и делах свойственные свету чистоту и благость, тем ближе ему небесные духи. Подобно тому как изеды осыпают все благодеяниями, животворят и делают все плодородным и дружественным, так и парс стремится очищать, облагораживать природу, повсюду распространять свет жизни и радостное плодородие. Действуя так, он питает алчущих, ухаживает за больными; жаждущему он предлагает живительный напиток, страннику — кров и ложе, земле он дает чистые семена, копает чистые каналы, насаждает деревья в пустыне, помогает, где может, росту, заботится о питании и оплодотворении живых существ, поддерживает чистый блеск огня, удаляет мертвых и нечистых животных, устраивает бракосочетания, и она сама, святая Сапандомада, изед земли, радуется этому и противодействует вреду, который стараются нанести дивы и дарванды.
2. НЕСИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РЕЛИГИИ ЗОРОАСТРА
В этих основных воззрениях религии Зороастра еще совершенно отсутствует то, что мы называли символическим. С одной стороны, свет существует как явление природы, но, с другой стороны, он обладает значением добра, благодетельного, сохраняющего начала, так что можно было бы сказать, что действительное существование света есть лишь образ для выражения этого всеобщего смысла, проходящего через всю природу и человеческий
39
мир. Но если иметь в виду воззрения самих парсов, то приходится сказать, что разделение существования и его смысла ложно, ибо для них свет как свет и есть добро, и они понимают его так, что он в качестве света существует и действует во всех особенных проявлениях добра, жизни и положительного начала. Правда, всеобщее и божественное осуществляет себя через различия особенных существ в мире, однако в этом его обособленном и изолированном существовании все же сохраняется субстанциальное, нераздельное единство смысла и образа. Различия, которые мы встречаем в этом единстве, касаются не различий между смыслом как таковым и его проявлением, а лишь различий существующих предметов, как, например, различий между звездами, растениями, человеческими умонастроениями и поступками, в которых божественное в качестве света или тьмы рассматривается как наличное.
В дальнейших своих представлениях это воззрение переходит к некоторым зачаткам символизма, которые, однако, не составляют настоящего типа всего этого способа воззрения, а могут быть признаны лишь отдельными высказываниями. Так, например, Ормузд говорит однажды о своем любимце Джемшиде: «Святой фервер Джемшида, сына Вивенгама, был велик предо мною, его рука взяла у меня кинжал с золотым клинком и рукояткой из золота. Затем Двкемпгид побывал а трехстах частях земли. Он рассек земное царство своим золотым клинком, своим кинжалом, и сказал: Сапандомада, радуйся! Он сказал с молитвой священное слово прирученным и диким животным и людям. Таким образом, его шествие стало счастьем и благословением для этих стран, и сбежались большими толпами домашние и полевые животные и люди». Здесь кинжал и рассечение земли представляют собой образ, который обозначает, как можно предположить, земледелие. Земледелие еще не стало духовной для себя деятельностью, столь же мало оно является чем-то чисто природным, а представляет собой порожденную обдумыванием, рассудком и опытом всеобщую работу человека, которая проходит через все его жизненные отношения. Правда, в изображении странствия Джемшида нигде определенно не говорится, что это рассечение земли кинжалом должно служить намеком на земледелие, и в связи с этим рассечением земли ничего не сказано о том, что земля благодаря этому стала плодородной и принесла плоды. Однако так как в этом единичном действии подразумевается, по-видимому, нечто большее, чем это единичное странствие и разрыхление почвы, то мы должны искать в нем определенное символическое представление.
40
Сходно с этим обстоит дело с более частными представлениями, как мы встречаем их в особенности в позднейшей фазе развития культа Митры, где последний изображался в виде юноши, который, стоя в полутемном гроте, запрокидывает голову быку и всаживает ему в шею кинжал; змея в это время вылизывает кровь, а скорпион обгрызает детородные части быка. Это символическое изображение объясняли то астрономически, то как-нибудь иначе. Однако в более общей и глубокой форме под быком можно понимать природное начало вообще, над которым одерживает победу человек — 'духовное начало, хотя к этому и могут быть примешаны астрономические намеки. Что это изображение можно истолковать в смысле победы духа над природой, на это указывает и имя Митры, означающее «посредник»,— в особенности это характерно для позднейшей эпохи, когда возвышение над природой уже стало ^потребностью народов.
Однако такого рода символы, как мы уже сказали, появляются в воззрениях древних парсов лишь мимоходом и не представляют собой основного принципа, проходящего через весь способ понимания.
В еще меньшей мере носит символический характер предписанный Зеид-Авестой культ. Здесь, например, мы не находим символических танцев, прославляющих или подражающих запутанному течению светил, не находим мы здесь и других деятельностей, которые считались бы лишь символическим образом всеобщих .представлений. Все те действия, которые вменяются парсу в религиозную обязанность, направлены на действительное распространение чистоты как во внутренней жизни человека, так и во внешней природе и представляются целесообразным свершением общей цели, осуществлением господства Ормузда во всех людях и предметах природы; эти действия, следовательно, не только намекают на эту цель, но она полностью осуществляется в них.
3. НЕХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР РЕЛИГИИ ЗОРОАСТРА, ЕЕ СПОСОБА ПОСТИЖЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
Точно так же как все это 'воззрение не является символическим по своему типу, так в нем отсутствует и собственно художественный характер. Правда, этот способ представления можно, в общем, называть поэтическим, ибо как отдельные предметы природы, так и отдельные человеческие умонастроения, состояния, действия и поступки берутся не в их непосредственном и вследствие этого случайном и прозаическом виде, лишенном какого-либо смысла, а созерцаются согласно их существенной природе, в
41
свете абсолютного как света. И наоборот: всеобщая сущность конкретной действительности природы и человека понимается не в смысле их всеобщности, лишенной существования и образа — это всеобщее и то единичное, о котором только что шла речь, здесь представляются и высказываются как нечто непосредственное единое. Такое воззрение мы имеем право считать прекрасным, широким и великим, а по сравнению с нелепыми и бессмысленными образами идолов свет, как нечто чистое внутри себя я всеобщее, несомненно соответствует добру и истине.
Однако поэзия в этом воззрении всецело останавливается на общих представлениях и не доходит до искусства и художественных произведений. Ибо здесь ни благое и божественное не определено в самом себе, ни образ и форма этого содержания не порождаются из духа, а, как мы уже видели, само наличное — солнце, звезды, реальные растения, животные, люди, существующий огонь — схватывается этим воззрением как уже в своей непосредственности соразмерный облик абсолютного. Чувственное изображение не воплощается, не формируется и не создается силами духа, как этого требует искусство, а его в качестве адекватного выражения непосредственно находят во внешнем существовании и высказывают как таковое.
Правда, с другой стороны, единичное фиксируется представлением и независимо от его реальности, как мы это 'видим, например, в представлениях об изедах, о ферверах, о гениях отдельных людей. Однако поэтический вымысел в этом начинающемся разделении необычайно слаб, ибо различие остается совершенно формальным, так что гений, изед, фервер не получают и не должны получать своеобразного формирования, а отчасти характеризуются лишь тем же содержанием, отчасти — той же голой и для себя пустой формой субъективности, которыми уже характеризуется существующий индивид. Фантазия не создает здесь ни иного, более глубокого смысла, ни 'самостоятельной формы более богатой внутри себя индивидуальности. И хотя мы видим далее, что особенные существования объединяются в общие представления и роды, которым в качестве таковых родовых существ представление сообщает реальность, все же и это возведение множества в некое объемлющее существенное единство, которое берется как зародыш и основа единичности того же вида и рода, в свою очередь является лишь деятельностью фантазии в неопределенном смысле, а не произведением поэзии и искусства в собственном смысле.
Так, например, священный огонь Бейрама есть существенный огонь; среди вод также встречается вода всех вод. Хом считается
42
самым первым, самым чистым, самым крепким из всех деревьев, прадеревом, в котором течет жизненный сок, дающий бессмертие. Среди гор мы встречаем Алъбордж, священную гору, изображаемую как первоначальный зародыш всей земли, стоящий в сиянии света; с этой горы нисходили благодетели людей, обладавшие познанием света, и на ней покоятся солнце, луна и звезды. В целом, однако, всеобщее созерцается здесь в непосредственном единстве с наличной действительностью особенных вещей, и лишь кое-где общие представления делаются чувственно наглядными посредством особых образов.
Говоря еще прозаичнее, культ имеет своей целью действительное осуществление господства Ормузда во всех вещах. Культ требует лишь, чтобы каждый предмет был соответствен и чист, и даже не стремится создать из этих предметов художественное произведение, существующее как бы в непосредственной жизненности, подобно тому как это удавалось в Греции борцам, фехтовальщикам и т. д. благодаря их прекрасно развитому телу.
Со всех этих сторон и отношений первое единство духовной всеобщности и чувственной реальности составляет лишь основу символического в искусстве, но само еще не является собственно символическим и не создаст художественных произведений. Чтобы достигнуть этой ближайшей цели, требуется дальнейшее движение, переход от только что рассмотренного первоначального единства к дифференциации и борьбе между смыслом и его образом.
В. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА
Напротив, если сознание выходит за пределы непосрздственно созерцаемого тождества абсолютного и его внешне воспринятого существования, то перед нами выступает как существенное определение разделение соединенных ранее сторон, борьба между смыслом и образом, которая непосредственно побуждает нас снова уничтожить получившийся разрыв, фантастическим образом переплетая разъединенное.
Вместе с этой [попыткой возникает подлинная потребность в искусстве. Если представление фиксирует свое содержание, которое теперь уже не созерцается непосредственно в наличной реальности, если представление фиксирует это содержание в его для-себя-бытии как оторванное от данного существования, то тем самым духу ставится задача формировать общие представления новым, порожденным самим духом способом, формировать их фантастическими, выявляя их для созерцания и восприятия, и в
43
процессе этой деятельности создавать художественные произведения. Так как в пределах первой сферы, в которой мы пока находимся, эта задача может быть решена лишь символически. то может казаться, что мы уже теперь находимся на почве символического в собственном смысле этого слова. Однако это не так.
Прежде всего мы встречаемся здесь с образованиями кипучей фантазии, которая в своем фантастическом беспокойстве способна лишь наметить путь, могущий привести к подлинному средоточию символического искусства. При первом выступлении различия и соотношения между смыслом и формой изображения то и другое, как их разделение, так и соединение, носят еще запутанный характер. Этот запутанный характер является необходимым потому, что каждая из различенных сторон еще не доросла до того, чтобы стать целостностью, в самой себе носящей тот момент, который составляет основное определение другой стороны, и лишь благодаря тому, что каждая из этих сторон станет таковой целостностью, впервые может осуществиться подлинно адекватное единство и примирение. Дух в соответствии со своей целостностью определяет, например, сторону внешнего явления из самого себя, равно как целостное и соразмерное в себе явление представляет собой для себя лишь внешнее существование духовного.
В этом первом разделении постигнутого духом смысла и наличного мира явлений смысл представляет собой не конкретную духовность, а абстракцию, и его выражение тоже лишено духовности и вследствие этого является лишь абстрактно внешним и чувственным. Стремление к различению и объединению остается поэтому опьянением, неопределенно и без меры перескакивающим непосредственно от чувственных единичностей к самым всеобщим значениям и умеющим находить для внутренне постигнутого в сознании лишь совершенно противоположную форму чувственных созданий. Это противоречие и должно подлинно объединить элементы, стремящиеся прочь друг от друга. Однако гонимое из одной стороны в противоположную и снова отбрасываемое от последней к первой, оно лишь беспокойно мечется в разные стороны и полагает, что в этом колеблющемся стремлении к разрешению оно уже нашло успокоение. Вместо подлинного удовлетворения само противоречие выставляется как истинное объединение, и тем самым самое несовершенное единство выдается за Наиболее соответствующее искусству.
Поэтому мы не должны искать истинной красоты в этой области смутного хаоса. Ибо при таком безостановочном перепры-
44
гивании от одной крайности к другой мы находим, с одной стороны, что ширь и мощь всеобщего смысла связаны совершенно неадекватным образом с чувственным началом как в его единичности, так и в его стихийном проявлении, а если мы исходим из наиболее всеобщего, то убеждаемся, с другой стороны, что оно беззастенчиво втиснуто в самый что пи на есть чувственный материал. Если чувство этого несоответствия и начинает осознаваться, то .фантазия пытается спасти себя посредством искажений: она выталкивает особенные образы за пределы их твердо очерченной особенности, расширяет и изменяет их до неопределенности, отрывает их друг от друга, увеличивая и делая их безмерными; тем самым фантазия, стремясь к примирению, лишь выявляет перед нами противоположные начала в их непримиренности.
Эти первые, еще самые дикие попытки фантазии и искусства встречаются преимущественно у древних индийцев. Главный их недостаток, сообразно понятию этой ступени, состоит в том, что они не в силах ни постичь смысл в его ясности, ни охватить наличную действительность в ее своеобразном облике и значительности. Индийцы поэтому и показали себя неспособными к историческому пониманию лиц и событий, ибо для исторического рассмотрения нужна трезвость, дающая возможность воспринимать и понимать происходящее само по себе, в его действительном виде, в его эмпирических опосредствованиях, основаниях, целях и причинах. Этой прозаической рассудительности противится стремление индийцев непременно сводить всё и вся к безусловно абсолютному и божественному и видеть перед собой в самом что ни на есть обычном и чувственном присутствие и деятельность богов, созданные фантазией. Так как порядок, рассудительность и твердость, характеризующие обыденное сознание и прозу, оставляются ими совершенно без внимания, то при всем богатстве и грандиозной смелости воображения они в своем путаном смешении конечного и абсолютного впадают в какой-то колоссальный фантастический вздор, перескакивают от самого интимного и глубокого к вульгарнейшей повседневности, искажая как одну, так и другую крайность и непосредственно превращая их друг в друга.
Что касается более определенных черт этого состояния непрерывного опьянения, этого сумасшествия, то мы должны рассмотреть здесь не религиозные представления как таковые, а лишь те основные моменты, благодаря которым этот способ воззрения принадлежит искусству. Этими основными моментами являются следующие.
45
1. ИНДИЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ БРАХМАНА
Одной крайностью индийского сознания является сознание абсолютного как в себе безусловно всеобщего, не имеющего различий и тем самым полностью неопределенного. Так как эта самая крайняя абстракция не имеет особого содержания и ее нельзя представить себе как конкретную личность, то ни с одной из своих сторон она не является материалом, которому созерцание могло бы придать какую-нибудь форму. Брахман в качестве высшего божества вообще не может быть постигнут внешними чувствами и восприятием и, собственно говоря, не может быть даже объектом мышления, так как мышление предполагает самосознание, полагающее для себя некий предмет, чтобы найти себя в нем. Всякое понимание есть уже отождествление «я» и объекта, некое примирение тех сторон, которые остаются разлученными вне этого понимания; то, чего я не понимаю, не познаю, остается чем-то чуждым мне и иным. Но индийский способ объединения человеческого «я» с Брахманом есть не что иное, как все возрастающее взвинчивание, доходящее до этой самой крайней абстракции, в которой должно исчезнуть не только все конкретное содержание, но и самосознание, прежде чем человек получит возможность достигнуть ее. Индиец поэтому не знает примирения и тождества с Брахманом в том смысле, что человеческий дух осознает это единство,— единство состоит для него в том, что сознание и самосознание и, следовательно, всякое содержание мира и собственной личности совершенно исчезает. Уничтожение сознания, опустошение его до абсолютной бессмысленности и бесчувственности признается высшим состоянием, делающим человека самим высшим богом, Брахманом.
Эта абстракция, представляющая собой самое суровое иго, какое человек может наложить на себя,— безразлично, будем ли мы брать ее как Брахмана или как чисто теоретический культ, совершающийся во внутренней жизни человека, культ заглушения и умерщвления сознания,— эта абстракция не является предметом фантазии и искусства; многообразные картины последнего получают возможность проявиться лишь при изображении пути, ведущего к этой цели.
2. ЧУВСТВЕННОСТЬ, БЕЗМЕРНОСТЬ И ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
Из области сверхчувственного индийское воззрение непосредственно перескакивает к самой грубой чувственности. Однако так как непосредственное и благодаря этому спокойное тождество
46
обеих сторон уничтожено, а вместо него основным типом сделалось различие внутри тождества, то это противоречие без всякого опосредствования гонит нас из крайне конечного в божественное, а из последнего снова в крайне конечное. И мы живем среди созданий, возникший в результате этого превращения одной стороны в другую, кан\в мире ведьм, в котором нет никаких определенных фигур и всякая фигура исчезает под руками, внезапно превращается в противоположную или принимает преувеличенные размеры и лопаемся, когда надеешься, что вот-вот схватишь ее.
Укажем общие виды, в которых проявляется индийское искусство.
а) С одной стороны, представление вкладывает огромнейшее содержание абсолютного в непосредственно чувственное и единичное таким образом, что само это единичное, взятое таким, каково оно есть, должно в совершенстве воплотить в себе подобное содержание и существовать в качестве этого содержания для созерцания. В «Рамаяне», например, друг Рамы, обезьяний князь Хануман, является главной фигурой и совершает самые смелые подвиги. Вообще в Индии обезьяне поклоняются как богу, и там существует целый город обезьян. В обезьяне как данной единичной обезьяне индийцы созерцают и обожествляют бесконечное содержание абсолютного. Такую же роль играет корова Шабала, которая в «Рамаяне», в эпизоде покаяния Вишвамитры, тоже выступает перед нами как существо, обладающее неизмеримым
могуществом.
Далее, в Индии существуют семьи, в которых само абсолютное прозябает как данный реально существующий человек, и этого последнего в том виде, в каком он непосредственно живет и существует, почитают как бога, хотя бы это был совершенно тупой и глупый человек.
То же самое мы находим и в ламаизме, где отдельный человек является предметом величайшего поклонения как присутствующий среди людей бог. В Индии же не только почитают одного-единственного человека, а каждый брахман с самого начала, уже благодаря рождению в своей касте, считается Брахманом и достиг природным образом, своим чувственным рождением, того второго рождения посредством духа, которое делает человека тождественным с богом, так что высочайшая вершина божественного снова непосредственно падает в совершенно обыденную чувственную действительность существования. Хотя брахманам вменяется в священнейшую обязанность читать Веды, чтобы проникнуть благодаря этому в глубины божества, однако они могут
47
выполнять эту обязанность совершенно механически, без всякого усилия ума, не теряя все же своей тождественности.
Сходным образом одним из самых общих отношений, составляющих предмет изображения у индийцев, является акт оплодотворения, возникновения, подобно тому как греки считали Эроса древнейшим богом. Это порождение/ эта божественная деятельность носит в многочисленных изображениях совершенно чувственный характер, и мужские и женские половые органы считаются священнейшими предметами. И даже тогда, когда божественное вступает в действительности для себя, в своей божественности, оно совершенно тривиальным образом вовлекается в мир крайней обыденщины. Так, например, в начале «Рамаяны» нам рассказывают, как Брахма пришел к Вальмики, мифическому певцу «Рамаяны». Вальмики принимает его самым обычным для индийцев образом: приветствует его, ставит перед ним стул, приносит ему воду и фрукты. Брахма, действительно, садится и заставляет хозяина сделать то же самое. Они долго сидят так; наконец, Брахма приказывает Вальмики сочинить «Рамаяну».
Здесь еще нет собственно символического понимания. Хотя в соответствии с требованиями символа образы и заимствуются здесь из наличного материала и употребляются затем для выражения более общего смысла, однако здесь недостает другой стороны символического понимания: особенные существа должны быть не действительно абсолютным смыслом для созерцания, а лишь намеком на него. Для индийской фантазии обезьяна, корова, отдельный брахман и т. д. являются не родственным символом божественного, а рассматриваются и изображаются как само божественное, как некое адекватное ему существование.
В этом и заключается то противоречие, которое приводит индийское искусство ко второму способу понимания. Ибо, с одной стороны, безусловно нечувственное, абсолютное как таковое, чистый смысл* берется как истинно божественное начало, а с другой стороны, отдельные факты конкретной действительности, даже взятые в их чувственном существовании, непосредственно рассматриваются фантазией как божественные явления. Правда, отчасти они должны выражать собою только особенные стороны абсолютного, однако даже в этих случаях непосредственный единичный предмет, который изображается как соразмерное существование этой определенной всеобщности, на самом деле совершенно не соразмерен этому содержанию и находится с ним в тем более резком противоречии, что смысл берется здесь уже в его всеобщности и в то же время непосредственно отождествляется фантазией с наиболее чувственным и единичным.
48
Ь) Ближайшего решения этого раздвоения, как мы уже указали выше, индийское искусство ищет в безмерности своих созданий. Для того чтобы отдельные образы в качестве чувственных образов могли сами по севе достигнуть всеобщности, их искажают, превращают в нечто колоссальное и гротескное. Ибо отдельный образ, который должен выразить не себя самого и свойственное ему как особому явлению значение, а некий лежащий вне его всеобщий смысл, удовлетворяет созерцание только после того, как он будет увлечен за пределы самого себя, сделается чудовищно огромным и безмерным. Здесь стремятся достигнуть широты и всеобщности смысла главным образом посредством расточительного преувеличения объема — как в отношении пространственных размеров, так и в отношении временной неизмеримости,— а также посредством умножения какой-либо определенности: изображаемые существа делаются многоголовыми, многорукими и т. п. Так, например, яйцо содержит в себе птицу. И вот это единичное существо расширяется фантазией до безмерного представления о мировом яйце как покрове всеобщей жизни всех вещей, в котором Брахма, рождающий бог, проводит, ничего не делая, год творения, пока половинки яйца не распадутся одной лишь силой его мысли.
Кроме предметов природы в ранг значения действительного божественного деяния возводятся также отдельные люди и события человеческой жизни, и это делается таким образом, что нельзя фиксировать самостоятельно ни божественного, ни человеческого, а оба они выступают перепутанными друг с другом, и одно из них постоянно переходит в другое. Сюда принадлежат в особенности воплощения богов, главным образом Вишну, сохраняющего бога, подвиги которого составляют основное содержание больших эпических поэм. В этих воплощениях божество непосредственно переходит в земные явления. Так, например, Рама представляет собою седьмое воплощение Вишну (Рама-
чандра).
По изображаемым отдельным потребностям, поступкам, состояниям, фигурам и способам поведения мы убеждаемся, что содержание этих поэм отчасти взято из действительных событий, из подвигов древних царей, которые были настолько сильны, что могли установить новый порядок и состояние законности; поэтому мы находимся здесь в человеческом мире и на твердой почве действительности. Но затем все здесь снова расширяется, становится туманным, принимает какой-то общий характер, так что мы снова теряем едва приобретенную почву и не знаем, где находимся.
49
Сходным образом развертываются события в «Сакуитале». Вначале мы имеем перед собой важнейший, благоухающий мир любви, в котором все совершается на человеческий лад, а затем нас внезапно уводят от всей этой конкретной действительности и возносят в облака, на небо Индры, где все изменилось и вышло из своего определенного круга, расширилось и превратилось во всеобщий смысл природной жизни в связи с брахманами и властью над природными богами, которая дается человеку суровыми аскетическими упражнениями.
И этот способ изображения' нельзя назвать символическим в собственном смысле. Символ вставляет применяемый им определенный образ в его определенности, таким, каким он был раньше, потому что символическое искусство не хочет созерцать в символе непосредственное существование смысла со стороны его всеобщности, а хочет лишь указать на смысл посредством изображения родственных ему качеств предмета. Но, несмотря на то, что индийское искусство и отделяет друг от друга всеобщность и единичные существования, оно все же требует их непосредственного, порожденного фантазией единства и поэтому вынуждено, хотя и чувственным способом, лишить существующее его ограниченности, увеличивать его до неопределенности и вообще изменять и искажать.
В этой расплывающейся определенности и путанице, которая возникает вследствие этого, то есть в том обстоятельстве, что высшее содержание всегда вкладывается в вещи, явления, события и дела, которые по своей ограниченности сами по себе не обладают в себе мощью такого содержания и не способны выражать его собою, можно искать скорее созвучия с возвышенным, чем собственно символическое. В возвышенном, как мы увидим это позже, конечное явление, которое должно сделать наглядным абсолютное, выражает его лишь таким образом, что в самом явлении обнаруживается его неспособность достичь содержания. Так, например, обстоит дело с вечностью. Представление о ней становится возвышенным, когда оно должно быть высказано во временных выражениях таким образом, что всякое число, как бы велико оно ни было, все еще недостаточно для выражения этого представления, и его приходится снова и снова увеличивать, никогда не доходя до конца. Как сказано о боге: тысяча лет перед тобою как один день. В индийском искусстве имеется многое подобного рода, что начинает напоминать возвышенное. Важное отличие от возвышенного в собственном смысле состоит здесь в том, что индийская фантазия в своих диких созданиях не подвергает отрицанию явления, которые она изображает, а как раз
50
наоборот, полагает, что этой безмерностью и неограниченностью она уничтожила различие и противоречие между абсолютным и
образами, которые его выражают.
Подобно тому как мы не можем признать индийское искусство в этом характеризующем его преувеличении символическим и возвышенным в собственном смысле, так нельзя признать его и прекрасным в собственном смысле. Правда, оно дает нам, главным образом в изображении человеческого как такового, много милого и привлекательного, много приятных картин и нежных чувств, блестящее описание природы и чудеснейшие детские черты любви и наивной невинности, а также много великолепного и благородного. Однако что касается общего основного смысла, то здесь духовное остается совершенно чувственным, самое плоское стоит рядом с самым великим, определенность разрушена, возвышенное является только безграничностью, а что касается мифа, то он большей частью переходит в фантастику, являющуюся продуктом беспокойно ищущей силы воображения и дара к формированию, лишенного рассудка.
с) Наконец, из всех тех способов изображения, которые мы можем найти на этой ступени, самым чистым является олицетворение и вообще человеческий образ. Однако так как здесь мы еще не должны понимать смысл как свободную духовную субъективность, а он содержит в себе либо какую-нибудь абстрактную, воспринятую в своей всеобщности определенность, либо чисто природное — жизнь рек, гор, созвездий, солнца,— то быть использованным в качестве выражения такого рода содержания является, собственно говоря, ниже достоинства человеческого образа. Согласно своему истинному определению, как человеческое тело, так и форма человеческих деятельностей и событий служат выражением лишь конкретного, внутреннего содержания духа, который в этой своей реальности находится у самого себя, а не только имеет в ней символ или внешний знак.
Поэтому, с одной стороны, олицетворение остается на этой ступени поверхностным вследствие абстрактности смысла, который оно призвано представлять,— несмотря на то, что этот смысл принадлежит как области природы, так и области духа; для того чтобы сделаться наиболее наглядным, олицетворение нуждается в многообразных формациях, с которыми оно смешивается и вследствие этого само оскверняется. С другой стороны, здесь в качестве обозначающего выступают не субъективность и ее образ, а ее проявления, деяния и т. д., ибо лишь в действиях и поступках 'заключается то более определенное обособление, которое может быть приведено в связь с определенным содержанием все-
51
общего смысла. Таким образом, мы снова сталкиваемся с тем недостатком, что значащим является не субъект, но лишь его проявление, а события и деяния, вместо того чтобы быть реальностью и осуществляющимся внешним бытием субъекта, получают свое содержание и смысл из какого-то другого источника.
Ряд таких поступков может обладать в самом себе некоторой последовательностью, проистекающей из того содержания, которому такой ряд служит выражением. Однако эта последовательность будет снова прерываться и отчасти даже уничтожаться вследствие олицетворения и очеловечения, ибо субъективирование ведет к произволу в поступках и высказываниях, так что значительное и незначительное перемешиваются между собою, и тем беспорядочнее, чем менее способна фантазия привести в основательную и прочную связь свои значения и их образы. Если же в качестве содержания берется только природное, то последнее, со своей стороны, недостойно носить человеческий образ, который соответствует лишь духовному выражению и неспособен изобразить чисто природное.
Во всех указанных отношениях это олицетворение не может быть истинным, ибо истина в искусстве, как и истина вообще, требует согласия внутреннего и внешнего, понятия и реальности. Правда, греческая мифология олицетворяет также и Понт, Скамандр, она имеет своих богов рек, нимф, дриад и вообще делает природу содержанием своих человекоподобных богов. Однако она не оставляет олицетворение формальным и поверхностным, а образует из него индивидов, в которых голый природный смысл отступает на задний план, а главной чертой становится человеческое, принявшее в себя такое содержание. Индийское же искусство останавливается на гротескном смешении природного и человеческого, так что ни одна из сторон не получает подобающего ей воплощения и обе взаимно искажают друг друга.
В общем, и эти олицетворения еще не символичны в собственном смысле, потому что они вследствие их формальной поверхностности не находятся в существенной связи и тесном родстве с тем более определенным содержанием, которое они должны были бы символически выражать. Вместе с тем по отношению к прочим особенным образованиям и атрибутам, в смешении с которыми выступают подобные олицетворения и которые должны выражать приписываемые богам определенные качества,— с этими олицетворениями начинается стремление к символическим изображениям, для которых олицетворение остается только всеобщей объединяющей формой.
52
Что же касается самих главных продуктов индийского воображения, носящих указанный выше характер, то прежде всего следует упомянуть о Тримурти, то есть трехликом божестве. В состав этого божества входит, во-первых, Брахма, созидающий, рождающий деятельность, творец, властитель всех богов. и т. д. С одной стороны, есть различие между ним и Брахманом (среднего рода),— последний есть высшее существо, чьим первородным сыном является Брахма; но, с другой стороны, Брахма все же совпадает с этим абстрактным божеством, как и вообще у индийцев различия не могут удерживаться в своих границах, а частью стираются, частью переходят 'друг в друга. Фигура, которая чаще всего служит изображением Брахмы, имеет в себе много символического: его изображают четырехголовым и четырехруким, со скипетром в руках, с кольцом и т. д. Цвета он красного, что служит намеком на солнце, так как эти боги всегда носят в себе тот всеобщий смысл природы, который олицетворяется в них.
Вторым богом Тримурти является Вишну, сохраняющий бог, а третьим — Шива, разрушающий бог. Символы, изображающие· этих 'богов, 'бесчисленны. При всеобщности их смысла они включают в себя бесконечно много отдельных действий. Эти действия отчасти относятся к особым явлениям природы, главным образом стихийным,— например, Вишну обладает качеством огненности (см. лексикон Вильсона), отчасти же—к духовным явлениям, причем все это постоянно смешивается между собой и созерцанию часто предстают отвратительнейшие.фигуры.
В этом трехликом боге сразу же яснее всего обнаруживается, что здесь духовный образ еще не может выступить в своей истине, потому что духовное не составляет здесь настоящего, основного смысла. Эта божественная троичность была бы духом в том случае, если бы третий бог был конкретным единством и возвращением в себя из различения и удвоения. Согласно истинному представлению, бог есть дух в качестве того деятельного· абсолютного различения и единства, которое вообще составляет понятие духа. В Тримурти же третий бог не представляет собой конкретной целостности, а сам образует лишь одну из сторон наряду с двумя другими; поэтому он также является абстракцией,. будучи не возвращением в себя, а лишь переходом в иное, превращением, порождением и раврушением. Нужно остерегаться соблазна уже в такого рода первых предчувствиях разума находить высшую истину и видеть христианское триединство уже в этом созвучном намеке, который по своему ритму действительно заключает в себе троичность, составляющую одно из основных
53
/
представлений христианства. Беря своим: исходным пунктом представление о Брахмане и Тримурти индийская фантазия переходит далее к неизмеримому числу богов, принимающих в ней самые многообразные и фантастические очертания. Всеобщий смысл, понимаемый как существенно божественное, можно найти в тысячах и тысячах явлений, которые теперь сами олицетворяются и символизируются фантазией в качестве богов и ставят величайшие препятствия на пути ясного понимания вследствие неопределенности и неустойчивости фантазии, которая в своих вымыслах не трактует ничего согласно его собственной природе и ничего не оставляет на своем месте. Для изображения этих второстепенных богов, во главе которых стоит Индра — воздух и небо, более определенное содержание доставляют преимущественно всеобщие силы природы, созвездия, реки, горы в различные моменты их действия, их изменения, их благодетельного или вредного, охранительного или разрушительного влияния.
Одним из главнейших предметов индийской фантазии и индийского искусства является возникновение богов и всех вещей, теогония и космогония. Эту фантазию вообще следует понимать как непрерывный процесс, в котором она вводит во внешнее явление наименее чувственное и, наоборот, опустошает наиболее природное и наиболее чувственное самой крайней абстрактностью. В сходной манере изображается возникновение богов из высшего божества и действие и существование Брахмы, Вишну, Шивы в особых вещах — в горах, водах и событиях человеческой жизни. Такого рода содержание может, с одной стороны, получить само по себе форму особого бога, а с другой стороны, эти боги снова поглощаются всеобщими значениями высших божеств. Существует множество подобных теогонии и космогонии, и они бесконечно многообразны. Если поэтому говорят: индийцы представляют себе сотворение мира, возникновение всех вещей таким-то образом, то это всегда может быть признано верным лишь по отношению к какой-нибудь одной секте или к какому-нибудь определенному произведению, ибо в другом месте то же самое изображается иначе. Фантазия этого народа неисчерпаема в созидании форм и образов.
Главным представлением, проходящим через все рассказы о происхождении мира и вещей, является вместо представления о •духовном творении снова и снова повторяющийся наглядный образ природного рождения. Тот, кто знаком с этим индийским способом понимания, обладает ключом ко многим изображениям, которые приводят в полное смущение наше чувство стыда, так как
54
бесстыдство доведено в них до крайности и в своем чувственном характере доходит до невероятного. Блестящий пример этого способа понимания дает нам знаменитый и всем известный эпизод в «Рамаяне», излагающий происхождение Ганги. Рассказ ведется с того времени, когда Рама случайно приходит к берегу Ганги. Зимний, покрытый льдом Химаван, царь гор, родил со стройной Майной двух дочерей — старшую, Гангу, и младшую, прекрасную Уму. Боги и 'в особенности Индра попросили отца послать им Гангу, чтобы они могли исполнить священные обряды; так как Химаван соглашается исполнить их просьбу, то Ганга восходит к блаженным богам. Затем рассказывается история Умы, которую, после того как она совершила множество удивительных подвигов смирения и покаяния, выдают замуж за Рудру, то есть за Шиву. Из этого брака возникают дикие, бесплодные торы. Сто лет без перерыва Шива лежал в супружеских объятиях Умы, так что боги, пришедшие в ужас от громадной порождающей силы Шивы и полные страха перед ребенком, которого Ума родит от него, просят его, чтобы он обратил свою силу на землю. Это место английский переводчик не решился перевести дословно, так как оно уж слишком отбрасывает в сторону всякое приличие и стыд. Шива действительно склоняется к просьбе богов, он отказывается от дальнейшего оплодотворения, чтобы не разрушить вселенной, и бросает свое семя на землю; из этого семени, проникнутого огнем, возникает белая гора, отделяющая Индию от Татарии. Уму, однако, это ввергает в ярость, и она проклинает всех супругов.
Здесь перед нами отвратительные, карикатуриые вымыслы,. противные всем требованиям нашей фантазии и рассудка. Вместо того чтобы быть действительным изображением, они лишь дают нам заметить то, что следует понимать под ними. Шлегель не перевел этой части эпизода, а лишь пересказывает, как Ганга снова сошла на землю. Это произошло следующим образом. Одив из предков Рамы, Сагар, имел дурного сына, а от второй жены шестьдесят тысяч сыновей, родившихся в тыкве; однако их положили в кувшины с чистым маслом, и они выросли сильным» мужчинами. Однажды Сагар хотел принести в жертву коня, которого у него вырывает Вишну, приняв образ змея. Тогда Сагар· высылает против него шестьдесят тысяч своих сыновей. Когда они после больших трудов и долгих поисков приблизились к Вишну, его дыхание сожгло их и превратило в пепел. Последлительного ожидания выезжает наконец внук Сагара, Аншуман Сияющий, сын · Асаманджаса, чтобы найти своих шестьдесят тысяч дядей и жертвенного коня. Он действительно натыкается на
55
коня, Шиву и кучу пепла. Но Гаруда, царь птиц, возвещает ему, что если святая Ганга не снизойдет с неба и не прольет поток над этой кучей пепла, то его родственники не возвратятся к жизни. Тогда храбрый Аншуман в продолжение тридцати двух тысяч лет совершает искупительные подвиги на вершине Химавана. Но напрасно. Ни истязания, которым он подверг самого себя, ни истязания, которым подвергает себя в продолжение тридцати тысяч лет его сын Дилиш, нисколько не помогают. Лишь сыну Дилипа, прекрасному Бхагиратху, после новых тысячелетних искупительных подвигов удается это великое дело. Ганга ниспадает после этого; но для того, чтобы она не раздавила землю, Шива подставляет свою голову, так что вода течет в его локонах. Теперь требуются новые самоистязания Бхагиратха, чтобы освободить Гангу от этих локонов и дать ей возможность течь дальше. Наконец Ганга разливается и образует шесть рек; седьмую реку Бхагиратх после претерпенных им страшных трудностей доводит до шестидесяти тысяч братьев, которые восходят после этого на небо, а сам Бхагиратх еще долго мирно царствует над своим народом.
Сходны с индийскими и (Другие теогонии, например, скандинавские и греческие. Во всех главной категорией является рождение и порождение, но ни одна из них не распускается так дико, ни в одной из них мы не встречаем такой произвольности и несоразмерности вымысла, как в созданиях индийской теогонии. В особенности теогония Геоиода гораздо прозрачнее и определеннее, так что мы всегда знаем, чего нам держаться, и ясно познаем смысл, потому что он выступает отчетливее и свидетельствует, что облик и внешнее в нем .носят лишь внешний характер. Она начинается с Хаоса, Эреба, Эроса, Геи. Гея порождает из самой себя Урана, а затем рождает с ним горы, Поит и т. д., а также Кроноса, циклопов и сторуких, которых Уран вскоре после их рождения заключает в Тартар. Гея уговаривает Кроноса оскопить Урана. Тот поступает по •ее совету. Кровь Урана подхватывает земля, и из этой крови вырастают эринии и гиганты; детородный орган подхватывается морем, и из морской пены выходит Киферия. Все это яснее и прочнее связано и не остается также в кругу чисто природных богов.
3. СОЗЕРЦАНИЕ ОЧИЩЕНИЯ И РАСКАЯНИЯ
Если мы будем подыскивать переходную форму к символизму в собственном смысле, то мы можем найти его в зачаточном виде и в индийской фантазии. Как ни работала индийская
56
фантазия над тем, чтобы превратить чувственные явления во множество разных богов, безмерности и изменчивости которого мы не найдем ни у одного народа, она все же в многообразных воззрениях и рассказах не забывает о той духовной абстракции высшего божества, по сравнению с которой единичное, чувственное, являющееся понимается как небожественное, несоразмерное и потому как нечто такое, что должно быть признано отрицательным и устранено. Ибо как раз этот переход одной стороны в другую, как мы уже сказали в самом начале, составляет своеобразный тип и ничем не ослабленную непримиримость индийского воззрения, Индийское искусство неустанно изображает в многообразных
формах отречение от чувственного, силу духовной абстракции и внутреннего углубления. К таким образам относятся изображения длительных покаяний и глубоких размышлений, важнейшие· образцы которых дают нам не только древнейшие эпические поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата», но и многие другие произведения поэзии. Правда, подобные покаяния часто налагают на себя из честолюбия или но крайней мере для достижения таких определенных целей, которые вовсе не должны вести к высшему и последнему соединению с Брахманом и к умерщвлению земного· и конечного. Целью покаяний, например, может быть достижение могущества брахмана; однако в этом всегда заключено воззрение, что покаяния и настойчивое размышление, все более и более отвращающееся от всего определенного и конечного, поднимаются выше рождения в определенной касте, равно как и выше· могущества чисто природного и природных богов. Поэтому царь. богов Индра особенно сопротивляется сурово кающимся и старается их соблазнить или, когда его попытки терпят неудачу,. призывает на помощь высших богов, потому что в противном
случае все небо пришло бы в замешательство.
В изображении такого покаяния и его различных видов, ступеней, степеней индийское искусство почти столь же изобретательно, как в своем политеизме, и оно очень серьезно разрабатывает эту тему.
Это тот пункт, с которого мы поведем наш дальнейший обзор.
00.htm - glava10
С. СИМВОЛИКА В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ
Как для символического искусства, так и для искусства вообще необходимо, 'чтобы тот смысл, которому оно собирается придать форму, не только выступил за 'пределы первого, непосредственного единства со своим внешним бытием — единства, имею-
57
щегося до всякого разделения и различения,—как это происходит в индийском искусстве, но, кроме того, смысл должен стать сам по себе свободным от непосредственно чувственной формы. Это освобождение может совершаться лишь постольку, поскольку чувственное и природное начало постигается и созерцается в самом себе как отрицательное, как то, что должно быть устранено и устраняется.
Требуется, однако, чтобы отрицательность, достигающая проявления как исчезновение, самоустранение природного, воспринималась и формировалась как абсолютный смысл вещей вообще, как момент божественного.
Но с выполнением этих требований мы уже покинули индийское искусство. Правда, индийская фантазия не лишена созерцания отрицательного. Шива есть не только породитель, но и разрушитель. Индра умирает, и более того: всеуничтожающее время, олицетворенное в виде Калы, страшного великана, разрушает всю вселенную и всех богов, разрушает даже Тримурти, который также исчезает в Брахмане,— подобно тому как индивид в своем отождествлении с высшим божеством растворяет в нем себя и все свое знание и волю. Но в этих созерцаниях отрицательное представляет собою отчасти лишь превращение и изменение, а отчасти лишь абстракцию, отбрасывающую определенное, чтобы проникнуть к неопределенной я потому пустой и совершенно бессодержательной всеобщности. Напротив, субстанция божественного остается неизменной в своих переходах, смене образов, движении к политеизму и новом устранении последнего, переходе к единому высшему божеству. Она не есть тот единый бог, который в самом себе в своей единственности обладает отрицательным началом как своей собственной, необходимо принадлежащей его понятию определенностью. Точно так же в воззрениях парсов гибельное, вредное находится вне Ормузда, находится в Аримане и создает вследствие этого лишь такой антагонизм и борьбу, которые не принадлежат одному богу, Ормузду, как находящийся в нем самом и самому ему выпавший в удел момент.
Ближайший шаг, который нам предстоит теперь сделать, состоит поэтому в том, что, с одной стороны, отрицательное начало в его для-себя-бытии фиксируется сознанием как абсолютное, а с другой стороны, рассматривается лишь как один момент божественного, однако как такой момент, который находится не в другом божестве вне истинно абсолютного, а таким образом приписывается абсолютному, что истинный бог представляется превращением самого себя в отрицательное и потому обладает отрицательным как имманентным ему определением.
58
Благодаря этому дальнейшему представлению абсолютное впервые становится конкретным внутри себя как своя определенность в самом себе. Тем самым оно становится в себе единством, моменты которого оказываются для созерцания различенными определениями одного и того же божества. Речь идет здесь преимущественно о ближайшем удовлетворении определенности абсолютного смысла внутри себя. Рассмотренные до сих пор значения оставались вследствие своей абстрактности всецело неопределенными и потому бесформенными; коща же они шли дальше по пути к определенности, они либо непосредственно совпадали с природным существованием, либо вступали в борьбу за формирование, которая не приводила к успокоению и примирению. Этот двоякий недостаток устранен — как со стороны внутреннего хода мыслей, так и со стороны внешнего развития воззрений народов — следующим образом.
Во-первых, более тесная связь 'между внутренним и внешним создается благодаря тому, что каждый шаг определения абсолютного внутри себя есть уже начало перехода к проявлению. Ибо каждый процесс определения есть различение внутри себя; внешнее же как таковое всегда определено и различено, и поэтому имеется некая сторона, из-за которой внешнее оказывается более подходящим для выражения смысла, чем на предшествующих ступенях.
Первая определенность и отрицание абсолютного внутри себя не могут быть свободным самоопределением духа как духа, а сами могут быть лишь непосредственным отрицанием. Непосредственным и благодаря этому природным отрицанием, самым широким по своему характеру, является смерть. Абсолютное начинают понимать теперь таким образом, что оно должно входить в это отрицательное как в некое принадлежащее его собственному понятию определение и вступить на путь умирания и смерти.
Мы видим поэтому, что в сознании народов появляется возвеличение смерти и страдания, прежде всего как смерти умирающего чувственного начала; теперь знают, что смерть природного есть необходимое звено в жизни абсолютного. Однако чтобы пройти этот момент смерти, абсолютное, с одной стороны, должно возникнуть и обладать существованием,— с другой стороны, оно не может остановиться на уничтожении, вызываемом смертью, а восстанавливает себя на более высокой ступени, становясь положительным 'единством в себе. Умирание берется здесь не как весь смысл, а лишь как одна его сторона, и хотя абсолютное и понимают как снятие его непосредственного существования, как нечто преходящее и гибнущее, однако вместе с тем его понимают59
и обратным образом — как возвращение в себя, как воскресение, как вечность и божественность внутри себя, возникающие посредством этого процесса отрицания. Ибо смерть имеет двоякое значение: во-первых, она есть непосредственная гибель природного, во-вторых, как смерть только природного она тем самым является рождением чего-то высшего, духовного, для которого чисто природное умирает таким образом, что дух обладает этим моментом в самом себе как принадлежащим своей сущности.
Именно поэтому, во-вторых, мы уже не можем больше понимать природную форму, взятую в ее непосредственности и чувственном существовании, таким образом, что она совпадает с узреваемым в ней смыслом, так как смысл самого внешнего в том и состоит, что оно умирает и снимает себя в своем реальном существовании.
Таким же образом, в-третьих, отпадает та борьба между смыслом и образом, то кипение фантазии, которое породило в Индии фантастические произведения. И теперь, правда, смысл еще не познан в его освобожденном от наличной реальности чистом единстве с собою, как проясненный смысл в его совершенной чистоте, который мог бы быть противопоставлен его образу, делающему его наглядным. Но и обратно, отдельный образ — скажем, отдельная фигура животного или данная человеческая личность, событие, поступок — не может давать созерцанию непосредственно соразмерное существование абсолютного. Здесь в такой же мере уже вышли за пределы этого дурного тождества, в какой еще не достигли того совершенного освобождения, о котором мы только что говорили. Вместо того и другого здесь утверждается тот вид изображения, который мы обозначили выше как символическое в собственном смысле. С одной стороны, оно может теперь выступить, так как внутреннее и постигнутое как смысл уже не колеблется из стороны в сторону — то непосредственно погружаясь во внешнее, то уходя из него в одиночество абстракции, как это было в Индии,— а начинает укрепляться в своем для-себя-бытии, противостоя чисто природной реальности. С другой стороны, символ необходимо должен теперь получить воплощение. Хотя вполне развитый смысл имеет своим содержанием момент отрицания природного, все же истинно внутреннее только теперь начинает путем борьбы освобождаться от природного начала. Поэтому оно само связано еще с внешним способом явления, так что оно не может быть осознано для себя самого в своей ясной всеобщности без помощи внешнего образа.
Понятию того, что в символическом искусстве составляет вообще основной смысл, соответствует способ формирования: в
60
последнем определенные природные формы и человеческие поступки не изображают и не означают лишь самих себя в их обособленном своеобразии, но и не доводят до сознания божественное в качестве присутствующего в них и непосредственно доступного для созерцания; их определенное существование в его особенной форме обладает лишь теми качествами, которые должны служить намеком на этот родственный им более широкий смысл.
Поэтому указанная выше всеобщая диалектика жизни — возникновение, рост, гибель и возрождение из смерти — образует также в этом отношении соразмерное содержание для символической формы в собственном смысле. Почти во всех областях природной и духовной жизни мы находим явления, в основе которых лежит этот процесс и которые поэтому могут быть использованы для того, чтобы указать на это общее значение и сделать его наглядным, так как между обеими сторонами имеет место действительное родство. Например, растения возникают из семян; они пускают ростки, растут, цветут, приносят плоды, плод погибает и приносит новое семя. Подобным же образом солнце зимой стоит низко, весной поднимается, пока летом не достигнет зенита, оказывая величайшие благодеяния или причиняя величайший вред, а затем опять опускается. Различные возрасты — детство, юность, зрелый возраст и старость — изображают тот же всеобщий процесс. Для большей детализации здесь выступают специфические местные особенности, как, например, Нил. Поскольку благодаря этим более обоснованным чертам родства и более тесному соответствию смысла и его выражения устраняется чисто фантастическое, то наступает обдуманный выбор символизирующих образов соответственно с их соразмерностью или несоразмерностью, и прежде безостановочное колебание успокаивается и приобретает более рассудительный характер.
Таким образом, снова возникает примиренное единство, которое мы нашли на первой ступени, с тем, однако, отличием, что тождество смысла и его реального существования не носит больше непосредственного характера, а является восстановленным из различия, и потому оно есть не преднайденное, а произведенное духом объединение. Внутреннее вообще начинает достигать здесь самостоятельности, осознавать себя и ищет своего отображения в природном, которое в свою очередь имеет подобное же отражение в жизни и судьбе духовного.
Это стремление узнавать одну сторону в другой, доводить до созерцания и воображения через внешний образ внутреннее, а через внутреннее — смысл внешних образов посредством соедине-
61
ния того и другого,— это стремление вызывает чрезвычайно сильное влечение к символическому искусству. Лишь там, где внутреннее становится свободным и стремится представить себе в реальном облике то, что оно есть по своей сущности, и иметь перед собою само это представление в качестве внешнего произведения,— только там впервые появляется влечение к искусству, и главным образом к пластическому искусству. Лишь благодаря этому возникает необходимость сообщить внутреннему содержанию не только преднайденный духовной деятельностью облик, но и изобретенное, порожденное духом явление. Фантазия создает себе тоща вторую форму, которая не является самоцелью, а используется лишь для того, чтобы сделать наглядным родственный ей смысл, от которого она и зависит.
Это соотношение можно было бы мыслить себе так, что сознание исходит из смысла и лишь после этого ищет вокруг себя родственных внешних форм для выражения своих представлений. Но не этот путь свойствен собственно символическому искусству. Своеобразие последнего состоит в том, что оно еще не дошло до постижения смысла в себе и для себя, независимо от всякой внешней формы. Оно берет своим исходным пунктом наличное и его конкретное существование в природе и духе и лишь затем расширяет его до всеобщности смысла, который содержится в подобном· реальном существовании в более ограниченном виде и лишь приближенным образом.
Символическое искусство овладевает этими объектами для того, чтобы создать из них полный фантазии образ, который в этой особенной реальности делает наглядным для сознания и дает ему возможность представлять себе указанную всеобщность. Как символические — создания искусства еще не обладают здесь истинно адекватной духу формой, потому что дух еще сам не ясен себе внутри себя и, следовательно, еще не стал свободным духом. Однако эти создания сразу же показывают в самих себе, что они избраны не для того только, чтобы изображать самих себя, а намекают на более глубокий и более широкий смысл. То, что является только природным и чувственным, представляет само себя. Напротив, символическое художественное произведение —ставит ли оно перед нашими глазами явления природы или человеческие фигуры — сразу указывает на нечто иное, лежащее вне его, однако это последнее должно обладать внутренне обоснованным родством с показываемыми созданиями и существенным отношением к ним.
Связь между конкретным обликом и его всеобщим смыслом может быть многообразной; она может быть более внешней и.
62
потому более неясной, но она можете быть и более основательной. Последнее мы встречаем в том случае, когда всеобщность, которая должна быть представлена в символической форме, действительно составляет существенное в конкретном явлении, благодаря чему понимание символа значительно облегчается.
Абстрактнейшим выражением является в этом отношении число, которое можно применить для более ясного намека лишь в том случае, когда сам смысл имеет в себе числовое определение. Числа семь и двенадцать, например, часто встречаются в египетском зодчестве, потому что семь есть число планет, а двенадцать — число месяцев или футов, на которые должен подниматься Нил, чтобы сделать почву плодородной. Такое число рассматривается тогда как священное, поскольку оно представляет собой числовое определение в великих стихийных соотношениях, которым поклоняются как могучим силам природы. В этой мере двенадцать ступеней и семь колонн символичны. Подобная числовая символика встречается даже в очень развитых мифологиях. Двенадцать работ Геркулеса, например, по-видимому, происходят от двенадцати месяцев, так как, хотя Геркулес и выступает, с одной стороны, как человеческое лицо, как индивидуализированный герой, но, с другой стороны, он еще носит в себе символизированный природный смысл и является олицетворением движения солнца.
Более конкретными являются, далее, символические пространственные конфигурации: лабиринты в качестве символа кругового движения планет, а также танцы, сложные движения которых имеют более тайный смысл и должны символически отображать движения великих стихийных тел.
Поднимаясь выше, мы встречаем в качестве символов фигуры животных, но самым совершенным символом является форма человеческого тела, которая уже здесь получает более высокую и более соразмерную разработку, так как дух уже на этой ступени начинает освобождаться от чисто природного облачения я переходит к более самостоятельному существованию.
Это общее понятие символа в собственном смысле и то, что составляет необходимость искусства для изображения этого символа. Чтобы перейти к обсуждению более конкретных воззрений этой ступени, мы должны будем, рассматривая это первое нисхождение духа внутрь себя, покинуть Восток и обратиться к Западу.
В качестве всеобщего символа, обозначающего эту точку зрения, мы можем взять образ Феникса, который сжигает самого себя, но после смерти в пламени выходит обновленным и восста-
63
ет из пепла. Геродот рассказывает (II, 73), что он видел эту птицу в Египте, по крайней мере на изображениях, и Египет на самом деле является центром символической формы искусства. Однако, прежде чем перейти к более подробному рассмотрению египетского искусства, мы можем коснуться еще некоторых других мифов, образующих переход к этой всесторонне разработанной символике. Это мифы об Адонисе, его смерти, плаче по нем Афродиты, траурных торжествах и т. д.,— воззрения, родиной которых является сирийское побережье. Культ Кибелы у фригийцев имеет то же самое значение, отзвуки которого мы еще слышим в мифах о Касторе и Поллуксе, Церере и Прозерпине.
'В качестве смысла здесь выдвинут и сделан сам по себе наглядным главным образом указанный выше момент отрицательного, смерть природного, как абсолютно обоснованная в божественном. Этим объясняются траурные торжества по поводу смерти бога, безудержное оплакивание потери, которая, однако, тотчас же вознаграждается нахождением бога, его воскресением, обновлением, так что за траурными днями могут следовать радостные празднества. Это всеобщее значение имеет и более определенный смысл, будучи символом природы. Солнце теряет зимой свою силу, однако весной оно снова получает ее и вместе с ним обновляется вся природа, она умирает и возрождается. Здесь божественное, олицетворенное как событие человеческой жизни, находит свое значение в жизни природы, Которая в свою очередь представляет собой символ существенности отрицательного начала как в мире духовном, так и в мире природы.
Однако полный пример разработки символического искусства как со стороны его своеобразного содержания, так и со стороны его формы мы должны искать в Египте. Египет есть страна символа, ставящая себе духовной задачей саморасшифрование духа, но не доходящая, однако, до действительного расшифрования. Задачи остаются нерешенными, и решение, которое мы можем дать, состоит лишь в том, что мы понимаем загадки египетского искусства и его символических произведений в качестве такой самими египтянами еще не расшифрованной задачи. Здесь дух еще ищет себя в сфере внешнего, из которой он снова стремится выбраться. Так как он с неутомимым усердием трудится над тем, чтобы произвести для себя из самого себя свою сущность, пользуясь явлениями природы, и посредством формы духа представить последние для созерцания, а не для мысли, то египтяне представляют собой среди рассмотренных до сих пор народов настоящий народ искусства. Но их произведения остаются таинственными и немыми, беззвучными и неподвижными,64
потому что здесь сам дух еще не нашел собственной внутренней жизни и еще не умеет говорить на ясном и ярком языке духа.
Это неудовлетворенное влечение и стремление безмолвно довести до созерцания посредством искусства саму эту борьбу, дать форму внутреннему и осознать свое внутреннее, равно как и внутреннее вообще, лишь посредством внешних родственных образов,— это и характеризует Египет. Народ этой удивительной страны был не только земледельческим народом, он был также и строителем ', который взрыхлил почву во всех направлениях, прорыл каналы и озера и, следуя инстинкту искусства, не только дал видимую форму громаднейшим сооружениям, но и провел такие неизмеримые работы также и под землей. Возведение подобных монументов было, как уже сообщает Геродот, главным занятием народа и главным подвигом царей. Постройки индийцев, правда, тоже колоссальны, однако нигде мы не находим их в таком бесконечном многообразии, как в Египте.
00.htm - glava11
1. ЕГИПЕТСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕРТВОГО; ПИРАМИДЫ
Что касается частых сторон египетских представлений об искусстве, то мы впервые находим здесь внутреннее, фиксированное для себя в своей противоположности непосредственно существующему. И притом внутреннее как отрицание жизни, как мертвое,—не как абстрактное отрицание злого, гибельного, не как Ариман в противоположность Ормузду, а как облеченное в конкретную форму.
а) Индиец поднимается лишь до самой пустой и потому отрицательной по отношению ко всему конкретному абстракции. Индийского становления человека Брахмой мы не встречаем в Египте; там невидимое обладает более полным смыслом, мертвое приобретает содержание самого живого. Отнятое у непосредственного существования, это содержание в своей разлученности с жизнью все же сохраняет соотнесенность с живым и в этой конкретной форме получает самостоятельность и сохраняется как таковое. Известно, что египтяне бальзамировали служившие им предметом поклонения трупы кошек, собак, ястребов, ихневмонов, медведей, волков (Геродот, II, 67), но главным образом тела умерших людей (Геродот, II, 86—90). Почестью, воздаваемой покойникам, являлось у них не погребение, а постоянное сохранение трупа умершего.
' Непередаваемая игра слов: ackerbauendes — буквально строитель поля и bauendes — строящий.
3 Гегель т. 2
65
b) Но египтяне не остановились на этом непосредственном сохранении существования мертвых, на этой чисто природной длительности. Природно сохраняемое понимается и в представлении как продолжающее существовать. Геродот говорит об египтянах, что они были первыми, учившими, что душа человека бессмертна. Следовательно, у них впервые появляется в этом более высоком виде разделение природного и духовного, так как получает самостоятельность то, что является не только природным. Мысль о бессмертии души близка мысли о свободе духа, так как «я» понимает себя в ней как неподвластное природному порядку существования и покоящееся на самом себе; но это знание себя есть принцип свободы. Правда, нельзя сказать, чтобы египтяне вполне дошли до понятия свободного духа, и мы не должны понимать эту веру египтян в духе нашего представления о бессмертии души; но и они уже придерживались воззрения, согласно которому ушедшие из жизни сохраняются в своем существовании как внешним образом, так и в их представлении, и совершили этим переход сознания к своему освобождению, хотя они сами дошли только до порога царства свободы.
Это воззрение расширяется у них до представления о самостоятельном царстве мертвых, существующем наряду с наличным миром, с непосредственной действительностью. В этом царстве невидимого устраивается суд над мертвыми, которые предстают здесь пред Осирисом, выступающим под именем Аментеса. То же самое существует и в непосредственной действительности, так как и среди людей устраивали суд над мертвыми, и после кончины царя, например, каждый имел право принести свои жалобы.
c) Далее, если поставим вопрос о том, какова была та символическая художественная форма, в которую облекалось это представление, то мы должны искать ее в главных созданиях египетского зодчества. Мы имеем здесь перед собой двоякого рода архитектуру — надземную и подземную: лабиринты под землей, великолепные обширные пещеры, подземные пути длиной в полчаса ходьбы, комнаты, покрытые иероглифами,— все это было очень тщательно сделано; а над всем этим те поразительные сооружения, к которым мы главным образом должны причислить пирамиды. В продолжение веков строили многообразные гипотезы о назначении и смысле этих пирамид; теперь, кажется, никто не сомневается в том, что они являются вместилищем для гробниц царей или священных животных — например, Аписа или кошек, ибисов и т. д.
Пирамиды дают нам простой образ самого символического искусства. Они представляют собою огромные кристаллы, скры-
66
вающие в себе внутреннее ядро и окружающие его в качестве созданной искусством внешней формы таким образом, что становится ясным: они существуют для этого отрешенного от голой ириродности внутреннего содержания и находятся лишь в отношении с ним. Но это царство смерти и невидимого, составляющего здесь смысл, имеет лишь одну и притом формальную сторону, которая принадлежит истинному содержанию искусства,— а именно ту сторону, что оно удалено от непосредственного существования. Оно является лишь подземным миром, а не такой жизненностью, которая хотя и освобождена от чувственного как такового, вместе с тем существует внутри себя и вследствие этого есть свободный и живой дух. Поэтому образ такого рода внутреннего остается совершенно внешней формой и покровом в отягощении определенного содержания этого внутреннего.Подобным внешним окружением, в котором покоится скрытое в нем внутреннее начало, являются пирамиды.
00.htm - glava12
2. КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ И ЖИВОТНЫЕ МАСКИ
Поскольку внутреннее должно созерцаться как нечто внешннеe, наличное, египтяне пришли с противоположной стороны к мысли почитать божественное существование в лице живых животных — например, быков, кошек и некоторых других животных. Живое стоит выше неорганического внешнего, ибо живой организм обладает внутренним содержанием, на которое указывает его внешний вид, при атом внутреннее не перестает быть чем-то внутренним и потому таинственным. Таким образом, культ животных следует понимать здесь как созерцание чего-то таинственно внутреннего, которое в качестве жизни представляет собой высшую власть над чисто внешним. Нам же противно видеть, как вместо подлинно духовного почитаются священным» животные — собаки и кошки.
Это почитание, само по себе взятое, не имеет в себе ничего· символического, так как при этом поклоняются живому, реальному животному, например Апису, как существованию божества. Но египтяне пользовались фигурами животных и как символами. В этих случаях они имеют значение не сами по себе, а низведены на степень выражения чего-то всеобщего. Наивнее всего это проявляется в животных масках, которые часто встречаются на изображениях бальзамирования; люди, разрезающие труп или вынимающие внутренности, изображаются в таких масках. Здесь сразу же обнаруживается, что голова животного должна указывать не на самое себя, а на более всеобщий и вместе с
67
тем отличный от нее смысл. Далее, образы животных используются в смешении с человеческими чертами; мы находим, например, человеческие фигуры с головами львов, которые считают фигурами Минервы, встречаем также головы ястребов, а на изображениях головы Амона остались рога и т. д. Здесь нельзя не видеть символических намеков. Сходным образом большая часть иероглифических письмен египтян также носит символический характер, так как они либо стараются сделать для нас заметным смысл посредством изображения действительных 'предметов, представляющих не самих себя, а родственную им всеобщность, либо, что встречается еще чаще, в так называемых фонетических элементах этих письмен,— они обозначают отдельные буквы посредством начертания некоторого предмета, начальные буквы которого в произношении обладают тем же звуком, который должен быть выражен,00.htm - glava13
3. РАЗВИТАЯ СИМВОЛИКА: КОЛОССЫ МЕМНОНА, ИСИДА И ОСИРИС, СФИНКС
•Вообще следует сказать, что в Египте почти каждая форма есть символ и иероглиф, означающий не самого себя, à указывающий на некое иное, с которым он родствен и находится в некотором соотношении. Однако символы в настоящем смысле появляются полностью лишь тогда, когда это соотношение носит более основательный и глубокий характер. С этой стороны я вкратце укажу лишь на следующие часто встречающиеся воззрения.
а) Бели, с одной стороны, египетское суеверие предчувствует в фигуре животного тайное внутреннее содержание, то, с другой стороны, человеческая фигура изображается так, что ее внутренняя субъективность пока еще находится вне ее и потому не может развернуться в свободную красоту. В особенности примечательны колоссы Мемнона,— неподвижные, с плотно прилегающими к телу руками, с тесно сомкнутыми ногами, они оцепенело и безжизненно поставлены против солнца, ожидая от него луча, который, коснувшись, одушевил бы их и заставил звучать. Геродот по крайней мере рассказывает, что колоссы Мемнона издавали звук при восходе солнца. Правда, высшая критика выразила в этом сомнение, однако факт звучания этих фигур недавно был снова подтвержден французами и англичанами. Если звук и не вызывается каким-нибудь особым механизмом, то он может быть объяснен таким образом: подобно тому как существуют минералы, которые хрустят в воде, так и звук этих каменных статуй происходит от совокупного действия росы, утренней прохлады и
68
падающих на них солнечных лучей, поскольку благодаря этому возникают мелкие трещины, которые затем снова исчезают.
В качестве символов мы должны толковать эти колоссы следующим образом: фигуры не обладают свободно в самих себе духовной душой и, не имея возможности черпать жизнь изнутри, из своих глубин, носящих в себе меру и красоту, нуждаются в свете извне, чтобы он извлек из них звук души. Однако человеческий голос звучит как выражение собственного чувства и собственного духа без внешнего толчка, точно так же как высокий уровень искусства состоит в том, что он дает внутренней жизни формировать себя из самой себя. Но внутренняя сторона человеческой фигуры еще нема в Египте, и в ее одушевлении принимается во внимание лишь природный момент.
Ь) Дальнейшим символическим способом представления служат Исида и Осирис. Осирис зачат, родился и затем убит Тифоном, но Исида ищет рассеянные кости, находит, собирает и предает их погребению. Эта история божеств имеет своим содержанием прежде всего чисто природный смысл. С одной стороны, Осирис — это солнце, и его история символизирует годовое обращение последнего. С другой стороны, Осирис означает подъем и спад Нила, который должен принести плодородие всему Египту. В Египте часто несколько лет нет дождей, и лишь Нил орошает страну своим разливом. В продолжение зимы он неглубок, и воды тихо текут в нем, не выходя из своих берегов, но затем (Геродот, II, 19), начиная с летнего солнцестояния, вода прибывает в нем в продолжение ста дней, выходит из своих берегов и широко разливается по стране. Наконец, благодаря жаре и горячим ветрам, веющим из пустыни, вода снова высыхает и возвращается в свое русло. После этого не приходится много трудиться над обработкой полей,— земля покрывается роскошной растительностью, все произрастает и зреет. Солнце и Нил, усиление и ослабление их представляют собою те влияющие на египетскую почву силы природы, которые египтянин олицетворяет и делает символически наглядными в рассказах об Исиде и Осирисе.
К этому же типу символов принадлежит и символическое изображение зодиака, связанного с годовым круговоротом, подобно тому как число двенадцати богов связано с числом месяцев года. И наоборот: Осирис означает также само человеческое. Он почитается священным как основатель земледелия, раздела полей, собственности, законов, и его культ относится и к человеческой духовной деятельности, находящейся в самой тесной связи с областью нравственности и права. Он также судья мертвых и получает благодаря этому значение, полностью отрешившееся от
69
чисто природной жизни,— значение, в котором начинает исчезать символизм, так как здесь само внутреннее, духовное становится содержанием человеческого образа, который тем самым начинает изображать собою собственную внутреннюю жизнь. Но этот духовный процесс опять-таки берет своим содержанием внешнюю жизнь природы и изображает ее внешними приемами: в храмах, например, числом лестниц, ступеней, колонн, в лабиринтах — разнообразием ходов, поворотов и комнат.
Таким образом, в различные моменты своего развития и своих превращений Осирис представляет собой как природную, так и духовную жизнь, и символические формы отчасти являются символами стихий природы, отчасти же сами состояния природы являются символами духовной деятельности и ее изменений. Человеческий образ не остается здесь голым олицетворением, потому что хотя природное и выступает здесь как подлинный смысл, оно в свою очередь становится только символом духа и вообще должно быть чем-то подчиненным в атом круге, где внутреннее стремится освободиться от чувственного видения природы. Поэтому форма человеческого тела получает совершенно другую обработку и обнаруживает стремление спуститься в глубины внутренней духовной жизни, хотя настоящая цель этих стараний, свобода духовного внутри себя, достигается неудовлетворительным образом. Фигуры остаются колоссальными, строгими, окаменелыми, 'лишенными свободы и радостной ясности. Ноги, руки и голова тесно и неподвижно примыкают к остальному телу, без грации и живого движения. Лишь Дедалу приписывается искусство делать руки и ноги свободными и сообщать телу движение.
Благодаря этой взаимной символизации символ в Египте является вместе с тем совокупностью символов, и то, что однажды выступает в качестве смысла, снова используется как символ какой-либо родственной области. Эта многозначная связь в символическом изображении, которое сплетает между собой смысл и образ, указывает на .многообразные вещи или намекает на них и тем самым приближается к внутренней субъективности, которая одна только в состоянии идти в разнообразных направлениях,— такая многозначная связь является преимуществом этих созданий, хотя их объяснение и затрудняется вследствие этой многозначности.
Казалось бы, что такого рода смысл—в расшифровании его в наше время часто заходят слишком далеко, потому что почти все образы в самом деле непосредственно производят впечатление символа,— мог бы, пожалуй, быть ясным и понятным и са-
70
мому египетскому созерцанию тем же самым образом, каким мы стремимся объяснить его себе. Однако это не так. Египетские символы, как мы убедились в этом с самого начала, содержат в себе очень много implicite, explicite же — нет совсем. Это работы, предпринятые с тем, чтобы уяснить себя самим себе, и они не идут дальше стремлении к тому, что ясно в себе и для себя. В этом смысле по египетским произведениям искусства видно, что они содержат в себе загадки, правильная разгадка которых не удается не только нам, но большей частью и тем, которые сами себе их задавали.
с) Произведения египетского искусства с их таинственной символикой являются поэтому загадкой; это сама объективная загадка. Как на символ этого настоящего смысла египетского духа мы можем указать на сфинкса. Он является как бы символом самого символизма. В Египте мы встречаем полированные фигуры сфинксов из самого твердого камня, в бесчисленном множестве расставленные в ряды по сотням, покрытые иероглифами; возле Каира находятся сфинксы такой колоссальной величины, что одни лишь львиные когти достигают высоты человеческого роста. Это тела животных в лежачем положении; верхнюю часть образует человеческое туловище, кое-где с бараньей, большей же частью с женской головой. Человеческий дух хочет выбраться из тупой животной крепости и силы, не достигая завершенного изображения собственной свободы и подвижной фигуры,— он еще должен оставаться смешанным и соединенным с тем, что является иным его самого. Это стремление к самосознательной духовности, которая не постигает себя из самой себя в только ей соответствующей реальности, а созерцает себя лишь в том, что родственно ей, и осознает себя в том, что также чуждо ей,— это стремление представляет собою символизм вообще, который, достигнув своей вершины, превращается в загадку.
Именно в этом смысле сфинкс в греческом мифе, который мы в свою очередь можем толковать символически, представлен чудовищем, задающим загадку. Сфинкс загадал известный вопрос: кто ходит утром на четырех, в полдень на двух, а вечером на трех ногах? Эдип нашел простую разгадку. Он ответил: это человек,— и сбросил сфинкса со скалы. Разгадка символа заключается в сущем в себе и для себя значении, в духе, подобно тому как знаменитая греческая надпись обращается к человеку с увещанием: познай самого себя. Свет сознания есть та ясность, которая заставляет свое конкретное содержание просвечивать через принадлежащую ему соразмерную форму и открывает нам в своем наличном бытии только самое себя.
71
Вторая глава СИМВОЛИКА ВОЗВЫШЕННОГО
Лишенная всякой загадочности ясность адекватно формирующего себя из самого себя духа, составляющая цель символического искусства, может быть достигнута лишь тем, что смысл сначала вступает в сознание сам по себе, отдельно от всего являющегося мира. В непосредственно созерцаемом их единстве заключается причина отсутствия искусства у древних парсов; противоречие же, состоящее в том, что смысл и мир явлений отделены друг от друга, при том, что от них все же требуют непосредственной связи между собой,—это противоречие породило фантастическую символику индийцев, и даже в Египте недоставало отрешенной от являющегося свободной познаваемости внутреннего и в себе и для себя значащего, что служило причиной загадочности и темноты египетского символизма.
Первого далеко идущего очищения и явно выраженного отделения в себе и для себя сущего от чувственной наличности, то есть от эмпирической единичности внешних предметов, мы должны искать в возвышенном, которое поднимает абсолютное выше всякого непосредственного существования и этим осуществляет абстрактную свободу, составляющую по крайней мере основу духовного. Этот столь возвышенный смысл пока еще не понимают в достаточной мере как конкретную духовность,— он рассматривается как в себе сущее и покоящееся внутреннее, которое по своей природе неспособно находить свое истинное выражение в конечных явлениях.
Кант провел очень интересное различие между возвышенным и прекрасным, и то, что он говорит об этом в первой части «Критики способности суждения», начиная с § 20, все еще сохраняет свой интерес, несмотря на многословность и положенное в основание высказанной мысли сведение всех определений к субъективному — к способности чувства, силе воображения, разуму
72
и т. д. Это сведение со стороны своего общего принципа должно быть признано правильным в том отношении, что возвышенное, как выражается Кант, содержится не в каком-нибудь предмете природы, а лишь в нашей душе, поскольку мы сознаем, что превосходим природу в нас, а тем самым и природу вне нас. В этом духе Кант говорит: «Возвышенное в собственном смысле не может содержаться в какой бы то ни было чувственной форме, а касается лишь идей разума, которым невозможно дать соразмерное им воплощение, но которые именно благодаря этой чувственно воплощаемой несоразмерности оживляются и возбуждаются в душе» («Критика способности суждения», изд. 3, 1799, стр. 77) 1. Возвышенное вообще есть попытка выразить бесконечное, не находя в царстве явлений предмета, который оказался бы годным для этой цели. Бесконечное именно потому, что его выделяют из всего комплекса предметности в его для-себя бытии как невидимый, бесформенный смысл, остается неизреченным со стороны своей бесконечности и возвышающимся над всяким выражением посредством конечного.
Ближайшее содержание, приобретаемое здесь смыслом, состоит в том, что последний, в противоположность совокупности являющегося, есть внутри себя субстанциальное единое, которое в качестве чистой мысли само существует лишь для чистой мысли. Эта субстанция уже не может, как раньше, находить свое формирование в чем-то внешнем, и, следовательно, исчезает ее собственно символический характер. Но если мы желаем, чтобы это внутри себя единое было поставлено перед созерцанием, то это возможно лишь благодаря тому, что его в качестве субстанции понимают и как творческую мощь всех вещей, в которых мы находим его откровение и явление, благодаря чему оно обладает положительным отношением к этим вещам. Но этим определением выражается и то, что субстанция возвышается над единичными явлениями как таковыми, равно как и над их совокупностью, благодаря чему в процессе 'более последовательного развития положительное отношение превращается в отрицательное; последнее состоит в том, что это единое должно быть очищено от являющегося как чего-то частного и потому несоразмерного субстанции, исчезающего в ней.
Это формирование, которое само уничтожается посредством того, что оно истолковывает, так что истолкование содержания обнаруживается как снятие самого истолкования,— это формирование есть возвышенное, которое мы поэтому не должны, как
' И. Кант, Критика способности суждения, Спб., 1898, стр. 99.
73
это делает Кант, помещать исключительно только в субъективность души и в субъективные идеи разума, а должны понимать его как укорененное в единой абсолютной субстанции в качестве содержания, подлежащего воплощению.
Деление художественных форм возвышенного также можно почерпнуть из только что указанного двоякого отношения субстанции как смысла к миру явлений.
Общее в этом, с одной стороны, положительном и, с другой стороны, отрицательном отношении заключается в том, что субстанция возвышается над тем единичным явлением, в котором она должна найти свое воплощение, хотя она может быть выражена лишь в связи с являющимся, так как она в качестве субстанции и сущности лишена какого бы то ни было образа внутри самой себя и недоступна конкретному созерцанию.
Первым, утвердительным способом понимания мы можем считать пантеистическое искусство, которое мы встречаем отчасти в Индии, отчасти в позднейшей свободе и мистике поэтов персидского магометанства; с более углубленной интимностью мысли и чувства оно появляется также и на христианском Западе.
Со стороны всеобщего определения субстанция на этой ступени созерцается как имманентная воем своим сотворенным акциденциям, которые поэтому еще не сведены к простым украшениям, служащим возвеличению абсолютного, а утвердительно сохраняются благодаря пребывающей в них субстанции, хотя здесь во всем единичном мы должны представлять себе и возвеличивать лишь единое и божественное. Тем самым и поэт, который во всем усматривает это единое, восхищается им и погружает в это созерцание как предметы, так и самого себя,— и поэт в состоянии сохранить положительное отношение к субстанции, с которой он всё и вся связывает.
Второе, отрицательное восхваление могущества и величия единого бога мы .находим в еврейской поэзии, и это и есть настоящее возвышенное. Оно снимает положительную имманентность абсолютного сотворенным явлениям и ставит по одну сторону единую субстанцию как владыку мира, а по другую, противоположную сторону — совокупность творений, сопоставленную с богом и положенную бессильной и исчезающей в самой себе. Теперь, когда хотят изобразить мощь и мудрость единого с помощью конечных предметов природы и человеческих судеб, мы не встретим больше индийского искажения этого изображения в безмерном и бесформенном,—возвышенный характер божества становится доступным созерцанию благодаря тому, что все су-
74
ществующее со всем его блеском, великолепием и величием изображается лишь как подчиненная акциденция и преходящая видимость в сравнении с божественной сущностью и постоянством.
00.htm - glava14
А. ПАНТЕИЗМ ИСКУССТВА
Произнося слово «пантеизм», мы в наше время сразу рискуем стать жертвой грубейших недоразумений. С одной стороны, слово «всё» в нашем современном смысле означает всё и вся в своей совершенно эмпирической единичности; например, эта табакерка со всеми ее свойствами, табакерка определенного цвета, величины, формы, веса и т. д., или тот дом, книга, животное, тот стул, стол, печь, слой облаков и т. д. Если поэтому некоторые современные теологи утверждают относительно философии, что она все делает богом, то в указанном смысле данного слова этот факт, который навязывают философии, а стало быть, и обвинение, выдвинутое против нее, совершенно ложны. Такое представление о пантеизме может возникнуть лишь в сумасшедших головах, и мы не найдем его ни в какой-либо религии — даже у ирокезов и эскимосов,— ни в каком-либо философском учении. «Всё» в том, что называли пантеизмом, есть поэтому не то или иное единичное, а «всё» в смысле вселенной, то есть в смысле единого субстанциального, которое хотя и имманентно единичным явлениям, однако абстрагируется от единичности и ее эмпирической реальности, так что выделяется и имеется в виду не единичное как таковое, а всеобщая душа или, выражаясь популярнее, истинное и превосходное, присутствующее также и в
этом единичном.
Это и составляет подлинный смысл «пантеизма», и лишь в этом смысле мы должны говорить здесь о нем. Он принадлежит преимущественно Востоку, который понимает мысль об абсолютном единстве божественного и всех вещей как именно такое единство. В качестве единства и вселенной божественное может быть осознано лишь благодаря тому, что снова исчезают те единичности, которые рассматриваются как присутствующие в нем. Здесь, с одной стороны, божественное представляют себе как имманентное самым различным предметам и притом как самое превосходное и выдающееся среди различных существ и в них, а с другой стороны, так как единое есть и то, и другое, и снова другое, так как оно входит во все, то именно поэтому единичные и частные предметы представляются снятыми и исчезающими. Ибо не каждое единичное есть это единое, но единое образует совокупность этих единичностей, которые для созерцания исче-
75
зают в этой совокупности. Если единое есть, например, жизнь, то оно является также и смертью — и именно потому не только жизнью. Следовательно, жизнь, солнце или море составляют единое и божественное не как жизнь, солнце или море.
Вместе с тем акциденциальное здесь еще определенно не признается чем-то отрицательным и служебным, как в возвышенном в собственном смысле слова, а, напротив, субстанция становится в себе некиим особенным и акциденциальным, так как она образует во всем особенном это единое. Но и обратно, так как единичное также меняется и фантазия не ограничивает субстанцию определенным существованием, а выходит за пределы каждой определенности и отказывается от нее, чтобы двигаться дальше, переходит к другой определенности,— то единичное тем самым превращается в акциденциальное, от которого отделяется субстанция, возвышаясь над ним.
Такой способ понимания может найти свое художественное выражение только в поэзии, а не в пластических искусствах, ставящих перед нашим взором определенное и единичное лишь как прочно существующее и пребывающее, тогда как в данном случае это определенное и единичное должно отречься от себя перед лицом пребывающей в подобных существах субстанции. Где пантеизм выступает в чистом виде, там не существует пластического искусства как способа его изображения.
00.htm - glava15
1. ИНДИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Как на первый пример такой пантеистической поэзии мы можем опять-таки указать на индийскую поэзию, которая наряду с фантастикой блестяще развила и эту сторону.
Индийцы, как мы видели, имеют высшим божеством абстрактнейшую всеобщность и единство; хотя эта всеобщность и переходит затем в определенных богов — в Тримурти, Индру и т. д., однако она не фиксирует этой определенности, а дает низшим богам переходить обратно в высшие, равно как и последним в Брахмана. Уже в этом обнаруживается, что указанное всеобщее начало составляет единую, остающуюся одинаковой с собой основу всего, и если индийцы своей поэзией обнаруживают двоякое стремление, если они стремятся преувеличить черты отдельного существования, чтобы оно уже в своей чувственности выступало соразмерным всеобщему смыслу, или, наоборот, стремятся совершенно отрицательным образом отбросить всякую определенность ради единой абстракции,— то, с другой стороны, у них встречается и более чистый способ изображения только что
76
указанного пантеизма, подчеркивающий имманентность божественного наличному для созерцания и исчезающему единичному.
Правда, в этом способе понимания можно было бы усмотреть больше сходства с тем непосредственным единством чистой мысли и чувственного, которое мы встретили у парсов; однако у парсов единое и превосходное, фиксированное для себя, само есть некое природное, свет. У индийцев же единое, Брахман, есть лишь бесформенное единое, которое только после преобразования приводит пантеистический способ изображения к бесконечному многообразию мировых явлений. Так, например, о Кришне говорится: Земля, вода, огонь, воздух, пространство, манас, буддхи, Основа личности—вот Моя восьмерично-разделенная природа; Это —> низшая; но познай иную, высшую Мою природу, Душу Живую, мощный,— Она этот преходящий мир объемлет. Все существа — ее лона, постигни это; Я начало, конец всего преходящего мира.
Выше Меня, Дхананджая, нет ничего иного; Все на Мне нанизано, как жемчуг на нити. Я вкус воды, Каунтея, Я блеск луны и солнца, Я во всех Ведах живоносное слово, звук в эфире, человечность в людях.
Я чистый запах в земле, в огне — сиянье, Жизнь во всех существах, Я подвижников подвиг; Я вечное семя существ, постигни, Партха; Я мудрость мудрых, Я великолепие великолепных; Я сила сильных, свободных от вожделения и страсти; В существах Я закономерное влечение, мощный Бхарта.
От Меня состоянья: саттва, раджас и тамас, Ибо не Я в них, а они во Мне, постигни это.
Три состоянья весь мир преходящий в заблуждение вводят, И мир не знает Меня: вечный, Я пребываю над ними.
Божественна Моя грудвооборная, из гун состоящая майя; Те, что ко Мне стремятся, преодолевают майю '.
Здесь такое субстанциальное единство нашло поразительнейшее выражение как в отношении имманентности существующим вещам, так и в отношении необходимости подняться над
единичным.
«Бхагавадгита», гл. VII, ст. 4—114. Пер. Б. Смирнова.
77
Сходным образом Кришна говорит о себе, что он есть самое превосходное во всех различных существованиях (гл. X, ст. 21 а след.) : «Среди светил я — лучезарное солнце, среди созвездий я — луна, среди Вед я — Сама-Веда, среди чувств я — манас, среди гор я — Меру, среди зверей я — царь зверей, среди букв я — «А», среди времен года я — время цветения» и т. д.
Но это перечисление самых превосходных вещей, равно как и голая смена образов, в которых снова и снова делается предметом созерцания одно и то же, остается вследствие однообразия содержания в высшей степени монотонным и в целом пустым и утомительным, как бы ни казалось сначала, что перед нами развертывается здесь необычайное богатство фантазии.
00.htm - glava16
2. МАГОМЕТАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
В более высоком и субъективно более свободном виде восточный пантеизм получил свое развитие в магометанском мире, в особенности у персов.
Здесь мы встречаемся со своеобразным обстоятельством, зависящим главным образом от поэта как субъекта.
a) Одержимый жаждой видеть во всем божественное и действительно узревая его, поэт отказывается перед его лицом и от самого себя, признавая вместе с тем имманентность божественного своему расширенному таким образом и освобожденному внутреннему миру. Благодаря этому у него возникает та радостная интимность, то свободное счастье, то утопание в блаженстве, которое свойственно восточному человеку, отрекающемуся от собственной особенности, всецело погружающемуся в вечное в абсолютное и познающему и чувствующему во всем образ и присутствие божественного. Такое чувство проникнутости божественным и блаженной упоенной жизни в боге граничит с мистицизмом. В этом отношении прежде всего заслуживает похвалы Джалолиддин Руми, лучшие образцы поэзии которого дал Рюккерт; последнему его удивительная власть над словом позволила чрезвычайно искусно и свободно играть словами и рифмами, как это делают и персидские поэты. Любовь к божеству, с которым человек отождествляет свое «я» в безграничной самоотдаче, видя во всех мировых пространствах его единого, сводя всё и вся к нему и связывая с ним,— эта любовь к божеству составляет здесь центр, распространяющийся по всем направлениям и достигающий самых отдаленных областей.
b) Далее, если в возвышенном в собственном смысле, как это тотчас обнаружится, лучшие предметы и богатейшие образы
78
употребляются лишь в качестве украшения божества и служат возвращению великолепия и величия единого, так как они ставятся перед нашими глазами лишь для того, чтобы прославлять его как властелина всех творений,— то в пантеизме, напротив, имманентность божественного предметам поднимает само мирское, природное и человеческое существование до уровня самостоятельного величия. Собственная жизнь духовного в явлениях природы и в человеческих отношениях оживотворяет и одухотворяет их в них самих и служит в свою очередь основой своеобразного отношения субъективного чувства и души поэта к воспеваемым предметам. Преисполненная чувством этого одушевленного величия, душа спокойна в самой себе, независима, свободна, самостоятельна, широка и велика, и в этом утвердительном тождестве с собою она вживается в душу вещей, воображает себя в таком же спокойном единстве с ними и срастается с предметами природы и их великолепием — с возлюбленной, шинкарем и вообще со всем, что достойно любви и похвалы, образуя с ними блаженнейшую, радостнейшую интимную связь.
Западная, романтическая интимность чувства обнаруживает, правда, сходное вживание, однако в целом она, в особенности на севере, более несчастна, более несвободна, более проникнута страстной тоской или остается замкнутой, более субъективной в самой себе и благодаря этому становится эгоистичной и чувствительной. Такая подавленная, грустная интимность чувства выражается в особенности в народных песнях варварских народов. Напротив, восточным народам, и главным образом магометанским персам, свойственна свободная, счастливая интимность чувства; они открыто и радостно отдают все свое самобытие как богу, так и всему, достойному похвалы, достигая в этой самоотдаче свободной субстанциальности, которую они умеют сохранить и по отношению к окружающему миру.
Мы видим, что в пламенной страсти сохраняются экспансивнейшее блаженство и откровенность в выражении чувства, благодаря которым при неисчерпаемом богатстве блестящих и великолепных образов непрерывно звучит тон радости, красоты и счастья. Если восточный человек страдает и несчастеи, то он принимает это как неизменный приговор судьбы и остается при этом уверенным в себе, не испытывая подавленности и не впадая в сентиментальность и ворчливую меланхолию. В стихотворениях Хафиза мы находим достаточно жалоб и сетований на возлюбленную, шинкаря л т. д.; но и в печали он остается таким же беззаботным, как в счастье. Так, например, он говорит однажды: «Из благодарности за то, что тебя освещает присутст-
79
вие друга, скорбно сожги тотчас же свечу и наслаждайся». Свеча учит смеяться и плакать, она смеется с веселым блеском сквозь пламя, хотя вместе с тем она тает в горячих слезах; его рая, она распространяет вокруг себя веселый блеск.
Таков общий характер всей этой поэзии.
Приведем несколько более специальных образов. Персы часто пользуются образами цветов и благородных камней, но преимущественно образами розы и соловья. Особенно часто они изображают соловья женихом розы. Это одушевление розы и любовь соловья мы встречаем, например, у Хафиза: Надменность твоей красы
ужели, о роза, не даст Одно словечко сказать
соловью, чьи так жалобны трели? '
Он сам говорит о соловье своей души. Когда же мы говорим в наших стихотворениях о розах, соловьях, вине, то делаем это в совершенно другом, более прозаическом смысле, и роза служит лишь украшением речи — «увенчанный розами» и т. д.,— или же мы переживаем, слушая пение соловья, пьем вино и говорим, что оно освобождает от всех забот. У персов же роза не образ, не простое украшение речи, не символ,— а она сама представляется поэту обладающей душою, любящей невестой, и он углубляется своим духом в душу розы.
Тот же характер блестящего пантеизма показывают нам и новейшие персидские стихотворения. Г-н фон Гаммер, например, сделал сообщение об одном стихотворении, которое прислал шах в 1819 году среди других подарков императору Францу. Оно содержит в 33-х тысячах дистихов описание подвигов шаха, который дал придворному поэту свое собственное имя.
с) Также и Гёте, в противоположность своим более мрачным юношеским стихотворениям с их концентрированным чувством, был охвачен в позднем возрасте этим широким беспечальным весельем. Даже в старости, проникнутый дыханием Востока, поддаваясь поэтическому кипению крови, преисполненный неизмеримым блаженством, он перешел к этой свободе чувства, не теряющей даже в полемике чудеснейшей беззаботности. Песни, составляющие его «Западно-восточный диван», не сводятся к игривым или незначительным светским безделкам, а произошли из такого свободного, отдающего себя целиком чувства. Он сам называет их в одной из песен к Зулейке: Пер. Е. Дунаевского.
80
Жемчуг поэта, Который любви твоей Прилив всемогущий Кинул на берег Пустующей жизни, Он в тонких пальцах Дивно подобран, Меж перлов — из золота Звенья.
Бери их,— восклицает он возлюбленной: Зерна прими на грудь, Надень на шею,— Дождей Аллаха капли Вскормленниц раковин скромных ).
Чтобы писать такие стихотворения, нужно обладать необычайно широким образом мыслей, уверенностью в себе, пронесенной сквозь все жизненные бури, глубиной и молодостью чувства; поэт должен заключить в себе
Целый мир, что жизни силой Полноты своей доспев, Предвкушает Будь-будь2 милой Возбудительный напев 3.
00.htm - glava17
3. ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА
Пантеистическое единство, подчеркнутое по отношению к субъекту, который чувствует себя находящимся в этом единстве с божеством и божество — присутствующим в субъективном сознании, порождает мистику в том более субъективном ее виде, в каком она развилась в христианском мире. В качестве примера я укажу лишь на Ангелуса Силезиуса, который с величайшей смелостью и глубиной созерцания и чувства, с удивительной силой мистического изображения высказал мысль о субстанциальном существовании бога в вещах и о соединении своего самобытия с богом и бога с человеческой субъективностью. Напротив, собственно восточный пантеизм больше подчеркивает лишь видение единой субстанции во всех явлениях и самоотдачу субъекта, который тем самым достигает величайшего расширения сознания и — благодаря полному освобождению от конечного — блаженства, растворяясь во всем наилучшем и прекраснейшем.
' Пер. С. Шервинского.
2 Буль-буль — по-персидски соловей.
3 Пер. М. Кузмина.
81
00.htm - glava18
В. ИСКУССТВО ВОЗВЫШЕННОГО
Истинна лишь единая субстанция, которую понимают как подлинный смысл всей вселенной и признают субстанцией лишь тогда, когда ее изымают из ее присутствия и действительности в смене явлений и возвращают в себя в качестве чисто внутренней жизни и субстанциальной силы, придавая ей тем самым самостоятельный характер по отношению ко всему конечному. Лишь благодаря этому видению сущности бога — как безусловно духовной и лишенной образа, как противоположной мирскому и природному — духовное оказывается полностью вырванным из царства чувственности и природности и освобожденным от существования в конечном. Со своей стороны, абсолютная субстанция остается соотнесенной с миром явлений, из которого она рефлектирована в себя. Это отношение получает теперь намеченный выше отрицательный характер: весь мир, несмотря на полноту, силу и великолепие его явлений, определенно признается по отношению к субстанции чем-то лишь отрицательным внутри себя, тем, что создано богом, подчинено его могуществу и служит ему.
Мир рассматривается как откровение бога, и бог лишь по своей благости позволил сотворенному существовать для себя и сообщил ему устойчивость, несмотря на то, что оно в себе не имеет права существовать и соотноситься с собою. Однако устойчивое существование конечного лишено субстанциальности, и по сравнению с богом тварь есть нечто исчезающее и бессильное, так что в благости творца одновременно должна проявляться и его справедливость, которая действительно выявляет бессилие в том, что в себе отрицательно, и этим являет субстанцию как единственно могущественную. Это отношение, когда искусство делает его основным отношением как своего содержания, так и своей формы, порождает искусство возвышенного в собственном смысле.
Следует различать между красотой идеала и возвышенным. В идеале внутреннее проникает собою внешнюю реальность, внутренним содержанием которой оно является, таким образом, что обе стороны выступают как адекватные друг другу и именно поэтому — как взаимно проникающие друг друга. Напротив, в возвышенном внешнее существование, s котором субстанция делается предметом созерцания, унижается в сравнении с субстанцией, и это низведение его до уровня чего-то служебного есть единственный способ сделать наглядным с помощью искусства само по себе бесформенное и по своей положительной сущности ничем мирским и конечным не выразимое единое бо-
82
жество. Возвышенное предполагает такую самостоятельность смысла, по сравнению с которой внешнее должно представляться лишь чем-то подчиненным, поскольку внутреннее не присутствует в нем, а далеко выходит за его пределы, так что это выхождение и существование внутреннего за пределами внешнего, и ничто другое, становится предметом изображения.
В символе главным был образ. Последний должен был обладать смыслом, не будучи в состоянии полностью выразить этот смысл. Этому символу с его неясным содержанием противостоит теперь смысл как таковой в его ясном понимании; художественное произведение становится теперь излиянием чистой сущности как смысла всех вещей, но такой сущности, которая устанавливает несоразмерность образа и смысла, присутствовавшую ранее в символе в себе,— в качестве смысла самого божества, выходящего в мирском за пределы всего мирского. Указанная сущность приобретает поэтому возвышенный характер в художественном произведении, которое не выражает ничего иного, кроме этого в себе и для себя ясного смысла. Если уже символическое искусство может быть названо святым искусством, поскольку оно берет содержанием своих произведений божественное, то искусство возвышенного должно быть названо святым искусством как таковым, святым искусством по преимуществу, потому что оно воздает честь лишь одному богу.
Содержание здесь по своему основному значению в целом еще ограниченнее, чем в символе в собственном смысле, который останавливается на стремлении к духовному и в своем взаимоотношении с миром являет нам в широких размерах превращение духовного в образования природы, а природного — в нечто напоминающее нам о духе.
Этот род возвышенного в его первоначальном определении мы находим преимущественно в иудейском миросозерцании и в священной поэзии этого народа. Там, где нельзя набросать сколько-нибудь удовлетворительный образ божества, не может появиться пластическое искусство, а может возникнуть лишь поэзия представления, выражающего себя посредством слова.
При ближайшем рассмотрении этой ступени можно установить следующие общие точки зрения.
00.htm - glava19
1. БОГ КАК ТВОРЕЦ И ВЛАСТЕЛИН МИРА
В самом общем содержании этой поэзии является бог — как властелин служащего ему мира, бог, не воплощенный во внешнем, а ушедший из мирского существования в себя, в одинокое
83
единство. Поэтому то, что в символическом искусстве в собственном смысле было еще связано воедино, распадается здесь на две стороны — на абстрактное для-себя-бытие божества и конкретное существование мира.
a) Само божество в качестве этого чистого для-себя-бытия единой субстанции не имеет в себе образа и, взятое в этой абстракции, не может быть представлено созерцанию. Фантазия на этой ступени не может уловить божественное содержание в его сущности, так как последнее запрещает, чтобы искусство изобразило его в соответственном ему образе. Единственным остающимся содержанием является поэтому отношение бога к сотворенному им миру.
b) Бог есть творец вселенной. Это наиболее зрелое выражение возвышенного. Именно теперь впервые исчезают представления о порождении, о чисто природном происхождении вещей из бога, уступая мысли о сотворении духовной силой и деятельностью. «И сказал бог: да будет свет! И стал свет» — этот библейский стих приводится уже Лонгином как яркий пример возвышенного. Господь, единая субстанция, переходит, правда, к проявлению. Однако способ созидания представляет собой чистейшее, бестелесное, эфирное проявление: слово — проявление мысли как идеальной власти,— и действительно, по ее велению всё — в немом послушании — непосредственно становится существующим.
c) Однако бог не переходит в сотворенный им мир как в свою реальность, а остается замкнутым в себе наряду с последним, что все же не приводит к прочному дуализму. Ибо произведенное есть его творение, не обладающее перед его лицом никакой самостоятельностью, а существующее вообще лишь как доказательство его мудрости, благости и справедливости. Единый есть господин над всеми, и предметы природы не составляют его присутствия, а образуют лишь бессильные акциденции, которые могут давать нам только отблеск сущности, а не ее действительное явление. В этом и заключается возвышенное со стороны божества.
00.htm - glava20
2. МИР КОНЕЧНОГО, ЛИШЕННЫЙ БОЖЕСТВЕННОГО НАЧАЛА
Так как, с одной стороны, единого бога отделяют от конкретных явлений мира и фиксируют в его для-себя-бытии, а с другой стороны, определяют всё обладающее внешним существованием как конечное и отводят ему низшее положение, то существование как предметов природы, так и человека получает те-
84
перь новое осмысление: они представляют собой изображение божественного лишь благодаря тому, что в них самих выступает
их конечный характер.
a) Теперь впервые природа и облик человека стоят перед нами лишенными божественного начала и прозаичными. Греки повествуют, что, когда герои, участвовавшие в походе аргонавтов, плыли на своих кораблях через узкий Геллеспонтский пролив, скалы, которые до сих пор, подобно ножницам, с грохотом смыкались и размыкались, внезапно приросли к земле и остались навсегда неподвижными. Нечто сходное происходит в священной поэзии возвышенного с конечным: при сопоставлении его с бесконечным существом оно застывает в своей рассудочной определенности, тогда как в символическом искусстве ничто не могло найти надлежащего места, так как конечное совершенно так же переходит в божественное, как и последнее выходит из самого· себя и переходит в конечное существование. Когда мы, например, обращаемся от древних индийских поэм к Ветхому завету, то мы сразу оказываемся на совершенно другой почве, которая, как бы ни были нам чужды характеризующие ее состояния, события, поступки и характеры и как бы ни отличались они от наших, все же кажется нам близкой и родной. Мы выходим из мира опьянения и путаницы, вступаем в такие обстоятельства и видим перед собой такие фигуры, которые представляются нам совершенно естественными. Их твердо очерченные патриархальные характеры в своей определенности и правдивости доступны
и совершенно понятны нам.
b) Для этого воззрения, которое умеет понимать естественный ход вещей и выдвигает законы природы, впервые получает свое место также и чудо. Для индийского воззрения асе есть чудо и потому нет ничего чудесного. Там, где разумная связь событий и вещей постоянно нарушается, где все смещено и стоит кувырком, не может быть чуда, ибо чудесное предпологает как сообразное требованиям рассудка чередование событий, так и ясное сознание, что чудом называется только вызванное вмешательством высшей силы нарушение этой обычной связи. Однако чудо не является подлинно специфическим выражением возвышенного, ибо обычное течение явлений природы так же произведено волей божьей и подчинением природы этой воле, как и его нарушение.
c) Возвышенное в собственном смысле мы должны искать в том, что весь сотворенный мир является конечным, ограниченным, не имеющим опоры в самом себе; по этой причине он может рассматриваться лишь в качестве приданного божеству для· его возвеличивания и восхваления.
85
00.htm - glava21
3. ЧЕЛОВЕК КАК ИНДИВИД
В этом признании ничтожности вещей и возвышении восхвалении бога отдельный человек ищет — на данной ступени — своей собственной чести, своего утешения и удовлетворении.
a) В этом отношении псалмы дают нам классический пример подлинно возвышенного, выставленный как образец для
-всех времен. В них блестяще и с необычайно сильным душевным подъемом выражено то, что является человеку в его религиозном представлении о боге. Ничто не может притязать на самостоятельность, ибо все есть и существует лишь благодаря могуществу божества и лишь для того, чтобы восхвалять это могущество и высказывать собственную, лишенную субстанциальности ничтожность. Если я фантазии, исходящей из пантеистической субстанциальности, мы нашли бесконечное расширение ду-
-ши, Т.О здесь наше удивление должна вызывать сила взлета души, дающая всему пасть во прах, чтобы возвестить всемогущество бога.
Особенно поразительной силой отличается в этом отношении 103-й псалом: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер» и т. д.; свет, небо, облака, крылья ветра — все это само по себе ничто, еють лишь внешнее одеяние, колесница и посланец на службе бога. Далее прославляется премудрость божества, приведшая вое в порядок: источники, текущие в долины, воды, текущие между горами,— у вод сидят птицы небесные и поют под ветвями; траву и вино, которое веселит сердце человека, и кедры ливанские, которые насадил господь; море, где кишит бесчисленная тварь и где находятся киты, сотворенные господом, чтобы они забавлялись там. И что бог сотворил, то он и сохраняет, но—'«сокроешь лицо твое—мятутся; отнимешь дух их — умирании превращаются снова в прах». Ничтожность человека определенно высказывает 89-й псалом — молитва Моисея, человека божьего,— в следующих, например, словах: «Ты как наводнением уносишь их; они как сон,—как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении».
b) С чувством возвышенного связано у человека чувство собственной конечности и непреодолимого расстояния, отделявшего его от бога.
а. Представление о бессмертии не встречается первоначально в этой сфере, ибо такое представление предполагает, что индивидуальное самобытие, душа, человеческий дух есть в себе и
86
для себя сущее. В возвышенном лишь единый бог рассматривается как непреходящий, все другое, в противоположность ему, рассматривается как возникающее и преходящее, а не как свободное и бесконечное внутри себя.
β. Вследствие этого человек видит себя недостойным перед богом, религиозный взлет совершается в форме страха перед господом, в содрогании перед его гневом, и мы находим потрясающее изображение скорби по поводу своей ничтожности, исторгающийся из самой глубины сердца крик души к богу, крик, который раздается в жалобах, плаче и сетованиях.
γ. Если же индивид держится твердо по отношению к богу в своей конечности, то эта удерживаемая с желанием и намерением конечность становится злом, которое в качестве зла и греха принадлежит лишь природному и человеческому, а в единой, не имеющей внутри себя различий субстанции так же мало может найти себе какое-нибудь место, как боль и вообще что-нибудь отрицательное.
с) Однако в пределах этой ничтожности человек все же приобретает более свободное и самостоятельное положение. С одной стороны, в виду того что бог субстанциально спокоен и тверд в отношении своей воли и ее заповедей человеку, возникает закон, а с другой стороны, в религиозном подъеме заключается· вместе с тем совершенно ясное различение между человеческим и божественным, конечным и абсолютным, и этим суждение о добреи зле и решение в пользу того или другого переносится в самый субъект. Отношение к абсолютному и соответствие или не соответствие человека абсолютному имеет в себе и такую сторону, которая находится во власти индивида, зависит от его собственного поведения, от его действий. Благодаря этой стороне отдельный человек находит в своей праведности и следовании закону некоторое утвердительное отношение к богу; он вообще должен связать со своим внутренним послушанием закону или непокорностью ему — внешнее, положительное или отрицательное, состояние своей жизни: благополучие, наслаждение, удовлетворение или бедствия, скорбь и горести он должен принимать как; благодеяние и награду или как испытание и наказание.
87
Третья глава
СОЗНАТЕЛЬНАЯ СИМВОЛИКА СРАВНИВАЮЩЕЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
То новое, что выступило благодаря возвышенному, в отличие от бессознательного символизирования в собственном смысле, •состоит, с одной стороны, в разделении смысла, который знают в его ддя-себя-бытии согласно его внутреннему характеру, и конкретного явления,— а с другой стороны, в том, что прямо или косвенно подчеркивается несоответствие этих двух элементов, причем смысл как всеобщее возвышается над единдиной действительностью и особенностью. Но в фантазии, носящей пантеистичейкий характер, равно как и в возвышенном, подлинное содержание, единая всеобщая субстанция всех вещей не могла стать предметом созерцания сама по себе, безотносительно к сотворенному существованию, хотя и неадекватному ей. Это отношение приписывалось, однако, самой субстанции, которая в отрицательности своих акциденций давала себе доказательство своей мудрости, благости, могущества и справедливости. Поэтому здесь, по крайней мере в целом, отношение между смыслом и образом носит еще существенный и необходимый характер, и обе связанные между собою стороны еще не стали внешними друг другу в собственном смысле этого слова. Но так как это внешнее отношение их друг к другу содержится в символе β себе, то оно должно быть также и выявлено, положено. Оно выступает в тех формах, которые мы должны рассмотреть в последней из глав, посвященных символическому искусству. Мы можем назвать это сознательной символикой и, выражаясь точнее, сравнивающей формой искусства.
Под сознательной символикой мы должны понимать именно то, что смысл не только знают сам по себе, его намеренно полагают отличным от внешнего способа его изображения. Смысл, высказанный таким образом сам но себе, по существу, не находится, как и в возвышенном, в той действительной форме, кото
88
рую ему дают при данном способе его изображения. Но отношение друг к другу смысла и его формы уже не остается больше— как на предшествующей ступени — соотношением, всецело проистекающим из смысла, а превращается в более или менее случайное сочетание, зависящее от субъективности поэта, углубления его духа во внешнее существование, его остроумия и вообще его вымысла. При этом он может исходить из чувственного явления, воплощая в него созданный из себя родственный духовный смысл, или же брать своим исходным пунктом действительно — или хотя бы относительно — внутреннее представление и сообщать ему образную форму, а может даже просто соотносить один образ с другим, носящим в себе те же самые
определения.
Этот вид соединения отличается от наивной и бессознательной символики тем, что теперь субъект знает как внутреннюю сущность взятого в качестве содержания смысла, так и природу внешних явлений, которые он использует для придания большей наглядности этому содержанию, и он с сознательным намерением связывает обе эти стороны ввиду найденных между ними сходств. Различие же между данной ступенью и возвышенным следует искать в том, что, хотя, с одной стороны, в самом произведении искусства с большей или меньшей степенью определенности подчеркивается разделенность смысла и его конкретного образа, их самостоятельное выступление рядом друг с другом,— все же, с другой стороны, здесь совершенно отпадает то отношение между ними, которое мы находим в возвышенном. В качестве содержания здесь берется уже не само абсолютное, а какой-нибудь определенный и ограниченный смысл, и внутри намеренного отделения этого смысла от его образного воплощения устанавливается отношение, которое посредством сознательного сравнения дает то же самое, что по-своему ставила себе целью
бессознательная символика.
Что же касается содержания, то теперь уже нельзя видеть значение символа в абсолютном, в едином боге. Благодаря обособлению конкретного существования и понятия, благодаря тому, что они поставлены рядом друг с другом, хотя и с помощью сравнения, — благодаря этому для художественного сознания сразу же положена конечность, поскольку оно берет эту форму как последнюю и подлинную. Напротив, в поэзии Священного писания бог есть единственно значащее во всех вещах, которые по отношению к нему оказываются преходящими и ничтожными. Но если смысл должен обладать возможностью найти свой сходный образ и подобие в том, что в самом себе ограничено и ко-
89
нечно, то он сам должен носить ограниченный характер,— тем более, что на той ступени, которая нас теперь интересует, образ благодаря сходству с содержанием рассматривается как относительно соразмерный, несмотря на то, что он носит внешний характер по отношению к своему содержанию и избран поэтом произвольно. В сравнивающей форме искусства от возвышенного остается только та черта, что каждый образ не формирует самую суть дела и смысл согласно их адекватной действительности, а дает лишь их образ и подобие.
Вследствие этого рассматриваемый вид символизации — в качестве основного типа целых художественных произведений — остается подчиненным родом. Формирование состоит здесь лишь в описании непосредственного чувственного существования или случая, от которого определенно следует отличать смысл. В тех же художественных произведениях, которые созданы из единого материала и в своем формировании образуют нераздвоенное целое, такое сравнивание может выступать лишь в качестве побочного украшения и второстепенной детали, как мы видим это, например, в подлинных произведениях классического и романтического искусства.
Поэтому, хотя мы и рассматриваем всю эту ступень как соединение обеих предшествующих ступеней, ибо она заключает в себе как отделение друг от друга смысла и внешней реальности, -лежащее в основе возвышенного, так и намек конкретного явления на родственный ему всеобщий смысл, выступавший, как мы видели, в символе в собственном смысле,— все же это соединение не является высшей формой искусства, а скорее ясным, но плоским, ограниченным по своему содержанию и более или менее прозаическим по своей форме пониманием, которое покидает как таинственно кипучие глубины символа в собственном смысле, так и вершины возвышенного, чтобы пребывать в низинах повседневного сознания.
Что же касается более определенного деления этой сферы, то в этом сравнивающем различении, предполагающем смысл в его для-себя-бытии и связывающем с ним чувственный или образный облик, почти всегда имеет место такое отношение, что смысл принимается за главное, а форма — лишь за облачение и нечто внешнее. Но одновременно выступает дальнейшее различение, заключающееся в том, что сначала выдвигают то одну, то другую сторону и соответственно исходят из какой-нибудь одной из них. Таким образом, либо образ предстает нам как внешнее для себя, непосредственное, природное событие или явление, а затем нам указывают его всеобщий смысл,—либо, наоборот, смысл берется
90
сам по себе и лишь затем для него каким-то внешним образом подыскивается форма.
Мы можем в этом отношении различать две главные ступени.
А. На первой ступени конкретное явление — будет ли оно взято из области природы или из области человеческих событий, происшествий и поступков — составляет исходный пункт и заключает в себе то, что важно и существенно для изображения. Правда, оно осуществляется только ради того всеобщего смысла, который оно содержит в себе и на которое оно указывает, и оно развертывается лишь постольку, поскольку это требуется, чтобы сообщить этому смыслу наглядность в родственном ему единичном состоянии или происшествии. Однако сравнение между собой всеобщего смысла и единичного случая еще не представлено определенно как субъективная деятельность, и все изображение хочет быть не только украшением самостоятельного произведения, но уже само по себе претендует на роль некоего целого. Видами этой ступени являются басня, притча, иносказание, пословица и метаморфозы.
В. Напротив, на второй ступени сознанию прежде всего предстоит смысл, конкретное же облачение этого смысла является для него второстепенным и привходящим, чем-то таким, что не носит самостоятельного характера, а совершенно подчинено смыслу; тем самым здесь более явно обнаруживается субъективная произвольность в выборе именно этого, а не другого образа. Этот способ изображения большей частью не может дать самостоятельных художественных произведений и должен удовлетворяться тем, что включает свои формы как нечто побочное в другие создания искусства. Главными видами этого способа изображения можно признать загадку, аллегорию, метафору, образ и подобие.
С. Наконец, в-третьих, мы можем прибавить к этому дидактическое стихотворение и описательную поэзию, так как в этих видах поэзии доведены до своего конца, с одной стороны, голое выявление общей природы предметов, как ее понимает сознание в своей рассудочной ясности, и, с другой стороны, носящее совершенно самостоятельный характер изображение конкретного явления этих предметов. Следовательно, здесь осуществляется полное разделение тех элементов, которые лишь в своем соединении друг с другом и подлинном взаимопроникновении могут дать истинно художественные произведения.
Отделение друг от друга обоих моментов художественного произведения приводит к тому, что различные формы, находя-
91
щие свое место во всем этом круге, почти исключительно принадлежат области словесного искусства, так как лишь поэзия способна выразить подобный самостоятельный характер смысла и образа, между тем как задача изобразительных искусств состоит в том, чтобы во внешнем облике как таковом выявить его внутреннее начало.
00.htm - glava22
А. СРАВНЕНИЯ, ИДУЩИЕ ОТ ВНЕШНИХ ЯВЛЕНИЙ
Различные виды поэзии, принадлежащие этой первой ступени сравнивающей формы искусства, всегда доставляют много хлопот, и очень нелегко делить их на определенные главные роды. Это второстепенные, промежуточные виды, в которые не отливается ли одна безусловно необходимая сторона искусства. Вообще говоря, в области эстетики дело обстоит с этим точно так же, как в естественных науках с известными классами животных или другими явлениями природы. В обеих областях трудность заключается в том, что в них само понятие природы и искусства делит себя и устанавливает свои различия. В качестве различий понятия они поистине соответствуют понятию и должны быть постигнуты в понятиях. В эти различия не вмещаются подобного рода переходные ступени, не вмещаются именно потому, что последние представляют собой лишь ущербные формы, выходящие из рамок одной главной ступени, будучи не в силах достигнуть следующих ступеней. Это не вина понятия, и если бы мы, вместо того чтобы положить в основу деления и классификации моменты понятия самого предмета, захотели положить в основу их такие побочные виды, то мы рассматривали бы как соразмерный способ раскрытия понятия как раз то, что несоразмерно ему. Но истинное деление должно вытекать лишь ив истинного понятия, и промежуточные образования могут находить себе место лишь там, где подлинные, самостоятельно существующие формы начинают разлагаться и переходить в другие. Такова судьба символической формы искусства на той ступени развития, которой мы достигли.
Указанные выше виды искусства принадлежат стадии символического предыскусства, потому что они вообще несовершенны и, следовательно, представляют собой лишь искания истинного искусства. Правда, в этих исканиях есть моменты подлинного формообразования, но последние берутся лишь в их конечности, разрозненности и простом соотнесении друг с другом, вследствие чего эти искания остаются чем-то подчиненным. Поэтому, когда мы говорим здесь о басне, иносказании, притче и т. д., мы долж-
92
ны рассматривать их не в качестве принадлежащих поэзии как своеобразному искусству, столь же отличному от изобразительных искусств, как и от музыки, а лишь в их связи с общими формами искусства, и их специфический характер может быть объяснен лишь из этой связи, а не из понятия родов поэзии в собственном смысле, каковыми являются эпос, лирика и драма.
Более подробное расчленение этих видов мы произведем в следующем порядке: сначала рассмотрим басню, затем притчу, иносказание и пословицу и закончим рассмотрением метаморфоз.
00.htm - glava23
1. БАСНЯ
В то время как до сих пор речь всегда шла лишь о формальной стороне отношения между явно выраженным смыслом и его образом, мы теперь должны указать также и содержание, оказывающееся подходящим для этого способа формирования.
Сравнивая нашу ступень с возвышенным, мы убедились, что достигнутая теперь ступень больше уже не стремится к тому, чтобы сделать наглядным абсолютное и единое в его нераздельной власти посредством изображения ничтожности тварей, а что мы находимся теперь на ступени конечности сознания и, следовательно, конечности содержания. Наоборот, если мы обратимся к символу в собственном смысле, одну сторону которого сравнивающая форма искусства также должна была принять в себя, то окажется, что в нем, как мы уже видели при рассмотрении египетского символизма, внутреннее, которое пока еще противостоит непосредственному облику, природному, представляет собой духовное. Так как в басне это природное оставляют и представляют себе как нечто самостоятельное, то и духовное является в ней конечно определенным: это человек с его конечными целями. Природное получает лишь теоретическое отношение к этим целям, получает характер указания и откровения этих целей на благо и пользу человеку.
Явления природы, гроза, полет птиц, особенности внутренностей животного и т. д. воспринимаются теперь в совершенно другом смысле, чем в воззрениях парсов, индийцев или египтян, для которых божественное еще соединено с природным таким образом, что человек странствует по природе как в мире, полном богов, и его активность состоит лишь в том, что в своих действиях он воссоздает то же самое тождество. Благодаря этому его действия, поскольку они соответствуют естественному бытию божественного, сами представляются неким откровением и порождением божественного в человеке. Но когда человек возвращается в себя и,93
смутно чувствуя свою свободу, замыкается в себе, он сам становится для себя целью в своей индивидуальности. Он действует, совершает поступки, работает по своей собственной воле, обладает собственной эгоистической жизнью и чувствует в самом себе существенность целей, с которыми природное находится во внешней связи. Природа обособляется вокруг него и служит ему, так что он больше уже не созерцает в ней божественное как абсолютное, а рассматривает ее лишь как средство, с помощью которого боги дают себя знать, для того чтобы он лучше мог достигать своих целей. Боги открывают свою волю человеческому духу и дают возможность людям объяснять саму эту волю через посредство природы. Здесь, следовательно, предполагается тождество· абсолютного и природного, тождество, в котором главное составляют человеческие цели.
Этот вид символики еще не принадлежит области искусства. он остается религиозным. Прорицатель предпринимает это толкование явлений природы преимущественно лишь для практических целей — либо в интересах отдельных лиц и их особых планов, либо в интересах всего народа и его общего дела. Поэзия же должна познать и выразить во всеобщей теоретической форме также и практические положения и обстоятельства.
Что должно быть причислено к данной области, это явление природы, происшествие, содержащее в себе особенное отношение, процесс, который может быть принят за символ какого-то общего смысла из круга человеческих действий, нравственного поучения, наставления в благоразумии,— следовательно, за символ смысла, имеющего своим содержанием размышление о том, как совершается или должно совершаться что-либо в мире человеческом, то есть в делах человеческой воли. Здесь человеку открывается уже не божественная воля в своей внутренней сущности— посредством явлений природы и их религиозного истолкования,— а совершенно обычный ход естественных событий; из его разрозненного изображения можно абстрагировать человечески понятным образом некоторое нравственное положение, некоторое предостережение, поучение, правило благоразумия, и это изображение ставится перед нами и предлагается нашему созерцанию именно ради этого размышления.
Таково то место, которое мы можем отвести здесь эзоповской басне.
а) Именно эзоповская басня в ее первоначальной форме представляет собой такое понимание естественного отношения между отдельными природными вещами или случая, происшедшего с ними,— чаще всего с животными, инстинкты которых ве-
94
дут свое происхождение из тех же самых потребностей, которые движут человеком как живым существом. Это отношение или событие, понятое в своих всеобщих определениях, носит вследствие этого такой характер, что оно может встретиться также и в сфере человеческой жизни, и лишь в этой связи оно приобретает значительность для человека.
Согласно этому определению, подлинная эзоповская басня представляет собой изображение какого-нибудь состояния неживой и живой природы или случая из мира животных, которые не выдуманы произвольно, а рассказаны в соответствии с тем, что было в действительности, согласно верным наблюдениям, и притом рассказаны так, что из них можно почерпнуть общее поучение в отношении человеческого существования или, точнее говоря, практической стороны этого существования, в отношении разумности и нравственности поступков. Первое требование, предъявляемое нами к басне, должно поэтому состоять в том, чтобы определенный случай, который должен дать нам так называемую мораль, был не только вымышленным, но чтобы он, будучи вымышленным, не противоречил виду и характеру действительного существования подобных явлений в природе. Во-вторых, рассказ должен сообщить случай не в общем виде, а в его конкретных подробностях и как действительное событие — так, как если бы
этот случай являлся во внешней реальности типом всех подобных происшествий.
В-третьих, эта первоначальная форма басни сообщает ей характер величайшей наивности, потому что дидактическая цель и извлекаемые из басни общие полезные заключения представляются лишь чем-то пришедшим позднее, а не тем, что с самого начала входило в намерения баснописца. Поэтому привлекательнейшими из так называемых эзоповских басен являются те, которые соответствуют указанным чертам и рассказывают о поступках, если угодно употребить это название, или обстоятельствах и событиях, которые имеют своей основой отчасти инстинкты животных, отчасти — какое-нибудь другое природное отношение, отчасти же могут вообще происходить в действительности, а не быть лишь вымыслом произвольного воображения. Из этого легко увидеть, что прибавляемая к эзоповским басням в их современном виде fabula docet ' либо делает изображение тусклым, либо часто совершенно из них не вытекает, так что нередко можно было бы скорее вывести из них противоположное поучение или сразу несколько поучений.
' Мораль басни; буквально: басня поучает {латин.).
95
Приведем здесь несколько примеров для пояснения этого подлинного понятия эзоповской басни.
Дубу и тростнику приходится выдерживать бурю; гибкий тростник только сгибается, неподвижный дуб ломается. Это случай, который действительно происходит довольно часто при сильном ветре. В моральном смысле это сравнение обозначает человека, занимающего высокое положение, несгибаемого человека — и человека более низкого положения: в то время как последний сумеет в трудных обстоятельствах выдержать их напор, приспособляясь к ним, первый гибнет вследствие своего непокорства в сопротивления.
Так же обстоит дело в сохраненной Федром басне о ласточках Ласточки вместе с другими птицами смотрят, как крестьянин сеет лен, из которого вьют веревки для ловли птиц. Предусмотрительные ласточки улетают, а остальные птицы этому не верят,— они беззаботно остаются дома и попадают в сети. В основе этого лежит действительное явление природы. Известно, что ласточки осенью улетают в более южные страны и потому отсутствуют во время ловли птиц. То же самое можно сказать о басне о летучей мыши, которую презирают и днем и ночью, потому что она не принадлежит ни дню, ни ночи.
Таким прозаическим действительным случаям дается более общее толкование, связывающее их с человеческими делами, подобно тому как еще и в наше время благочестивые люди умеют извлечь полезное назидание из всего, что происходит вокруг. При этом вовсе не необходимо, чтобы действительное явление природы сразу же бросалось в глаза. В басне о лисице и вороне нельзя на первый взгляд распознать действительный факт, хотя и нельзя сказать, чтобы он совершенно отсутствовал; такова ведь повадка ворон — они начинают каркать, как только видят перед собой находящиеся в движении чуждые предметы, людей, животных. Такие же естественные отношения лежат в основании басни о терновнике, который отрывает у прохожего кусок платья или ранит лисицу, ищущую у него опоры; о крестьянине, отогревающем на своей груди змею, и т. д.
Другие басни изображают случаи, которые вообще могут происходить между животными. В первой басне Эзопа рассказывается, например, что орел пожирает детенышей лисы и вместе с похищенным мясом уносит также и уголек, от которого загорается его гнездо. Наконец, другие басни содержат в себе древнемифические черты. Такова, например, басня о навозном жуке, орле и Юпитере, в которой встречается естественноисторическое обстоятельство (я не рассматриваю здесь, действительно ли оно вер
96
но), что орел и жук кладут свои яйца в различное время. Вместе с тем в ней явно сквозит традиционная важность жука, которой здесь уже придается комический характер, как это еще больше делает Аристофан. Сколько из этих басен принадлежит самому Эзопу и полон ли наш анализ — от выяснения этого мы освобождены уже тем, что, как известно, лишь о немногих баснях, например о последней указанной нами — о жуке и орле, можно доказать, что они принадлежат Эзопу или что по крайней мере они» достаточно древни, чтобы мы могли рассматривать их как эзоповские.
О самом Эзопе рассказывают, что он был безобразный, горбатый раб; жил он, согласно этим рассказам, во Фригии — стране, где осуществляется переход от непосредственного символизма и прикованности к природному — в стране, в которой человек начинает постигать духовное и самого себя. В отличие от индийцев и египтян он не видит в животном и природном нечто само по себе возвышенное и божественное, а рассматривает его прозаическими глазами, как нечто, соотношения которого служат лишь для того, чтобы посредством их сделать наглядными человеческие действия и поступки. Вымыслы Эзопа, однако, только остроумны, в них отсутствует духовная энергия или глубина понимания и субстанциального воззрения, отсутствуют поэзия и философия. Его воззрения и учения оказываются, правда, остроумными и житейски благоразумными, но они все же остаются каким-то копанием в мелочах. Он не создает свободные образы, порожденные свободным духом, а лишь отыскивает в данном преднайденном материале, в определенных инстинктах и влечениях животных, в незначительных повседневных случаях какую-нибудь сторону, могущую иметь дальнейшее применение, так как он не смеет высказать свои поучения открыто, а может дать понять их лишь завуалированно, как бы в форме загадки, которая вместе с тем всегда получает свае решение. Проза имеет своим родоначальником раба, и весь этот жанр сохраняет прозаический характер.
Тем не менее эти странные выдумки обошли почти все народы и эпохи. Хотя каждый народ, знающий в своей литературе бас< ни, гордится тем, что обладал несколькими поэтами-баснописцами, все же стихотворные басни последних являются большей частью воспроизведениями указанных первых вымыслов. Эти баснописцы лишь изложили их соответственно вкусу своей эпохи, а то, что они прибавили к этому унаследованному запасу вымыслов, осталось далеко ниже своего оригинала.
Ь) Среди эзоповских басен находится также и масса таких, которые очень скудны по выдумке и исполнению и придуманы
4 Гегель т. 3
97
главным образом лишь для целей назидания, так что животные или даже боги лишь облачают поучение. Однако и в таких случаях басни далеки от того, чтобы насиловать природу животных, как это мы встречаем у современных баснописцев, например в баснях Пфеффеля. У него рассказывается о двух сурках, один из которых собрал осенью запасы на зиму, а другой не был так предусмотрителен, и ему пришлось зимой побираться и умирать с голоду. В другой басне рассказывается о лисе, охотничьей собаке и рыси, пришедших к Юпитеру жаловаться на то, что он наделил их односторонними талантами: лисицу — хитростью, собаку—тонким нюхом, а рысь—острым зрением,—и просить его, чтобы он более равномерно распределил их природные дарования, Юпитер согласился, но после этого произошло следующее: Лисицу всюду за нос водят, Собака по следу не ходит, А рысь не видит ничего.
Сурок, не делающий никаких запасов, три других животных, случайно получающих более равномерное распределение указанных выше свойств,— все это совершенно противоречит природе, и вследствие этого рассказ тускл. Лучше этих басен басня о муравье и стрекозе, а еще лучше басня об олене, у которого вели коленные рога и тонкие ноги.
В духе подобных басен привыкли думать, что в басне главным является поучение, и представляли себе это так, что само рассказываемое событие служит простым обрамлением и поэтому является событием, всецело вымышленным в целях поучения. Но такое обрамление, в особенности если описываемый случай никак не мог произойти с определенными животными, принимая во внимание их природный характер, представляет собою вымысел в высшей степени тусклый, не имеющий никакого значения. Ибо остроумие басни состоит лишь в том, что помимо непосредственного смысла, которым обладает нечто уже существующее и получившее форму, мы должны придать ему теперь еще и более общий смысл.
Далее, исходя из предпосылки, будто сущность басни следует искать лишь в том, что вместо людей действуют и разговаривают животные, ставили вопрос, что составляет прелесть этой замены. Однако в таком переодевании человека в животное не может быть много привлекательного для нас, если басня должна быть чем-то большим или иным, чем обезьяньи и собачьи представления, где единственный интерес представляет для нас ловкость дрессированных животных и контраст между природой животного, его видом и человеческими действиями.
98
Брейтингер считает поэтому подлинной прелестью басни чудесное. Однако в первоначальных баснях говорящие животные не выставляются как нечто необычное и удивительное. Поэтому Лессинг и полагает, что введение животных доставляет большое преимущество, делая понятным и сокращая изложение благодаря знакомству со свойствами животных — с хитростью лисицы, великодушием льва, прожорливостью и хищностью волка,— так что вместо абстракций — хитрый, великодушный и т. д.— перед воображением сразу же выступает определенный образ. Однако это преимущество, по существу, ничего не меняет в басне, носящее тривиальный характер простого обрамления; в целом можно сказать, что выведение животных вместо людей даже невыгодно, ибо что касается понятности, образ животного всегда маска, которая вуалирует смысл не в меньшей степени, чем объясняет его.
Ведь в таком случае величайшей басней этого рода была бы старая история о Рейнеке-лисе, которая, однако, не является настоящей басней как таковой.
с) Как третью ступень мы могли бы указать здесь следующий способ трактовки басни, с которым, однако, мы уже начина· ем выходить за пределы басни. Остроумие басни заключается вообще в том, что среди многообразных явлений природы она находит такие случаи, которые могут служить иллюстрациями общих размышлений о человеческих действиях и человеческом поведении, хотя животные и предметы природы не выводятся за пределы подлинного характера их существования. В остальном же соединение так называемой морали и отдельного случая остается лишь делом произвола и субъективной изобретательности и само по себе является только шуткой. Эта сторона и .выступает на данной третьей ступени сама по себе. Форма басни берется здесь как шутка. Гёте написал в этом стиле много привлекательных и остроумных стихотворений. Например, в одном из них, носящем название «Брехливая собака», говорится: Мы мчимся вскачь из края в край И снова — в край из края. За нами вслед собачий лай Летит, не отставая.
Мы обеспечены в пути Вниманием собачьим. Зато других нам не найти Свидетельств, что мы скачем '.
Здесь требуется, чтобы употребляемые образы природы были представлены нам в соответствии с их своеобразным характе-
' Пер. К. Богатырева.
4* 99
ром, как это происходит в эзоповской басне,— требуется, чтобы они развертывали перед нами в своих действиях и поведении такие человеческие состояния, страсти, черты характера, которые находятся в ближайшем родстве с аналогичными явлениями у животных.
Такой характер носит упомянутый выше «Рейнеке-лис», который является больше сказкой, чем басней в собственном смысле. Содержанием этой поэмы служит эпоха беспорядков и беззакония, низости, слабости, подлости, насилия и наглости, эпоха религиозного неверия и лишь кажущегося господства справедливости в мирских делах, так что повсюду одерживают победу хитрость, расчет и своекорыстие. Это состояние, характеризующее средние века, как оно в особенности дало себя знать в Германии. Хотя могущественные вассалы и обнаруживают некоторое почтение к королю, однако, в сущности говоря, каждый поступает как его душе угодно — грабит, убивает, притесняет слабых, обманывает короля, умеет снискать расположение королевы, так что королевство в целом еле-еле держится.
Таково человеческое содержание, которое состоит здесь не в абстрактном положении, а в совокупности состояний и характеров; вследствие своей испорченности это содержание оказывается совершенно подходящим для формы животного эпоса, в которой оно развертывается. И нам не мешает то, что мы находим его открыто перенесенным в мир животных. Обрамление также не представляется нам лишь единичным родственным случаем,— оно поднято выше этой единичности и получает некоторый характер всеобщности, благодаря которой оно становится для нас наглядным: так вообще идут дела на свете. Смешное заключено в самом обрамлении, где шутка перемешана с необычайной серьезностью, и в изображении животного царства с чрезвычайной меткостью делается для нас наглядной человеческая низость. И даже в чисто животных чертах нам дается ряд занимательнейших моментов и своеобразнейших историй, так что, несмотря на всю терпкость и суровость изображения, мы имеем перед собой не плохую и лишь нарочитую шутку, а настоящую шутку, задуманную со всей серьезностью.
00.htm - glava24
2. ПРИТЧА, ПОСЛОВИЦА, ИНОСКАЗАНИЕа) Притча
Притча имеет ту общую родственную черту с басней, что она берет события из сферы обычной жизни, но придает им высший и более всеобщий смысл, ставя своей целью сделать понятным и
100
наглядным этот смысл с помощью повседневного случая, рассматриваемого сам по себе.
Наряду с этим притча отличается от басни тем, что она отыскивает такие случаи не в мире природы и животных, а в человеческих делах и делишках, в том виде, как они стоят перед глазами каждого человека и всем знакомы. Этому выбранному ею отдельному случаю, который в качестве частного события представляется сначала малозначительным, притча придает общий интерес, указывая на более высокий смысл.
Благодаря этому по отношению к содержанию объем и важность, содержательность смысла могут возрасти и углубиться, между тем как в отношении формы — субъективность намеренного сравнивания и подчеркивания общего поучения также начинает выступать в большей мере, чем в басне.
Как притчу, связанную еще с некоторой совершенно практической целью, можно рассматривать тот способ, который применил Кир (Геродот, I, 126), чтобы побудить персов к отпадению от мидян. Он написал персам, чтобы они, запасшись серпами, отправились в указанное им определенное место. Там он приказал им, чтобы они в первый день возделали поле, сплошь усеянное терновником. В этот день им пришлось много потрудиться. На другой день, после того как они отдохнули и выкупались, Кир повел их на луг и богато угостил мясом и вином. Когда они встали с пира, Кир спросил их, какой день был им приятнее — вчерашний или сегодняшний. Все в один голос ответили, что сегодняшний день, принесший им одно лишь хорошее, приятнее вчерашнего, который был для них лишь днем тяжких трудов. Тогда Кир воскликнул: если последуете за мною, то умножатся хорошие дни, похожие на сегодняшний; если же не последуете за мною, то вас ожидают такие же бесчисленные многотрудные дни, как вчерашний.
Родственный характер носят евангельские притчи, хотя по своему значению они представляют глубочайший интерес и обладают широчайшей всеобщностью. Притча о сеятеле, например,— рассказ сам по себе очень незначительного содержания; он приобретает важное значение лишь благодаря сравнению с царствием небесным. Смысл этих притч целиком заключен в религиозном поучении; последнее так же относится к человеческим событиям, в которых оно представлено, как в эзоповской басне человеческие явления — к животному миру, смысл которого они составляют.
Такой же широтой содержания отличается знаменитый рассказ Боккаччо, которым воспользовался Лессинг для своей прит-
101
чи о трех кольцах. Рассказ сам по себе и здесь носит совершенно обыденный характер, но он толкуется таким образом, что указывает на широчайшее содержание, на различие и подлинность трех религий — иудейской, магометанской и христианской. Чтобы напомнить о новейших явлениях, принадлежащих к этой сфере, укажем, что то же самое мы находим и в гётевских притчах. Таков, например, «Кошачий паштет», где рассказывается, как хороший повар, пожелавший быть также и охотником, вышел стрелять дичь, но вместо зайца застрелил кошку и, изготовив из нее с помощью многих искусных приправ паштет, угостил им обедавших. Эта притча имеет в виду Ньютона, который был хорошим математиком, но которому не далась физика,— содержание, во всяком случае, более значительное, чем кошка, из которой повару не удалось изготовить заячьего паштета.
Эти притчи Гёте, как и то, что он создал в басенном жанре, написаны часто в шутливом тоне, которым он освобождал свою душу от жизненных неприятностей.
Ь) Пословица
Среднюю ступень этой сферы образует пословица; развертывая подробности, можно превратить пословицы то в басни, то в иносказания. Они передают отдельный случай, большей частью из повседневной жизни людей, который, однако, следует понимать в общем смысле. Например, выражения: «рука руку моет» или «вое идет в свой черед»; «не рой другому яму, сам в нее попадешь»; «послужи на меня, а я на тебя» и прочее. Сюда относятся также я изречения. В новейшее время Гёте написал множество до бесконечности очаровательных и часто очень глубоких изречений.
Это не сравнения, в которых общее значение и конкретное явление распадаются и противостоят друг другу; последнее непосредственно выражает здесь первое.
с) Иносказание
Иносказание может рассматриваться как притча, которая не пользуется единичным случаем лишь как сравнением, для того чтобы сделать наглядным всеобщий смысл,— а в самом этом облачении дает и высказывает общее положение, так как последнее в самом деле содержится в единичном случае, который, однако, рассказывается лишь в качестве единичного примера. Взятое в этом смысле стихотворение Гёте «Бог и баядера» может быть на-
102
звано иносказанием. Мы находим здесь христианский рассказ о кающейся Магдалине в облачении индийского способа представления: баядера обнаруживает такое же смирение, такую же силу любви и веры; бог подвергает ее испытанию, которое она вполне выдерживает и после этого достигает возвышения и примирения.
В иносказании рассказ ведется так, что его окончание само дает поучение без помощи сравнения, как, например, в «Кладоискателе» Гёте: День — работе, вечер — другу, Слезы — будням, смех —досугу, Τακ отныне заклинай! '
00.htm - glava25
3. МЕТАМОРФОЗЫ
Третьим, о чем мы должны говорить наряду с басней, притчей, пословицей и иносказанием, являются метаморфозы. Правда, они носят символически-мифологический характер, но вместе с тем определенно противопоставляют духовному природное; природно существующие предметы — скала, животное, цветок, источник — представляются здесь как деградация и наказание, которому подвергаются духовные существа. Филомела, например, Пиэриды, Нарцисс, Аретуза вследствие ложного шага, страсти, преступления впадают в бесконечно великую вину или испытывают бесконечно великие страдания, теряют свободу духовной жизни и превращаются только в природные существа.
С одной стороны, природное рассматривается здесь не только внешним и прозаическим образом, не только как гора, источник, дерево, но ему сообщается содержание, принадлежащее исходящему от духа поступку или событию. Скала есть не только камень, она Ниобея, оплакивающая своих детей. С другой стороны, это человеческое деяние представляет собой какую-нибудь вину, и превращение в чисто природное явление следует понимать как деградацию духовного.
Мы должны поэтому строго отличать эти превращения отдельных людей и богов в предметы природы от настоящей бессознательной символики. В Египте божественное отчасти непосредственно созерцается в таинственной, сокрытой от нас внутренней жизни животных, отчасти же символом в настоящем смысле служит образ природы, который непосредственно связывается с некоторым другим, родственным смыслом, хотя он не составляет
' Пер. С. Заяицкого.
103
действительного адекватного существования последнего. Это делается потому, что бессознательная символика еще не является созерцанием, освобожденным для духовного как по форме, так и по содержанию.
Напротив, в метаморфозах проводится существенное различие между природным и духовным, и в этом отношении они образуют переход от символического-мифологического к мифологическому в собственном смысле, если последнее мы будем понимать так, что оно в своих мифах, беря исходным пунктом конкретное природное существо — солнце, море, реки, деревья, оплодотворение, землю и т. д.,— затем, однако, отделяет чисто природный элемент. Ибо оно подчеркивает внутреннее содержание природных явлений и, беря его в качестве одухотворенной силы, художественно индивидуализирует его, воплощает в богов, получающих по внешнему и внутреннему своему характеру человеческую форму. Так, например, Гомер и Гесиод впервые дали грекам их мифологию, и притом не только как божественный смысл, как изложение моральных, физических, теологических или спекулятивных учений — а мифологию как таковую, начало духовной религии в человеческом воплощении.
В «Метаморфозах» Овидия мы находим кроме совершенно современной трактовки мифологических сюжетов еще и смешение разнороднейших вещей. Кроме тех превращений, которые мы могли бы понимать просто как способ изложения мифов, специфическая точка зрения этой формы бросается в глаза больше всего в тех рассказах, в которых такие образования, обычно воспринимаемые как символические или уже как мифические, оказываются на деле метаморфозами, и то, что соединено вместе, приводится к противоположности смысла и образа и излагается как переход одного в другое. Так, например, фригийский, египетский символ волка так отделяется от присущего ему смысла, что последний превращается в предшествовавшее волку существование если не солнца, то какого-то царя, и существование волка представляется следствием некоторого поступка этого человеческого существа. В песне 'о Пиэридах египетские божества — бык, кошка — представлены как такие животные фигуры, в которых спрятались от страха мифические греческие боги — Юпитер, Венера и т. д. Сами же Пиэриды в наказание за то, что они со своим пением осмелились выступить соперницами муз, превращаются в дятлов.
С другой стороны, следует различать превращения и басню, так как содержание превращений, составляющее их смысл, носит в себе некоторое более специфическое определение. В басне со-
104
единение нравоучительного положения и совершающегося природного события представляет собой безобидное соединение; в природном здесь не подчеркивается его отличие от духовного, его только природный характер, и в качестве такового оно не осмысливается. Правда, имеется несколько эзоповских басен, которые с небольшими изменениями могли бы сделаться метаморфозами, как, например, 42-я басня о летучей мыши, терновнике и гагаре, инстинкты которых объясняются неудачами в прежних предприятиях.
Таким образом, мы прошли весь этот первый круг сравнивающей формы искусства, берущей своим исходным пунктом наличное и конкретное явление, для того чтобы перейти от него к получившему в нем наглядность смыслу.
00.htm - glava26
В. Сравнения, идущие от смысла
Если в сознании разделение смысла и образа является предпосланной формой, внутри которой должно происходить соотнесение их друг с другом, то при самостоятельном характере как одной, так и другой стороны можно и должно начинать не только с внешне существующего, но и с внутренне наличного — с общих представлений, размышлений, чувств, основоположений. Это внутреннее, подобно образам внешних вещей, есть также нечто наличное в сознании, и оно при своей независимости от внешнего исходит из самого себя. Таким образом, если смысл служит началом, то выражение, реальность выступает средством, заимствованным из конкретного мира для того, чтобы сделать смысл — в качестве абстрактного содержания — доступным представлению, придать ему наглядность и чувственную определенность.
Но при обоюдном безразличии одной стороны к другой их связь, как мы уже видели ранее, не представляет собой, в себе и для себя необходимой взаимопринадлежности. Так как их соотнесенность не содержится объективно в самом предмете, то она является чем-то субъективно созданным, которое больше уже и не скрывает этого субъективного характера, а дает его знать посредством способа изложения. В абсолютном образе форма и содержание, душа и тело связаны как конкретное одушевление, как соединение в себе и для себя этих двух моментов, имеющее свое основание как в душе, так и в теле, как в содержании, так и в форме. Предпосылку образует здесь внеположенность обеих сторон, и поэтому их взаимное выступление является чисто субъективным оживотворением смысла посредством внешнего ему образа и столь же субъективным истолкованием реального сущест-
105
вования посредством соотнесения его с другими представлениями, чувствами и мыслями духа.
Поэтому преимущественно в этих формах и проявляется субъективное искусство поэта как их творца, и в законченных художественных произведениях главным образом с этой стороны можно разграничить то, что требуется самим предметом и его необходимым формированием, и то, что поэт прибавил к этому в качестве украшения. За эти легко распознаваемые добавления, в особенности за образы, сравнения, аллегории, метафоры, его обычно больше всего и хвалят, и часть похвал, как предполагается, в свою очередь возвращается по адресу хвалящих,— это должно свидетельствовать о проницательности, с которой раскрывают поэта и обнаруживают самые субъективные его выдумки. Однако, как мы уже говорили об этом, в подлинных художественных произведениях такие формы могут быть лишь второстепенным придатком, хотя в прежних поэтиках эти побочные стороны рассматривались как главные составные части поэтического произведения.
Если вначале обе стороны, которые должны быть соединены, несомненно безразличны друг к другу, то все же для оправдания их субъективного соотнесения и сравнивания облик должен по своему содержанию аналогично заключать в себе те же самые соотношения и свойства, которыми обладает в себе смысл. Ибо постижение этого сходства является единственным основанием для того, чтобы связать смысл именно с данным определенным обликом и посредством последнего воплотить его в образную форму.
Наконец, так как здесь начинают не с конкретного явления, от которого можно абстрагировать общее положение, а, наоборот, начинают с самого этого общего положения, которое затем должно найти свое отражение в образе, то смысл действительно выступает здесь как подлинная цель произведения и господствует над образом- как средством, которое должно сделать его наглядным.
Укажем теперь порядок, в котором мы можем рассмотреть особые виды этого круга произведений.
Во-первых, как наиболее родственную предшествующей ступени форму мы должны рассмотреть загадку.
Во-вторых, аллегорию, в которой преимущественно выявляется господство абстрактного смысла над внешним образом.
В-третьих, сравнение в собственном смысле: метафору, образ и сравнение.
106
00.htm - glava27
1. ЗАГАДКА
Подлинный символ загадочен β себе, поскольку то внешнее, посредством которого всеобщий смысл должен стать предметом созерцания, еще остается отличным от смысла, который оно должно изображать, и поэтому сохраняется сомнение, как именно мы должны понимать образ. Но загадка принадлежит области сознательной символики и отличается от подлинного символа тем, что сочинитель загадки ясно и полностью знает смысл; и образ, посредством которого он должен быть угадан, нарочно выбран для того, чтобы скрывать этот смысл. Символы в собственном смысле представляют собой задачи, которые не решены ни до, ни после выбора символов; загадка же сама по себе решена. Санчо Панса совершенно правильно говорит, что он гораздо охотнее предпочел бы, чтобы ему сначала дали разгадку, а затем загадку.
a) Первым делом, исходным пунктом при сочинении загадай является, следовательно, знаемый смысл, ее значение.
b) Вторым этапом является подбор отдельных характерных черт и свойств в знакомом нам внешнем мире, которые рассеяны в природе и вообще в стихии внешнего; эти черты и свойства располагаются таким образом, что благодаря своей несовместимости они тем больше удивляют пас. Вследствие этого ям недостает субъективного связующего единства, и их нарочитое соединение и нанизывание друг на друга как таковое не имеет само по себе никакого смысла. С другой стороны, они в такой же мере указывают на существование некоего единства, в связи с которым самые разнородные, казалось бы, черты снова получают смысл и значение.
c) Это единство, субъект этих разбросанных предикатов, я есть то простое представление, то слово разгадки, распознание или угадывание которого в этом по видимости беспорядочном облачении является задачей, которую ставит нам загадка. В этом отношении загадка представляет собой сознательную шутку символики, подвергающую испытанию остроумие и способность к комбинациям; способ изложения этой шутки, ведя к разгадке загадочного, разрушает сам себя.
Эта форма принадлежит главным образом словесному искусству, однако она может находить себе место и в изобразительных искусствах, в архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи. Исторически мы находим ее преимущественно на Востоке, в промежуточном и переходном периоде от смутной символики к сознательной мудрости и всеобщности. Целые народы
107
и эпохи услаждались такими задачами. И в средние века загадка играет большую роль у арабов, у скандинавских народов и в немецкой поэзии, например в вартбургском состязании певцов. В новейшее время она служит больше для развлечения, став просто занимательной шуткой.
Сходна с загадкой та бесконечно обширная область остроумных, поражающих своей неожиданностью комбинаций, которые получают развитие в виде слов, эпиграммы по поводу какого-нибудь положения, случая, предмета. Здесь мы имеем на одной стороне какой-то безразличный объект, а на другой — неожиданную субъективную мысль, метко и остро подчеркивающую ту сторону и отношение, которые раньше не выступали в предмете, как он предлежал нам, и посредством этого нового его смысла выставляющую его в ином свете.
00.htm - glava28
2. АЛЛЕГОРИЯ
В круге этих произведений, идущих от всеобщности смысла, противоположностью загадке является аллегория. Правда, она тоже стремится сделать определенные свойства общего представления более доступными созерцанию — посредством родственных свойств чувственно конкретных предметов. Однако она стремится к этому не для того, чтобы облечь смысл в загадочную форму, а как раз с обратной целью — с целью полнейшей ясности, так что в том внешнем материале, которым она пользуется, должен с предельной возможностью проглядывать являющийся в нем смысл.
а) Первая задача аллегории состоит поэтому в том, чтобы олицетворять и тем самым представлять в качестве субъекта общие абстрактные состояния или свойства как человеческого, так и природного мира — религию, любовь, справедливость, раздор, славу, войну, мир, весну, лето, осень, зиму, смерть, молву. Но ни по своему содержанию, ни по своей внешней форме эта субъективность не является поистине в самой себе субъектом или индивидом, а остается абстракцией общего представления, которое получает лишь пустую форму субъективности и может быть названо лишь грамматическим субъектом. Как бы мы ни хотели придать человеческий образ аллегорическому существу, оно не достигает конкретной индивидуальности ни греческого бога, ни святого, ни какого-нибудь реального субъекта. Для того чтобы сделать абстракцию совпадающей со своим смыслом, аллегория должна так опустошить субъективность, что из нее исчезает
108
всякая определенная индивидуальность. Справедливо говорят поэтому об аллегории, что она холодна и бессодержательна, а принимая во внимание рассудочную абстрактность ее смысла, следует признать, что она создается больше рассудком, чем конкретным созерцанием и волнуемой глубоким чувством фантазией. Поэты, подобные Вергилию, в особенности дают нам аллегорические существа, потому что они не умеют создавать таких индивидуальных богов, как гомеровские.
b) Во вторых, смысл аллегорических произведений в их абстрактности носит вместе с тем определенный характер и познаваем лишь благодаря этой определенности. Ввиду того что выражение таких особенностей не заключено непосредственно в олицетворенном представлении — олицетворенном вначале лишь вообще,— оно должно выступать для себя наряду с субъектом как пояснительный предикат последнего. Это разделение субъекта и предиката, всеобщности и особенности составляет вторую· черту аллегории, делающую ее холодной.
Чтобы определенно обозначающие свойства сделать наглядными, берут либо те проявления, действия, последствия смысла, которые обнаруживаются, когда он достигает действительности в конкретном существовании, либо те орудия и средства, которыми он пользуется в своей действительной реализации. Война, например, обозначается посредством оружия, копий, пушек, барабанов, знамен; времена года — посредством цветов и плодов, произрастающих главным образом под благоприятным влиянием весны, лета или осени. Подобные предметы могут затем в свою очередь носить только символический характер; так, например, справедливость символизируется весами и повязкой на глазах, смерть — песочными весами и косой. Но так как в аллегории смысл является господствующим и наглядные черты так же абстрактно подчинены ему, как и сам он есть лишь голая абстракция,— то форма таких определенностей получает здесь характер голого атрибута.
c) Таким образом, аллегория с обеих сторон пуста. Ее всеобщее олицетворение пусто, определенные внешние черты представляют собой лишь знак, который сам по себе ничего не означает; то средоточие аллегории, которое должно было бы объединить в себе многообразие атрибутов, не обладает силой субъективного единства, в своем реальном бытии формирующего самого себя и соотносящегося с собою, а становится чисто абстрактной формой, для которой наполнение такого рода особенностями, низведенными до роли атрибута, остается чем-то внешним. Поэтому аллегория не принимает всерьез той самостоятельнос-
109
ти, которой она наделяет свои абстракции и их обозначения посредством олицетворения их; тому, что в себе и для себя самостоятельно, не следовало бы, собственно говоря, придавать форму аллегорического существа. Дике, например, у древних греков нельзя назвать аллегорией. Она есть всеобщая необходимость, вечная справедливость, всеобщий могущественный субъект, абсолютная субстанциальность отношений приводы и духовной жизни; следовательно, она сама есть абсолютно самостоятельное начало, которому должны следовать отдельные индивиды, как люди, так и боги.
Г-н Фридрих фон Шлегель, как мы уже указали выше, сказал однажды: всякое художественное произведение должно быть аллегорией. Однако этот афоризм справедлив лишь в том случае, если он означает, что всякое художественное произведение должно содержать в себе общую идею и заключать в самом себе истинный смысл. Но то, что мы назвали здесь аллегорией, есть второстепенный как по форме, так и по содержанию способ изображения, лишь в несовершенной мере соответствующий понятию искусства. Ибо всякое человеческое событие и осложнение, всякое обстоятельство имеет в себе какую-нибудь общую черту, которую можно в свою очередь извлечь из них в качестве общей черты; однако такие абстракции и помимо этого имеются в нашем сознании, и искусству нет дела до них в той прозаической всеобщности и в том внешнем обозначении, которые им сообщает только аллегория.
Винкельман также написал незрелое сочинение об аллегории, в котором он приводит многочисленные примеры, но большей частью смешивает символ и аллегорию.
Среди отдельных искусств, в которых встречаются аллегорические изображения, поэзия поступает неправильно, прибегая к таким средствам, тогда как скульптура не всегда может обойтись без них. В особенности современной скульптуре, произведения которой часто напоминают портрет, приходится пользоваться аллегорическими фигурами для более тщательного обозначения тех многообразных отношений, в которых находится изображаемое ею лицо. Так, например, на воздвигнутом в Берлине памятнике Блюхеру мы видим гения славы, победы, хотя в отношении общего хода освободительной войны такая аллегоричность здесь все же избегнута и дается ряд отдельных сцен — например, отправление армии в поход, триумфальное возвращение, сцена марша. Но в целом в портретных статуях охотно прибегают к окружению простой статуи многообразными аллегориями. Напротив, античные народы больше использовали, например
110
на саркофагах, общие мифологические изображения сна, смерти а т. д.
Аллегория вообще более частое явление в средневековом романтическом искусстве, чем в античном, хотя аллегория как таковая не имеет в себе ничего собственно романтического. Тот факт, что в эту эпоху часто встречается аллегорическое понимание, можно объяснить следующим образом. С одной стороны, средние века имеют своим содержанием частную индивидуальность с ее субъективными целями любви и чести, с ее обетами, странствиями и приключениями. Разнообразие этих многочисленных лиц и событий дает фантазии широкий простор для придумывания и развертывания случайных, произвольных коллизий в их решений. Этим пестрым мирским приключениям противостоит общее содержание жизненных условий и состояний, которое не индивидуализировалось, как у античных народов, в самостоятельных богов и потому охотно и естественно выступает в своей всеобщности и для-себя-бытии рядом с указанными особенными лицами и их частными образами и событиями. Когда художнику предстоит это всеобщее, то, если не хочет облечь его з только что описанную случайную форму, а хочет подчеркнуть как всеобщее, ему не остается ничего другого, кроме аллегорического способа изображения.
Так же обстоит дело и в религиозной области. Мария, Христос, дела и судьбы апостолов, святые с их покаянием и истязанием плоти и здесь являются совершенно определенными лицами; однако христианство имеет дело также и с всеобщими духовными сущностями, которым нельзя придать определенность живых, реальных лиц, так как они должны быть изображены именно как всеобщие отношения — например, вера, надежда, любовь.
Истины и догматы христианства с религиозной стороны сами по себе известны, и один из главных интересов поэзии состоит в том, чтобы эти учения выступали перед нами как всеобщие учения, чтобы истину знали как всеобщую истину и верили в нее. Конкретное изображение должно оставаться в таком случае чем-то второстепенным и внешним самому содержанию, и аллегория оказывается формой, легче и удобнее всего удовлетворяющей эту потребность. И поэтому у Данте в его «Божественной комедии» много аллегорического. Так, например, теология сливается у него с образом возлюбленной Беатриче. Но данное олицетворение — в этом его красота — является не то аллегорией в собственном смысле слова, не то преображением возлюбленной его юности. В девять лет от роду он увидел ее в первый
111
раз; она показалась ему дочерью не смертного человека, а бога. Его пламенная итальянская натура была охвачена страстью к ней, которая уже никогда не потухала. Так как она пробудила в нем гения поэзии, то, потеряв с ее ранней смертью самое любимое на земле, Данте как бы поставил ей в главном произведении всей своей жизни этот удивительный памятник своей внутренней субъективной религии.
00.htm - glava29
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ОБРАЗ, СРАВНЕНИЕ
Третьим, видом этого круга произведений, следующим загадкой и аллегорией, является образное вообще. Загадка еще скрывает известный сам по себе смысл, и главным здесь остается облачение в родственные, хотя и разнородные и отдаленные, характерные черты. Напротив, аллегория в такой степени делает ясность смысла своей господствующей целью, что олицетворение и его атрибуты оказываются низведенными до уровня чисто внешнего знака. Образное же соединяет в себе ясность аллегории и удовольствие, доставляемое загадкой. Образное выражение делает наглядным ясно осознаваемый смысл в форме родственного внешнего явления, и делает это так, что при этом возникает не задача, требующая решения, а такая образность, через которую с полной ясностью просвечивает представляемый смысл, обнаруживая себя тем, что он есть на самом деле.
а) Метафора
Что касается метафоры, то она в себе уже есть сравнение, поскольку она выражает ясный сам по себе смысл в сходном и сравнимом с ним явлении конкретной действительности. Но в сравнении как таковом обе стороны — настоящий смысл и образ — определенно отделены друг от друга, между тем как в метафоре это отделение еще не положено, хотя и имеется в себе, Уже Аристотель различает сравнение и метафору следующим образом: в сравнении прибавляется слово «как», которое отсутствует в метафоре. То есть метафорическое выражение называет лишь одну сторону, образ; но в той связи, в которой употребляется образ, так легко угадывается настоящий смысл, имеющийся в виду, что он дан как бы непосредственно и не отделен от образа. Когда мы слышим выражение «весна этих щек» или «море слез», мы не можем понимать его как оно есть, а должны воспринять лишь как образ, смысл которого как бы определенно указывается нам связью этих представлений.
112
В символе и аллегории отношение между смыслом и внешней формой не так непосредственно и необходимо. Символическое значение девяти ступеней в египетской лестнице и сотни других подобных обстоятельств могут найти лишь посвященные, знающие, ученые; и они подозревают и находят мистическое, символическое значение, где его не следовало бы искать, потому что его нет; это, я думаю, иногда случалось с моим милым другом Крейцером, равно как и с неоплатониками и комментаторами Данте.
а. Количество многообразных форм метафоры бесконечно, определить ее, однако, просто. Она представляет собой сокращенное сравнение, так как не сопоставляет еще друг с другом образ и смысл, а дает нам лишь образ, опуская настоящий смысл последнего; однако благодаря связи, в которой дан образ, метафора позволяет в самом образе сразу же распознать смысл, который действительно имеется в виду, хотя он явно и не
указан.
Так как этот смысл, получивший образную форму, выясняется лишь из контекста, то значение, выражающееся в метафоре, может притязать на ценность не самостоятельного, но лишь сопутствующего художественного изображения. По отношению к метафоре в еще большей степени верно, что она может выступать лишь как внешнее украшение самого по себе самостоятельного художественного произведения.
β. Главное свое применение метафора находит в словесном выражении, которое мы можем рассмотреть в этом отношении
со следующих сторон.
αα. Во-первых, каждый язык сам по себе обладает массой
метафор. Они возникают благодаря тому, что слово, которое вначале означает лишь нечто совершенно чувственное, переносится на духовное. «Схватить, «.постигнуть·» и вообще много слов, относящихся к знанию, будучи взяты в своем собственном значении, имеют совершенно чувственное содержание, которое, однако, затем отбрасывается и заменяется духовным значением; первый смысл слова имеет в виду нечто чувственное, второй —
духовное.
ββ. Но затем метафорический элемент в употреблении такого слова постепенно исчезает, и благодаря привычке несобственный смысл слова превращается в собственный. Образ и смысл вследствие постоянной привычки понимать в первом лишь второй больше уже не различаются нами, и вместо конкретного созерцания образ дает нам непосредственно лишь сам абстрактный смысл. Когда мы, например, употребляем слово «схватить»
113
в духовном смысле, нам совершенно не приходит в голову думать при атом о чувственном схватывании руками.
В живых языках легко установить это различие между действительными метафорами и метафорами, которые благодаря долгому употреблению утратили первоначальное значение и стали выражениями, употребляемыми в собственном смысле. Трудно это сделать в мертвых языках, так как здесь одна лишь этимология слова не может дать окончательного решения вопроса. Ибо дело не в том, каково вообще происхождение и дальнейшее развитие данного слова,— но речь идет преимущественно о том, не потеряно ли слово, кажущееся чрезвычайно образным, живописным и выразительным,— не потеряло ли оно в продолжение жизни самого языка первоначального чувственного значения и воспоминания о нем, употребляясь для обозначения духовного, и не получило ли оно высшего, духовного смысла.
YY. В связи с этим возникает необходимость новых метафор, специально созданных поэтической фантазией. Главная задача этого изобретения состоит, во-первых, в том, чтобы наглядно перенести явления, деятельность, состояния, принадлежащие высшей сфере, на содержание низших областей и воплотить эти значения низшего рода в форме и образе высших значений. Органическое, например, само по себе обладает большей ценностью, там неорганическое, и речь делается более выразительной, когда мертвая природа изображается явлениями, характеризующими жизнь. Например, уже Фирдоуси пишет: «Острие моего меча пожирает мозг льва и пьет темную кровь храбреца».
Еще большая выразительность достигается тогда, когда природное и чувственное облекается в образную форму духовных явлений и благодаря этому возвышается и облагораживается. Мы привыкли употреблять такие выражения, как, например, «смеющиеся поля», ((яростный поток», или говорить, подобно Кальдерону: «Волны стонут под тяжкой ношей кораблей». То, что свойственно лишь человеку, употребляется здесь для выражения явлений природы. Римские поэты также пользуются подобными метафорами. Так, например, Вергилий («Георгики», III. ст. 132) говорит: Quum graviter tunsis gémit area frugibus '.
Но и наоборот. Духовное, во-вторых, делается более наглядным с помощью образа, заимствованного из круга предметов природы. Однако подобная образность может легко выродиться в вы·
1 „.Когда тяжело молотьбой ток стонет (латин.; пер. С, Шервинского)
114
чурность, искусственность или игру слов, когда само по себе неодушевленное независимо от этого своего характера еще и олицетворяется и ему совершенно серьезно приписывается духовная деятельность. Итальянские поэты больше других злоупотребляли подобными фокусами; не совсем свободен от них и Шекспир. Например, в первой сцене пятого акта «Ричарда II» он заставляет короля сказать при прощании со своей супругой: В твоих словах такая будет скорбь, Что огненные слезы состраданья Прольются из бесчувственных поленьев И в черный уголь или в серый пепел Они затем оденутся, печалясь О свергнутом законном короле '.
γ. Что касается, наконец, цели и назначения метафоры, то надо иметь в виду следующее: слово, употребляемое в собственном смысле, есть само по себе понятное выражение, а метафора есть другое выражение, и можно поставить вопрос: зачем это двойное выражение или, иначе говоря, зачем нужна метафора, эта двойственность в самой себе? Обычно говорят, что метафоры применяются для того, чтобы получилось более живое поэтическое изображение, и Гейне в особенности настаивает на этом. Живость состоит в наглядности как определенном представлении себе того, о чем идет речь,—наглядности, освобождающей общее слово от его неопределенности и делающей его
чувственно ощутимым с помощью образов.
В метафорах действительно больше живости, чем в обычных выражениях, употребляемых в собственном смысле. Однако не следует искать истинной жизни в отдельных или нанизанных друг на друга метафорах; правда, их образность часто может заключать в себе такую черту, благодаря которой выражению удачно придается как наглядная ясность, так и высшая определенность, однако метафора обладает тем недостатком, что, как бы она ни делала каждую деталь образной, она лишь обре-
меняет целое множеством подробностей.
Поэтому смысл и цель метафорической речи мы должны усматривать — подробнее мы выясним это ниже при анализе сравнения — в потребности и силе ума и сердца, которые не удовлетворяются простым, привычным, незатейливым, а поднимаются выше их, чтобы переходить к другому, задерживаться на различном и связывать двойственные выражения в единство. Это соединение в свою очередь имеет многообразные основания, Пер. Мих. Донского.
115
αα. Во-первых, оно усиливает выражение, так как сердце, преисполненное и взволнованное страстью, с одной стороны, делает эту владеющую им силу наглядной посредством некоторого чувственного подъема, а с другой стороны, стремится выразить свое состояние беспорядочных поисков и погруженности в многообразные представления тем, что переходит к многообразным родственным явлениям и движется в самых разнородных образах.
Например, в кальдероновском «Поклонении кресту» Юлия, увидев труп своего только что умерщвленного брата,— в то время как ее возлюбленный Эусебио, убийца брата, стоит перед нею,— говорит: Глаза хотела бы закрыть я, Чтобы не видеть этой крови, Чтобы не знать, что цвет гвоздики Взывает к мщенью за себя; И оправдать тебя хочу я При виде слез твоих, затем, что Глаза и раны в нашей жизни — Уста, которые не лгут.
Эусебио гораздо страстнее отступает перед ее взором, когда Юлия наконец хочет ему отдаться, и восклицает: Из глаз твоих огни струятся, В твоем дыханье слышу пламя.
Твой каждый довод — жгучий кратер, И каждый волос — как гроза, В твоих словах я смерть встречаю, И в каждой ласке — ад разъятый; Так устрашен я крестным знаком, Который грудь твоя хранит. То было знаменьем чудесным '.
Мы видим движение взволнованной души, которая вместо непосредственно созерцаемого ставит тотчас же другой образ и
не может кончить этих поисков все новых и новых выражений своего состояния.
ββ. Второе объяснение употребления метафорических выражений состоит в том, что, когда внутреннее движение духа заставляет его углубиться в созерцание родственных предметов, он вместе с тем хочет освободиться от их внешних черт. Ибо он ищет себя в этом внешнем, одухотворяет его и, облекая в формы красоты себя и свою страсть, вместе с тем доказывает, Пер. К. Бальмонта.
116
что обладает достаточной силой для того, чтобы дать нам изображение также и своего возвышения над этой страстью.
В-третьих, метафорическое выражение может проистекать лишь из наслаждения фантазии своим изобилием, когда она не может решиться дать предмет в его собственной форме и смысл в его простой безобразности, а всюду требует родственного конкретного созерцания. Метафорическое выражение может быть обусловлено и остроумной игрой субъективного произвола, который из желания избежать банальности обуреваем жаждой пикантного и не может успокоиться прежде, чем ему не удастся отыскать родственные черты в, казалось бы, самом разнородном материале и составить неожиданную комбинацию из отдаленнейших явлений.
К этому можно еще добавить, что преобладанием выражений, употребляемых в собственном смысле или употребляемых метафорически, отличаются друг от друга не столько прозаический и поэтический стиль вообще, сколько античный стиль и современный. Не только греческие философы, например Платон и Аристотель, или великие историки и ораторы, например Фукидид и Демосфен, но и великие поэты — Гомер, Софокл — в целом почти всегда довольствуются выражениями, употребляемыми в собственном смысле, хотя у них и встречаются сравнения. Строгая пластичность их произведений не терпит того смешения, которое составляет отличительную черту метафорических выражений, и не позволяет им нарушать однородность и простую замкнутость, чеканную завершенность их произведений, с тем чтобы уклониться в сторону и искать так называемых цветов красноречия. Метафоры же всегда прерывают течение наших представлений и рассеивают внимание, вызывая в нашем воображении и сочетая друг с другом такие образы, которые не имеют непосредственного отношения к делу и значению и поэтому влекут наше внимание к другим, родственным и чужеродным представлениям. Античных авторов от чрезмерного употребления метафор предохраняла в прозе бесконечная ясность и гибкость их языка, а в поэзии — спокойное развертывание ее содержания, полностью воплощенного в образную форму.
Напротив, Восток, преимущественно же позднейшая магометанская поэзия, с одной стороны, и современные поэты — с другой, особенно охотно пользуются выражениями, употребляемыми в несобственном смысле, и даже нуждаются в них. Язык Шекспира, например, очень метафоричен. Испанские поэты, доходившие в этом отношении до безвкуснейших преувеличений и нагромождений, также любят цветистые выражения; этим гре-
117
шит и Жан Поль, в меньшей степени Гёте с его равномерной в ясной наглядностью. Шиллер даже в прозе очень богат образами и метафорами, что проистекает у него из стремления выразить глубокие понятия в доступной представлению форме, не доходя, однако, до собственно философского выражения мысли, Здесь разумное в себе спекулятивное единство ищет и находит свое отражение в существующей жизни.
Ь) Образ
Между метафорой, с одной стороны, и сравнением — с другой, можно поставить образ. Образ имеет с метафорой столь явные родственные черты, что он, собственно говоря, является лишь подробно развернутой метафорой, которая благодаря этому получает большое сходство со сравнением, отличаясь от него, однако, тем, что в образном выражении как таковом смысл не выявляется сам по себе и не противопоставляется определенно сравниваемому с ним конкретному внешнему.
Образ возникает главным образом тогда, когда два самостоятельных явления или состояния объединяются так, что одно со стояние представляет собой смысл, постигаемый посредством образа другого состояния. Первое, основное определение составляет здесь, следовательно, для-себя-бытие, обособление тех различных сфер, из которых заимствуются смысл и его образ; общие им свойства, отношения и т. д. представляют собой не неопределенно всеобщее и субстанциальное, как это имеет место в символе, а определенное конкретное существование как на одной, так и на другой стороне.
а. В этом отношении образ может иметь своим значением целый цикл состояний, деятельности, свершений, способов существования и т. д., и он может делать наглядным это значение сходным циклом, взятым из самостоятельного, но родственного круга, ничего не говоря в пределах самого образа о смысле как таковом.
Такого рода - образом является, например, «Песня Магомета» Гёте. Только название показывает нам здесь, что в образе горного источника, который низвергается по скалам в глубину, распространяется по равнине вместе со сливающимися с ним источниками и ручьями, принимает в себя на своем пути братские реки, дает странам их названия, видит, как у его подножия зарождаются новые города, и, наконец, приносит с бурным ликованием все эти богатства — своих братьев, свои сокровища, своих детей — ожидающему их родителю,— только наз
118
вание показывает нам, что в этом широко набросанном блестящем образе могущественного потока метко изображается смелое выступление Магомета, быстрое распространение его учения, намерение его обратить все народы в единую веру.
Подобными же образами являются многие ксении Гёте в Шиллер», представляющие собой отчасти саркастические, отчасти комические обращения к публике и авторам. Один Ксений гласит, например: Тихо месили мы угли, селитру и серу, Трубки сверлили; для вас это сверканье ракет!
Только сияют одни, пламя разносят другие, Третьи ж взвились лишь затем, чтобы натешить ваш взор '.
Многие из них и в самом деле являются зажигательными снарядами и вызвали большую досаду — к бесконечному удовольствию лучшей части публики, которая радовалась, видя, как орава посредственных и ничтожных людей, которая в течение долгого времени подвизалась в этой области и старалась побольше шуметь, была одним ударом приведена к молчанию
я облита ушатом холодной воды.
β. Однако в этих последних примерах обнаруживается уже другая сторона образа, которую нам необходимо указать. Содержанием здесь является некий субъект, который действует, создает предметы, переживает известные состояния и теперь воплощается в образе не как субъект, а лишь в отношении того что он делает и что с ним происходит. Сам же он в качестве субъекта вводится не в образной форме, а лишь его действия и отношения получают форму выражения, употребляемого в несобственном смысле. И здесь, как вообще в образе, не весь смысл отделен от своего облачения, а лишь один субъект представлен сам по себе, в то время как его определенное содержание сразу же получает образную форму; таким образом, субъект представлен здесь так, будто он сам порождает предметы и действия в этом их образном существовании. Точно названному субъекту приписываются метафорические действия. Это смешение собственного и несобственного смысла часто подвергалось порицанию, но основания, приводимые в пользу такого порицания, слабы.
γ. Особенно восточные поэты проявляют большую смелость
« такого рода образности, соединяя и сплетая в один образ предметы, обладающие совершенно самостоятельным существованием
1 Пер. А. Голембы.
119
относительно друг друга. Например, Хафиз выразился однажды так: '«Теченье мировых событий есть кровавая сталь, а падающие с нее капли суть венцы». А в другом месте он говорит: «Меч солнца изливает в утренней заре кровь ночи, над которой он одержал победу». И точно так же: «Никто еще не снимал, подобно Хафизу, покрывал со щек мысли, с тех пор как завили локоны невесте слова». Смысл этого образа, кажется, таков: мысль есть невеста слова (Клопшток, например, называет слово близнецом мысли), и, с тех пор как эта невеста была украшена завитыми словами, уж никто на свете не был так способен
ясно выявить украшенную мысль .во всей ее неприкрытой красе, как Хафиз.
с) Сравнение
От этого последнего вида образов* мы можем непосредственно перейти к сравнению, поскольку субъект называет образы. В нем уже начинается самостоятельное и безобразное высказывание смысла. Образ и сравнение отличаются друг от друга тем, что в последнем все то, что образ дает исключительно в образной форме, может получить самостоятельный способ выражения, может быть выражено также и в своей абстрактности как смысл, который благодаря этому выступает наряду со своим образом и сравнивается с ним. Метафора и образ делают наглядным смысл, не выговаривая его, так что лишь контекст, в котором мы встречаем метафоры и образы, открыто показывает, что, собственно, хотят ими сказать. Напротив, в сравнении обе стороны — образ и смысл — полностью отделены друг от друга — с большей или меньшей разработанностью образа или смысла; каждый из этих 'элементов представлен сам по себе, и
лишь затем они приводятся в связь друг с другом ввиду сходства их содержания.
В этом отношении сравнение можно отчасти назвать всего лишь ненужным повторением, поскольку одно и то же содержание излагается-в двоякой и даже в троякой и четвероякой форме. Отчасти его нередко можно назвать скучным излишеством, так как смысл сам по себе уже дан и не нуждается в дальнейшем формировании, чтобы быть понятным. Поэтому относительно сравнения как такового еще больше, чем относительно образа и метафоры, возникает вопрос, в чем состоит существенный интерес, существенная цель употребления отдельных и следующих одно за другим сравнений. Ибо они не могут употребляться ни просто ради живости изложения, как это обычно думают, ни ради его большей ясности. Наоборот, сравнения слишком часто
120
делают стихотворение вялым и неуклюжим, и с помощью одного лишь образа или только метафоры можно добиться равной ясности, не прибегая наряду с этим к отдельному высказыванию
смысла.
Собственную цель сравнения мы должны поэтому видеть в
том, что субъективная фантазия поэта, как бы она ни осознавала содержание, которое хочет высказать согласно его абстрактной всеобщности и в его для-себя-бытии, и как бы ни выражала его в этой всеобщности,— все же она чувствует настоятельную потребность отыскать конкретную форму для этого содержания и сделать наглядным в чувственном явлении то, что она представляет согласно его смыслу. С этой стороны сравнение, подобно образу и метафоре, выражает смелость фантазии. Эта смелость сказывается в том, что, какой бы предмет ни предстал фантазии — будь это единичный чувственный объект, определенное состояние, общий смысл,— занимаясь им, она всегда демонстрирует свою силу, свою способность соединить внешне отдаленное, привлечь тем самым к какому-нибудь содержанию разнообразнейшие вещи и посредством работы духа приковать к данному материалу мир многообразных явлений. Эта способность фантазии изобретать образы и связывать друг с другом разнородные вещи и лежит в основании сравнения.
а. Во-первых, фантазия может предаваться сравниванию лишь ради удовольствия, доставляемого ей этим процессом, не желая показать этим изобилием роскошных образов ничего другого, кроме своей смелости. Это как бы разгул воображения, которое, в особенности у восточных поэтов, живущих в атмосфере южной праздности и беззаботности, услаждается без всякой дальнейшей цели богатством и блеском своих созданий и соблазняет также и слушателя, приглашая предаться праздности,— а часто поражает той удивительной силой, с которой поэт вызывает к жизни самые разнообразные представления и обнаруживает такое искусство в комбинировании их, которое остроумнее простой остроты. Много подобных сравнений дает нам и Кальдерон, в особенности там, где он изображает большие роскошные процессии и торжества, описывает красоту боевых лошадей и всадников, или там, где он говорит о кораблях, которые в таких случаях всегда называются у него «птицами без крыльев, рыбами без плавников».
β. Во-вторых, сравнения являются замедлением, длительной остановкой на одном и том же предмете, который делается благодаря этому субстанциальным центром ряда других отдаленных представлений,— кратким указанием или расписыванием их
121
объективируется значительно больший интерес к сравниваемому
содержанию.
Эта длительная остановка может иметь многообразные при чины.
αα. Как на первую причину мы должны указать на углублении души в содержание, которым она преисполнена и которое так прочно коренится в ее внутренних переживаниях, что она не может оторваться от него. В этом отношении мы снова можем подчеркнуть то существенное различие между восточной поэзией и западной, которого уже коснулись по поводу пантеизма. Восточный поэт в своем углублении в предмет менее эгоистичен и потому не испытывает тоски и томления; его желание остается объективированным наслаждением предметом своих сравнений, и вследствие этого оно теоретичное. Со свободной душой озирается он вокруг себя, чтобы во всем, что окружает его, что он знает и любит, видеть образ того, чем заняты и преисполнены его чувства и мысли. Освободившись от всякой чисто субъективной сосредоточенности, отбросив от себя все болезненное, фантазия находит удовлетворение в сравнивающем представлении самого предмета, в особенности если сравнение должно служить прославлению, возвеличению и преображению этого предмета, когда он сравнивается со всем что ни есть прекрасного и блестящего. Запад, напротив, более субъективен, в жалобе и скорби он томится и требует.
Эта длительная задержка проистекает главным образом из интереса чувств, особенно чувства любви, которое наслаждается предметом своих страданий и своей радости, и, будучи не в силах внутренне освободиться от этих чувств, оно не устает все снова и снова рисовать себе объект этих переживаний. Влюбленные богаты желаниями, надеждами и внезапно сменяющимися мыслями. К подобным мыслям можно причислить и сравнения и любовь тем скорее приходит к сравнениям, чем больше чувство заполняет- и проникает всю душу и само по себе влечется к сравниванию. Душу в таких случаях заполняет, например, отдельный прекрасный предмет — рот, глаза, волосы любимой. Но человеческий дух деятелен, беспокоен, а радость и печаль в особенности не являются чем-то мертвенным и неподвижным, но находятся в непрерывном движении, метании, которое приводит, однако, все остальное в связь с тем чувством, которое сердце сделало центром своего мира. Здесь интерес к сравнению заключается в самом чувстве, к которому присоединяется опыт, показывающий, что другие предметы в природе также прекрасны или причиняют страдания; посредством сравнения оно вовле-
122
кает все эти предметы в круг собственного содержания и этим расширяет и обобщает последнее.
Но если предмет сравнения представляет собой нечто всецело изолированное и чувственное и если он связывается со сходными чувственными явлениями, то подобные сравнения, в особенности когда они нагромождены, являются продуктом очень неглубокого размышления и мало развитого чувства, так что многообразие сравнений, движущееся в рамках лишь внешнего материала, легко может показаться нам вялым и не может очень заинтересовать нас, потому что в них нельзя найти связи с духовным. Так, например, мы читаем в четвертой главе Песни
Песней: «О, ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна! Голуби — очи твои из-под фаты твоей! Твои волосы — как стадо коз, что сошли с гор Галаада. Твои зубы — как стадо овец остриженных, что вышли из умывальни; они все родили двойней, и бесплодной нет среди них. Как красная нить — твои губы, и уста твои красивы. Как кусок гранита — виски твои из-под фаты твоей. Твоя шея — как башня Давида, что построена для упражнений. Тысяча щитов повешено на ней, все — щиты храбрецов. Две груди твои — как два молодых оленя, двойни газели, что пасутся средь лилий» 1.
Такую же наивность мы встречаем во многих поэмах, приписываемых Оссиану. Например, мы читаем в них: «Ты — как снег на лугу; твои волосы — как туман на Кромле, когда он вьется на скале и блистает в лучах, идущих с Запада; твои руки подобны двум колоннам в зале могущественного Фингала».
Сходным образом, только в совершенно ораторской манере Овидий заставляет говорить Полифема («Метаморфозы», XIII, ст. 789-807) : Ты, Галатея, белей лепестков белоснежной лигустры, Юных цветущей лугов и выше ольхи длинноствольной, Ты светлей хрусталя, молодого игривей козленка! Глаже тех раковин ты, что всегда обтираются морем; Зимнего солнца милей, отрадней, чем летние тени; Гордых платанов стройней, деревьев щедрее плодовых2,—
и так продолжается на протяжении всех девятнадцати гекзаметров; ораторски это красиво, но как изображение малоинтересного чувства — само по себе малоинтересно.
' Пер. А. Эфроса. 2 Пер. С. Шервинского.
123
И у Кальдерона мы можем найти много подобных сравнений, хотя такая длительная остановка на одном предмете больше подходит для лирического чувства как такового и слишком задерживает ход драматического действия, если она не мотивирована как следует самой сутью изображаемого. Так, например, Дон Жуан в «Обязательствах, налагаемых случаем» пространно описывает красоту дамы под вуалью, за которой он последовал, и, в частности, говорит: Впрочем, иногда сквозь эту Непроглядную завесу Дерзновенно проникала Белоснежная рука Королевы роз и лилий, В услуженье у которой Был, порабощенный ею, Темнолицый африканец '.
Иначе обстоит дело, когда глубоко взволнованная душа выражает себя образами и сравнениями, в которых внутренние, духовные связи чувства проявляются тем, что душа превращает либо самое себя во внешний природный пейзаж, либо такой природный пейзаж — в отражение духовного содержания.
1В «Поэмах Оссиана» встречается много подобных образов и сравнений, хотя область предметов, применяемых здесь для сравнения, 'бедна и ограничивается большей частью облаками, туманом, бурей, деревом, рекой, источником, солнцем, чертополохом или травой. Например, мы читаем: «Радостно твое присутствие, Фингал, как солнце на Кромле, когда охотник оплакивал его отсутствие зим;ой и видит его сквозь тучи». А в другом месте: «Не слышал ли Оссиан теперь голоса? Или это голос минувших дней? Часто воспоминание о былых временах приходит в мою душу подобно вечернему солнцу». И точно так же Оссиан рассказывает: «Приятны слова песни,— сказал Кухулин,— и дороги сказания былых времен. Они подобны тихой утренней росе на вершине утеса оленей, когда солнце еще слабо освещает его откосы, а синее озеро спокойно в долине».
Эта длительная задержка на одних и тех же чувствах и их сравнениях носит в указанных песнях такой характер, что она является выражением усталого и истомленного печалью и скорбными воспоминаниями старческого возраста. Меланхолические нежные чувства легко могут переходить к сравнениям. То, чего желает такая душа, что ее интересует, давно прошло и, вместо
Пер. А. Голембы.
124
того чтобы мужаться и преодолевать свою скорбь, ей приходится погружаться в иное. Вследствие этого многие сравнения Оссиана столько же соответствуют этому субъективному настроению, сколько и тем большей частью печальным представлениям и тесному кругу, в котором они вынуждены вращаться.
Но и страсть, поскольку она, несмотря на свое беспокойство, концентрируется на некотором содержании, может нередко переходить от одних образов и сравнений к другим, стремясь найти в окружающем внешнем мире образный аналог внутреннего переживания; все эти образы и сравнения суть лишь внезапно пришедшие на ум мысли об одном и том же предмете. Такой характер носит в «Ромео и Джульетте» тот монолог Джульетты, в котором она обращается к ночи и восклицает: Приди же, ночь! Приди, приди, Ромео, Мой день, мой снег, светящийся во тьме, Как иней на вороньем оперенье! Приди, святая, любящая ночь! Приди и приведи ко мне Ромео! Дай мне его. Когда же он умрет, Изрежь его на маленькие звезды, И все так влюбятся в ночную твердь, Что бросят без вниманья день и солнце ).
β β. Этим почти всецело лирическим сравнением, где чувство углубляется в свое содержание, противоположны эпические сравнения — например, те, которые мы часто встречаем у Гомера. Здесь поэт, задерживаясь для сравнения на определенном предмете, хочет, с одной стороны, отвлечь нас от чувств, которые сами носят как бы практический характер, от любопытства, ожидания, надежды и страха, с которыми мы относимся к неизвестному нам исходу событий, к отдельным ситуациям и делам героев,— хочет отвлечь наше внимание от связи между причинами, действиями и последствиями и сосредоточить его на образах, которые он ставит перед нами для теоретического рассмотрения в их пластическом покое, подобно произведениям скульптуры. Этот покой, это отвлечение нашего внимания от чисто практического интереса к тому, что поэт демонстрирует перед нашими глазами, может быть достигнуто тем более, чем более все то, с чем сравнивается предмет, заимствуется из иной области. С другой стороны, задержка на сравнениях имеет еще и тот смысл, что она двойным как бы изображением определенного предмета выделяет его из числа других в качестве более
' Пер. Б. Пастернака.
125
важного и не дает ему мимолетно прозвучать и унестись в потоке песни и событий. Так, например, Гомер говорит об Ахиляе, распаленном жаждой борьбы с Энеем («Илиада», XX. ст. 164-175) : Против него Ахиллес устремился, как лев-истребитель, Коего мужи-селяне решась убить непременно, Сходятся, весь их народ; и сначала он, всех презирая, Прямо идет; но едва его дротиком юноша смелый Ранит,— напучась он к скоку, зияет; вкруг страшного зева Пена клубится; в груди его стонет могучее сердце; Гневно косматым хвостом по своим он бокам и по бедрам Хлещет кругом и себя самого подстрекает на битву; Взором сверкает и вдруг, увлеченный свирепством, несется Или стрельца растерзать, или в толпище первым погибнуть,— Так поощряла Пелида и силу и мужество сердца Противостать возвышенному духом Энею-герою 1.
Сходное с этим Гомер говорит о Палладе, когда она отклонила стрелу, брошенную Пандаром в Менелая («Илиада». IV, ст. 129-131) : Став пред тобою, она возбраняет стреле смертоносной К телу касаться; ее отражает, как нежная матерь Гонит муху от сына, сном задремавшего сладким.
И далее, когда стрела все же ранила Менелая, мы читаем (ст. 141-147) : Так, как слоновая кость, обагренная в пурпур женою, Карскою или меонской, для пышных нащечников коням, В доме лежит у владелицы: многие конники страстно Жаждут обресть; но лежит драгоценная царская утварь, Должная быть и коню украшеньем и коннику славой,— Как у тебя, Менелай, обагрилися пурпурной кровью Бедра крутые, красивые ноги и самые глезны.
γ. Третий побудительный мотив употребления сравнений, от" личный как от голого наслаждения разгулом фантазии, так и о? углубления чувства в свое содержание или стремления воображения остановиться на важных предметах,— должен быть выдвинут главным образом по отношению к драматической поэзии. Драма имеет своим содержанием борющиеся страсти, деятельность, пафос, поступки, свершение внутренне желаемого; это содержание драма не излагает в форме прошлых событий, как это делает эпос, а дает возможность видеть самих действующих
Пер. Н. Гнедича.
126
лиц и заставляет их высказывать свои чувства как принадлежащие им самим и совершать свои поступки перед нашими глазами, так что поэт не вмешивается здесь в качестве посредника.
В этом отношении может казаться, что драматическая поэзия требует величайшей естественности в высказывании страстей и порыв их в скорби, страхе, радости не может допускать сравнений, не нарушая этой естественности. Заставлять действующих лиц много говорить метафорами, образами, сравнениями, когда они охвачены бурей чувств и устремлением к действию, совершенно неестественно в обычном смысле слова и мешает зрителю. Сравнения отвлекают нас от ситуации данного момента, от действий и чувств лиц, находящихся в этой ситуации,— отвлекают к внешнему, чуждому, не непосредственно связанному с ситуацией и, нарушая тон разговора, беседы, вызывают особенно тягостные чувства.
Поэтому в Германии в ту эпоху, когда молодые умы стремились освободиться от оков французского риторического вкуса, испанские, итальянские и французские авторы рассматривались лишь как художники, которые с изящным красноречием вкладывают в уста драматических лиц свое субъективное воображение, свое остроумие, свои условные понятия о приличии — даже в тех случаях, когда должна была безраздельно господствовать сильнейшая страсть в ее естественном выражении. Соответственно этому принципу естественности мы находим во многих драмах того времени крик чувства, восклицательные знаки и тире, которые заняли место благородной, приподнятой, богатой образами и сравнениями речи.
Исходя из подобных соображений, английские критики неоднократно порицали Шекспира за нагромождение красочных сравнений, за то, что он часто заставляет своих действующих лиц употреблять их как раз в то время, когда они переживают величайшую скорбь, между тем как сила чувств, казалось бы, не должна была оставить место спокойному размышлению, необходимому для всякого сравнения. Правда, образы и сравнения у Шекспира и в самом деле часто неуклюжи и слишком нагромождены. В общем, однако, сравнениям следует отвести существенную роль также и в драматических произведениях.
Если чувство задерживается на своем предмете потому, »то оно углубляется в него и не может от него оторваться, то в практической области, области действия, сравнения имеют целью показать, что индивид не только непосредственно погрузился в свою определенную ситуацию, чувство, страсть, но что он, как возвышенный и благородный характер, стоит выше их и
127
может от них освободиться. Страсть ограничивает и сковывает душу в ней самой, суживает ее, заставляя ее сосредоточиться на чем-то узком, и этим принуждает ее умолкнуть, сделаться односложной или тщетно бесноваться и безумствовать. Но великая душа, сильный дух поднимается выше такой ограниченности в реет в прекрасном тихом спокойствии, возвышаясь над тем определенным пафосом, которым он волнует.
Сравнения прежде всего и выражают это освобождение души, выражают его совершенно формально, так как лишь очень сильный и обладающий большой выдержкой человек в состоянии сделать объектом свою скорбь, свое страдание, сравнивать себя с чем-то иным и благодаря этому теоретически созерцать себя в чуждых предметах или, самым ужасным образом издеваясь. над собой, противопоставить себе собственное уничтожение как некое внешнее существование и при этом оставаться твердым и спокойным в самом себе. В эпосе, как мы видели, поэт старается посредством длительно останавливающихся, подробно обрисовывающих сравнений сообщить слушателю то теоретическое спокойствие, которого требует искусство; в драме же сами действующие лица выступают как поэты и художники, делая свои внутренние переживания предметом, который они в силах формировать и воплощать, и этим они являют нам благородство своего умонастроения и силу своей души. Ибо это погружение в иное и внешнее есть здесь освобождение внутренней жизни от чисто практического интереса или непосредственного чувства и переход к свободному теоретическому формированию. Благодаря этому то сравнивание ради сравнивания, каким мы встречаем его на первой ступени, восстанавливается в более глубоком виде, поскольку оно может выступать теперь только лишь как преодоление голой одержимости страстью и освобождение от оков, налагаемых последней.
В ходе этого освобождения можно различать еще следующие основные черты, иллюстрации к которым доставляет нам прежде всего Шекспир.
αα. Если перед нами человек, которого постигло большое несчастье, потрясшее его до глубины души, и он действительно полон скорби по поводу этого неотвратимого рока, то было бы признаком вульгарного характера непосредственно выкрикнуть испытываемые чувства страха, скорби, отчаяния и тем облегчить себя. Сильный, благородный дух подавляет жалобу как таковую, не дает воли своей скорби и тем сохраняет свободу, возможность в то самое время, как он еще глубоко страдает, заинтересоваться в своем представлении отдаленными явлениями и
128
образно выразить в них собственную судьбу. Человек стоит тогда выше своей скорби, с которой он не отождествляется, не сливается всем своим самобытием, но отличается от нее и поэтому может длительно останавливаться на другом, относящемся к испытываемому им чувству как родственная объективность. Например, в «Генрихе IV» Шекспира старый Нортумберленд, после того как он спросил посланца, прибывшего с известием о смерти Перси, как поживают его сын и брат, и не получил ответа на этот вопрос, так выражает жесточайшее свое горе: Но ты дрожишь, и бледность щек твоих Все выдает мне раньше, чем твой голос. Так, верно, именно пришел гонец Сказать Приаму о пожаре Трои, Так бледен был, растерян и убит.
Но, прежде чем он выговорил слово, Из-за откинутой полы шатра Приам увидел сам огонь пожара. Так точно гибель Перси я прочел В твоих глазах '.
Но в особенности Ричард II, когда он должен искупить юношеское легкомыслие своих счастливых дней, являет нам такую душу, которая, как бы она ни погружалась в свое горе, все же сохраняет способность объективировать его в новых и новых сравнениях. Есть нечто трогательное и детское в печали Ричарда, когда он объективно выражает ее в метких образах и тем глубже сохраняет скорбь в игре этого отчуждения. Когда, например, Генрих требует от него корону, он восклицает: Подайте мне корону. Здесь, кузен, Вот с этой стороны моя рука, А с этой — ваша. Эта золотая Корона уподобилась теперь Глубокому колодцу, при котором Есть два ведра; они поочередно Водою наполняются: одно, Пустое, вверх стремится, а другое, Незримое, наполнившись водой, Спускается. Я — нижнее из ведер. Наполнившись слезами, в них тону; Вы вверх стремитесь, я ж иду ко дну 2.
ββ. Другой аспект этого явления состоит в том, что характер, уже отождествившийся со своими интересами, со своей скор-
' Пер. Б. Пастернака. 2 Пер. Н. Холодковского.
129
бью и судьбой, посредством сравнений старается освободиться от этого непосредственного единства и действительно обнаруживает свое освобождение тем, что показывает себя способным пользоваться сравнениями. В «Генрихе VIII», например, королева Екатерина, покинутая своим супругом, восклицает в глубочайшей печали: Нет женщины несчастнее меня!
(Обращаясь к прислужницам.) Вы бедные... Увы, и ваше счастье Прошло с моим! Разбился наш корабль На берегу, где нет ни состраданья, Ни друга, ни надежд; где обо мне — Ах! ни один родной не станет плакать; Где даже нет могилы для меня. Как лилия, которая над полем В былые дни царила и цвела, Я головой поникну и увяну '.
Еще лучше говорит в «Юлии Цезаре» разгневанный Брут "Кассию, которого он напрасно стремился побудить к действию: О Кассий, ты в ярмо впряжен с ягненком, В нем гнев таится, как в кремне огонь: Он при ударе высекает искру И тотчас остывает 2.
Что Брут в этом месте может перейти к сравнению, это уже показывает, что он начал подавлять в себе гнев и освобождаться от него.
Шекспир возвышает главным образом свои преступные характеры над их дурной страстью, заставляя их проявлять величие духа как в преступлении, так и в несчастье, и он делает это не абстрактно, как французы, у которых преступники снова и снова говорят себе, что они хотят быть преступниками, а наделяет их той силой фантазии, благодаря которой они могут смотреть на себя со стороны, созерцать себя как другой, чужой образ. Макбет, например, когда бьет его последний час, произносит знаменитые слова: Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь — только тень, она — актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков. Жизнь — сказка в пересказе
Глупца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит3.
' Пер. П. Вейнберга.
2 Пер. М. Зенкевича.
3 Пер. Б. Пастернака.
130
И точно так же в «Генрихе VIII» кардинал Вулси, потерпел крах, восклицает в конце своей карьеры: Прощай же, мой ничтожным ставший жребий!
Вот участь человека! Он сегодня
Распустит нежные листки надежд, А завтра весь .украсится цветами, Но через день уже мороз нагрянет, И в час, когда уверен наш счастливец, Что наступил расцвет его величья, Мороз изгложет корни, и падет
Он так же, как и я '.
γγ. В этом объективировании и высказывании своих чувств посредством сравнений заключается спокойствие и выдержка характера в самом себе — свойства, благодаря которым он успокаивает себя в своей скорби и гибели. Так, Клеопатра, уже приложив к груди смертельную ехидну, говорит Хармиане: Тише. Не буди Младенца на моей груди, который Сосаньем мамку на смерть усыпит. Бальзам! Блаженство! Совершенный воздуха
Укус змеи так расслабляет члены тела, что смерть обманывает сама себя и считает себя сном. Этот образ может сам служить образом для выражения мягкой, успокаивающей природы этих сравнений.
00.htm - glava30
С. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
Наше понимание символической формы искусства сводилось вообще к тому, что в ней смысл и выражение не могут добиться полного взаимопроникновения. Возникающее благодаря этому несоответствие между формой и содержанием оставалось в бессознательной символике β себе, а в возвышеном открыто выступала как несоответствие, поскольку абсолютный смысл, бог и его внешняя реальность, мир, явно изображались отрицательно по отношению друг к другу. Но во всех этих формах господствовала также и другая сторона символического — родственность смысла и того внешнего облика, в котором его показывают нам. Она полностью господствует в первоначальном символизме, еще не противопоставляющем смысл его конкретному существованию; в качестве существенного отношения — в возвышенном, которое нуждается в изображении явлений природы, судеб и дел народа божьего, чтобы выразить бога, хотя бы и неадекватным образом; ' Пер. Б. Томашевского. 2 Пер. Б. Пастернака.
131
как субъективное и потому произвольное отношение — в сравнивающей форме искусства.
Хотя в метафоре, образе и сравнении эта произвольность полностью присутствует, она и здесь еще как бы прячется за родственностью смысла и образа, употребляемого для его выражения. Сравнение предпринимается здесь именно потому, что сравниваемые смысл и образ сходны между собой, и главную сторону этого сходства составляют не внешние черты, а как раз порожденное субъективной деятельностью отношение между внутренними чувствами, созерцаниями, представлениями и их родственным формированием. Однако если не понятие самого предмета, а лишь произвол связывает друг с другом содержание и форму художественного произведения, то их следует признать совершенно внешними друг другу, и их связь представляет собой механическое соединение и простое украшение одной стороны другою. Поэтому те подчиненные формы искусства, которые проистекают из такого полного распада принадлежащих истинному искусству моментов и свидетельствуют — этим отсутствием связи между последними — о саморазрушении символической художественной формы,— эти подчиненные формы мы должны рассмотреть здесь в виде приложения.
В согласии с общей точкой зрения да этой ступени на одной стороне находится совершенно готовый и разработанный для себя, но лишенный образа смысл, для которого в качестве художественной формы остается поэтому лишь чисто внешнее произвольное украшение, а на другой стороне — внешнее как таковое, которое, вместо того чтобы быть опосредствованным в тождество со своим существенным внутренним смыслом, может быть введено и описано лишь как нечто самостоятельное по отношению к этому внутреннему и, следовательно, лишь в чисто внешнем характере его явления. В этом состоит абстрактное различие между дидактической и описательной поэзией — различие, которое, по крайней мере в отношении дидактического искусства, может сохранить одна лишь поэзия, потому что только она в состоянии представлять смысл в его абстрактной всеобщности.
Так как понятие искусства заключается не в распадении, а в отождествлении смысла и образа, то и на этой ступени проявляется не только полное отделение Друг от друга различных сторон, но и соотнесение их друг с другом. Однако, после того как искусство вышло за пределы символического, это соотнесение больше уже не может носить символический характер и делает поэтому попытку устранить то, что составляет существенный характер символизма и что все предшествующие формы не
132
были способны преодолеть,— устранить несоответствие между формой и содержанием и их самостоятельность по отношению друг к другу. Ввиду предполагаемой раздельности тех сторон, которые лишь надлежит соединить друг с другом, эта попытка должна остаться здесь голым долженствованием, а удовлетворение требований предназначено другой, более совершенной форме искусства — классической.
Бросим теперь беглый взгляд на эти последние формы, чтобы достичь более строгого перехода к другой ступени искусства.
00.htm - glava31
1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Если смысл, хотя бы он и образовывал в самом себе конкретное, связное целое, берется для себя лишь как смысл, если он не формируется как таковой, а лишь художественно украшается извне,— то возникает дидактическая поэма. К подлинным формам искусства дидактическая поэзия не может быть причислена. Ибо в ней на одной стороне находится само по себе готовое содержание, в своей прозаической форме уже разработанное в качестве смысла, а на другой стороне — художественный образ, который только внешне может быть наложен на это содержание, так как оно уже до этого в прозаическом виде полностью выявлено для сознания, ,и эта прозаическая сторона, то есть содержание, взятое в его всеобщем абстрактном смысле и лишь в связи с последним, должно получить выражение с целью назидания, чтобы сделаться предметом рассудочного размышления.
В этом внешнем отношении искусство в дидактической поэме может проявиться лишь в своих внешних сторонах — например, в размере, приподнятом языке, во вплетенных эпизодах, образах, сравнениях, в добавленных излияниях чувств, в более быстрых переходах, темпе движения и т. д. — словом, во всем том, что не проникает в содержание как таковое, а ставится рядом с ним лишь в качестве придатка, чтобы своей относительной живостью придать более радостный характер серьезному и сухому поучению и сделать его более привлекательным. То, что в самом себе достигло прозаического завершения, не должно получить здесь новую поэтическую форму, а лишь должно быть облачено в новое одеяние, подобно тому как, например, садово-парковое искусство большей частью является лишь чисто внешним украшением местности, уже данной природой, а не красивой самой по себе, или подобно тому как архитектура посредством внешних украшений делает приятным здание, возведенное для удовлетворения прозаических потребностей.
133
Греческая философия, например, принимает в начале своего развития форму дидактической поэмы. Можно привести в качестве примера и Гесиода, хотя нужно сказать, что собственно прозаическое понимание явно выступает лишь там, где рассудок овладел предметом с помощью своих размышлений, выводов, классификаций и т. д. и хочет с этой точки зрения приятно и изящно поучать нас. Примеры такого понимания, которое при всей своей внешней искусности не может породить подлинно свободного произведения искусства, дают нам Лукреций в его изложении эпикуровской философии природы, Вергилий с его сельскохозяйственными наставлениями. В Германии дидактическая поэма вышла из моды; французам же Делиль кроме своих ранних поэм «Сады, или Искусство украшать природу» и «'Сельский житель» подарил уже в нашем веке дидактическую поэму, в которой рассматриваются в последовательном порядке магнетизм, электричество и т. д.— одним словом, дается учебник физики.
00.htm - glava32
2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
Вторая форма такого рода произведений противоположна дидактической поэзии. Исходным пунктом берется здесь не сам по себе готовый в сознании смысл, а внешнее как таковое — пейзажи, здания, времена года, различное время суток и их внешние черты. Если в дидактической поэме содержание остается по своей сути бесформенно-всеобщим, то здесь внешний материал предстоит сам по себе, в его не проникнутой духовным смыслом единичности и внешнем явлении — в единичности, какой она предстоит обычному сознанию. Такого рода чувственное содержание всецело принадлежит лишь одной стороне истинного искусства, а именно области внешнего существования, которая имеет право выступать в искусстве лишь в качестве реальности духа, индивидуальности и ее поступков, событий, развертывающихся на почве окружающего мира,— а не сама по себе как отделенный от духовного внешний материал.
00.htm - glava33
3. АНТИЧНАЯ ЭПИГРАММА
Поэтому нельзя фиксировать назидание и описание в этой их односторонности, вследствие которой было бы всецело устранено искусство, и мы видим, что внешняя реальность снова приводится в связь с постигнутым как ее внутреннее ядро смыслом, а абстрактно всеобщее снова связывается с его конкретным явлением.
134
a) Дидактической поэмы мы уже коснулись с этой стороны. Без изображения внешних состояний и отдельных явлений, без эпизодического рассказывания мифологических и других примеров здесь редко можно обойтись. Но такое параллельное движение духовно всеобщего и внешне единичного дает вместо полностью развитого соединения их лишь совершенно случайное соотношение, которое помимо этого касается даже не целостного содержания и совокупности его художественных форм, а лишь отдельных сторон и черт.
b) Такое соотношение большей частью имеет место в описательной поэзии, поскольку она сопровождает свои изображения чувствами, которые могут вызываться видом деревенской природы, сменой дня и ночи, времен года, лесистым холмом, озером или журчащим ручьем, кладбищем, благоприятно расположенной деревней, тихим уютным домиком и т. д. В описательной поэзии, как и в дидактических поэмах, также появляются эпизода, играющие роль оживляющего ее аксессуара; таковыми в особенности являются изображения трогательных чувств — например. сладкой меланхолии или незначительных событий из круга человеческой жизни в ее подчиненных сферах.
Эта связь между духовным чувством и внешним явлением природы может и здесь носить еще совершенно внешний характер. Ибо !местный пейзаж предполагается как нечто существующее самостоятельно, и хотя человек подходит к этому пейзажу и испытывает то или иное чувство, однако внешняя форма и внутреннее чувство при виде лунного сияния, лесов и долин остаются внешними друг другу. Я не истолковываю, не одухотворяю природу, а лишь чувствую по этому поводу совершенно неопределенную гармонию между моей той или иной внутренней настроенностью и предлежащими предметами. В особенности у нас, немцев, это излюбленнейшая форма: изображение природы, а затем те прекрасные чувства и сердечные излияния, которые могут прийти в голову при виде таких пейзажей. Это общая проторенная дорога, которой способен идти каждый. Даже многие оды Клопштока написаны в этом духе.
c) Если поэтому мы будем искать более глубокую связь между обеими сторонами в их предполагаемом разделении, то мы найдем ее в античной эпиграмме.
а. Уже название выражает первоначальную сущность эпиграммы: это надпись. Несомненно, что и здесь на одной стороне находится предмет, а на другой — высказывание о нем. Однако в древнейших эпиграммах — некоторые сохранил для нас еще Геродот — мы не получаем изображения объекта, сопутствуемого
135каким-нибудь чувством, а имеем перед собой сам предмет в двояком виде: во-первых, нечто внешне существующее, а затем — его назначение и объяснение, сжато изложенные в эпиграмме в самых резких и метких чертах. Однако даже у греков поздняя эпиграмма утратила этот первоначальный характер и все более переходила к фиксации и записыванию неожиданно мелькнувших остроумных или трогательных мыслей по поводу отдельных случаев, художественных произведений, индивидов и т. д. — мыслей, выявляющих не столько сам предмет, сколько субъективные чувства по отношению к нему.
β. Чем менее сам предмет входит в этот вид изображения, тем несовершеннее становится последний. В этом отношении можно попутно сказать несколько слов и о новейших художественных формах. В новеллах Тика, например, рассказ часто вращается вокруг отдельных -произведений искусства или художников, вокруг определенной картинной галереи или вокруг музыки, и к этому присоединяется маленькая любовная интрига. Но эти определенные картины, которых читатель не видел, эти музыкальные произведения, которых он не слышал, поэт не может сделать слышимыми и видимыми, и весь жанр, если он вращается вокруг подобных предметов, остается с этой стороны неудовлетворительным. В больших романах также пробовали брать своим содержанием целые виды искусства и их прекраснейшие произведения; Гейнзе, например, содержанием своего романа «Гильдегард фон Гогенталь» берет музыку. Но если все художественное произведение оказывается не в состоянии дать изображение своего существенного предмета, то оно по своему основному характеру грешит несоразмерностью формы.
γ. Требование, вытекающее из указанных недостатков, со стоит просто в следующем: внешнее явление и его смысл, предмет и его духовное объяснение не должны быть ни совершенно· раздельными друг от друга, как это имело место в последнем случае, ни соединенными так, чтобы связь между ними оставалась символической, возвышенной или сравнивающей. Подлинное изображение следует поэтому искать лишь там, где предмет посредством своего внешнего явления и в нем дает объяснение своего духовного содержания, причем духовное полностью раскрывается в своей реальности и телесное и внешнее есть не что иное, как соразмерное раскрытие духовного и внутреннего.
Но чтобы рассмотреть совершенное выполнение этой задачи. мы должны расстаться с символической формой искусства, так как характер символизма именно в том и состоял, что душа смысла и его телесный облик получали лишь незавершенное соединение.
136
137
Второй отдел
КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ИСКУССТВА
138
Введение О КЛАССИЧЕСКОМ ВООБЩЕ
Средоточием искусства является завершенное в себе до свободной целостности единство содержания и всецело соответствующей ему формы. Только классическое искусство создает ту реальность, совпадающую с понятием прекрасного, которой тщательно стремилась достигнуть символическая форма искусства. Поэтому в предшествовавшем рассмотрении идеи прекрасного и искусства мы уже как бы заранее определили общую природу классического. Идеал дает содержание и форму классическому искусству, осуществляющему в этом адекватном способе формообразования то, что согласно своему понятию составляет подлинное искусство.
Но для этой завершенности понадобились все особенные моменты, развитие которых мы сделали предметом предшествующего отдела. Ибо классическая красота обладает — в качестве своего внутреннего смысла — свободным, самостоятельным значением, то есть не значением чего-то другого, а значением самого себя и поэтому также своим собственным объяснением. Это духовное начало, которое, вообще говоря, делает само себя своим предметом. Далее, в этой предметности самого себя оно обладает формой внешнего, которая, со своей стороны, будучи тождественной со своим внутренним содержанием, непосредственно является своим собственным значением. Сознавая себя, она и показывает себя.
Правда, уже при рассмотрении символической формы искусства мы исходили из единства смысла и порожденного искусством способа его чувственного проявления. Однако там это единство было лишь непосредственным, а потому неадекватным. Ибо содержание в собственном смысле составляло или само природное начало в его субстанции и абстрактной всеобщности — и поэтому •обособленное существование природного было не в состоянии
139
адекватно представить всеобщность, хотя природное и рассматривалось как ее действительное наличное бытие, или же содержание составляло только внутреннее и постижимое лишь духом, которое также получало неадекватное выражение в чуждом ему непосредственно единичном и чувственном.
Смысл и форма находились лишь в отношении общего родства и простого намека. Если они и связывались в некоторых аспектах, то распадались в других. Первоначальное единство оказалось разорванным: в индийском миросозерцании на одной стороне находится внутреннее и идеальное начало в его абстрактной простоте, а на другой стороне — многообразная действительность природы и человеческое существование. Лишь беспокойный порыв фантазии ведет от одной стороны к другой, будучи не в силах привести существующее для себя идеальное начало к чистой абсолютной самостоятельности, не в силах наполнить его имеющимся и преобразованным материалом явлений и представить его в этом материале как успокоенное единство. Хотя путаница и гротеск в смешении борющихся друг с другом элементов в свою очередь исчезали, но лишь для того, чтобы уступить место столь же неудовлетворительной загадочности, способной лишь поставить задачу, но не решить ее. Ибо здесь еще отсутствует свобода и самостоятельность содержания, которые выступают лишь тогда, когда внутреннее начало осознается как целостное внутри самого себя, как охватывающее иную ему и прежде чуждую внешнюю стихию. Эта самостоятельность в себе и для себя как свободный абсолютный смысл является самосознанием, в котором содержание есть абсолютное, а форма — духовная субъективность.
По сравнению с этой самоопределяющейся, мыслящей и желающей силой все другое самостоятельно лишь относительно и лишь на мгновение. Так как чувственные явления природы — солнце, небо, звезды, растения, животные, камни, реки, моря — имеют лишь абстрактное отношение к самим себе и вовлечены вместе с другими существованиями в непрерывный процесс, то лишь конечное представление может считать их самостоятельными. В них еще не обнаружилось истинное значение абсолютного. Природа, правда, выявляется, но только во вне-себя-бытии; ее внутреннее содержание не выявлено как внутреннее для самого себя, но разлито в пестром многообразии явлений и потому не самостоятельно. Только в духе как конкретном, свободном, бесконечном отношении к самому себе истинный абсолютный смысл действительно выявляется и становится самостоятельным в своем существовании.
140
На пути к этому освобождению абсолютного смысла от непосредственно чувственной стихии и выявлению его самостоятельности внутри себя мы встречаемся с тем, что возвышено и освящено фантазией. Абсолютно значащим обладает прежде всего мыслящее, абсолютное, лишенное чувственных свойств единое начало, которое относится к самому себе как к абсолютному и в этом отношении полагает сотворенное им другое — природу, конечное — вообще как отрицательное, не имеющее в самом себе опоры.
Это единое начало является всеобщим в себе и для себя. Независимо от того, осознается и изображается ли единое в его ясной отрицательной направленности против сотворенного им мира или же в его положительной пантеистической имманентности сотворенному, независимо от этого оно представляется объективной властью над всем существующим. Это воззрение в отношении искусства заключает двоякий недостаток. Во-первых, это единое и всеобщее, составляющее основной смысл, еще не достигло в самом себе ни более точного определения и различия, ни подлинной индивидуальности и личности. В форме индивидуальности единое можно было бы понять как дух и поставить перед созерцанием в облике, который принадлежал бы духовному содержанию и был бы соразмерен ему согласно его понятию. Конкретная же идея духа требует, чтобы дух определял и различал себя внутри самого себя и чтобы, делая себя предметным, он приобретал в этом удвоении внешнее проявление, которое носит телесный характер и существует в настоящий момент. Однако оно остается всецело проникнутым духовным началом и, взятое само по себе, ничего не выражает, но лишь позволяет обнаружиться духу в качестве своего внутреннего содержания и является его выражением и реальностью. Во-вторых, с точкой зрения предметного мира (с этой абстракцией неразличающегося в себе абсолютного) связан тот недостаток, что действительное явление, лишенное в себе субстанции, становится неспособным по-настоящему выявить абсолютное в конкретной форме.
Переходя к более высокой форме искусства, мы должны напомнить — в противоположность гимнам, восхвалениям, прославлениям абстрактного всеобщего величия бога — о моменте отрицательности, изменения, страдания, прохождения через жизнь и смерть, который мы встретили на Востоке. Здесь существовало различие в самом себе, которое никогда не выступало сконцентрированным в единстве и самостоятельности субъективности. Но лишь в своей конкретной опосредствованной целостности обе стороны — самостоятельное в себе единство, и различие и опре-
141
деленное в себе выполнение—дают истинно свободную самодеятельность.'
Наряду с возвышенным мы можем упомянуть и о другом воззрении, которое также начало развиваться на Востоке. В противоположность воззрению о субстанциальности единого бога здесь существует понимание внутренней свободы, независимости отдельной личности, насколько Восток позволяет развиться этому направлению. В качестве основного воззрения мы должны искать его у арабов. Живя в пустынях, в бесконечном море своих равнин, имея лишь чистое небо над собой, они полагались в этой природе на собственную храбрость, силу своего кулака и на средства своего самосохранения — на верблюда, коня, копье и меч. В отличие от индийской мягкости и самоотречения и более позднего пантеизма магометанской поэзии здесь открывается более не податливая самостоятельность личного характера, оставляющая предметам их отграниченную и строго определенную непосредственную действительность. С этой начинающейся самостоятельностью индивидуальности одновременно связаны не только верная дружба, гостеприимство, возвышенное благородство, но и безграничное наслаждение местью и неугасимое злопамятство; им дают выход и удовлетворяют их с беспощадной страстью и совершенно бесчувственной жестокостью. Но то, что происходит на этой почве, представляется человеческим в кругу человеческого. Это деяния мести, любовные отношения, черты благородства, полного самопожертвования. Из них настолько исчез элемент фантастического и чудесного, что все проходит перед нами в определенном и строгом порядке согласно необходимой связи вещей.
Сходное понимание действительных предметов, приведенных к их устойчивой мере и наглядно созерцаемых в их свободе, а не просто полезности, мы уже нашли у древних евреев. Еврейской нации также первоначально были свойственны более твердая самостоятельность характера, дикость мести и ненависти. Но одновременно обнаруживаются различия. Здесь даже могущественнейшие силы природы изображаются не сами по себе, а как власть божества, по отношению к которой они теряют свою самостоятельность; ненависть и преследование не обращены здесь как личные чувства против личностей, а служат богу как национальная жажда мести к целым народностям. Так, например, псалмы позднейшей эпохи и преимущественно Книги пророков часто желают и вымаливают бедствия и гибель другим народам, и нередко их главная сила заключена в ругательствах и проклятиях.
В этих только что упомянутых исходных пунктах содержатся элементы истинной красоты и истинного искусства, однако они
142
разбросаны, рассеяны и приведены лишь в ложное отношение, а не в подлинное тождество. Поэтому идеальное и абстрактное единство божественного начала нельзя воплотить в безусловно соразмерное в форме реальной индивидуальности явление искусства в то время, когда природа и человеческая индивидуальность со своей внутренней и внешней стороны обнаруживают себя либо совсем не наполненными абсолютным, либо не проникнутыми им положительно. Этот внешний характер того смысла, который становится существенным содержанием, и того определенного явления, в котором этот смысл должен получить воплощение, выступает, в-третьих, в сравнивающей деятельности искусства. В ней обе стороны стали совершенно самостоятельными, а удерживающим их единством является лишь невидимая сравнивающая субъективность.
Тем самым неудовлетворительность подобной внешней связи обнаруживается во все большей мере и для подлинного художественного воплощения и оказывается чем-то отрицательными поэтому подлежащим снятию. Если это снятие действительно совершается, то смысл не может больше оставаться лишь абстрактно идеальным, духовным в себе. Он становится определенным в себе и посредством самого себя внутренним началом, которое в своей конкретной целостности обладает в себе и другой стороной, а именно формой завершенного и определенного внутри себя явления; поэтому он означает и выражает во внешнем бытии как себе принадлежащем бытии лишь сам себя.
00.htm - glava34
1. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССИЧЕСКОГО КАК ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ДУХОВНОГО НАЧАЛА И ЕГО ПРИРОДНОГО ОБЛИКА
Эта внутри себя свободная целостность, остающаяся равной самой себе в том ее инобытии, к которому она определяет себя s дальнейшем, это внутреннее содержание, которое в своей объективности соотносится с самим собой,— есть в себе и для себя истинное, свободное и самостоятельное начало, воплощающее в своем существовании не что иное, как само себя. В царстве искусства это содержание присутствует не в своей бесконечной форме, не в качестве мышления самого себя как существенного, абсолютного начала, которое становится объективным в форме идеальной, всеобщей духовности и обнаруживается для себя самого,— оно присутствует еще в непосредственно природном в чувственном существовании. Но поскольку смысл самостоятелен, он должен в искусстве черпать свой облик из самого себя и в самом себе обладать принципом своего внешнего выявления. По-
143
этому, хотя он и должен возвратиться к природному началу, но в качестве господства над внешним. Поскольку последнее образует сторону целостности внутреннего содержания, оно уже не существует больше как чисто природная объективность, а, будучи лишено собственной самостоятельности, является лишь выражением духа.
Тем самым в этом взаимопроникновении непосредственно получают в самих себе свой смысл также и преобразованный духом природный облик и сфера внешнего вообще; они больше не указывают на этот смысл как на нечто отделенное от телесного явления и отличное от него. Это соразмерное духу отождествление духовного и природного не останавливается только на нейтрализации обеих противоположных сторон, а возвышает духовное до более высокой целостности, где оно сохраняет себя в своем инобытии, полагает природное идеальным, духовным образом, выражает себя в природном и в отношении к природному. На
таком единстве основывается понятие классической формы искусства.
a) Это тождество смысла и телесности необходимо понимать здесь следующим образом. Внутри осуществленного объединения нет разделения сторон, и поэтому внутреннее возвращается в себя из конкретной телесной действительности не как только внутренняя духовность, вследствие чего могло бы обнаружиться различие обеих сторон по отношению друг к другу. Так как объективное и внешнее, в котором дух делается наглядным, согласно своему понятию обладает всецело определенным и вместе с тем особенным характером, то свободный дух, которому искусство сообщает соразмерную ему реальность, может быть лишь определенной и самостоятельной внутри себя духовной индивидуальностью в ее природном облике. Поэтому человеческое составляет средоточие и содержание истинной красоты и искусства, но в качестве содержания — мы уже рассмотрели это в понятии идеала — оно взято в существенной форме конкретной индивидуальности и адекватного ей внешнего явления, которое в своей объективности очищено от недостатков сферы конечного.
b) В этом отношении сразу становится ясным, что классический способ изображения по своей сущности не может уже быть символическим в точном смысле этого слова, хотя некоторые символические элементы кое-где еще играют здесь второстепенную роль. Греческая мифология, например, поскольку ею овладевает искусство, принадлежит области классического идеала; постигнутая в своем существе, она не дает нам символической красоты, а формирует в соответствии с характером подлинного
144
художественного идеала, хотя, как мы увидим дальше, ей присущи некоторые остатки символизма.
Но если мы спросим, каков тот определенный облик, который способен образовать такое единство с духом, не становясь простым намеком на свое содержание, то из определения, гласящего, что в классическом искусстве форма и содержание должны быть адекватными друг другу, вытекает по отношению к образу требование целостности и самостоятельности внутри себя. Ибо для свободной самостоятельности целого — а в ней состоит основное определение классического искусства — необходимо, чтобы каждая из сторон, как духовное содержание, так и его внешнее явление, была внутри себя той целостностью, которая образует понятие целого. Лишь таким образом каждая из сторон тождественна β себе с другой, и ее отличие низводится до простого различия формы одного и того же начала. Благодаря этому целое выступает как свободное, поскольку его стороны оказываются адекватными, ибо оно воплощает себя в каждой из них и есть одно и то же в обеих.
Неудовлетворительный характер этого свободного удвоения целого внутри данного единства повлекло за собой в символическом искусстве несвободу содержания, а тем самым и формы. Дух не был ясен самому себе, и поэтому его внешняя реальность не обнаруживала себя как его собственная, им и в нем положенная в себе и для себя. И обратно, облик должен был обладать смыслом, но смысл заключался в нем только частично, только с какой-нибудь одной стороны. Поэтому внешнее существование, будучи внешним по отношению к внутреннему содержанию, сначала обнаруживало вместо подлежащего воплощению смысла лишь само себя, и требование, чтобы оно указывало на нечто иное, было бы насильственным. В этом искажении оно не оставалось самим собою и не становилось другим, то есть смыслом, а выявляло лишь загадочное соединение и смешение чужеродных элементов, или же в качестве чисто служебного украшения и внешнего убранства ему приходилось возвеличивать единый абсолютный смысл всех вещей, пока ему не пришлось отдаться чисто субъективному произволу сравнения с отдаленным от него и безразличным к нему смыслом.
Для разрыва этого несвободного отношения необходимо, чтобы облик в самом себе уже обладал своим смыслом, а именно духовным смыслом. Таким обликом является, по существу, человеческий облик, потому что только он один способен в чувственной форме обнаружить духовное начало. Человеческое выражение лица, глаз, позы, жеста материально и в этом смысле не
145
есть то, чем является дух. Однако внутри самой этой телесности человеческий облик не только жизнен и естествен, подобно животному, но и представляет собой телесность, отражающую в себе дух. В глазах мы видим душу человека, подобно тому как его духовный характер выражается во всем его внешнем виде. Поэтому если телесность принадлежит духу как его существование, то и дух есть принадлежащее телу внутреннее начало, а не чуждая внешнему облику внутренняя сущность, так что материальность не имеет в себе какого-либо иного значения и не указывает на него. Хотя человеческий облик имеет еще много черт общих с животными, однако все отличие человеческого тела от тела животного состоит в том, что человеческое тело по своему строению оказывается обиталищем духа и притом его единственно возможным природным существованием. Поэтому и дух непосредственно существует для других только в теле.
Здесь не место показывать необходимость этой связи и специального соответствия духа и тела; мы должны принять эту необходимость как предпосылку. В человеческом облике имеется и мертвенное, безобразное, то есть определенное другими влияниями и зависимостями. Но именно искусство должно устранить различие между чисто природным и духовным и придать внешней телесности прекрасный и полностью преобразованный, одушевленный и духовно живой облик.
Что касается стихии внешнего, то при этом способе воплощения нет уже больше ничего символического и устранено все, что является только исканием, стремлением, искажением и извращением. Ибо дух, когда он постигает себя как дух, есть нечто для себя завершенное и ясное; точно так же его связь с адекватным ему обликом, взятая в одном аспекте, есть нечто само по себе готовое и данное, не нуждающееся для своего осуществления в порождениях фантазии, противоположных действительности. Классическая форма искусства не является и лишь представленным в телесном облике поверхностным олицетворением, так как дух, поскольку он должен составлять содержание произведения искусства, вступает в сферу телесности и способен полностью отождествиться с ней. С этой точки зрения можно оценить также мнение, что искусство подражало облику человека. С обыденной точки зрения это восприятие и отображение является ϊθμ-το случайным; мы же, напротив, утверждаем, что искусство, достигшее своей зрелости, необходимо должно воплощаться в форме внешнего человеческого явления, ибо дух только в нем получает соразмерное ему существование в чувственной и природной стихии.
146
Так же как с человеческим телом и его выражением, обстоит .дело и с человеческими чувствами, влечениями, деяниями, событиями и поступками; их внешнее выражение в классическом искусстве также характеризуется не только естественной живостью, но и духовностью; внутреннее приведено в адекватное тождество с внешним.
с) Поскольку классическое искусство понимает свободную духовность как определенную индивидуальность и созерцает последнюю непосредственно в ее телесном явлении, то его часто упрекали в антропоморфизме. У греков, например, уже Ксенофан протестовал против такого представления о богах, говоря, что, если бы ваятелями были львы, они придали бы своим богам львиный облик. Сходный характер носит остроумная французская поговорка: если бог сотворил человека по своему образу, то человек воздал ему тем, что создал бога по своему образу и подобию. Если иметь в виду следующую, романтическую форму искусства, то мы должны заметить, что содержание классической красоты в искусстве еще неудовлетворительно, как неудовлетворительна и сама религия искусства. Недостаток этой формы искусства столь мало заключается в антропоморфизме как таковом, что следует утверждать противоположное: классическое искусство достаточно антропоморфично для искусства, но мало антропоморфично для высшей религии. Христианство провело этот антропоморфизм гораздо дальше, ибо, согласно христианскому учению, бог есть не только индивид, изображенный в облике человека, но и действительный единичный индивид, всецело действительный человек, вступивший во все условия существования,— а не только идеал красоты и искусства, сформированный по образу человека.
Если абсолютное представлять только как абстрактную, внутри себя не различенную сущность, то тогда, разумеется, отпадает любой вид формообразования. Но чтобы бог существовал как дух, требуется, чтобы он явился как человек, как единичный субъект,— не как идеальное человеческое бытие, а как реальный переход в бренную и внешнюю сферу непосредственного и природного существования. В христианском воззрении и заключается то бесконечное движение, которое доходит до крайней противоположности и, только снимая это обособление, возвращается к абсолютному единству. В этот момент обособления входит и очеловечение бога, когда он в качестве действительной единичной субъективности вступает в противоположность единству и субстанции как таковым, проходит в этом временном и пространственном бытии через чувство, сознание, боль раздвоения, чтобы в этом вновь разрешаемом противоречии достигнуть бесконечного примирения.
147
Эта переходная стадия заключена, согласно христианскому представлению, в природе самого бога. Тем самым мы должны понимать бога как абсолютно свободную духовность, в которой хотя и содержится момент природности и непосредственной единичности, но он равным образом должен быть снят.
В классическом же искусстве чувственность не умерщвлена и не отмерла, но и не воскресла к абсолютной духовности. Поэтому классическое искусство и его прекрасная религия не удовлетворяют глубин духа. Сколь конкретным оно ни было бы в самом себе, оно все же остается абстрактным для духа, потому что классическое искусство имеет своей стихией не движение и приобретенное в раздвоении примирение указанной бесконечной субъективности, а лишь безмятежную гармонию определенной свободной индивидуальности в ее адекватном существовании, то спокойствие в своей реальности, то счастье, то удовлетворение и величие в самом себе, ту вечную ясность и блаженство, которые даже в несчастье и страдании не теряют уверенного спокойствия. Классическое искусство не дошло до глубин противоположности, заключенной в абсолютном, и не примирило ее. Но поэтому оно не знает сторон, связанных с этой противоположностью,— внутреннего ожесточения субъекта как абстрактной личности против нравственного и абсолютного, не знает греха и зла, равно как и замкнутости субъективного внутреннего переживания, разорванности, отсутствия опоры и вообще всего круга раздвоения, которое влечет за собой как с чувственной, так и с духовной стороны некрасивое, безобразное, отвратительное. Классическое искусство не переступает чистой почвы подлинного идеала.
00.htm - glava35
2. ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК РЕАЛЬНОЕ БЫТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ИДЕАЛА
Едва ли надо указывать, что историческое осуществление классического мы должны искать у греков. Классическая красота с ее бесконечным объемом содержания, материала и формы была подарком, выпавшим на долю греческого народа, и мы должны почитать этот народ за то, что он создал искусство в его величайшей жизненности. Непосредственная действительность греков была счастливой серединой между самосознательной субъективной свободой и нравственной субстанцией. Они не задержались на ступени несвободного восточного единства, имевшего своим результатом религиозный и политический деспотизм, когда субъект безраздельно исчезает в единой всеобщей субстанции или в какой-нибудь особенной ее 'стороне, ибо он не обладает148
никакими правами как личность и потому лишен всякой опоры. Вместе с тем они не перешли к тому субъективному углублению. в котором единичный субъект отделяется от целого и всеобщего, чтобы существовать для себя согласно своей внутренней жизни. и лишь посредством высшего возвращения во внутреннюю целостность чисто духовного мира достигает воссоединения с субстанциальным и существенным.
В греческой нравственной жизни индивид был самостоятелен и внутренне свободен, но не отрывался от всеобщих интересов действительного государства и позитивной имманентности духовной свободы во временном существовании. Всеобщее содержание нравственности и абстрактная свобода личности во внутреннем и внешнем пребывают, согласно принципу греческой жизни, в нерушимой гармонии, и в то время когда в действительной жизни этот принцип проявлялся в еще не тронутой чистоте, самостоятельность политической стороны не отличалась от субъективной моральности. Субстанция государственной жизни была столь же погружена в индивидов, как и последние искали свою собственную свободу только во всеобщих задачах целого.
Прекрасное чувство этой счастливой гармонии, ее дух и смысл проникают все те произведения, в которых греческая свобода осознала саму себя и представила себе свою сущность. Поэтому ее миросозерцание является серединой, в которой красота начинает свою истинную жизнь и создает свое светлое царство. Это середина свободной жизненности, существующая не только непосредственно и природно, а порождаемая духовным созерцанием, преображаемая искусством,— середина между образованием рефлексии и отсутствием всякой рефлексии, такое миросозерцание. которое не изолирует индивида, но и не в силах возвратить его из отрицательности, боли, несчастья к положительному единству и примирению,— середина, которая, как и жизнь вообще, является вместе с тем лишь переходной стадией, хотя на этой переходной стадии она поднимается на вершину красоты и в форме своей пластической индивидуальности так духовно конкретна и богата, что все звуки перекликаются в ней; даже то, что с ее точки зрения является прошлым, сохраняется в ней хотя и не в качестве абсолютного и безусловного, но как побочная сторона и основа.
В этом смысле греческий народ осознал в лице богов в чувственной, созерцающей, представляющей форме свой дух и дал этим богам посредством искусства существование, совершенно соразмерное истинному содержанию. Благодаря этому соответствию, заключенному в понятии как греческого искусства, так и греческой мифологии, искусство в Греции было наивысшим выра-
149
жением абсолютного. Греческая религия — это религия самого искусства, тогда как позднейшее романтическое искусство хотя и является искусством, однако уже указывает на более высокую форму сознания, чем та, которую в состоянии дать искусство.
00.htm - glava36
3. ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ХУДОЖНИКА В КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ИСКУССТВА
Если мы установили, что с одной стороны, что содержанием классического искусства служит свободная в себе индивидуальность, а с другой стороны, требовали такой же свободы и для формы, то это уже означает, что полное слияние обоих моментов, как бы оно ни представлялось непосредственным, не может быть первоначальным и природным единством, а должно оказаться созданным сочетанием, каким его осуществил субъективный дух. Классическое искусство, поскольку его содержание и форма есть нечто свободное, возникает лишь из свободы ясного самому себе духа. Благодаря этому и художник занимает положение, отличное от прежнего. Его работа является свободным деянием разумного человека, который знает, чего он хочет, и может осуществить то, чего он хочет. Для него перестает быть неясным смысл и субстанциальное содержание, которое он задумал выявить для созерцания, не встречает он и технических трудностей при осуществлении своего замысла.
Если мы бросим более пристальный взгляд на это изменившееся положение художника, то увидим, что его свобода выражается: а) относительно содержания в том, что он не ищет его с тем беспокойством, которое характерно для символической ступени. Символическое искусство остается в плену у своей работы, производя и уясняя себе свое содержание. Само это содержание есть только, с одной стороны, сущность в непосредственной форме природности, а с другой,— внутренняя абстракция всеобщего, -единого, изменения, смены, становления, возникновения и нового исчезновения. Но не сразу удается найти соразмерное. Поэтому изображения символического искусства, которые должны были быть выявлением содержания, остаются загадками и задачами, свидетельствуя лишь о борьбе за ясность и о стремлении духа, продолжающего неустанно выдумывать. В противоположность этому смутному исканию для классического художника содержание должно существовать уже готовым, данным, так что оно уже внутри себя в существенном содержании определено для фантазии как вера, народное верование или как происшедшее событие, •
150
о котором из поколения в поколение сообщают сказания и предания.
К этому объективно установленному материалу художник относится тем более свободно, что он не вступает сам в процесс созидания и порождения и не останавливается в поисках подходящего для искусства подлинного смысла; ему предлежит в себе и для себя сущее содержание, которое он заимствует и свободно воспроизводит. Греческие художники получили свой материал из народной религии, в которой уже начало преобразовываться то, что перешло к грекам от Востока. Фидий взял своего Зевса на Гомера, и трагики не выдумали основы того содержания, которое они воплощали. Точно так же и христианские художники — Данте, Рафаэль — изображали лишь то, что уже было налицо в вероучениях и религиозных представлениях. Сходным образом обстоит дело и в искусстве возвышенного, взятом с одной из его сторон, однако с тем различием, что здесь отношение к содержанию как к единой субстанции не позволяет субъективности получить подобающее ей значение и достигнуть самостоятельной завершенности. Наоборот, сравнивающая форма искусства проистекает из выбора смысла и употребляемых образов; однако этот выбор предоставлен лишь субъективному произволу и лишен субстанциальной индивидуальности, которая составляет понятие классического искусства и поэтому должна содержаться в порождающем субъекте.
Ь) Но чем в большей степени художнику предлежит в качестве существующего само по себе свободное содержание — в народной вере, сказании и прочей действительности, тем больше он сосредоточивается на деятельности, которая создает внешнее художественное воплощение, совпадающее с таким содержанием. В то время как символическое искусство разбрасывается на тысячи форм, не будучи в состоянии найти подлинно адекватную соразмерную форму, и с необузданным воображением хватается без всякой меры и определения за вое, чтобы приспособить к искомому смыслу чуждые формы, классический художник и здесь замкнут в себе ,; ограничен. Если дано содержание, то свободная форма также о щ. оделена здесь самим содержанием а сама по себе принадлежи г этому содержанию, так что кажется, будто художник лишь выполняет то, что уже готово само по себе согласно своему понятию. В то время как символический художник стремится придать смыслу форму или форме смысл, классический художник преобразовывает смысл в форму, освобождая уже имеющиеся внешние явления от побочных им черт. Но хотя в этой деятельности и нет его голого произвола, он не-
151
только подражает или придерживается застывшего типа, но вместе с тем развивает целое. Искусство, которое сначала должно искать и изобретать свое истинное содержание, еще пренебрегает формой. Там же, где создание формы является существенным интересом и настоящей задачей, вместе с успехами изображения незаметно движется вперед и содержание, потому что вообще форма и содержание, как мы видели до сих пор, идут рука об руку в своем совершенствовании. В этом отношении классический художник работает также и для существующего мира религии; данные религией материалы и мифологические представления он развивает в свободной игре искусства.
с) То же самое касается и технической стороны. Она также уже должна быть готова для классического художника; чувственный материал, над которым художник работает, должен быть лишен неподатливости и жесткости и непосредственно послушен замыслам художника, чтобы содержание, согласно понятию классического, могло свободно и без помех просвечивать сквозь эту внешнюю телесность. Для классического искусства требуется высокая ступень технической сноровки, подчинившей себе чувственный материал и покорившей его. Такое техническое совершенство, если оно непосредственно должно выполнять все то, что от него потребует дух и его замыслы, предполагает полное развитие ремесленного начала в искусстве, а это осуществляется главным образом внутри подробно разработанной религии. Религиозное воззрение, например египетское, изобретает для своего выражения определенные внешние образы, идолы, колоссальные конструкции, тип которых остается прочно установленным; при этом традиционном единообразии форм и фигур предоставляется широкий простор развитию постоянно возрастающей технической сноровки. Это ремесленное начало должно уже быть налицо в дурном и уродливом, прежде чем гений классической красоты преобразует механическую сноровку в техническое совершенство. Ибо только тогда, когда механическое, взятое само по себе, уже не доставляет трудностей, искусство может свободно приступить к образованию формы. Действительное выполнение является вместе с тем и дальнейшим совершенствованием, находящимся в тесной связи с прогрессом содержания и формы.
00.htm - glava37
4. ДЕЛЕНИЕ
Что же касается деления классического искусства, то в более общем смысле обычно называют классическим всякое совершенное художественное произведение, каков бы ни был его ха-
152
рактер — символический или романтический. И мы употребляли это слово в смысле художественного совершенства, однако с тем отличием, что это совершенство обусловлено полным взаимопроникновением внутренней свободной индивидуальности и того внешнего существования, в котором и в качестве которого оно выступает перед нами. Поэтому мы определенно отличали классическую форму искусства и ее совершенство от символической и романтической форм, красота которых и по содержанию и по форме носит совершенно иной характер. Мы не имеем здесь дело ни с классическим, взятым в его обыденном, неопределенном смысле, ни с теми особенными видами искусства, в которых воплощается классический идеал, как, например, скульптура, эпос, определенные виды лирической поэзии и специфические формы трагедии и комедии. Эти особенные виды искусства, хотя в них и запечатлевается классическое искусство, могут быть рассмотрены только в третьей части, где мы будем говорить о развитии отдельных искусств и их родов. Здесь же нам предстоит подробно рассмотреть лишь классическое в установленном нами смысле слова и поэтому в качестве основания деления мы можем принять только те ступени развития, которые проистекают из самого этого понятия классического идеала. Существенными моментами этого развития являются следующие.
Первый пункт, на который мы должны обратить наше внимание, заключается в том, что классическую форму искусства следует понимать, в отличие от символической, не как непосредственно первое, как начало искусства, а, напротив, как результат. Мы вывели ее из развития символических способов изображения, составляющих ее предпосылку. Основным пунктом. вокруг которого вращалось движение, была конкретизация содержания вокруг ясной самосознательной внутри себя индивидуальности. Последняя не может пользоваться для своего выражения ни чисто природным обликом — заимствован ли он из области стихий или из животного царства,— ни смешанным с ним олицетворением и человеческим обликом, но обнаруживается в жизненности человеческого тела, насквозь проникнутого духом. Сущность свободы состоит в том, что она благодаря самой себе должна быть тем, чем она является; поэтому то, что сначала представлялось как предпосылка и условие возникновения, лежащее за пределами классического идеала, должно войти теперь в собственный круг последнего, чтобы преодолением всего неподходящего и отрицательного для идеала реально выявить истинное содержание и подлинную форму. Этот процесс формирования, посредством которого классическая красота порождает
153
себя из самой себя как по форме, так и по содержанию, является поэтому тем пунктом, из которого мы должны исходить и который мы должны рассмотреть в первой главе.
Во второй главе, рассмотрев это развитие, мы достигаем истинного идеала классической формы искусства. В центре здесь стоит воплощенный искусством новый прекрасный мир греческих богов, который следует подробно рассмотреть и завершить как со стороны духовной индивидуальности, так и со стороны непосредственно связанной с ней телесной формы.
В-третьих, в понятии классического искусства содержится помимо самостоятельного становления его красоты также и его разложение, которое ведет нас к следующей области, к романтической форме искусства. Боги и человеческие индивиды классической красоты не только возникают, но и погибают для художественного сознания. Это сознание или обращается против оттесненной на задний план природной стороны, внутри которой греческое искусство как раз поднялось до совершенной красоты, или обращается к дурной, пошлой действительности, лишенной божественного начала, чтобы выявить ее ложный и отрицательный характер. На этой стадии разложения, художественная деятельность которой — предмет третьей главы, разделяются моменты, которые, вливаясь в гармонию непосредственно прекрасного, составляли истинно классический идеал. Внутреннее само по себе находится на одной стороне, а отделившееся от него внешнее существование — на другой стороне; возвратившаяся в себя субъективность, которая уже не может найти в прошлых формах соразмерную 'ей действительность, должна наполнить себя содержанием нового духовного мира абсолютной свободы и бесконечности и обратиться к новым формам выражения для этого углубленного содержания.
154
Первая глава
ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
В понятии свободного духа непосредственно содержится момент ухода в себя, возвращения к себе, бытия для самого себя и существования, хотя это углубление в царство внутреннего,. как мы указали ранее, не должно переходить ни к отрицательному утверждению субъектом самостоятельности внутри себя, противостоящей всему субстанциальному в духе и устойчивому в природе, ни к тому абсолютному примирению, которое составляет свободу истинно бесконечной субъективности. Но со свободой духа, в какой бы форме она ни выступала, связана вообще снятие простой природности как некоего иного по отношению к духу. Дух должен сначала возвратиться из природы в себя, возвыситься над ней, преодолеть ее, прежде чем он будет в состоянии беспрепятственно царить в ней как в некоей податливой стихии и преобразовывать ее в положительное существование собственной свободы.
Но если мы спросим, каков тот более определенный объект, снимая который дух приобретает в классическом искусственную самостоятельность, то этим объектом служит не природа как таковая, а природа, уже сама пронизанная духовным смыслом, а именно символическая форма искусства. Последняя пользовалась для выражения абсолютного непосредственными образованиями природы, причем художественное сознание либо видело в животных и т. д. присутствующих богов, либо же ложным образом тщетно стремилось к истинному единству духовного и природного. Снимая и преобразовывая это ложное объединение, идеал впервые порождает себя как идеал, и поэтому он должен развить в себе как принадлежащий ему момент то, что ему надлежит преодолеть.
Это дает нам возможность решить вопрос, заимствовали ли греки свою религию от других народов или нет. Мы уже виде-
155
ли, что подчиненные точки зрения необходимы, согласно понятию, как предпосылка классического идеала. Эти точки зрения, поскольку они действительно появляются и развертываются во времени, представляют собой по отношению к высшим формам, стремящимся выработать себя из них, нечто существующее, из которого исходит развивающееся искусство. Правда, что касается греческой мифологии, это не вполне доказано историческими свидетельствами. Но греческий дух относится к этим предпосылкам творчески, отрицательно преобразовывая их. Если бы это было иначе, то представления и образы должны были бы оставаться теми, что и раньше. Хотя Геродот и говорит о Гомере и Гесиоде в ранее приведенном месте, что они создали для греков их богов, но об отдельных богах он определенно утверждает, что они были египетскими, и т. д. Поэтическое создание не исключает поэтому заимствования извне, а лишь указывает на существенное его преобразование. Ибо мифологическими представлениями греки обладали уже до того времени, когда, согласно Геродоту, жили Гомер и Гесиод.
Если мы спросим, далее, каково это необходимое преобразование материала, принадлежащего идеалу, но пока что не адекватного ему, то мы найдем наивное представление об этом в самом содержании мифологии. Главное деяние греческих богов состоит в том, чтобы породить себя и определиться из предшествовавшего, которое принадлежит истории возникновения и развития их собственного рода. Поскольку боги должны были существовать как духовные индивиды, обладающие телесной формой, постольку для этого деяния, с одной стороны, требовалось, чтобы дух не созерцал свою сущность исключительно в живом и животном, а рассматривал живое как нечто недостойное его, как свое несчастье и свою смерть; с другой стороны, он должен был одержать победу над стихийным началом в природе и своим беспорядочным воплощением в нем. И наоборот, для идеала классических богов столь же необходимо, чтобы он не только противостоял в своей абстрактной конечной замкнутости природе и ее стихийным силам подобно индивидуальному духу, а обладал бы в самом себе согласно своему понятию стихиями всеобщей жизни природы в качестве момента, составляющего жизнь духа. Подобно тому, как боги в себе, до существу, всеобщи и в этой всеобщности представляют собой всецело определенных индивидов, так и со стороны своей телесности они должны иметь в себе природное начало в качестве сущест венной, далеко простирающейся силы природы и деятельности, тесно переплетенной с духовным.
156
В этом отношении мы можем расчленить процесс образования классической формы искусства следующим образом, Первый, основной пункт касается деградации животного элемента и устранения его из свободной, чистой красоты.
Вторая, более важная сторона относится к стихийным силам природы, которые сначала еще представляются в качестве богов; только благодаря победе над ними может достигнуть бесспорного господства подлинный род богов. Этот пункт относится к борьбе и войне между старыми и новыми богами.
В-третьих, это отрицательное направление после достижения духом своего свободного права снова представляется позитивным; стихийная природа составляет проникнутую индивидуальной духовностью положительную сторону богов, снова окружающих себя животными, которые служат лишь атрибутом и внешним знаком.
Исходя из этих точек зрения, мы попытаемся установить теперь более определенные черты предмета, подлежащего нашему рассмотрению.
00.htm - glava38
1. ДЕГРАДАЦИЯ ЖИВОТНОГО ЭЛЕМЕНТА
У индийцев, египтян и вообще у азиатов животные, или по крайней мере определенные породы животных, признаются священными и почитаются, потому что в них само божественное должно явиться предметом созерцания. Животная форма составляет поэтому один из главных элементов их художественных изображений, хотя в дальнейшем развитии она применяется лишь в качестве символа и в связи с человеческими формами; лишь впоследствии человеческое, и только человеческое, осознается как единственно истинное. Благодаря самосознанию духовного исчезает почтение, внушаемое темной, неопределенной сокровенностью животной жизни. Эта перемена наблюдается уже у древних евреев, ибо они, как мы заметили это выше, не рассматривают природу ни как символ, ни как воплощение бога и приписывают внешним предметам лишь ту силу и жизненность, которые им в самом деле присущи. Однако и у них остается еще, пусть даже случайно, благоговение перед жизненностью как таковой; так, например, Моисей запрещает вкушать кровь животных, потому что в крови пребывает жизнь. Но человек должен иметь право есть все, что ему полезно. Ближайший шаг, на который мы должны указать, переходя к классическому искусству, состоит в том, чтобы лишить животных высокого достоинства и положения и сделать само это унижение
157
содержанием религиозных представлении и художественных созданий. Из разнообразия относящихся сюда примеров мы выберем лишь некоторые.
а) Принесение в жертву животных
У греков некоторые животные обладают преимуществом перед другими — например, у Гомера змея еще является излюбленным гением при жертвоприношениях («Илиада», II, 308; XII,. 208) и одному богу приносится в жертву преимущественно данный вид животных, а другому — другой. Древние греки принимают во внимание, перебежал ли заяц дорогу, пролетели да птицы справа или слева, они исследуют в целях пророческого истолкования внутренности животных. И здесь имеется еще известного рода поклонение животным, так как боги в них дают знать. о себе и говорят людям посредством предзнаменований. Однако» по существу, это лишь совершенно единичные откровения. Конечно, это суеверие, но лишь мимолетное указание божественного.
Важное значение имеет принесение в жертву животных и поедание жертв. В противоположность этому у индийцев священных животных сохраняют и за ними ухаживают, а у египтян даже после смерти их предохраняют от разрушения. Греки считали акт жертвоприношения священным. Жертвуя, человек показывает, что он готов отказаться от предмета, посвященного богам, и пользования им. Для греков характерно то, что у них «приносить жертву» означало вместе с тем устроить пир («Одиссея», XIV, 414; XXIV, 215), так как они предназначали для богов только одну, и притом несъедобную часть животных, мясо же они оставляли для себя и съедали. В связи с этим обычаем в Греции возник один миф. Древние греки приносили жертвы богам с величайшей торжественностью и предоставляли жертвенному огню пожирать целиком животных. Бедняки, однако, не были в состоянии делать такие большие затраты. Тогда Прометей пытается добиться у Зевса позволения, чтобы бедняки приносили в жертву только одну часть животного, а другую потребляли сами. Прометей режет двух быков, сжигает их печень, все же кости завертывает в одну шкуру, а мясо в другую и предоставляет Юпитеру выбор. Обманутый Зевс выбрал кости, потому что они были больше по объему, и таким образом мясо осталось человеку. Поэтому греки, съедая мясо жертвенных животных, сжигали остатки, являвшиеся долей богов, в жертвенном пламени.
158
Зевс лишил людей огня, так как без огня доставшееся на их долю мясо не приносило бы им никакой пользы. Это ему мало помогло: Прометей похитил огонь и от радости скорее летел, чем бежал. Поэтому, как говорит сказание, еще и теперь люди, приносящие радостную весть, бегут быстро. Так греки направляли свое внимание на каждый успех человеческой культуры и, облекая его в форму мифа, сохраняли для сознания.
Ь) Охота
К этому примыкают — в качестве сходного примера дальнейшей деградации животного элемента — воспоминания о знаменитых охотах, которые приписывались героям; о них сохранялась благодарная память. Здесь умерщвление животных — например, удавление немейского льва Гераклом, умерщвление лернейской змеи, охота на каледонского вепря и т. д.— признается высоким подвигом, благодаря которому герои достигают ранга богов, в то время как индийцы наказывали смертью умерщвление определенных животных. Разумеется, в основе таких подвигов лежат и другие символы — например, солнце и его движение в мифе о Геркулесе. Такие героические поступки доставляют нам существенный материал для символических истолкований. Однако эти мифы понимаются вместе с тем в определенном смысле благодетельных охот, π так они осознавались греками.
По аналогии мы должны здесь вновь вспомнить некоторые эзоповские басни, в особенности басню о навозном жуке. Навозный жук, этот древний египетский символ —'в навозном шаре египтяне или толкователи религиозных представлений видели мировой шар,— встречается в баснях Эзопа еще рядом с Юпитером, и в той важной связи, что орел не уважает покровительства, оказываемого жуком зайцу; Аристофан же, напротив, сделал жука предметом издевок.
с) Превращения
В-третьих, деградация животного элемента непосредственно выражается в рассказах о многочисленных превращениях, как их изображает Овидий, делая это привлекательно, остроумно, проявляя тонкость чувства и понимания, но также и болтливость. 0·н но признает в мифах глубокого смысла, не видит того великого внутреннего духа, который в них господствует, а предлагает нам их как чисто мифологические безделки и внешние события. В действительности же они не лишены глубочайшего смысла и
159
мы поэтому хотим еще раз упомянуть о них. Большей частью эти отдельные рассказы по своему материалу являются причудливыми и варварскими не из-за испорченности культуры, но, как в «Песне о Нибелунгах», из-за испорченности еще грубого характера. До тринадцатой книги эти рассказы по своему содержанию древнее гомеровских; кроме того, к ним примешаны космогония и чуждые элементы финикийской, фригийской, египетской символики, которые трактуются на человеческий лад, однако так, что нелепая основа их все же остается. Напротив, в тех «Метаморфозах», которые заимствуют свой материал из далеких времен, излагая истории значительно более позднего времени, чем троянская война, некстати упоминаются имена Аякса и Энея.
а. В общем, метаморфозы у Овидия можно рассматривать как противоположность египетским взглядам на животных и поклонению им. Метаморфозы, рассматриваемые с нравственной стороны духа, заключают в себе отрицательное отношение к природе: животные и неорганические образования делаются формой унижения человека. Поэтому если у египтян боги стихийной природы возвышаются до уровня животных и наделяются жизнью, то здесь, как мы уже заметили выше, наоборот, природные существа выступают перед нами как наказание за какие-нибудь легкие и тяжелые проступки и чудовищные преступления; они рассматриваются как существование небожественного, несчастливого, как образ скорби, которого природа человеческая уже не может больше выдержать. Эти метаморфозы нельзя толковать так же, как переселение душ в египетском смысле, ибо последнее не связано с виной; превращение человека в животное расценивалось египтянами как возвышение.
В целом «Метаморфозы» не представляют собой завершенного цикла мифов, как бы ни были различны предметы природы. в которые заточено духовное. Несколько примеров пояснят сказанное.
У египтян большую роль играет волк; в этом образе, например, Осирис появляется своему сыну Гору как спасительный защитник во время его борьбы с Тифоном; на некоторых египетских монетах он изображен помогающим Гору. Соединение волка и бога солнца вообще уходит в глубокую древность. Наоборот, в «Метаморфозах» Овидия превращение Ликаона в волка изображается как наказание за неуважение к богам. После победы над гигантами, гласит это место («Метаморфозы», I, ст. 150—248), и низвержения их тел земля, согретая обильно пролитой кровью своих сыновей, одушевила горячую кровь и, дабы не осталось
160
следа дикого племени, создала род людской. Однако и это потомство презирало богов, было склонно к свирепому убийству и насилию. Тогда Юпитер созывает богов, чтобы погубить этот смертный род. Он сообщает, как его, властелина над молниями и богами, хитро обманул Ликаон. Когда до ушей Юпитера дошел слух о мерзком поведении людей, он спустился с Олимпа и прибыл в Аркадию. Я дал знак,— рассказывает он,— что приблизился бог, и народ начал молиться. Но Ликаон сначала издевается над благочестивой молитвой, а затем восклицает: «Хочу испытать, бог ли это или смертный, и несомненной будет правда». Он готовился,— продолжает Юпитер,— убить меня ночью, во сне; ему по душе такой способ испытать правду. И, не довольствуясь этим, он пронзает мечом горло заложнице, происходящей из молосского племени, а затем варит, жарит на огне еще полуживые члены и предлагает мне их в пищу. Я превратил его дом в пепел своим мстительным пламенем. Ликаон бежит с испугом оттуда п, когда он достигает безмолвных полей, воет и тщетно пытается говорить. С бешенством на устах он удовлетворяет жажду привычного для него убийства, умерщвляя домашний скот, и радуется еще и теперь, когда ему удается пролить кровь; одежды его превратились в шерсть, руки — в лапы, он становится волком, сохраняя признаки прежнего облика.
О подобной же тяжести совершенного преступления повествует рассказ о Прокне, превращенной в ласточку. Когда Прокна просит Терся, своего супруга («Метаморфозы», VI, ст. 440— 676), чтобы он, если он действительно к ней благоволит, позволил ей поехать повидаться с сестрой или дал сестре возможность приехать к ней, Терей спешит снарядить в плавание корабли и на веслах и парусах быстро достигает гавани Пирея. Но, едва взглянув на Филомелу, он возгорается к ней преступной любовью. При их отъезде Пандион, отец Филомелы, заклинает Терея охранять ее с отеческой любовью и как можно скорее вернуть ему милую усладу его старости. Но когда кончилось путешествие, варвар заточает побледневшую, дрожащую от страха и ждущую всяких бед Филомелу, спрашивающую со слезами, где сестра, и насильственно делает ее наложницей, продолжая быть супругом и ее сестры. Пылая гневом, Филомела угрожает, что отбросит всякий стыд и сама откроет его преступление. Тогда раздраженный Терей извлекает меч, связывает ее и отрезает ей язык, супругу же лицемерно извещает о смерти сестры. Плачущая Прокна срывает с плеч роскошные одеяния и надевает траурные одежды, воздвигает пустую гробницу и оплакивает судьбу сестры не так, как следовало бы ее оплакивать. Что же делает
161
Филомела? Взаперти, лишенная речи, голоса, она пускается на хитрость. Пурпурными нитками она вплетает в белую ткань известие о совершенном преступлении и тайком посылает платье Прокне. Супруга Терея читает жалостное сообщение сестры; она ничего не говорит, не плачет, но ' вся живет мыслью об отмщении. Наступило время празднества Вакха. Гонимая фуриями муки, она проникает к сестре, вырывает ее из темницы и уводит с собою. Здесь, в собственном доме, когда она еще не решила, какою страшною местью должна отплатить Терею, к матери приходит сын Итис. Прокна дико смотрит на него: как он похож на отца! Она не говорит больше ни слова и свершает скорбное деяние. Сестры убивают мальчика и потчуют им Терея, который пьет свою собственную кровь. Ему захотелось увидеть сына. Прокна же ему говорит: ты носишь в себе то, что ты требуешь. Когда же он стал озираться вокруг и искать, где его сын, и снова начал спрашивать и звать сына, Фидомела поднесла к его лицу окровавленную голову. С громким криком ужаса он отталкивает стол, плачет, называет себя гробом сына, преследует с обнаженным мечом дочерей Пандиона. Но, покрывшись перьями, они улетают, одна в лес, а другая на крышу. Терей, гонимый болью и жаждой наказания, также превращается в птицу, у которой на макушке торчит хохолок и клюв непомерно выдвинут вперед; птица эта называется удодом.
Другие превращения произошли из-за меньшей вины. Так, например, Гигн превращается в лебедя, Дафна, первая любовь Аполлона («Метаморфозы», I, ст. 451—567),—в лавр, Клития— в гелиотроп, Нарцисс, самодовольно презирающий девушек, видит свое отображение, а Библида («Метаморфозы», IX, ст. 454— 664), любившая своего брата Кавна, после того как последний отверг ее любовь, превращается в источник, еще и доныне носящий ее имя и протекающий под темным дубом.
Мы, однако, не можем вдаваться в дальнейшие подробности, и я поэтому упомяну только о превращении Пиэрид, которые были, согласно Овидию, дочерьми Пиэра («Метаморфозы», V, ст. 302) и вызывали муз на состязание. Для нас важно лишь различие между тем, что пели Пеэриды и музы. Первые ст. 319— 331), прославляя битвы богов, незаслуженно возвеличивают гигантов и умаляют подвиги великих богов. Посланный из глубины земли Тифей навел на небожителей ужас; они все убежали и не останавливались до тех пор, пока земля египетская не приняла усталых беглецов. Но и туда, рассказывают Пиэриды, прибыл Тифей, и высокие боги окрылись, приняв обманчивые облики. Вождем стада, гласит песнь Пиэрид, был Юпитер, поэтому
162
еще и теперь ливийский Амон носит крутые рога. Аполлон Делосский принял образ ворона, отпрыск Семелы превратился в козла, сестра Феба — в кошку, Юнона — в белоснежную корову, Венера скрылась в рыбе, а Меркурий — в перьях ибиса.
Здесь образ животного рассматривается как нечто позорное для богов, и хотя они подвергаются превращению не в наказание за вину или преступление, но все же причиной их добровольного превращения является трусость. Напротив, Каллиопа воспевает благодеяния и случаи из жизни Цереры. Церера, говорит она, первая взрыхлила нивы кривым лемехом плуга. Она первая дала плоды и плодоносные средства питания пашням, она первая дала законы; все мы — дары Цереры. Ее я должна прославлять, если бы только могла пропеть так, чтобы мои песни были достойны богини. Богиня же несомненно достойна песен. Когда она кончила, Пиэриды стали приписывать себе победу в состязании. Однако, рассказывает Овидий (ст. 670), в то время, когда они пытаются говорить и с громким криком пускать в ход дерзкие руки, они видят, что у них из ногтей растут перья, их руки покрываются пухом. Каждая видит у другой, что их рот превращается в твердый клюв. Желая оплакать себя, они уносятся на крыльях и реют в воздухе лесными крикуньями — сороками. Еще и поныне, прибавляет Овидий, у них сохранилось прежнее пустозвонство, пронзительная трескотня и чрезмерная страсть к болтовне.
И здесь превращение изображается опять-таки как наказание и притом, как это происходит во многих подобных рассказах, как наказание за нечестивое отношение к богам.
β. Что же касается других известных нам превращений людей и богов в животных, то хотя в их основании не лежит прямо проступок людей, подвергшихся превращению — так, например, Цирцея обладала способностью превращать людей в животных,— все же животное состояние представляется несчастьем и унижением, которое не приносит чести и тому, кто в своих целях осуществляет это превращение. Цирцея была лишь подчиненной, темной богиней, ее могущество изображается только как волшебство. И Меркурий приходит на помощь Улиссу, когда последний готовится освободить заколдованных спутников.
Сходны с этим и многообразные облики Зевса, который превращается ради Европы в быка, приближается к Леде в виде лебедя и оплодотворяет Данаю, приняв вид золотого дождя. Это всегда делается им с целью обмана и для достижения некрасивых — не духовных, а обусловленных природой — целей, которые и навлекают на него обоснованную ревность Юноны. Пред-
163
ставление о всеобщей порождающей жизни природы, составляющее основное определение многих древних мифологий, переложено здесь поэтической фантазией в отдельные рассказы о распутстве отца богов и людей. Но он совершает их не в своем собственном облике и большей частью также и не в человеческом, а главным образом в животном или каком-нибудь другом образе природы.
γ. К этому примыкают еще те промежуточные образы полулюдей-полуживотных, которые не исключены из греческого искусства, однако содержат животный элемент как нечто унизительное и недуховное. У египтян, например, козлу Мендесу поклонялись как богу (Геродот, кн. III, гл. 46), причем, по мнению Яблонского (Фридрих Крейцер, «Символика и мифология древних народов, особенно греков», т. I, стр. 477), это имело смысл поклонения порождающей силе природы, по преимуществу солнцу, и приобрело постыдный характер: женщины, как на это намекает Пиндар, сами отдавались козлам. Напротив, у греков Пан—наводящее ужас присутствие божества. Позднее — у фавнов, сатиров, панов — козлиный образ сказывается только во второстепенных деталях — в ногах, а у самых красивых только в заостренных ушах и маленьких рожках. Другое же в облике имеет человеческие черты, а животные черты сведены к незначительным остаткам.
Однако фавны у греков не считались высшими божествами и духовными силами; их характер заключался в одном лишь чувственном, распущенном веселье. Правда, их изображают и с более глубоким выражением,— как, например, прекрасный мюнхенский фавн, держащий на руках молодого Вакха и глядящий на него с улыбкой, полной величайшей любви и ласки. Он не отец Вакха, а его воспитатель; только ему и приписывается прекрасное чувство радости, доставляемой невинностью ребенка, чувство, которое в качестве материнского чувства Марии к Христу поднято в романтическом искусстве до уровня возвышенного духовного предмета. У греков же эта прелестная любовь принадлежит подчиненному кругу фавнов, обозначая, что она ведет свое происхождение из животной, природной области, и поэтому ею можно наделить эту сферу богов.
Сходными промежуточными образами являются и кентавры, в которых преимущественно выступает природная сторона чувственности и вожделения, оттесняющая духовную сторону. Хирон, правда, носит более благородный характер, он искусный врач и воспитатель Ахилла, но эта роль воспитателя ребенка не принадлежит кругу божественного как такового, а относится лишь к области человеческой сноровки и ума.
164
Таким образом, оценка образа животного в классическом искусстве изменилась во всех отношениях. Этим образом пользуются для обозначения всего плохого, дурного, незначительного, природного и недуховного, тогда как ранее он был выражением положительного и абсолютного.
00.htm - glava39
2. БОРЬБА МЕЖДУ ДРЕВНИМИ И НОВЫМИ БОГАМИ
Вторая, высшая ступень этой деградации роли животного состоит теперь в том, что подлинные боги классического искусства, имея своим содержанием свободное самосознание как покоящееся в себе могущество духовной индивидуальности, могут быть осознаны только как обладающие мышлением и волей, то есть как духовные силы. Тем самым человеческое, в образе которого они изображаются, является не просто внешне облекающей содержание формой, сообщаемой воображением, а заключено в смысле, содержании, в самом внутреннем. Но божественное, по существу, следует вообще понимать как единство природного и духовного. Обе стороны принадлежат абсолютному, и лишь различные способы, какими представляют эту гармонию, образуют с этой стороны ступени развития различных форм искусства и религии. 'Согласно нашему христианскому представлению, бог — творец и властелин природы и духовного мира. Он стоит выше непосредственного существования в природе, так как является подлинно богом только как самовозвращение в себя, как духовное абсолютное для-себя-бытие. Лишь конечный человеческий дух противостоит природе как некоей границе и некоему пределу. В своем существовании он преодолевает их и возвышается внутри себя до бесконечности так, что он теоретически постигает природу в мысли и практически осуществляет гармонию между духовной идеей, разумом, добром и природой. Это бесконечная деятельность и есть бог, поскольку ему принадлежит господство над природой; он есть для самого себя эта бесконечная деятельность, ее знание и воля.
Наоборот, в религиях выступающих символическое искусство, единство внутреннего и идеального с природой было, как мы видели, непосредственной связью, основное определение которой составляло поэтому природное начало как по форме, так и по содержанию. В качестве божественного существования и божественной жизни почитались, например, солнце, Нил, море, земля, естественный процесс возникновения, исчезновения, рождения и возрождения, смена явлений всеобщей естественной жизни. Однако эти силы природы олицетворялись уже в символическом
165
искусстве и тем самым возвышались к духовному. Но если боги, как требует классическое искусство, должны быть духовными индивидами и находиться в гармонии с природой, то для этого недостаточно одного лишь олицетворения. Ибо олицетворение, если его содержанием является только всеобщая сила и действенность природы, остается совершенно формальным; не вступая в содержание, оно не в состоянии внести в него ни духовного начала, ни его индивидуальности.
Для классического искусства поэтому необходимо обращение: подобно тому как мы только что рассматривали деградацию животного элемента, так и всеобщая сила природы должна подвергнуться унижению, и наперекор ей должно быть возвышено духовное. Но тогда главное определение составляет не олицетворение, а субъективность. Боги же классического искусства должны оставаться силами- природы, потому что здесь бог еще не должен изображаться как внутри себя абсолютно свободная духовность.
Однако природа выступает как сотворенное и служебное создание по отношению к отделенному от нее властелину и творцу лишь в том случае, когда бог либо представляется в себе абстрактным, лишь идеальным господством единой субстанции — как в искусстве возвышенного, либо же возвышается в качестве конкретного духа до полной свободы в чистой стихии духовного существования и личного для-себя-бытия — как в христианстве. В представлениях классического искусства нет ни того, ни другого. Бог еще не есть властелин природы, ибо он не обладает в качестве своего содержания и своей формы абсолютной духовностью. Он уже не властелин природы, ибо возвышенное отношение предметов природы, лишенных божественного начала, и человеческой индивидуальности прекратилось и умерло, став красотой, а при художественном воплощении должно быть отдано должное в равной степени обеим сторонам красоты — всеобщему и индивидуальному, духовному и природному. Таким образом, в боге классического искусства сохраняется сила природы, но сила природы не в смысле всеобщей всеобъемлющей природы, а как определенная и потому ограниченная деятельность солнца, моря и т. д., вообще как особенная сила природы, выступающая в качестве духовной индивидуальности и имеющая эту духовную индивидуальность своей подлинной сущностью.
Поскольку, как мы уже видели выше, классический идеал не существует непосредственно, а может выступить только благодаря процессу, в котором снимается отрицательное по отношению к духовному облику начало, то это преобразование и возвышение
166
грубого, некрасивого, дикого, причудливого, носящего чисто природный или фантастический характер должно представлять основной интерес в греческой мифологии, и поэтому оно должно сделать предметом изображения определенный круг особенных значений.
Переходя теперь к более подробному рассмотрению этого основного пункта, я должен сразу же предпослать то замечание, что историческое исследование пестрых и разнообразных представлений греческой мифологии не входит здесь в нашу задачу. Нас в этом отношении интересуют только существенные моменты указанного преобразования, поскольку они оказываются общими моментами художественного формообразования и его содержания. Напротив, бесконечное множество особых мифов, рассказов, историй, указаний на связь этих книг с местностью и на их символическое значение, которое, в общем, сохраняет свое право также и в новых богах и мимоходом встречается в образах искусства, но не принадлежит тому подлинному центру, к которому мы стремимся подойти,— этот обширный материал мы должны здесь оставить в стороне и будем обращаться к нему лишь в виде иллюстрации.
В целом мы можем сравнить тот путь, по которому мы здесь шествуем, с ходом развития истории скульптуры. Представляя богов, для чувственного созерцания в их подлинном облике, скульптура образует собственный центр классического искусства, хотя для ее дополнения поэзия так же высказывается о богах и о людях и, в отличие от самодовлеющей объективности скульптуры, выводит самый этот мир богов и людей в его деятельности и движении. Подобно тому как основной момент начального развития скульптуры составляет преобразование бесформенного, упавшего с неба камня или древесной глыбы(8ютсвпдс) в человеческий облик и фигуру — такой была еще великая пессинская богиня (в Малой Азии), которую римляне торжественно перевезли в Рим,— так и здесь мы должны начать с еще бесформенных, грубых, примитивных сил природы и лишь обозначить те стадии развития, в процессе которых они возвышаются до индивидуальной духовности и формируются в устойчивые образы.
В этом отношении мы можем разграничить как наиболее важные три стороны.
Первое, что привлекает наше внимание, это оракулы, в которых знание и воля богов бесформенно возвещают себя посредством природных существ.
Второй основной пункт касается как всеобщих сил природы, так и абстракций права и т. д., являющихся колыбелью подлин-
167
но духовных, божественных индивидов и представляющих собой необходимую предпосылку их возникновения и деятельности,— второй пункт касается древних богов в отличие от новых.
Наконец, в-третьих, необходимое само по себе поступательное движение к идеалу обнаруживается в том, что ведется борьба против первоначальных поверхностных олицетворений деятельности природы и наиболее абстрактных духовных отношений, выступающих теперь как нечто в самом себе второстепенное и отрицательное. Данные олицетворения и отношения вытесняются, и в результате их низведения самостоятельная духовная индивидуальность, ее человеческий облик и поведение получают возможность достигнуть неоспоримого господства. Это преобразование, образующее подлинное средоточие в истории возникновения классических богов, представлено в греческой мифологии столь же наивно, сколь и выразительно в борьбе между старыми и новыми богами, в низвержении титанов и победе, которой добивается божественный род Зевса.
а) Оракулы
Что касается прежде всего оракулов, то о них нам нет надобности распространяться в этом месте. Существенный момент заключается здесь лишь в том, что в классическом искусстве уже не почитаются явления природы как таковые, тогда как, например, парсы поклонялись месторождениям нефти или огню, а у египтян боги оставались неизведанными, таинственными, немыми .загадками; теперь боги, сами себя осознающие и проявляющие свою волю, возвещают людям свою мудрость посредством явлений природы. Так, древние эллины (Геродот, II, 52) спросили додонского оракула, должны ли они принять имена богов, которые пришли к ним от варваров, и оракул ответил: употребляйте их.
а. Знаки, посредством которых боги открывают себя, были по большей части совершенно простыми: в Додоне — шум и шелест священного дуба, журчание ключа, звон медной посуды на ветру, в Делосе — шелест лаврового дерева, в Дельфах — ветер, проносившийся по бронзовому треножнику. Но помимо таких непосредственных природных звуков сам человек становится изречением оракула, когда он, одурманенный и возбужденный, теряет рассудок и из бодрствующего состояния погружается в природное состояние восторженности. Так, например, пифия в Дельфах, одурманенная испарениями, изрекает вещие слова, а в Трофонийской пещере человеку, задавшему вопрос оракулу, являлись видения, и на основании толкования их он получал ответ.
168
β. К внешним знакам присоединяется еще и вторая сторона. Хотя в изречениях оракула бог признается всезнающим и Аполлону, всезнающему богу, был посвящен самый важный оракул, однако формой, в которой он проявляет свою волю, остается совершенно неопределенный природный элемент — глас природы или бессвязное звучание слов. Из-за этой неясности формы само духовное содержание становится темным и нуждается поэтому в толковании и объяснении.
γ. Это объяснение, хотя оно и одухотворяет в сознании то возвещение бога, которое сначала существует лишь в форме природного, все же остается темным и двусмысленным. Ибо бог в своем знании и своей воле есть конкретная всеобщность; такими же должны быть его совет или веление, которые открывает человеку оракул. Но всеобщее не односторонне и абстрактно, а в качестве конкретного содержит в себе как одну, так и другую сторону. Так как человек противостоит всезнающему богу как неведающий, то и само изречение оракула он принимает как неведающий, то есть ему не открывается конкретная всеобщность этого изречения; если он решается действовать в согласии с последним, он может выбирать из двусмысленного высказывания бога лишь одну сторону, так как каждый поступок при данных частных обстоятельствах всегда должен быть определенным, должен признавать лишь одну сторону и исключать другую. Но едва он что-либо сделал и дело, которое благодаря этому стало его делом, за которое он должен отвечать, действительно довершено им — он впадает в коллизию. Он внезапно видит, что Другая сторона, которая имплицитно также содержалась в изречении оракула, обращается против него; им овладевает, вопреки его знанию и воле, судьба его дела, которую ведают боги, а не он. И наоборот, боги являются определенными силами, и их изречение, если оно носит в себе этот определенный характер, как, например, повеление Аполлона, побуждающее Ореста к мести, также приводит из-за этой определенности к коллизии.
Так как форма, которую принимает в изречении оракула сокровенное знание бога, носит совершенно неопределенный внешний характер или, иначе говоря, имеет абстрактно внутренний характер слова и само содержание из-за своей двусмысленности заключает в себе возможность разлада,— то в классическом искусстве изречения оракула составляют один аспект содержания и важны не для скульптуры, а для поэзии, и преимущественно для поэзии драматической. Они, по существу, уместны в классическом искусстве потому, что в нем человеческая индивидуальность еще не поднялась на вершину внутреннего переживания,169
где субъект черпает решение относительно своего образа действия только из самого себя. То, что мы в нашем смысле слова называем совестью, здесь еще не существует. Правда, греческий человек часто действует, руководствуясь собственной страстью, дурной или хорошей, однако подлинный пафос, который должен его одушевлять и в самом деле одушевляет, имеет своим источником богов; их содержание и могущество составляют всеобщий характер такого пафоса. Герои или исполненны им непосредственно, или же спрашивают совета у оракула, когда боги не предстают им воочию, для того, чтобы повелеть им совершить определенное деяние.
Ь) Древние боги в отличие от новых
Подобно тому как в -изречении оракула содержание находится во всеведающих и проявляющих волю богах, а формой внешнего явления служит абстрактно внешнее и природное, так, с другой стороны, природное в его всеобщих силах и указываемых им действиях становится содержанием, из которого самостоятельная индивидуальность еще должна будет вырваться; ее ближайшей формой становится лишь формальное и поверхностное олицетворение. Отвержение этих чисто природных сил, антагонизм и борьба, посредством которых они побеждаются, есть как раз тот важный пункт, которым мы обязаны прежде всего классическому искусству в собственном смысле; этот пункт мы и подвергаем более тщательному рассмотрению.
а. Первое, на что мы можем обратить внимание, касается того обстоятельства, что теперь мы не имеем дела с завершенным и лишенным чувственного характера богом в качестве начала всех вещей, как это было в миросозерцании, имеющем своим предметом возвышенное, или отчасти даже в индийском миросозерцании. В классическом искусстве исходным пунктом являются боги природы, и притом сначала более общие силы природы — древний Хаос, Тартар, Эреб — все эти дикие подземные существа,— затем Уран, Гея, титанический Эрос, Кронос и т. д. Из них возникают более определенные силы — например, Гелиос, Океан и т. д., которые становятся природной основой для позднейших духовно индивидуализированных богов. Здесь, следовательно, снова появляются изобретенные фантазией и развитые искусством теогония и космогония, первые боги которых, с одной стороны, еще не определены для созерцания или расширяются до безмерности, а с другой стороны, имеют еще много символических черт.
170
β. Что касается более определенного различия в пределах самих этих титанических сил, то они представляют собою: αα. Во-первых, теллурические, сидерические силы, лишенные духовного и нравственного содержания; они необузданны, грубы, дики, безобразны, грандиозны и бесформенны, как будто были созданы индийской или египетской фантазией. Сначала они находятся под властью Урана вместе с другими чудовищами природы, как, например, Бронтом, Стеропом, а также сторукими kottom, Бриареем и Гиесом, гигантами и т. д., а затем под властью Кроноса, главного титана, который, очевидно, есть нечто олицетворяющее время и который поглощает всех своих детей, подобно времени, уничтожающему все свои порождения. Этот миф не лишен символического смысла. Ибо природная жизнь в самом деле подчинена времени и дает существование лишь преходящему, точно так же как доисторический период народа, который является лишь нацией, племенем, но не образует государства и не преследует устойчивых в самих себе целей, предоставлен власти времени, протекающего вне истории. Только в законе, в нравственности, в государстве содержится нечто устойчивое, пребывающее в мимолетном существовании поколений; так и муза сообщает длительность и прочность всему тому, что в качестве природной жизни и действительного деяния лишь мимолетно и претерпевает судьбу всего бренного.
ßß. Этому кругу древних богов принадлежат не только природные силы как таковые, но и силы, ближайшим образом властвующие над стихиями. Особенно важное значение имеет первая обработка металла с помощью той силы природы, которая сама является еще грубой стихийной силой,— воздуха, воды, огня. Здесь мы можем указать на корибантов, тельхинов, являющихся как благодетельными, так и злыми демонами, на петаков, пигмеев, на искусных в горных работах маленьких толстопузых карликов.
Но как о выдающемся переходном образе мы должны упомянуть о Прометее. Прометей — титан своеобразный, и его история заслуживает особенного внимания. Вместе со своим братом Эпиметеем он сначала дружит с новыми богами. Затем он выступает как благодетель людей, которые помимо этого эпизода не играют никакой роли в отношениях между новыми богами и титанами. Он приносит людям огонь и тем самым дает им возможность заботиться об удовлетворении своих потребностей, развивать технические искусства и т. д., что, однако, уже не представляет собою ничего природного и поэтому как будто не находится ни в какой связи с титаническим. За этот поступок Зевс
171
карает Прометея, пока наконец Геркулес не освобождает его от мучений. На первый взгляд кажется, что во всем этом нет ничего титанического, и можно было бы даже считать непоследовательным, что Прометей, подобно Церере, является благодетелем людей и, несмотря на это, причисляется к древним титаническим силам. Однако при ближайшем рассмотрении эта непоследовательность тотчас же исчезает. Несколько мест из Платона уже дают нам достаточное разъяснение. Гость рассказывал молодому Сократу миф, что во время царствования Кроноса люди возникли из земли и сам бог проявлял заботу обо всем, но движение пошло в обратную сторону: земля была предоставлена самой себе; животные одичали, а люди, которым до сих пор давалась в руки пища и все им необходимое, были брошены на произвол судьбы. В связи с этим говорится («Политика», II, 2), что огонь дал людям Прометей, навыки же в ремеслах (τέχνας) — Гефест и его подруга по художествам Афина.
Здесь проводится определенное различие между огнем и тем, что создается сноровкой в обработке сырых материалов; Прометею приписывается только дар огня. Более подробно передает Платон миф о Прометее в «Протагоре». Там говорится («Протагор», I, 1): было некогда время, когда существовали боги, а смертных не было. Но после того как и для смертных настало точно предназначенное время их возникновения, боги образовали их внутри земли, смесив их из земли, огня и из того, что было соединено с огнем и землей. Когда затем боги захотели вывести смертных из недр земли на свет, они поручили Прометею и Эпиметею раздавать и распределять силы среди отдельных существ. Но Эпиметей попросил Прометея, чтобы тот предоставил дело распределения ему одному. «Если я кого-нибудь обделю,— сказал он,— то ты проверишь». Однако Эпиметей неразумно расточает все способности на животных, так что для людей ничего больше не остается; когда Прометей приходит для проверки, он видит, что прочие живые существа мудро снабжены всеми благами, а человек оказался нагим, босым, беззащитным и безоружным. Уже приближался заранее назначенный день, в который человек должен был выйти из земли на свет. Оказавшись в таком затруднении, не видя, как помочь людям, Прометей похищает у Гефеста и Афины мудрость вместе с огнем — ибо без огня было бы невозможно владеть этой мудростью или сделать ее полезной — и дарит их людям. Необходимую для жизни мудрость человек благодаря этому получил, но общественностью он не обладал, ибо последняя находилась еще у Зевса, а Прометею не дозволялось больше вступать в крепость Зевса; во
172
круг нее стояли страшные стражи. Прометей, однако, тайно пробирается в общие для Гефеста и Афины покои, где они занимались своим искусством, и, похитив Гефестово искусство огня и искусство Афины (ткачество), дарит их людям. Благодаря этому у людей возникает способность удовлетворять свои жизненные нужды (εύπορίατοΰ βίου). Но Прометея, как рассказывают, позднее постигло по вине Эпиметея наказание за воровство.
В следующем месте своей книги Платон рассказывает, что людям для сохранения своего рода еще недоставало искусства ведения войны против животных, которое является лишь частью искусства политического,— поэтому они собирались в городах; так как у них не было государственного устройства, то они оскорбляли друг друга и снова стали разбегаться в разные стороны, так что Зевс был вынужден послать им через Гермеса стыд и право.
В изложенных местах из «Протагора» ясно подчеркивается различие между непосредственными жизненными целями, относящимися к физическим удобствам, к заботе об удовлетворении ближайших потребностей, и государственным устройством, ставящим себе целью духовное, нравы, право собственности, свободу, общественное начало. Прометей не дал людям ни нравственности, ни права, а научил их лишь хитрости, с помощью которой они покоряют предметы природы и пользуются ими как средствами для удовлетворения человеческих нужд. Огонь и те навыки, при посредстве которых им пользуются, сами по себе не являются чем-то нравственным, и столь же мало является им ткацкое ремесло. Эти ремесла служат эгоизму и частной выгоде, не имея отношения к общим интересам человеческого существования и к общественной жизни. Так как Прометей не наделил человека ничем духовным и нравственным, то он и принадлежит не к роду новых богов, а к роду титанов. Хотя стихией деятельности Гефеста также является огонь и связанные с ним ремесла, однако он является новым богом. Зевс сбросил его с Олимпа, и он остался хромым богом. Нет непоследовательности и в том, что Церера, подобно Прометею являющаяся благодетельницей рода человеческого, оказывается причисленной к новым богам, ибо она научила человечество земледелию, с которым непосредственно связаны собственность, брак, нравы и закон.
γγ. Третий круг древних богов не содержит, правда, ни олицетворенных сил природы как таковых в их дикости или хитрости, ни ближайшей власти над отдельными стихиями природы, стоящими на службе у второстепенных человеческих потребностей,— он касается идеального в самом себе, всеобщего и духов-
173
ного. Но, несмотря на это, тем силам, которые должны быть сюда причислены, не хватает духовной индивидуальности и соразмерного ей облика и проявления, так что в своей деятельности они в большей или меньшей степени сохраняют близкое отношение к необходимому и существенному в природной области. В качестве примера мы можем указать на представление о Нелгезиде, Дике, Эрилиях, эвменидах и мойрах. Здесь, правда, уже существуют определения права и справедливости. Однако это необходимое право, не будучи постигнуто и воплощено как внутри себя духовное и субстанциальное содержание нравственности, либо останавливается на самых общих абстракциях, либо касается темного права природного в сфере духовных отношений. Сюда, например, относится любовь к родственникам та. ее право, которое не принадлежит к области духа, самосознающего себя в ясной свободе, и поэтому не выступает как право, установленное законом, но оказывается в антагонизме с последним как непримиримое право кровной мести.
Что касается деталей, то я хочу упомянуть лишь о немногих представлениях. Немезида, например, есть та сила, которая унижает возвысившееся, низвергает чрезмерно счастливое с его высоты и восстанавливает тем самым равенство. Но право равенства есть совершенно абстрактное и внешнее право, которое хотя и оказывается деятельным в области духовных обстоятельств и отношений, все же не делает содержанием справедливости их нравственный организм.
Другая основная сторона заключается в том, что древним богам приписывается соблюдение права семейных отношений, поскольку последние покоятся на природной основе и вследствие этого противостоят публичному праву и закону общины. В качестве нагляднейшего примера мы можем привести «Эвмениды» Эсхила. Страшные девы преследуют Ореста за убийство матери, которое повелел ему совершить Аполлон, новый бог, дабы Агамемнон, убитый супруг и царь, не оставался неотомщенным. Вся драма получает вследствие этого характер борьбы между этими божественными силами, которые лично выступают друг против друга. С одной стороны, эвмениды — богини мести, с другой — они называются благомыслящими. Наше обычное представление о фуриях, в которых мы превращаем эвменид, является грубым и варварским. Ибо эвмениды, по существу, имеют право на преследование, и поэтому они не просто обуяны ненавистью, дики и жестоки в причиняемых ими мучениях. Однако право, выдвигаемое ими против Ореста,174
есть лишь право семьи, поскольку последняя коренится в узах крови. Теснейшая связь между сыном и матерью, разорванная Орестом, является той субстанцией, защитниками которой выступают эвмениды. Аполлон противопоставляет природной нравственности, основанной на кровных узах и переживаемой в чувствах, право пораженного в своем более глубоком праве супруга и царя.
Это различие сначала кажется внешним, так как обе стороны защищают право в пределах одной и той же области, в рамках семьи. Однако глубокомысленная фантазия Эсхила, которую мы с этой стороны должны высоко оценить, отыскала здесь не поверхностный, а весьма существенный по своему характеру антагонизм. Отношение детей к родителям покоится на естественном единстве, союз же мужа и жены должен быть постигнут как брак, который происходит не только из чисто природной любви, из родства по крови, по природе, а проистекает из сознательной склонности и тем самым принадлежит свободной нравственности самосознающей воли. Как бы ни был брак связан с любовью и чувством, он отличается, однако, от природного чувства любви, так как независимо от такого чувства он признает определенно осознаваемые обязательства, имеющие силу, хотя бы любовь и отмерла.
Понятие и знание субстациальности супружеской жизни есть нечто более позднее и глубокое, чем природная связь между сыном и матерью, и составляет начальную стадию государства как реализации свободной разумной воли. И в отношении государя к гражданам также содержится политическая связь одинакового права, законов, самосознательной свободы и духовности целей. В этом заключается основа того, что эвмениды — древние богини — стремятся наказатъ Ореста, между тем как Аполлон защищает ясную, знающую и сознающую себя нравственность, право супруга и государя; он справедливо возражает эвменидам («Эвмениды», ст. 213—216) : «Если бы преступление Клитемнестры не было отомщено, то я поистине был бы лишен чести и считал бы ничего не стоящими узы, налагаемые Герой и Зевсом».
Эта же самая противоположность, хотя она всецело перенесена в область человеческого чувства и человеческих поступков, выступает еще интереснее в «Антигоне», этом возвышеннейшем, во всех отношениях превосходнейшем художественном произведении всех времен. Все в этой трагедии последовательно: здесь противостоят друг другу в борьбе и публичный закон государства, и внутренняя семейная любовь, и долг по отношению
175
к брату; семейный интерес имеет своим пафосом женщину — Антигону, благоденствие общественного союза — Креона, мужчину. Полиник, воевавший со своим родным городом, пал пред вратами Фив, и Креон, властитель города, во всеуслышание грозит в объявленном законе смертью всякому, кто отдаст этому врагу города почесть погребения. Но Антигона не обращает никакого внимания на приказ, имеющий в виду лишь общее благо государства, она как сестра исполняет священный долг погребения, следуя благочестию своей любви к брату. При этом она ссылается на закон богов; но боги, которых она почитает, это подземные боги Аида (Софокл, «Антигона», ст. 451: ή εονοιχοζ των κάτω Ье&ч Δίκη1) являющиеся богами внутреннего чувства, любви, кровных уз, а не дневными богами свободной самосознательной жизни народа и государства.
γ. Третий пункт, который мы можем подчеркнуть и теогонии классического художественного воззрения, касается различия между древними богами в отношении их могущества и продолжительности их господства. Здесь мы должны отметить три стороны.
αα. Прежде всего, имеется известная последовательность в возникновении богов. Согласно Гесиоду, из Хаоса сначала произошли Гея, Уран и т. д., затем Кронос и его племя, наконец, Зевс и его род. Эта последовательность представляет собою, с одной стороны, восхождение от более абстрактных и безликих сил природы к более конкретным и уже имеющим более определенный образ, а с другой стороны, начинающееся возвышение духовного над природным. Так, Эсхил в «Эвменидах» заставляет пифию Дельфийского храма начать свое пророчество следующими словами: Я первой из богов первопророчицу Почту молитвой — Землю. А за нею вслед Фемиду. В материнском прорицалище Она второй воссела — говорит молва2.
Напротив, Павсаний, который также называет в качестве первой предсказательницы Землю, говорит, что затем ею была назначена прорицательницей Дафна. Пиндар же, в другой последовательности, ставит сначала Ночь, дает ей в преемницы Фемиду, а последней — Фебу; он продолжает повествование, пока не
' Общий закон подземных богов (греч.). 2 Пер. С. Апта.
176
доходит до Феба. Было бы интересно детальнее рассмотреть это определенное различие, однако здесь это неуместно.
ββ. Далее, так как эта последовательность должна иметь значение поступательного движения к более углубленным внутри себя и более богатым по 'содержанию богам, то она выступает также в форме унижения более раннего и абстрактного начала внутри самого поколения старых богов. Первые, древнейшие властелины лишаются своего господства (например, Кронос сверг с престола Урана), и позднейшие боги занимают их место.
γγ. Благодаря этому отрицательное отношение преобразования, которое, как мы установили с самого начала, составляет сущность первой ступени классической формы искусства, становится теперь подлинным средоточием этой ступени. Так как здесь олицетворение есть та всеобщая форма, в которой боги делаются предметом представления, и поступательное движение идет к человеческой и духовной индивидуальности, хотя последняя сначала выступает еще в неопределенном и бесформенном облике,— то фантазия представляет это отрицательное отношение новых богов к старым как борьбу и войну. Но существенным поступательным движением является движение от природы к духу как к истинному содержанию и подлинной форме классического искусства. Этот прогресс и борьба, с помощью которой он осуществляется, уже не принадлежат больше исключительно кругу старых богов, но являются частью той войны, посредством которой новые боги основывают свое длительное господство над старыми.
с) Победа над древними богами
Противоположность между природой и духом сама по себе необходима. Ибо понятие духа как истинной целостности состоит, как мы уже видели, в себе лишь в том, что он раздваивается, становится внутри себя объективностью и внутри себя субъектом, чтобы посредством этой противоположности выбраться из области природы и стать ее свободным и торжествующим победителем и властью над нею. Этот основной момент сущности духа является поэтому и одним из основных моментов в представлении, которое он дает о самом себе. В истории, в действительности — этот переход оказывается прогрессивным преобразованием естественного человека, его возвышением на ступень правового состояния, собственности, законов, государственного устройства, политической жизни; в истории богов, в вечных образах —· это представление о победе духовно индивидуальных богов над
силами природы.
177
α. Эта борьба изображает абсолютную катастрофу и представляет собой существенное деяние богов, благодаря которому впервые обнаруживается главное различие между старыми и новыми богами. На эту войну, которая выявляет данное различие, мы должны указать не как на один из многих мифов, а должны рассматривать ее как миф, образующий поворотный пункт и выражающий создание новых богов.
β. Результатом этого насильственного спора между богами является свержение титанов, полная победа новых богов. Фантазия наделяет их всевозможными преимуществами в их упроченном господстве. Напротив, титанов отправляют s изгнание, и они вынуждены иди обитать в недрах земли, или, подобно Океану, находиться у темной окраины светлого радостного мира, или подвергаться разнообразным наказаниям. Прометея, например, приковывают к скифским горам, где ненасытный орел терзает его печень, которая вновь отрастает. Тантала в подземном мире мучает безумная, никогда не утоляемая жажда, а Сизиф тщетно должен втаскивать на гору камень, постоянно скатывающийся вниз. Эти кары, как и сами титанические силы природы, суть безмерная, дурная бесконечность, страстное стремление долженствования или ненасытность субъективного природного вожделения, которое в своем длящемся повторении не достигает окончательного покоя и удовлетворения. Подлинно религиозному чувству греков влечение к необъятной дали и неопределенности не кажется чем-то высоким для человека, в противовес тому, как оценивается это страстное устремление в новейшее время, но рассматривается как проклятие, и ему отводится место а Тартаре.
γ. Стихии природы — вот что должно отступить теперь в классическом -искусстве на задний план л уже не считаться более окончательной формой и соразмерным содержанием. Тем самым для мира новых богов отпадает все смутное, фантастическое, неясное, дикая смесь природного и духовного, всякое смешение внутри себя субстанциального смысла и случайных внешних черт. В этом мире более неуместны порождения необузданной фантазии, еще не осознавшей меры духовного; они справедливо должны избегать яркого света дня. Можно сколько угодно приукрашивать великих кабиров, корибантов, образы порождающей силы и т. д., все же подобные .воззрения (я уже не говорю о старой Баубо, которую Гёте заставляет скакать по Блоксбергу на свинье) по своему характеру принадлежат еще сумеркам сознания. Лишь духовное развивается при свете ясного дня; все то, что не проявляет себя и не обнаруживается в себе в своем ясном значении, носит недуховный характер и снова 'погружается
178
в ночь и тьму. Духовное же проявляет себя тем, что оно само определяет свою внешнюю форму, очищает себя от произвола фантазии, расплывчатости обликов и других смутных символических придатков.
Аналогично этому человеческая деятельность, поскольку она ограничивается лишь естественными потребностями и их удовлетворением, отодвигается теперь на 'задний план. Древнее право — Фемида, Дике и т. д., — не будучи определено законами, происходящими из самосознательного духа, теряет свою неограниченную силу, и, наоборот, чисто локальные черты, поскольку они еще не играют роль, превращаются в общие фигуры богов, оставаясь в них еще не успевшим исчезнуть следом прошлого. Ибо подобно тому как в Троянской войне греки боролись и победили как единый народ, так и гомеровские боги, которые в прошлом боролись с титанами, являются устойчивым и 'определенным миром богов, который становился все более прочным и определенным в позднейшей поэзии и пластике. Несокрушимо прочным в содержании греческих богов является только дух, но не дух, взятый в его абстрактно-внутреннем характере, а дух, тождественный со своим внешним, соразмерным ему существованием, подобно душе и телу у Платона,— дух, сплавленный со своим внешним воедино и в этом слиянии как бы вылитый из одного куска,— представляющий божественное и вечное начало.
00.htm - glava40
3. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО ДОЛОЖЕННЫХ МОМЕНТОВ
Но вопреки победе новых богов в классической форме искусства все же остается и почитается старое,— отчасти рассмотренное нами в первоначальной форме, отчасти в преобразованном виде. Лишь ограниченный иудейский бог не может переносить рядом с собой других богов, потому что он в качестве единого хочет быть всем, хотя в своей определенности он остается ограниченным богом, богом только своего народа. Свою всеобщность он, владыка неба я земли, обнаруживает лишь сотворением природы, в остальном же он бог Авраама, выведший сыновей Израиля из Египта, давший законы с горы Синая, предоставивший иудеям землю Ханаанскую; из-за тесного отождествления с еврейским народом он совершенно частный бог, бог только своего народа. Вследствие этого он как дух не находится в положительном созвучии с природой и не является абсолютным духом, возвращающимся из 'своей определенности и объективности в свою всеобщность. Потому-то этот жестокий национальный бог так и179
ревнив и повелевает видеть во всех других богах лишь ложных идолов.
Напротив, греки находили себе богов у всех народов и принимали чужих. Ибо бог классического искусства обладает духовной и телесной индивидуальностью и является поэтому не единым и единственным, но особенным божеством. Последнее, как всякое особенное, имеет вокруг себя или противостоящим себе некоторый крут особенного, из которого оно возникает и которое умеет сохранять свою значимость и ценность.« С этими богами дело обстоит так же, как с особенными сферами природы. Хотя растительное царство есть истина геологических природных образований, а животное является высшей истиной мира растительного, горы и наносная земля все же продолжают существовать как почва деревьев, кустарников и цветов, не теряющих своего существования наряду с животным царством.
а) Мистерии
Ближайшей формой, в которой у греков сохраняется древнее, являются мистерии. Греческие мистерии не были чем-то тайным в том смысле, что не весь греческий народ был знаком с их содержанием. Напротив, большинство афинян и множество чужестранцев принадлежали к числу посвященных в элевсинские тайны, но они не имели права говорить о том, что им поведали при посвящении. В новейшее время немало потрудились над тем, чтобы более определенно узнать характер содержавшихся в мистериях представлений и тех культовых действий, которые совершались на этих торжествах. Однако в целом можно, по-видимому, утверждать, что в мистериях не были скрыты ни великая мудрость, ни глубокое познание — они сохраняли лишь древние традиции, основу того, что позднее было преобразовано подлинным искусством. Поэтому они имели своим содержанием не
истинное, более возвышенное, лучшее, а незначительное и низшее.
То, что признавалось священным, не высказывалось в мистериях ясно, а передавалось лишь в символических чертах. И в самом деле, древнее, теллурическое, сидерическое, титаническое носит характер нераскрытого, неизреченного, ибо только дух есть откровенное и открывающее себя. В этом отношении символический способ выражения составляет другую сторону того, что было тайного в мистериях, так как при символическом способе выражения смысл остается темным и содержит а себе нечто иное, чем то, что непосредственно дает внешнее, в котором
180
оно должно быть воплощено. Например, хотя мистерии Деметры и Вакха толковались духовно и получали поэтому более глубокий смысл, однако для содержания эта форма оставалась внешней, так что оно не могло ясно выступать из нее. Мистерии имели небольшое влияние на искусство, и хотя об Эсхиле рассказывают, что он намеренно выдавал мистические тайны Деметры, однако рассказываемое им ограничивается тем, что Артемида была дочерью Цереры, а это мудрость небольшая.
Ь) Сохранение древних богов в художественном, изображении
Яснее, во-вторых, обнаруживается почитание и сохранение старых богов в художественном воплощении. Рассматривая предшествующую ступень, мы говорили о Прометее как о наказанием титане. Но мы снова находим его освобожденным. Ибо, подобно земле и солнцу, огонь, принесенный Прометеем людям, употребление мяса в пищу, которому он их научил, также являются важными моментами человеческого существования, необходимыми условиями для удовлетворения потребностей. Таким образом, и Прометея почитали в течение долгого времени. В трагедии Софокла «Эдип в Колоне» читаем (ст. 54—56) : Места — святые. Посейдон-владыка Хозяин здесь и Прометей-Титан, Бог-огненосец 1.
Составитель схолий прибавляет к этому месту, что Прометей, подобно Гефесту, вместе с Афиной почитается в Академии и что теперь еще показывают храм в роще богини и древний пьедестал у входа, на котором находятся изображения как Прометея, так и Гефеста. Однако, согласно сообщению Лвсимахида, Прометей изображается первым, старшим, держащим скипетр в. руках, Гефест же — младшим и вторым по рангу; алтарь на пьедестале у них общий.
Согласно мифу, Прометею не суждено было бесконечно терпеть кару: он был освобожден от своих цепей Геркулесом. В этом рассказе об освобождении нам снова встречаются некоторые примечательные детали, а именно: Прометей избавляется от своих мук потому, что он возвещает Зевсу об опасности, которая угрожает царству Зевса от тринадцатого потомка последнего. Этим потомком является Геркулес, которому, например, Посейдон в «Птицах» Аристофана (ст. Ί645—1648) говорит, что он
Пер. С. Шервинского.
181
повредит сам себе, если согласится заключить договор об отказе господствовать над богами, ибо все, что Зевс, отрешенный от власти, оставит после себя, достанется Геркулесу. И в самом деле, Геркулес единственный человек, который, перейдя на Олимп, из смертного стал богом; он стоит выше Прометея, оставшегося титаном.
С именами Геркулеса я Гераклидов связан переворот в старых царствующих родах. Потомки Геркулеса свергают власть древних династий и царских домов, где господствующее своеволие не признает над собою никакого закона, которому оно подчиняло бы собственные цели и который укрощал бы необузданность, равно как и закона в своих отношениях к жителям страны, и потому совершает чудовищные, внушающие ужас поступки. Геркулес, который сам не был свободным, а находился в услужении у одного из этих властелинов, одерживает победу над дикостью этой насильственной воли.
Мы можем ограничиться уже приводимым ранее примером, снова напомнив об «Эвменидах» Эсхила. Борьба между Аполлоном я эвменидами должна быть решена приговором ареопага. Человеческий суд как целое, во главе которого стоит Афина в качестве конкретного народного духа, должен разрешить коллизию. Голоса судей разделились поровну за осуждение и оправдание, так как они одинаково почитают как эвменид, так я Аполлона; белый же камешек Афины решает спор в пользу Аполлона. Эвмениды, раздраженные этим приговором Афины, начинают громко роптать, но Паллада успокаивает их, обещая им поклонение и алтари в знаменитой роще в Колоне. Эвмениды же в награду за это должны защищать ее народ (ст. 901 и ел.) от тех зол, которые имеют своим источником природные стихии — землю, небо, море и ветры,— предотвращать неплодородие на его полях, предохранять от порчи живые семена, плоды, от неудач— роды. Паллада, со своей стороны, принимает на себя заботу о военных и религиозных спорах в Афинах. Подобно этому, Софокл в «Антигоне» заставляет не только Антигону страдать и погибнуть; напротив, мы видим, что и Креон наказан горестной потерей своей супруги и Гемона, которые также гибнут из-за смерти Антигоны.
с) Природная основа новых богов
Наконец, в-третьих, старые боги не только удерживают свое место наряду с новыми, но, что еще важнее, в самих новых богах остается природная основа. Соответствуя духовной индиви-
182
дуальности классического идеала, она находит в них свой отзвук и пользуется продолжительным поклонением.
а. Это обстоятельство часто »водило в искушение рассматривать греческих богов — в их человеческом облике и форме — как чистые аллегории подобных стихий природы. Они не таковы. Так часто приходится слышать о Гелиосе как о боге солнца, о Диане как о богине луны или о Нептуне как о боге моря. Но в греческих представлениях мы не должны отделять друг от друга природную стихию как содержание и образованное по человеческому подобию олицетворение как форму, а также соединять внешне оба эти момента в качестве простого господства бога над предметами природы, которое мы привыкли представлять себе по Ветхому завету. Ибо ни в одном месте мы не находим у греков выражения о 8·εος ϊοΰ ήλιου, ιής &αλάσσηςΐ и т. д., а между тем, если бы в их воззрении такое отношение имело место, они, несомненно, употребляли бы и это выражение. Гелиос есть солнце как бог.
β. Но вместе с тем мы должны помнить, что греки не видели божественного в природном как таковом. Напротив, у них было· определенное представление, что природное не божественно; это отчасти молчаливо подразумевается в том, что представляют собой 'их боги, отчасти же явно подчеркивается греками. Плутарх, например, в своем произведении «Об Исиде и Осирисе» говорит о различных способах объяснения мифов и богов. Исида и Осирис принадлежат кругу египетских воззрений и в большей мере, чем соответствующие греческие боги, имели своим содержанием стихии природы, так как они выражают лишь страстное стремление выйти из области природного, возвыситься до духовности. Позднее они пользовались в Риме большим поклонением и представляли одну из главных мистерий. Однако, как полагает Плутарх, было бы недостойно объяснять их как солнце, землю или воду. Все то, что в солнце, земле и т. д. безмерно и беспорядочно, что имеется в недостаточном количестве или в чрезмерном избытке, должно быть приписано стихиям природы. Лишь благое и упорядоченное есть дело Исиды, а ум — λόγος — дело Осириса. Поэтому в качество субстанциального начала этих богов нам указывают не на природное начало как таковое, а на духовное, всеобщее, λόγος, ум, закономерное.
'Вследствие такого понимания духовной природы богов греки действительно проводили различие между определенными природными стихиями и новыми богами. Мы, правда, привыкли ста-
• Бог солнца и моря (греч.).
183
вить рядом, например, Гелиоса и Селену с Аполлоном и Дианой. Однако у Гомера мы встречаем их как отличных друг от друга богов. Это верно и до отношению к Океану, Посейдону и другим богам.
γ. В-третьих, а новых богах остается некий отзвук сил природы, деятельность которых входит в духовную индивидуальность самих богов. Мы уже указывали раньше основание этого положительного сочетания духовного и природного в идеале классического искусства. Здесь мы ограничимся тем, что приведем несколько примеров.
αα. В Посейдоне, как и в Понте и Океане, заключена сила окружающего землю моря, но его могущество и деятельность простираются дальше. Он построил Илион и был оплотом Афин; ему вообще поклоняются как основателю городов, поскольку море есть стихия мореплавания, .торговли и соединения людей, И точно так же Аполлон — новый бог — есть свет знания, дающий прорицания; однако он сохраняет некоторый след Гелиоса как естественного света солнца. Правда, ученые, например Фосс и Крейцер, спорят о том, должны ли мы толковать Аполлона как солнце или нет, но мы действительно можем сказать, что он — и солнце и не солнце, так как он не ограничен этим природным содержанием, а поднят до значения духовного начала.
Уже само по себе должно бросаться в глаза, что знание и свет, свет природы и свет духа находятся но своему определению в существенной связи друг с другом. Свет как стихия природы есть проявляющее; хотя мы не видим его самого, он делает видимыми озаренные, освещенные предметы. Благодаря свету все становится предметом созерцания, получает теоретический характер для другого. Такой же характер проявления носит дух, свободный свет сознания, знание и познание. Помимо различия сфер, в которых сказывается деятельность этого двоякого рода проявлений, различие между ними состоит только в том, что дух сам себя открывает и остается у самого себя в своем собственном или чужом деянии; свет же природы дает возможность воспринимать не самого себя, а, напротив, внешнее ему; в этом отношении он, правда, исходит из себя, но не возвращается в себя, как это делает дух, и потому не получает высшего единства: чтобы в другом быть у самого себя.
Как свет и 'знание тесно связаны друг с другом, так я в Аполлоне, как духовном боге, мы снова находим воспоминание о свете солнца. Например, Гомер приписывает чуму в лагере греков Аполлону, который здесь в летнюю жару олицетворяет собой деятельность солнца. Его смертоносные стрелы, несомненно,184
имеют символическую связь с лучами солнца. Воссоздавая картину, приходится по внешним признакам определять то значение, какое следует давать богу.
В частности, когда мы исследуем историю возникновения новых богов, можно, как это подчеркнул Крейцер, распознать тот· элемент природы, который боги классического идеала сохраняют внутри себя. Так, мы находим в Юпитере намеки на солнце; двенадцать работ Геркулеса, его поход, например, в котором он достает яблоки Гесперид, имеют отношение и к солнцу и к двенадцати месяцам. В основе представления о Диане лежит определение всеобщей матери-природы; эфесская Диана, например, колеблющаяся между древними и новыми богами, имеет основным содержанием природу вообще, рождение и питание; на это значение намекает и ее внешний вид, многочисленные груди и т. д. Напротив, в греческой Артемиде, охотнице, убивающей зверей, в ее человечески прекрасной девственной фигуре и самостоятельности эта сторона отходит на задний план, хотя полумесяц, и стрелы все еще напоминают о Селене. Равным образом и Афродита, чем глубже мы прослеживаем ее происхождение из Азии, тем в большей степени богиня становится .силой природы; когда: же это представление приходит в Грецию, тогда а нем обнаруживается духовно более индивидуальная сторона привлекательности и любви, отнюдь не лишенная природной основы.
Также и представление о Церере имеет своим исходным пунктом природную производительность, которая затем получает духовное содержание, развивающееся из земледелия, собственности и т. д. Музы по своей природной основе связаны с журчанием ручья. Самого Зевса мы должны воспринимать как всеобщую мощь природы; ему поклоняются как громовержцу, хотя уже у Гомера гром является признаком неудовольствия или одобрения, предзнаменованием, вследствие чего он получает некоторое отношение к духовному и человеческому. В представлении о Юноне также имеется некий отзвук природы, намек на небесный свод и тот воздушный круг, по которому шествуют боги. Так, говорят, что Зевс приложил Геркулеса к груди Юноны, и из брызнувшего молока возник Млечный Путь.
β β. Подобно тому, как всеобщие стихии природы, с одной: стороны, принижаются в новых богах, а с другой стороны, сохраняются в них, так же обстоит дело и с животным элементом, процесс деградации которого нам пришлось рассмотреть ранее. Теперь и мы можем отвести животным более положительную роль. Однако так как классические боги сбросили с себя символический способ формирования и в качестве своего содержания
185
приобретают ясный для себя дух, то символическое значение животных должно теперь исчезнуть в той мере, в какой облик животных лишился права смешиваться неподобающим образом с чертами человека.
Животные встречаются теперь только а качестве чисто обозначающих атрибутов и ставятся рядом с человеческим обликом богов. Так, например, мы видим орла рядом с Юпитером, павлина рядом с Юноной, голубей в свите Венеры, собаку Анубиса — как стража подземного царства и т. д. Поэтому хотя в идеалах духовных богов еще л сохранилось нечто символическое, все же со стороны своего первоначального значения оно становится чем-то незаметным. Природное значение как таковое, 'ранее составлявшее существенное· содержание, сохраняется еще только как остаток я как частная внешняя черта, которая теперь выглядит подчас странно вследствие своей случайности, ибо в ней уже нет ее прежнего смысла. Так как внутренним содержанием этих богов является духовное и человеческое, то внешнее в них становится человеческой случайностью и слабостью.
Тут мы можем еще раз напомнить о разнообразных любовных историях Юпитера. По своему первоначальному символическому значению они, как мы видели, касаются всеобщей способности порождения, жизненной силы природы. Но в качестве любовных историй Юпитера, поскольку мы должны рассматривать брак с Герой как прочное субстанциальное отношение, они являются актами неверности по отношению к супруге, носят характер случайных похождений, теряя .свой символический смысл и получая 'значение произвольно вымышленных, легкомысленных рассказов.
В результате этого принижения чисто природных сил и животного элемента, равно как и абстрактной всеобщности духовных отношений, и включения их в лоно высшей самостоятельности духовной индивидуальности, проникнутой природой и проникающей ее, мы уже имеем необходимую историю возникновения, как настоящую предпосылку сущности классического идеала, так как идеал на этом пути сделал себя тем, что он есть по своему понятию. Эта соответствующая своему понятию реальность духовных богов приводит нас к подлинным идеалам классической формы искусства, которые, в противоположность побежденному старому, воплощают непреходящее, ибо бренность вообще зависит от несоразмерности между понятием и его существованием.
186
Вторая глава ИДЕАЛ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
В чем состоит настоящая сущность идеала, это мы уже видели, рассматривая вообще прекрасное в искусстве. Здесь мы должны взять идеал в специальном смысле классического идеала, понятие которого мы также получили вместе с понятием классической формы искусства вообще. Ибо идеал, о котором нам теперь предстоит говорить, состоит лишь в том, что классическое искусство действительно постигает и выявляет то, что составляет его сокровеннейшее понятие. В качестве содержания оно берет на этой стадии духовное, поскольку последнее вовлекает а свою область природу и ее силы и тем самым воплощает себя не как нечто чисто внутреннее и господствующее над природой начало. Формой же оно берет человеческий облик, человеческие дела и поступки, сквозь которые ясно просвечивает духовное начало, сохраняя полную свою свободу и вживаясь в чувственную сторону облика не только как во внешнее, лишь символически намекающее на духовное, а как в соразмерное существование духа. Мы можем теперь дать следующее, более определенное расчленение этой главы.
В первую очередь мы должны рассмотреть общий характер классического идеала, имеющего как своим содержанием, так и своей |формой человеческое и приводящего обе эти стороны к полному соответствию и слиянию друг с другом.
Во-вторых, так как человеческое всецело погружается здесь в телесный облик и во внешнее явление, оно становится определенным внешним обликом, которому соразмерно лишь определенное содержание. Поэтому идеал выступает перед нами одновременно и как особенность, и возникает круг особенных богов и сил человеческого существования.
В-третьих, особенность не останавливается на абстракции лишь одной определенности, существенный характер которой
187
составлял бы 'все содержание и односторонний принцип изображения. Она в равной мере 'образует внутри себя некоторую целостность и ее индивидуальное 'единство и согласие. Без такого наполнения особенность была бы скудна и бессодержательна, и ей не хватало бы той жизненности, без которой не может обойтись идеал.
Мы должны теперь подробнее .рассмотреть идеал классического искусства, в этих трех его аспектах: со стороны его всеобщности, особенности и индивидуальной единичности.
00.htm - glava41
1. ИДЕАЛ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ВООБЩЕ
Вопроса о происхождении греческих богов, поскольку они составляют подлинное средоточие идеального изображения, мы уже коснулись выше и нашли, что эти боги взяты из области традиции, преобразованной искусством. Это преобразование могло осуществиться только путем двоякой деградации: с одной стороны, всеобщих сил природы и их олицетворения, а с другой стороны, животных, их символического .значения и формы,— чтобы таким образом обрести в качестве истинного содержания духовное, а в качестве подлинной формы человеческий облик.
а) Идеал как результат свободной художественной деятельности
Так как классический идеал получает существование только путем такого преобразования, то ближайший аспект идеала, который мы должны выдвинуть,— это рождение 'его из духа и, следовательно, происхождение из наиболее интимных и своеобразных переживаний поэтов и художников; они произвели его, сознавая цель художественного созидания, с ясной и свободной рассудительностью.
Против этого утверждения говорит как будто тот факт, что греческая мифология покоится на более древних традициях и указывает на заимствования извне, с Востока. Геродот, например, хотя и указывает в уже приведенном месте, что Гомер и Гесиод создали для греков их богов, однако в других местах своей «Истории» он тесно связывает тех же греческих богов с египетскими и другими богами. Ибо во второй книге (гл. 49) он прямо рассказывает, что Меламп принес эллинам имя Диониса, ввел культ Фаллуса и все жертвенные празднества, однако с некоторыми изменениями, так как Меламп, вероятно, узнал культ Диониса от тирийца Кадма и тех финикийцев, которые вместе с
188
Кадмом прибыли в Беотию. Эти противоположные высказывания приобрели интерес в позднейшее время, в особенности в связи с исследованиями Крейцера, старающегося, например, отыскать у Гомера древние мистерии и все те источники, которые слились вместе в Греции,— все азиатское, педасгийское, додоническое, фракийское, самофракийское, фригийское, индийское, буддийское, финикийское, 'египетское, орфическое наряду с бесчисленными местными культами, носящими специфически локальный характер, и другими отдельными влияниями.
Этим многочисленным унаследованным исходным пунктам на первый взгляд противоречит утверждение, что указанные поэты дали богам их имена и облики. Однако и традиция и самостоятельное творчество вполне могут быть объединены. Традиция является первоначальным исходным .пунктом, она передает составные элементы, но еще не влечет за собой настоящего содержания и подлинной формы этих богов. Это содержание указанные поэты почерпнули из своего духа и нашли для него истинную форму в процессе свободного преобразования, благодаря чему они (β самом деле стали творцами 'той мифологии, которой мы восхищаемся ;в греческом искусстве. Однако гомеровские боги не стали вследствие этого чисто субъективным вымыслом или искусственным созданием,— они имеют свои корни в духе и вере греческого народа и его национально-религиозных основах. Они представляют собою абсолютные силы и власти, самое высокое, что есть в преческом представлении, средоточие прекрасного вообще, нечто внушенное поэту самой музой.
В этом свободном творчестве художник занимает совершенно другое положение, чем на 'Востоке. Индийские поэты и мудрецы также имеют своей исходной точкой преднайденное: стихии природы, небо, животных, реки и т. д.,— или же чистую абстракцию безликого и бессодержательного Брахмана. Однако их вдохновение есть разрушение внутренней стороны той субъективности, которой ставится трудная задача — переработать внешний ей предмет. При безмерности своей фантазии, лишенной всякого твердого, абсолютного направления, такое вдохновение не может быть в своих произведениях истинно свободным и прекрасным, но должно оставаться необузданным творчеством и блужданием в материале. Оно подобно зодчему, не имеющему в своем распоряжении свободной почвы. Древние развалины полуобвалившихся стен, холмы, уступы скал, не гармонирующие с теми особенными целями, согласно которым он должен воздвигнуть свое сооружение, препятствуют ему, и он вынуждается лишь к созданию дикого, лишенного гармонии, фантастического произве-
189
дения. То, что он производит, пае есть создание его свободной, творящей из собственного духа фантазии.
Древнееврейские же поэты сообщают откровения, которые повелел им произнести господь, так что здесь творческим источником опять является бессознательное вдохновение, отделенное, отличное от индивидуальности и производящего духа художника. Вообще на стадии возвышенного абстрактное и вечное созерцается и осознается как нечто связанное с иным и внешним ему.
В классическом искусстве художники и поэты несомненно являются также и пророками, учителями, которые возвещают и открывают людям абсолютное и божественное. Но
а. Во-первых, содержанием их богов служат не только явления природы, внешние человеческому духу, или абстракция единого божества, когда в удел художнику остается лишь поверхностное формирование, или бесформенное внутреннее переживание. Напротив, их содержание заимствовано из духа человека и условий его существования: благодаря этому оно является достоянием человеческого сердца, тем содержанием, с которым человек может свободно сливаться как ,с самим собою, поскольку создаваемое им есть прекраснейший продукт его самого.
β. Во-вторых, художники являются в такой же мере творцами, созидателями материала и содержания в отношении к свободному, покоящемуся в себе облику. С этой стороны греческие художники показывают себя подлинно творческими поэтами. Все чужеродные составные части они переплавляли в одном тигле, однако не делали из них варева, как в котле ведьм, а уничтожали в чистом огне более высокого духа все смутное, природное, нечистое, чуждое, безмерное. Сжигая все это вместе, они выявляли в чистом виде облик, сохранявший лишь слабые намеки на материю, из которой он был создан. В этом отношении их дело заключалось частично в устранении того бесформенного, символического, некрасивого и неудавшегося, которое они имели перед собою в материале традиции, частично оке в выделении собственно духовного элемента, который они должны были индивидуализировать и отыскать или изобрести для него соответствующее внешнее явление.
Здесь человеческий облик и форма человеческих поступков и событий, которая уже не выступает как голое олицетворение, впервые необходимо появляются, как мы видели, в качестве единственной соразмерной реальности. Правда, и эти формы художник преднаходит в действительности, однако он должен уничтожить в них все случайное и неподходящее; лишь после этого они смогут обнаружиться как соразмерные духовному содер-
190
жанию человеческой природы, которая, будучи постигнута согласно своей сущности, становится представлением о вечных силах и богах. Это есть свободное, духовное, а не только произвольное создание художника.
γ. В-третьих, так как боги существуют не только сами по себе, а деятельны внутри конкретной действительности природы и человеческих событий, то задача поэтов состоит также в том, чтобы познать присутствие и деятельность богов в человеческих делах, истолковать своеобразные черты в событиях природы, человеческих деяниях и судьбах, в которых оказываются замешанными божественные силы, и тем самым разделить со жрецом его дело — занятие мантикой. С точки зрения нашей современной, прозаической рефлексии мы объясняем явления природы всеобщими законами и силами, а поступки людей — их внутренними намерениями и осознанными целями; греческие же поэты всюду ищут вмешательства божеств. Преображая человеческие действия в поступки богов, они создают тем самым различные сферы, в которых проявляется сила богов. Ибо из множества таких толкований получается множество поступков, в которых обнаруживается, что представляет собой тот или иной бог.
Раскрыв, например, поэмы Гомера, мы не найдем там почти ни одного сколько-нибудь значительного события, которое не объяснялась бы волей или действительной помощью богов. Эти истолкования представляют собой взгляды поэтов, ими же созданную веру, их воззрение в том виде, в каком Гомер часто высказывает его от собственного имени или отчасти влагает в уста своим персонажам — жрецам или героям. Так, например, уже в самом начале «Илиады» (I, ст. 9—12) он объясняет мор, свирепствовавший в лагере .греков, гневом, вызванным у Аполлона Агамемноном, который не хотел возвратить Хризу его дочь, а затем Гомер заставляет Калхаса возвестить это же толкование грекам (I, ст. 94—il 00).
Гомер в последней песне «Одиссеи» (где Гермес повел тени убитых женихов на асфоделиев луг, там они нашли Ахилла и других героев, сражавшихся под Троей, и наконец к ним присоединяется также Агамемнон) говорит, что Агамемнон изображает смерть Ахилла в следующих словах («Одиссея», XXIV, ст. 41-63): ...день целый мы билися все за тебя, и конца бы Не было битве, когда бы Зевес не развел нас грозою. Вынесши тело из боя твое, к кораблям возвратились С ним мы; его положивши на одр и водою омывши, Маслом натерли прекрасную голову; много рыдало Вкруг бездыханного трупа ахеян, свои от печали
191
Волосы рвавших. И с нимфами моря из бездны глубокой Вышла скорбящая мать; и раздался ее несказанный По морю крик: трепетание страха проникло ахеян; Все всколебались, и все б к кораблям убежали глубоким, Если бы их не успел удержать многознающий старец Нестор, всегда подававший советы разумные...
Он объясняет им явление, говоря: ...то с нимфами моря из бездны глубокой Скорбная мать подымается мертвого сына увидеть.
Они теперь поняли, в чем дело. Они разгадали человеческое: мать, скорбящая, идет навстречу сыну; Ахилл — ее сын, она сама рыдает; их глаза видят, их уши внемлют лишь тому, чем они сами являются. И Агамемнон, продолжая свой рассказ и обращаясь к Ахиллу, изображает всеобщую скорбь: ...труп твои Нимфы прекрасные," дочери старца морей, окружили С плачем и светло-божественной ризой его облачили; Музы — все девять,— сменялся, голосом сладостным пели Гимн похоронный; никто из аргивян с сухими глазами Слушать не мог сладкопения муз, врачевательниц сердца '.
Но меня больше всего в атом отношении привлекало и занимало другое явление богов в «Одиссее». Странствующий Одиссей, присутствуя у феакийцев («Одиссея», VIII, ст. 159—200) на их играх и поносимый Эвриалом 'за то, что отказался принять участие в состязаниях в метании диска, отвечает раздраженно и резко, бросая мрачные взоры; затем он хватает диск, который был больше и тяжелее всех остальных, и швыряет его намного дальше цели. Один из феакийцев отмечает место и восклицает, обращаясь к Одиссею: даже слепой может увидеть камень; он лежит далеко впереди других; в этом состязании тебе нечего опасаться: ни один феакиец не забросит камень так далеко, как ты, и не победит тебя. Он .сказал так, и многострадальный божественный Одиссей возрадовался тому, что видит благосклонного друга среди присутствующих на играх.
Это слово, это дружественное одобрение феакийца Гомер истолковал как дружеское появление Афины.
Ь) Новые боги классического идеала
•Каковы, спросим мы далее, произведения этого классического способа художественной деятельности, каков характер новых богов греческого искусства?
' Пер. В. Жуковского.
192
α. Самое общее и вместе с тем самое завершенное представление об их природе дает нам их сосредоточенная индивидуальность, поскольку последняя собрана из многообразия сопутствующих явлений, отдельных поступков и происшествий — в фокус простого единства с собою.
αα. В этих богах нас прежде всего влечет та духовная субстанциальная индивидуальность, которая, будучи возвращена в. себя из пестрой видимости частных нужд и беспокойного преследования множества целей, присущих всем конечным существам, уверенно покоится в собственной всеобщности как на некоей вечной основе. Лишь благодаря этому боги представляются нам непреходящими силами; их нерушимая власть делается явной не в особенной и внешней сфере, переплетенной с иным, а в их. собственной неизменности и прочности.
ββ. Но и наоборот, эти боги не представляют собою голой абстракции духовной всеобщности и вследствие этого не представляют так называемых всеобщих идеалов. Поскольку боги являются индивидами, они выступают как идеал, который в самом себе обладает существованием и потому определенностью, то есть имеет в качестве духа характер. Без характера не выступает никакая индивидуальность. В этом отношении в основе духовных богов, как уже было замечено выше, лежит также определенная сила природы, с которой сливается некая нравственная субстанция и которая указывает каждому богу ограниченный круг принадлежащей ему деятельности. Многообразные стороны и черты, появляющиеся с этой особенностью, будучи сведены к простому единству с собою, составляют характер этих богов.
γγ. Однако в истинном идеале эта определенность не должна резко ограничиваться и переходить в односторонность характера, а должна выступать равномерно, возвращаясь к всеобщности божественного. Таким образом, каждый бог, неся в себе определенность как божественную и тем самым всеобщую индивидуальность, есть отчасти определенный характер, отчасти же он— все во всем и реет где-то посередине между голой всеобщностью и столь же абстрактной особенностью. Это сообщает подлинному идеалу классического искусства бесконечную уверенность 'и спокойствие, беспечальное блаженство и ничем не стесненную свободу.
β. В качестве красоты классического искусства божественный, в себе определенный характер не только духовен, но и выступает как зримая глазу и духу форма, внешне являющаяся, в ее телесности.
αα. Так как эта красота имеет своим содержанием не толь-
7 Гегель т. 2
193
ко природное и животное в их духовном олицетворении, но и само духовное в его адекватном существовании, то она может принять символическое я относящееся лишь к природному только в качестве аксессуара. Собственным ее выражением служит характерная 'для духа, и только для духа, внешняя форма, поскольку в ней внутреннее само дает себе существование и, достигнув завершенности, сливается с ней.
β β. С другой стороны, классическая красота не должна удовлетворяться выражением возвышенного. Ибо одно только абстрактно всеобщее, не смыкающееся с собой в некоей определенности, а обращенное лишь отрицательно против особенного вообще я, следовательно, против всякого воплощения, дает вам зрелище возвышенного искусства. Классическая же красота вводит духовную индивидуальность в самый центр ее природного существования и раскрывает внутреннее лишь в элементе внешнего явления.
γγ. Однако внешняя форма (так же как и духовное, получающее в ней существование) должна быть свободна от всякой случайной внешней определенности, от всякой природной зависимости и недуга, от всякой конечности, от всего преходящего, от каких бы то ни было хлопот о чисто чувственном. Свою определенность, родственную с определенным духовным характером бога, она должна очистить и возвысить до свободного созвучия со всеобщими формами человеческого облика. Только безупречный внешний материал, в котором стерты все следы слабости и относительности и устранены все произвольные частные черты, соответствует тому духовному внутреннему содержанию, которое должно погрузиться в него и стать телесным в нем.
γ. Но так как боги одновременно обращены из определенности характера во всеобщность, то и в их явлении должно вместе с тем воплощаться самобытие духа в его внешней форме как спокойствие и уверенность в себе.
αα. Поэтому, когда мы имеем дело с классическим идеалом в собственном смысле, мы видим в конкретной индивидуальности богов благородство и величие духа, свидетельствующие о его отчужденности скудным условиям конечного существования, несмотря на то, что он полностью воплощается в телесную и чувственную форму. Чистое внутри-себя-бытие и абстрактное освобождение от всякой определенности привели бы к возвышенному. Но так как классический идеал приобретает существование, которое является лишь его существованием, существованием самого духа, то и его возвышенность обнаруживается как сливающаяся с красотой и как бы непосредственно перешедшая в нее.
194
Это делает необходимым для обликов богов выражение величия классически прекрасной возвышенности. Вечная серьезность, неизменный покой запечатлены на челе богов и разлиты во всем их облике.
ββ. Кажется поэтому, что они в своей красоте поднялись над собственной телесностью, вследствие чего возникает разлад между их блаженным величием как духовным внутри-себябытием и их внешней и телесной красотой. Дух как будто всецело погружен в свой внешний образ и вместе с тем кажется вышедшим из последнего, погруженным лишь в себя. Это как бы странствование бессмертного бога среди смертных людей.
В этом отношении греческие боги производят впечатление, сходное при всем различии с тем, которое, произвел на меня бюст Гёте, сделанный Раухом, когда я впервые его увидел. Вы его также видели: высокий лоб, могучий, повелительный нос, открытый взор, округленный подбородок, губы разговорчивого и образованного человека, одухотворенный поворот головы; взгляд, обращенный в сторону и одновременно несколько вверх; и вместе с тем все полно вдумчивой, благосклонной человечности. Прибавьте .к этому сильно развитые мускулы лба, лица, свидетельствующие о чувствах, страстях, и при всей полноте жизни — спокойствие, мир, величие в старости; а затем рядом с этим — вялость губ, западающих в беззубый рот, дряблость шеи, щек, из-за чего нос кажется еще более могучей башней, а лоб еще более высокой стеной.
Мощь этого непоколебимого облика, сведенного преимущественно к его неизменной основе, в своем непринужденном обрамлении подобна величавой голове, облику жителей Востока в их широких тюрбанах, но болтающихся плащах и шлепающих туфлях. Здесь перед нами твердый, могучий, вневременной дух, который, нося маску облекающей его смертности, намерен сбросить с себя этот покров, а пока что еще позволяет ему вольно и свободно болтаться вокруг себя.
Рассмотренные боги представляются нам со стороны этой высокой свободы и духовного спокойствия поднимавшимися над своей телесностью. Поэтому при всей красоте и законченности своего облика, своих членов боги все же ощущают их как что-то лишнее. Однако весь их телесный облик полон жизни, одушевлен, тождествен с духовным бытием, неразлучен с ним. Твердая в себе основа не расходится с более мягкими частями, дух не уходит, не отлетает от тела, а оба — дух и тело — составляют единое прочное целое, из которого тихо выглядывает внутри-себя-бытие духа с удивительной уверенностью в самом себе.
195
γγ. Но так как указанное противоречие не выступает, однако, как различие и отделение друг от друга внутренней духовности и ее внешности, то заключающееся в нем отрицательное начало именно поэтому имманентно данному неразделенному целому и выражено в нем же самом. Это и есть то дыхание скорби в духовном величии, которое умные люди ощущали в античных образах богов при всей их совершенной красоте.
Спокойствие божественного веселья не должно суживаться до радости, удовольствия, удовлетворения; ,и мир, присущий вечности, не должен снизиться до улыбки самодовольства и душевного уюта. Удовлетворенность есть чувство согласия нашей единичной субъективности с определенным, данным нам или порожденным нами, состоянием. Наполеон, например, никогда не выражал более полно своей удовлетворенности, чем тогда, когда ему удавалось нечто такое, относительно чего весь мир выражал свое неудовольствие. Ибо удовлетворенность есть лишь одобрение собственного бытия, собственных дел и поступков; крайняя степень такого довольства проявляется в том филистерском чувстве, к которому должен прийти всякий ограниченный человек. Но это чувство и его выражение не есть выражение пластических вечных богов. Свободная совершенная красота не может удовлетворяться одобрением определенного конечного существования. Ее индивидуальность, хотя она характерна я 'в себе определенна, все же со стороны и духа и облика сливается только с собою как со свободной всеобщностью и одновременно покоящейся в себе духовностью.
Эта всеобщность есть то, что некоторые хотели изобразить как холодность греческих богов. Однако холодны они только в сравнении с современной задушевностью в области конечного бытия; если же их рассматривать самих по себе, то в них найдется теплота и жизнь. Радостный мир, отражающийся в их телесной форме, есть, по существу, абстрагирование от особенного, безразличие к .преходящему, отказ от внешнего, нескорбное и немучительное отречение от земного и мимолетного, подобно тому как духовная ясность отвращает свой взор от смерти, гроба, потери близких, всего временного, и именно потому, что она глубока и содержит это отрицательное начало в самой себе. Но чем больше в фигурах богов выступают серьезность я духовная свобода, тем больше ощущается контраст этого величия с определенностью и телесностью. Невозмутимо счастливые боги как бы скорбят о своем блаженстве или своей телесности; мы читаем в их образах ожидающую их в будущем судьбу. Развертывание этой судьбы, как действительное проявление указанного проти-
196
воречия между величием и особенностью, духовностью и чувственным существованием, ведет к гибели само классическое искусство.
с) Если, в-третьих, мы поставим вопрос, каково то внешнее воплощение, которое соответствует только что указанному понятию классического идеала, то и в этом отношении существенные точки зрения уже были отмечены более подробно раньше, когда мы рассматривали идеал вообще. Здесь мы должны лишь оказать, что в собственно классическом идеале духовная индивидуальность богов не воспринимается в ее отношении к иному, не вовлекается 'из-за своей особенности в конфликт и борьбу, а обнаруживается в вечном спокойствии, в грусти божественного мира. Поэтому определенный характер обнаруживается не в том, что он побуждает богов к особенным чувствам и страстям или понуждает их осуществлять определенные цели. Напротив, они выведены за пределы всякой коллизии и запутанности, за пределы всякого отношения к конечному, внутри себя раздвоенному и возвращены к чистой погруженности в себя.
Этот строжайший покой, который является не неподвижным, холодным и мертвенным, но осмысленным и неизменным, есть самая высокая и самая соразмерная форма изображения классических богов. А если боги и попадают в определенные ситуации, то это такие состояния или поступки, которые не дают повода к конфликтам и, будучи сами по 'себе безобидны, оставляют богов в их безмятежности.
Из отдельных искусств скульптура более всего подходит для воплощения классического идеала в его простом бытии-у-себя, в котором должно обнаружиться скорее божественное вообще, чем определенный, особенный характер этого божественного. Такой стороны идеала придерживается главным образом древняя, строгая скульптура, а скульптура позднейшей эпохи переходит к драматической живости ситуаций и характеров. Напротив, поэзия заставляет богов действовать, то есть вести себя отрицательно по отношению к существующему, и этим приводит их к борьбе и спорам. Спокойствие пластических произведений, в которых боги остаются в наиболее свойственной им сфере, может выразить отрицательный момент духа, направленный против особенностей, лишь в той серьезности скорби, характер которой уже был нами отмечен.
00.htm - glava42
2. КРУГ ОСОБЕННЫХ БОГОВ
Как созерцаемая, воплощаемая в непосредственно существующем и, следовательно, как определенная и частная индивп-
197
дуальность божество необходимо обладает множеством обликов. Для принципа классического искусства политеизм безусловно существен. Было бы нелепо желать изобразить единого бога религии возвышенного и пантеизма или абсолютной религии, которая понимает бога как духовную и чисто внутреннюю личность, в формах пластической красоты или предполагать, что у евреев, магометан или христиан классические формы для выражения их религиозных верований, так же как и у греков, могли произойти из первоначального созерцания.
а) Множество индивидуальных богов
В этой множественности божественный универсум, существующий ла данной ступени, распадается на круг особенных богов, из которых каждый является отдельным самостоятельным индивидом и противостоит другим. Эти индивидуальности, однако, не таковы, чтобы их можно было принимать только за аллегории всеобщих свойств, то есть считать, например, что Аполлон был богом знания, Зевс богом власти,— Зевс есть всецело также и знание, а Аполлон в «Эвменидах» защищает, как мы видели выше, также и Ореста, сына, и притом царского сына, которого он сам побудил к мести. Круг греческих богов есть некое множество .индивидов, и хотя каждый отдельный бог носит определенный характер особенной личности, все же он представляет объединенную в себе целостность, которая в самой себе обладает также и свойствами другого бога. Ибо каждый образ в качестве божественного есть также и целое. Только благодаря этому греческие индивидуальные боги обладают богатством черт. Хотя блаженство их проистекает из общего всем им духовного спокойствия и из того, что они отвлекаются от прямой и конечной направленности на рассеивающее разнообразие вещей и отношений, все же они обладают той мощью, которая дает им возможность обнаружить себя - разносторонне действенными и деятельными. Они не являются ни абстрактно особенным, ни абстрактно всеобщим, а представляют собою всеобщее, 'которое есть источник особенного.
Ь) Недостаток систематического расчленения
Вследствие такой именно индивидуальности бога греческий политеизм не может составить систематически расчлененной в себе целостности. Правда, на первый взгляд кажется неизбежным требование, чтобы многочисленные боги, собранные на Олимпе,—
198
при условии, что обособление их должно быть истинным и содержание классическим,— непременно выражали бы в своей совокупности целостность идеи в себе, исчерпали бы весь круг необходимых сил, властвующих в природе и духе, чтобы можно было конструировать их, то есть показать их необходимость. Это требование нужно было бы тотчас ограничить тем, что силы души и духовной абсолютной внутренней жизни, начинающие проявляться лишь в позднейшей, высшей религии, остались вне области классических богов, так что объем содержания, частные стороны которого могли бы стать предметом созерцания в греческой мифологии, тем самым уже сокращается. Но и помимо этого — с одной стороны, многообразная внутри себя индивидуальность необходимо влечет за собой случайность определенности, совершенно не поддающуюся строгому расчленению в различиях понятия и не позволяющую богам застыть в абстракции одной определенности. С другой стороны, всеобщность, в стихии которой индивидуальные боги ведут свое блаженное существование, устраняет устойчивую особенность, и величие вечных сил возвышается над холодной серьезностью конечного, в которую, если бы не имелось этой непоследовательности, были бы впутаны божественные образы по причине своей ограниченности.
с) Основной характер круга богов
Поэтому хотя в греческой мифологии и изображены главные мировые силы как целостность природы и духа, все же эта совокупность богов — как из-за всеобщего характера этих богов, так и из-за их индивидуальности — не может выступать как систематическое целое. В противном случае боги, вместо того чтобы быть индивидуальными характерами, были бы преимущественно аллегорическими существами; вместо того чтобы быть божественными индивидами, они стали бы конечными, ограниченными, абстрактными характерами.
Если мы рассматриваем круг греческих божеств, то есть круг так называемых главных богов, в их простом основном характере, как он, закрепленный скульптурой, проявляется в наиболее всеобщем и все же чувственно-конкретном представлении, то, хотя мы и находим твердо установленные существенные различия и их целостность, все же в частных случаях они снова стираются и строгость исполнения уступает место непоследовательности красоты и индивидуальности. Так, например, Зевс держит в своих руках власть над богами и людьми, не нанося, однако, этим существенного ущерба свободной самостоятельности
199
прочих богов. Он высший бог, но его могущество не поглощает могущества других. Правда, он находится в связи с небом, с громом и молнией, с природой, рождающей жизнь, однако в еще большей мере, и это соответствует его существу, он — мощь государства, законного порядка вещей, связующее начало в договорах, клятвах, гостеприимстве и вообще связь того, что в человеческих, практических, нравственных делах представляет собой их субстанциальность и силу знания и духа.
Его братья обращены к морю и к подземному миру. Аполлон выступает как познающий бог, как проявление и прекрасное воплощение интересов духа, как учитель муз. '«Познай самого себя» — гласит надпись на его храме а Дельфах, заповедь, имеющая в виду познание не слабости и недостатков, а сущности духа, искусства и всякого истинного познания. Одна из основных областей Гермеса — хитрость и красноречие, посредничество вообще, как оно имеет место и в подчиненных сферах, принадлежащих еще области завершенного духа, хотя к ним и примешиваются аморальные элементы. Гермес же сопровождает тени умерших в подземный мир. Военная сила есть одна из главных черт Ареса; Гефест обнаруживает себя искусным в технических навыках. Восторг, еще носящий в себе элемент природного, воодушевляющая природная сила вина, игры, драматические представления и т. д. предоставлены Дионису.
Аналогичный круг содержания охватывает и женские божества. Одним из основных определений Юноны является нравственная связь брака. Церера научила людей земледелию и содействовала его распространению. Тем самым она установила оба отношения, связанные с земледелием,— заботу о произрастании естественных продуктов, удовлетворяющих непосредственнейшие потребности, и затем духовный элемент собственности, брака, права, начатков цивилизации и нравственного порядка. И точно гак же Афина представляет умеренность, рассудительность, законность, могущество мудрости, технических умений в ремеслах и храбрость; она соединяет в своем рассудительном и воинственном девственном облике конкретный дух народа, свободный субстанциальный дух города Афин и объективно воплощает его как господствующую силу, заслуживающую божеских почестей. Напротив, Диана, совершенно отличная от Дианы Эфесской, имеет своей существенной, характерной чертой, скорее, неподатливую самостоятельность девственного целомудрия; она любит охоту и вообще является не тихо размышляющей, а строгой, устремленной девой. Афродита с прелестным Амуром, из древнего титанического Эроса превратившегося в ребенка, показывает нам чело-
200
веческий аффект любовного влечения, половой любви и т. д. Таково содержание духовно воплощенных индивидуальных богов. Что же касается их внешнего изображения, то мы опять должны указать на скульптуру как на то искусство, которое развивается вместе с этим обособлением богов. Выражая индивидуальность в ее специфической определенности, скульптура уже выходит за пределы первоначального строгого величия, хотя она все еще объединяет многообразие и богатство индивидуальности в одну определенность, в то, что мы называем характером; этот характер в его простой ясности она фиксирует в образах богов для чувственного созерцания, то есть для внешней, последней определенности. Ибо в отношении внешнего и реального существования представление всегда остается неопределенным, даже если оно, подобно поэзии, разрабатывает содержание, создавая из него множество историй, изречений и событий из жизни богов. Вследствие этого скульптура, с одной стороны, более идеальна, а с другой, она индивидуализирует характер богов до такой степени, что он становится вполне определенно человеческим и завершает антропоморфизм классического идеала. В качестве этого изображения идеала в его внешней стихии, всецело соразмерной внутреннему существенному содержанию, образы греческой скульптуры представляют идеалы в себе и для себя — сами по себе сущие, вечные облики, средоточие пластической и классической красоты, тип которых остается основой даже тогда, когда эти образы начинают совершать определенные поступки и оказываются замешанными в частные события.
00.htm - glava43
3. ЕДИНИЧНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ БОГОВ
Но индивидуальность и ее изображение не могли теперь удовлетвориться все еще относительно абстрактным своеобразием характера. Небесное светило исчерпывается своим простым законом и его выявляет; немногими характерными чертами определяется внешняя форма царства ископаемых, но уже в растительном царстве перед нами открывается бесконечная полнота самых разнообразных форм, переходов, смешений и аномалий, а животные организмы проявляют себя в еще большем количестве различий и взаимодействий с внешней средой, с которой они связаны. Если же мы поднимемся в область духовного мира и его проявлений, то мы найдем бесконечно обширную многосторонность внешнего и внутреннего существования. Так как классический идеал не останавливается на покоящейся в себе индивидуальности, а должен привести ее в движение, связать с иным
201
и показать ее действенность, то и характер богов не останавливается на субстанциальной в самой себе определенности, а переходит к дальнейшим обособлениям.
Это раскрывающееся перед нами движение к внешнему существованию и связанная с этим движением изменчивость дают более детальные черты, характеризующие единичность каждого бога, как они подобают и необходимы для живой индивидуальности. Но с подобной единичностью сочетается также случайный характер особенных черт, которые уже не сводятся к всеобщему началу, составляющему субстанциальный смысл. Вследствие этого данный частный аспект отдельных богов превращается в нечто положительное, которому и позволено окружать их в качестве лишь внешнего дополнения и отзвука прошлого.
а) Материал 'для индивидуализации
Тут (Сразу встает вопрос: откуда возникает материал для этого единичного способа выявления богов, каким образом они развиваются в процессе своего обособления? Для реального человеческого индивида, для его характера, являющегося источником совершаемых им поступков, для событий, в которые он оказывается замешанным, для судьбы, которая его постигает, более частный положительный материал доставляют внешние обстоятельства — время рождения, врожденные задатки, родители, воспитание, среда, обстоятельства данного времени,— вся область соотнесенных внутренних и внешних условий. Этот материал содержится в существующем мире, и жизнеописания отдельных лиц, взятые с этой стороны, всегда будут характеризоваться величайшими индивидуальными отличиями.
Иначе обстоит дело со свободными образами богов, не обладающими существованием в конкретной действительности, а возникающими из фантазии. Можно было бы думать, что поэты и художники, которые, вообще говоря, создают идеал из свободного духа, заимствуют материал для случайных подробностей только из субъективной силы воображения. Представление это, однако, ошибочно. Ибо, как мы уже указали, классическое искусство приходит к тому, 'что есть подлинный идеал, только путем реакции против предпосылок, необходимо принадлежащих его собственной области. Из этих предпосылок проистекают те специальные особенности, которые придают богам более индивидуальную жизненность. Основные моменты этих предпосылок уже были нами указаны, и здесь мы должны только вкратце напомнить предшествующее.
202
α. В первую очередь богатый источник составляют символические религии природы, которые служат греческой мифологии основой, подвергающейся преобразованию. Но подобные заимствованные черты, поскольку ими наделяют здесь богов, представляемых как духовные индивиды, должны, по существу, утратить свой символический характер, ибо теперь они уже не могут сохранить значение, отличное от того, что представляет собой сам индивид и что он проявляет. Поэтому прежнее символическое содержание превращается теперь в содержание самого божественного субъекта, а так как оно касается не субстанциального элемента бога, но лишь частных второстепенных черт, то такой материал опускается до уровня внешней истории, какого-то деяния или события, приписываемых воле богов и обнаруживающихся в том или ином частном положении.
Таким образом, здесь снова появляются все символические предания прежних священных поэм. Будучи преобразованы в поступки субъективной индивидуальности, они принимают форму человеческих событий и историй, которые якобы случились с самими богами и не должны считаться чем-то произвольно вымышленным поэтами. Рассказ Гомера о богах, которые предприняли путешествие, чтобы в продолжение двенадцати дней пировать у беспорочных эфиопов, был бы жалким вымыслом, будь он лишь фантазией поэта. Это верно и по отношению к рассказу о рождении Юпитера. Кронос, рассказывают нам, снова проглотил всех рожденных им детей, так что, когда Рея, его супруга, забеременела, она удалилась на остров Крит и там родила своего младшего сына Зевса, а Кроносу дала проглотить вместо ребенка камень, который обернула в кожу. Позднее Кронос снова изверг из себя всех дочерей, а также Посейдона. Этот рассказ как субъективный вымысел был бы вздором, но сквозь него просвечивает остаточный символический смысл; последний, однако, утратив свой символический смысл, кажется благодаря этому чисто внешним событием.
Аналогично обстоят дело с рассказом о Церере и Прозерпине. Здесь речь идет о древнем символическом значении исчезновения и произрастания зерна. Миф представляет это в таком виде: Прозерпина будто бы забавлялась собиранием цветов в долине и сорвала благоухающий нарцисс, который давал сто ростков от одного корня. И вот содрогается земля, Плутон выходит из-под земли, сажает плачущую Прозерпину в свою золотую колесницу и увозит ее в подземный мир. Церера, снедаемая материнской тоской но дочери, долгое время тщетно странствует по земле. Наконец Прозерпина возвращается обратно в надземный
203
мир; однако Зевс разрешил ей это при том условии, что Прозерпина не должна вкушать пищи богов. К сожалению, она однажды вкусила в Элизиуме гранатное яблоко; поэтому ей разрешено пребывать в надземном мире лишь весной и летом. Здесь всеобщий смысл также не сохранил своей символической формы, но переработан в некоторое человеческое событие, через многочисленные внешние черты которого всеобщий смысл просвечивает лишь издалека.
Точно так же и постоянные эпитеты богов часто указывают на подобную символическую основу; однако эти эпитеты сбросили с себя символическую форму и служат теперь лишь для того, чтобы придать божественной индивидуальности более полную определенность.
β. Другой источник положительных частных черт отдельных богов — это локальные условия. Они служат источником в отношении как происхождения представлений о богах, так и тех обстоятельств, при которых произошло появление и введение их культа, а также тех различных мест, в которых эти боги преимущественно сделались предметом поклонения.
αα. Несмотря на то, что воплощение идеала и его всеобщей красоты вышло за пределы частной местности и ее своеобразия и объединило во всеобщности художественной фантазии и отдельные внешние черты, создав из них целостную картину, безусловно соответствующую субстанциальному смыслу,— несмотря на все это,—когда боги, рассматриваемые со стороны их единичности, ставятся скульптурой в обособленные отношения и связи, эти частные особенности и местные окраски снова выступают, чтобы указать в данной индивидуальности нечто хотя бы внешне более определенное. Павсаний, например, рассказывает о множестве таких местных представлений, статуй, картин, сказаний; с ними он или сам столкнулся в храмах, публичных местах, храмовых сокровищницах, в областях, в которых произошло нечто важное, или же слышал от других.
И точно так же в греческих мифах, рассматриваемых с этой стороны, древние, заимствованные на чужбине традиции и локальные черты смешиваются со своими, родными преданиями; всему придана большая или меньшая связь с историей, с возникновением и основанием государств, в особенности посредством колонизации. Но так как этот многообразный специальный материал потерял во всеобщности богов свое первоначальное значение, то получаются пестрые, замысловатые и не имеющие для нас никакого смысла рассказы. Так, например, Эсхил в «Прометее» сообщает нам о блужданиях Ио во всех грубых и
204
внешних подробностях, как на каменном барельефе, без всякого намека на какое бы то ни было нравственное, историческое или природное толкование. Так же обстоит дело с Персеем, Дионисом и другими, в особенности с Зевсом, с мифами об его кормилицах, об его изменах Гере, которую он к тому же при случае подвешивает ногами к наковальне, заставляя висеть между небом и землей. В мифах о Геркулесе также соединен разнообразный и .весьма пестрый материал, который, как всегда в подобных историях, принимает затем вполне человеческий характер в виде случайных событий, дел, страстей, несчастных случаев и других происшествий.
ββ. Вечные силы классического искусства представляют собой всеобщие субстанции в действительном формировании греческого человеческого существования и действия. От первоначального содержания национальной истории, от героических времен и других преданий еще и в позднейшие эпохи у богов сохраняется много остатков былого. Многие черты в пестрых рассказах о богах несомненно указывают на исторических лиц, героев, древние племена греческого народа, события в природе и случаи, имеющие отношение к происходившим войнам, борьбе и ко многому другому. И подобно то.му как семья, различие племен является исходным пунктом государства, так греки имели и своих семейных богов, пенатов, племенных богов и божеств, покровительствующих отдельным городам и государствам.
Из такого стремления к историческому пониманию возникло утверждение, что мы вообще должны объяснить происхождение греческих богов подобными историческими фактами, героями, древними царями. Это правдоподобная, но плоская точка зрения, снова недавно введенная в обращение Гейне. Аналогично этому француз Николай Фрере выдвинул в качестве общего принципа объяснение мифов о войне между богами споры между различными жреческими корпорациями. Конечно, мы должны признать, что такой исторический момент играет известную роль, что определенные племена выдвигали свои воззрения о божестве, что различные местности доставляли известные индивидуальные черты богов. Однако подлинное происхождение богов объясняется не этим внешним историческим материалом, а духовными силами жизни, за каковые их и принимали, так что положительному, местному, историческому элементу должен быть предоставлен простор лишь для придания большей определенности индивидуальным богам.
γγ. Далее, так как бог делается предметом человеческого представления и скульптура изображает его в телесном, реаль-
205
ном облике, с которым человек соприкасается затем в богослужебных действиях культа, то благодаря этому отношению возникает новый материал для сферы положительного и случайного. Известные животные или плоды приносятся в жертву тому или иному богу, в такой-то процессии выступают жрецы и народ, в такой-то последовательности совершаются отдельные культовые действия — все эти обстоятельства, накопляясь, порождают разнообразнейшие отдельные черты. Ибо каждое такое действие имеет бесконечное множество сторон и внешних моментов, которые сами по себе в зависимости от случая могли бы быть такими или иными. Но, входя в состав некоего священнодействия, эти внешние моменты должны быть не произвольными, а твердо установленными и должны переходить в сферу символического. К таким внешним чертам относится, например, цвет одежды, у Вакха — цвет вина, а также козлиная шкура, в которую закутывали посвящаемых в мистерии; сюда же принадлежат одеяние и атрибуты богов, лук пифийского Аполлона, бич, посох и другие бесчисленные внешние подробности.
Однако такие вещи постепенно делаются всего лишь привычкой, никто уже больше не думает при их выполнении о первоначальном мотиве. То, что мы путем ученых исследований могли бы обнаружить в качестве значения, представляет собой чисто внешнее действие, которое человек совершает вместе с другими из непосредственного интереса, в шутку, забавляясь, наслаждаясь данным моментом, или из благоговения, или просто потому, что оно стало непосредственно установленным обычаем и совершается также и другими. Если, например, у нас молодые парни зажигают летом огни в Иванову ночь или прыгают, то это чисто внешний обычай, в котором настоящее значение этих действий так же отступило на задний план, как в сложных фигурах праздничных танцев греческих юношей и девушек; каждый тур, будучи похож на извилистые ходы лабиринта, подражал скрещивающимся движениям планет. Они танцуют, не размышляя при этом, их интерес ограничивается только танцем и его прекрасным движением, полным вкуса, изящной праздничности. Все то значение, которое составляло первоначальную основу и воплощение которого носило символический характер для представления ίι чувственного созерцания, превращается в представление фантазии вообще. Подробности последнего рассматриваются нами как сказка или, как это имеет место в исторических описаниях, как определенные внешние события, происходящие в пространстве и времени, о которых лишь говорят: «это так» или «рассказывают» и т. д. Искусство может быть заинтересовано лишь
206
в том, чтобы из этого материала, преобразовавшегося в положительное содержание, извлечь какой-нибудь аспект и сделать из него нечто такое, что ставит перед нашими глазами богов как конкретных живых индивидов и лишь смутно напоминает о более глубоком значении.
Это положительное содержание, когда фантазия обрабатывает его заново, и сообщает греческим богам прелесть живой человечности. Благодаря этому субстанциальное и могущественное представляется индивидуально существующим, в состав которого входит как то, что подлинно в себе и для себя, так и то, что является внешним и случайным. Неопределенное, все еще содержащееся в представлении о богах, определяется точнее и наполняется более богатым содержанием.
Но мы не должны приписывать большой ценности этим специальным историям и частным характерным чертам. Ибо то, что по своему первоначальному происхождению обладало раньше символическим значением, имеет теперь единственную задачу — завершить духовную индивидуальность богов до чувственной определенности человеческой индивидуальности и внести в нее посредством черт небожественных по своему содержанию и своему проявлению — аспект произвола и случайности, аспект, относящийся к конкретному индивиду. Скульптура, поскольку она делает предметом созерцания чистые идеалы богов и должна воплощать характер и выражение только в живом теле, не будет, правда, доводить до крайних пределов внешнее индивидуализирование, однако оно сказывается и в этой области. Так, например, головной убор, расположение волос, локонов у каждого бога различно, но это различие служит не для символических целей, а для более строгого индивидуализирования. У Геркулеса локоны короткие, у Зевса волосы пышно поднимаются над лбом, у Дианы другой извив волос, чем у Венеры, Паллада носит Горгону на шлеме; подобные различия имеются в оружии, поясах, повязках, браслетах и других внешних украшениях.
γ. Наконец, третий источник детальной определенности боги получают благодаря их отношению к существующему конкретному миру и его многообразным природным явлениям, человеческим делам и событиям. Ибо духовная индивидуальность отчасти по своей всеобщей сущности, отчасти по своей особенной единичности происходит из естественной основы и человеческой деятельности, истолкованных ранее символически, и остается в качестве духовного, для себя сущего индивида в постоянном живом обращении к природе и человеческому существованию. Здесь бьет ключом фантазия поэта, являющаяся неиссякаемым источ-
207
ником тех особых рассказов, черт характера и деяний, которые сообщаются о богах.
Художественная ценность этой ступени состоит в живом переплетении индивидуальных богов с человеческими поступками и включении деталей событий во всеобщность божественного. Мы также, хотя и в другом смысле, говорим: судьба от бога. Уже в повседневной действительности — в перипетиях своей жизни, в своих потребностях, опасениях, надеждах — грек искал прибежища у богов. Тут большую роль играют прежде всего внешние случайности, которые рассматриваются жрецами как знамение и истолковываются как имеющие отношение к человеческим целям и состояниям. Если случилась беда и несчастье, жрец должен объяснить их основание, узнать причину гнева богов и их волю, поведать средства, которыми можно отразить это бедствие.
Поэты идут в своих истолкованиях еще дальше, поскольку они приписывают богам и их действиям все то, что касается всеобщего и существенного пафоса, движущей силы в человеческих решениях и поступках, так что деятельность человека оказывается вместе с тем и деятельностью богов, приводящих в исполнение свои решения через посредство людей. Материал для этих поэтических толкований заимствуется из обыденных обстоятельств; относительно их поэт лишь объясняет, какой бог высказывает в них свою волю и проявляет свою деятельность. Этим преимущественно поэзия увеличивает круг многих специальных историй, которые рассказывают о богах.
'Можно напомнить о некоторых примерах, которые, будучи взяты с другой стороны, уже использовались нами для разъяснения связи всеобщих сил с действующими человеческими индивидами («Эстетика», т. I, стр. 235). Гомер изображает Ахилла храбрейшим среди греков, стоящих пред вратами Трои. Неприступность героя он выражает следующим образом: у Ахилла было неуязвимо все тело, кроме пятки, за которую его держала мать, погружая его в воды Стикса. Этот рассказ принадлежит фантазии поэта, истолковывающего внешний факт. Но если этот рассказ понимают в смысле действительного события, в которое древние верили будто бы так же, как мы верим чувственному восприятию, то это представление весьма грубо. С этой точки зрения Гомер и вообще все греки представляются недалекими людьми — в том числе и Александр, восхищавшийся Ахиллом и тем, что ему выпало счастье быть воспетым Гомером. Так полагает, например, Аделунг, рассуждая, что Ахиллу нетрудно было быть храбрым, так как он знал о своей неуязвимости. Подлинная храбрость Ахилла этим отнюдь не умаляется, ибо он
208
знает также и о предстоящей ему ранней смерти и все же никогда не стремится избежать опасности там, где она ему угрожает.
Совершенно иначе изображается сходное обстоятельство в «Песне о Нибелунгах». Там Зигфрид с роговой кожей также неуязвим; кроме того, у него еще шапка-невидимка. Если он, будучи невидим, помогает королю Гунтеру в борьбе с Брунгильдой, то это лишь грубое, дикое колдовство, дающее не очень-то выгодное представление о храбрости как Зигфрида, так и короля Гунтера. Правда, у Гомера боги часто действуют во благо отдельных героев. Однако боги являются у него лишь как всеобщая сторона того, что человек представляет собою и совершает в качестве индивида и во что он необходимо должен вкладывать всю энергию своего героизма. Если бы дело обстояло иначе, то богам надо было бы только перебить в сражении всех троянцев, чтобы помочь грекам. Гомер же, описывая главную битву, подробно изображает борьбу отдельных героев. Лишь после того как толкотня и давка стали всеобщими, как разгорелась ярость сражающихся войск и проявилось их мужество, только тогда стал носиться по полю битвы сам Apec и боги стали сражаться против богов. И это прекрасно и великолепно не только как выражение усиления напряжения, но и в том более глубоком смысле, что Гомер в отдельных событиях и различных подвигах узнает отдельных героев, в совокупном же и всеобщем действии — проявление всеобщих сил.
В иной связи Гомер заставляет также выступить Аполлона, когда дело идет об убийстве Патрокла, носящего непобедимое оружие Ахилла («Илиада», XVI, ст. 783—849). Трижды бросался Патрокл, равный Аресу, в толпы троянцев; он уже убил трижды по девять человек. Когда он кинулся в четвертый раз, тогда ему навстречу сквозь толпу вышел бог, сокрытый темной ночью, ударил его в спину и плечи, сорвал с него шлем, так что тот покатился по земле и зазвенел под копытами коней; волосы Патрокла загрязнились от покрывшей их крови и пыли,- что прежде было неслыханным делом. Аполлон рушит и медное копье в руках Патрокла; с плеч падает щит; панцирь также развязывает Феб-Аполлон.
Это вмешательство Аполлона можно принять за поэтическое объяснение того обстоятельства, что Патроклом овладела слабость, как бы естественная смерть, охватившая его в толкотне и пылу сражения при четвертом его налете и сломившая его. Только теперь Эвфорб в состоянии вонзить ему в спину между плеч копье. Хотя Патрокл и пытается избегнуть новой схватки,209
его уже настиг Гектар и глубоко вонзает ему копье в живот. Тут Гектор радостно торжествует и насмехается над падающим, но Патрокл отвечает ему слабым голосом: Зевс и Аполлон победили меня, победили без труда, так как они сорвали оружие с плеч. Двадцать таких, как ты, поверг бы я на земь своим копьем; однако гибельный рок и Аполлон убивают меня, вторым убивает меня Эвфорб, ты же третий.
И здесь появление богов лишь истолковывает тот факт, что Патрокл, хотя его и защищает оружие Ахилла, был сначала обессилен, оглушен, а потом убит. Тут вопрос не в суеверии или праздной игре фантазии; разговор о том, что, мол, вмешательство Аполлона умаляет славу Гектора или будто Аполлон играет не очень-то почетную роль во всем этом деле, так как приходится думать о насилии со стороны бога,—подобные рассуждения являются столь же безвкусными, сколь и праздными суевериями прозаического рассудка. Ибо во всех тех случаях, когда Гомер объясняет особые происшествия подобным явлением богов, боги представляют собой начало имманентной внутренней сущности самого человека, силу его собственной страсти, его размышления или вообще силу того состояния, в котором он находится, силу и основу того, что происходит с человеком в результате такого состояния. Если иногда и обнаруживаются совершенно внешние, чисто случайные черты в выступлении богов, то они опять превращаются в шутку — например, когда хромающий Гефест обходит в качестве виночерпия пир богов. Вообще говоря, Гомер не очень серьезно относится к реальности этих явлений; иной раз боги действуют, а в другой раз они совершенно спокойны. Греки прекрасно знали, что именно поэты были виновниками появления богов, и если они в них верили, то вера греков относилась к духовному, которое столь же пребывает в собственном духе человека, сколь действительно представляет собою всеобщее действенное и движущее начало происходящих событий. Нам вовсе не приходится быть суеверными, чтобы наслаждаться этим поэтическим изображением богов.
Ь) Сохранение нравственной основы
Таков общий характер классического идеала, дальнейшее развертывание которого нам придется подробнее рассмотреть при анализе отдельных искусств. Здесь же мы должны сделать лишь одно замечание. Боги и люди в классическом искусстве, как бы они ни развивались в направлении к частному и внешнему, все же должны сохранить положительную нравственную основу.
210
Субъективность все еще остается в единстве с субстанциальным содержанием своей мощи. Подобно тому как природное сохраняет в греческом искусстве гармонию с духовным и подчинено внутреннему в качестве адекватной формы существования, так и субъективная, внутренняя сущность человека всегда изображается в прочном тождестве с подлинной объективностью духа, то есть с существенным содержанием нравственности и истины.
Взятый с этой стороны классический идеал не знает ни разделения внутреннего аспекта и внешней формы, ни такого разрыва, когда на одной стороне оказывается субъективное и тем самым абстрактно произвольное в целях и в страстях, а на другой — всеобщее, ставшее в силу этого абстрактным. Основой характера все еще должно быть субстанциальное начало, а дурные, грешные, злые черты замыкающейся внутри себя субъективности исключены из классического искусства. Прежде всего искусству здесь совершенно чужды жестокость, злоба, подлое и отвратительное, получающее известное место в искусстве романтическом. Правда, мы видим, что греческое искусство берет своим предметом многочисленные проступки, матереубийство, отцеубийство и другие преступления против семейной любви и благочестия. Однако оно не изображает их как ужасное событие или (это недавно у пас было модой) как то, к чему приводит неразумие так называемой судьбы, обладающей лишь ложной видимостью необходимости. Если люди и совершают проступки, а боги повелевают и защищают эти нарушения, то такие действия всякий раз изображаются под углам зрения той или иной действительно присущей им правомерности.
с) Переход к приятному и привлекательному
Несмотря на эту субстанциальную основу, мы видим, как всеобщее художественное формирование классических богов из тиши идеала все более и более вступает в многообразие индивидуального и внешнего явления; как события, происшествия и поступки детализируются, приобретая все более и более человеческий характер. Вследствие этого классическое искусство переходит в конце концов по своему содержанию к изолированию случайной индивидуализации, а по своей форме — к приятному, прелестному. Приятное состоит в разработке отдельных черт внешнего явления во всех его подробностях, вследствие чего художественное произведение захватывает уже не только своим субстанциальным внутренним содержанием, но и многообразно касается конечных сторон его субъективности. Ибо в этом конеч-
211
ном характере художественного бытия как раз и заложена более близкая связь с субъектом, который как таковой сам конечен и теперь снова обретает себя в художественном .произведении таким, каким он непосредственно существует, и доволен этим обстоятельством. Строгость богов переходит в привлекательность, которая не потрясает человека и не поднимает его выше частного бытия, но позволяет спокойно оставаться в этом последнем, притязая лишь на то, чтобы нам понравиться. Подобно тому как фантазия, овладевая религиозными представлениями и свободно формируя их с целью обрести красоту, устраняет серьезность благоговения и в этом отношении портит религию как религию,— так на ступени, на которой мы теперь находимся, это искажение осуществляется большей частью посредством приятного и доставляющего удовольствие элемента. Ибо приятное не при водит к дальнейшему развитию субстанциального смысла богов, их всеобщего начала; их конечный аспект, чувственное существование и субъективный внутренний мир — вот что должно вызывать интерес и доставлять удовлетворение. Поэтому чем больше в прекрасном преобладает прелесть изображенного бытия, тем больше его привлекательность манит прочь от всеобщего и отдаляет от того содержания, которое единственно могло бы удовлетворять более глубокому проникновению.
С этим внешним характером и детальной определенностью образов богов связан переход в другую область художественных форм. Ибо внешний характер этих образов предполагает многообразие, присущее конечному бытию; последнее, получая для себя простор, противопоставляет себя внутренней идее, ее всеобщности и истине, и начинает пробуждать неудовольствие мысли более не соответствующей ей реальностью.
212
Третья глава РАЗЛОЖЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
Зародыш своей гибели классические боги несут в самих себе. Поэтому, когда осознается их неудовлетворительный характер благодаря развитию самого искусства, это приводит к разложению классического идеала. В качестве принципа этого идеала, как он здесь представлен, мы выдвинули духовную индивидуальность, которая находит свое всецело адекватное выражение в непосредственном телесном и внешнем существовании. Эта индивидуальность, однако, распалась на круг отдельных индивидуальных богов, определенность которых не необходима в себе и для себя и предоставлена случайности; в последней вечно властвующие боги получают печать разложимости как для внутреннего сознания, так и для художественного воплощения.
00.htm - glava44
1. СУДЬБА
Правда, скульптура в ее полном совершенстве приемлет богов как субстанциальные силы и сообщает им образ, в котором они сначала уверенно покоятся в себе, так как в красоте менее всего проявляются случайные внешние черты. Однако множественность и разнообразие богов есть их случайность, и мысль развязывает ее в определение одного божества, благодаря властной необходимости которого боги борются друг с другом и принижают друг друга. Ибо, какой бы универсальной мы ни представляли себе власть каждого особенного бога, все же она в качестве отдельной индивидуальности всегда остается .ограниченной по своему объему. Помимо того, боги не пребывают в своем вечном покое. Преследуя особенные цели, они втягиваются в движение, увлекаются в разные стороны уже заранее существующими состояниями и коллизиями конкретной действительности, чтобы здесь помочь, а там — помешать. Эти отдельные отношения, в
213
которые вступают боги в качестве действующих индивидов, характеризуются случайностью, омрачающей субстанциальность божественного, хотя бы последняя и оставалась господствующей основой, и вовлекающей богов в антагонизмы и столкновения, свойственные ограниченному конечному существованию. Вследствие имманентной самим богам конечности они впадают в противоречие со своим величием, достоинством и красотой своего бытия и низводятся до сферы произвола и случайности.
Полное проявление этого противоречия не выступает в идеале в собственном смысле лишь потому, что (это имеет место в 'подлинной скульптуре и ее отдельных храмовых фигурах) божественные индивиды изображаются сами по себе уединенными, пребывающими в блаженном покое; черты их несколько безжизненны, чувствительность притуплена; они сохраняют спокойные черты грусти, о которых уже упоминалось. Уже эта грусть говорит об их судьбе, свидетельствуя, что над ними стоит нечто высшее и что необходим переход от их особенности к всеобщему единству. Но если мы всмотримся в характер этого высшего единства, то увидим, что, в противоположность индивидуальности и относительной определенности богов, оно представляет собой нечто абстрактное и бесформенное. Это необходимость, рок, который является в этой абстрактности лишь высшим началом вообще, покоряющим богов и людей, но сам по себе не поддается уразумению и непонятен.
Судьба еще не есть абсолютная, сущая для себя цель и этим одновременно субъективное, личное, божественное решение. Она лишь единая всеобщая власть, которая возвышается над особенностью единичных богов и потому не может быть изображена как индивид, ибо тогда она выступала бы как одна из многих Индивидуальностей, а не стояла бы выше их. Поэтому она не получает формирования и индивидуальности и является в этой абстрактности лишь необходимостью как таковой. Ей должны покоряться как неотвратимой, ожидающей их судьбе и боги и люди, когда они обособляются, ведут борьбу друг с другом, односторонне проявляют свою индивидуальную силу и хотят подняться выше своих границ и прав.
00.htm - glava45
2. РАЗЛОЖЕНИЕ БОГОВ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ АНТРОПОМОРФИЗМА
Так как в себе и для себя необходимое не принадлежит отдельным богам, не составляет содержания их собственного самоопределения, но лишь витает над ними как лишенная определения абстракция, то тем самым высвобождается аспект особен-
214
ности и единичности. Последний не может избегнуть своей участи и в отношении внешних черт очеловечения, конечных черт антропоморфизма, делающих богов противоположностью тому, что составляет понятие субстанциального и божественного. Гибель этих прекрасных богов искусства необходимо обусловлена их собственной природой, поскольку сознание уже не может больше удовлетворяться ими; оно отвращается от них, уходит в себя. Уже общий характер греческого антропоморфизма приводит к разложению богов как для религиозной, так и для поэтической веры.
а) Отсутствие внутренней субъективности
Если духовная индивидуальность и принимает в качестве идеала человеческий образ, то это непосредственный, то есть телесный образ, а не человечность в себе и для себя, которая хотя в своем внутреннем субъективном мире и сознает себя отличной от бога, но вместе с тем снимает это различие и предстает как единая с богом бесконечная абсолютная субъективность.
а. Пластическому идеалу недостает того аспекта изображения, который представлял бы его как бесконечно знающую внутреннюю жизнь. Пластически прекрасные образы — это не только камень или медь, но в их содержании и выражении еще недостает бесконечно субъективного начала. Можно сколько угодно восторгаться красотой и искусством, но это восхищение остается субъективным, не пребывающим в объекте созерцания — в богах. Однако для истинной целостности требуется и этот аспект субъективного знающего себя единства и бесконечности, так как только он образует живого обладающего знанием бога и человека. Если он не выражен как относящийся к содержанию и природе абсолютного, то последнее не выступает как духовный субъект, а предстоит созерцанию в своей объективности, не имея внутри себя сознательного духа. Конечно, индивидуальность богов имеет в себе также и содержание субъективного, но как случайность и в таком развитии, которое движется само то себе, вне указанного субстанциального покоя и блаженства богов.
ß. G другой стороны, субъективность, противостоящая пластическим богам, не есть бесконечная внутри себя и истинная субъективность. Последняя, как мы это увидим подробнее при рассмотрении третьей, романтической формы искусства, имеет перед собой соответствующую ей объективность как бесконечного внутри себя, знающего себя 'бога. Но так как субъект этой ступени не обнаруживает себя в совершенном, прекрасном образе богов и именно поэтому не осознает себя в своем созерцания в
215
качестве предметного и объективно сущего, то он сам 'еще только отличен и отделен от своего абсолютного предмета и является поэтому только случайной конечной субъективностью.
γ. Можно было бы предположить, что фантазия и искусство постигали переход в высшую сферу в виде новой войны богов, то есть подобно тому как они истолковывали первый переход от символики природных богов к духовным идеалам классического искусства. Однако это не так. Этот переход совершался в совершенно другой сфере — как сознательная борьба самой действительности и современности. Благодаря этому искусство занимает совершенно иную позицию по отношению к тому более высокому содержанию, которое оно должно облечь в новые формы.
Это новое содержание не выявляет себя как некое откровение в искусстве, а есть откровение само по себе, независимо от искусства. Оно вступает в субъективное знание на прозаической почве опровержения с помощью доводов, а затем проникает в душу и в 'ее религиозное чувство благодаря чудесам, мученичествам и т. д. Оно выступает с сознанием противоположности, существующей между всеми конечными существами и абсолютным,—которое в действительной истории оказывается процессом событий, приводящим не только к представляемому, но и к фактическому присутствию. Божественное, сам бог стал плотью, родился, жил, страдал, умер и воскрес. Это такое содержание, которое не выдумано искусством, а существовало вне его; оно не почерпнуто искусством из себя, а преднайдено им как материал для воплощения.
Первый же переход и борьба между богами имели свое происхождение в самом, художественном созерцании и фантазии, которая черпала свое учение и образы из внутреннего мира и дала изумленным людям их новых богов. Классические боги получили свое существование только в представлении и возникли лишь в камне и металле или в созерцании, а не в плоти и крови или в действительном -духе. Антропоморфизму греческих богов недостает поэтому действительно человеческого существования, как телесного, так и духовного. Эту действительность в плоти и духе Приносит только христианство — как бытие, жизнь и деятельность самого бога. Тем самым телесность, плоть признали почетным и освятили антропоморфизм, хотя хорошо знали, что чисто природное и чувственное есть нечто отрицательное. Подобно тому как первоначально человек был образом и подобием бога, так теперь бог — образ и подобие человека; и кто видит сына, тот видит и отца, кто любит сына, тот любит также и отца,— бога должны познать в действительном существовании.
216
Это новое содержание осознается не благодаря искусству, а дается ему извне — как некое действительное событие, как история бога во плоти. Искусство не послужило исходной точкой этого перехода, поскольку противоположность между старым и новым была бы слишком резкой. Бог религии откровения по своему содержанию и в своей форме — истинно действительный бог, для которого его противники были бы существами, всецело созданными представлением; они не могут .противостоять ему на одной и той же почве. Напротив, старые и новые боги классического искусства, будучи взяты каждый сам по себе, принадлежат сфере представления. Они обладают только той действительностью, которую конечный дух придает им, постигая и изображая их как силы, властвующие в области природы и духа; их противопоставление, их борьба принимаются всерьез. Если бы переход от греческих богов к христианскому богу имел своим началом искусство, то к изображению борьбы между богами нельзя было бы отнестись вполне серьезно.
Ь) Переход к христианству — предмет только нового искусства
Эта борьба и этот переход только в новейшее время стали случайным, особым предметом искусства, который не мот составить эпоху и в этой форме стать моментом, пронизывающим художественное развитие в целом. В связи с этим я мимоходом напомню о некоторых известных фактах. В новое время часто приходится слышать сетования о гибели классического искусства. Страстную тоску по греческим богам и героям поэты неоднократно делали своей темой. Скорбь эта выражалась по преимуществу в противовес христианству. Хотя и соглашались с тем, что христианство содержит в себе высшую истину, однако при этом оговаривались, что с точки зрения искусства гибель классической древности достойна только сожаления. Таково содержание «Богов Греции» Шиллера, и здесь это стихотворение стоит рассмотреть не только со стороны его прекрасной формы, звучного ритма, картин, полных жизни, или со стороны изящной скорбной задушевности, из которой оно вылилось,— но и разобрать его содержание, так как пафос Шиллера всегда проникнут истинным и глубоким замыслом.
Конечно, христианская религия содержит в себе момент искусства; однако в ходе своего развития она достигла ко времени Просвещения такой точки, когда мысль, рассудок вытеснили тот элемент, в котором искусство безусловно нуждается,— вытеснили действительный человеческий образ и явление бога. Ибо челове-
217
ческий образ и то, что он выражает собою — человеческие события, поступки, чувства,— это та форма, в которой искусство должно постигнуть и изобразить содержание духа. Так как рассудок превратил бога лишь в мыслимую сущность, не верил больше в явление духа в конкретной действительности и вытеснил бога мысли из всякого действительного существования, то этот вид религиозного просвещения с необходимостью пришел к представлениям и требованиям, несовместимым с искусством. Когда рассудок, выбравшись из области этих абстракций, возвышается до разума, то возникает потребность в чем-то конкретном, и в частности в том конкретном, что представляет собой искусство.
В эпоху Просвещения, конечно, занимались и искусством, но, как мы можем видеть на примере самого Шиллера, очень прозаически. Исходным пунктом поэта был этот период, но затем, побуждаемый потребностью разума, который уже рассудок перестал удовлетворять, фантазией и страстью, он почувствовал живую, страстную тоску по искусству вообще, а точнее, по классическому искусству греков, их богам и миросозерцанию. Из этого страстного стремления, оттесняемого абстрактной мыслью времени, в котором жил поэт, и родилось названное стихотворение. В первоначальном наброске отношение Шиллера к христианству всецело полемично; впоследствии он смягчил резкость стихотворения и направил его лишь против рассудочности просвещения, которое начало терять свое господство. Шиллер сначала прославляет греческое миросозерцание, которое одушевляет и наполняет богами всю природу; переходя к современности и прозаичности понимания ею законов природы и отношения человека (к богам, он 'говорит: Вправду ль скорбь мне будет вещим знаком, Вправду ль в ней я господа пойму? Божество, окутанное мраком, Радо отреченью моему'.
Отречение, несомненно, составляет существенный момент христианства. Но лишь монахам представляется, что оно требует от человека умерщвления в себе души, чувства, так называемых природных влечений, лишь им кажется, что отречение требует, чтобы человек не вступал в нравственный, разумный и действительный мир, в семью, государство,— так же как Просвещение с его деизмом, утверждая, что бог будто бы непознаваем, требует
' Пер. А. Голембы.
218
от человека величайшего отречения, отказа от познания бога, от его понимания. Между тем, согласно истинно христианскому воззрению, отречение есть лишь момент опосредствования, переходная ступень, в которой чисто природное, чувственное и конечное сбрасывает с себя свое несоответствие, чтобы заставить дух прийти к высшей свободе и примирению с самим собой, к свободе и блаженству, которых не знали греки. В христианской религии не может быть и речи о прославлении одинокого бога, об его оторванности и отрешенности от мира, лишенного божественного начала, ибо бог имманентен духовной свободе и примирению духа. Поэтому знаменитое шиллеровское изречение: В дни, когда сходили к людям боги, Люди были ближе к божествам —
является ложным. Более важным мы должны признать позднейший вариант окончания, в котором о греческих богах говорится: Высей Пинда, их блаженных сеней, Не зальет времен водоворот: Что бессмертно в мире песнопений, В смертном мире не живет '.
Этим подтверждается уже высказанное нами положение, что греческие боги пребывали лишь в представлении и фантазии. Они не могли ни отстоять свое место в действительной жизни, ни дать конечному духу его окончательное удовлетворение.
Иначе боролся с христианством Парни, прозванный за его удачные элегии французским Тибуллом. В обширной поэме в десяти песнях, представляющей собою нечто вроде эпопеи под названием «Война богов», он, шутя и издеваясь, с неприкрытым фривольным остроумием, но вместе с тем весело и умно смеется над христианскими представлениями. Но эти шутки были только легкомысленными шалостями и не превращали разврат в святость и величайшее превосходство, как это было в «Люпинде» Фридриха фон Шлегеля. Марии, правда, весьма не поздоровилось в этой поэме. Монахи, доминиканцы, францисканцы и т. д. соблазняются вином и вакханками, а монахини — фавнами; тогда творятся очень дурные дела. Но в конце концов боги древнего мира терпят поражение и уходят с Олимпа на Парнас.
Наконец, Гёте в глубокой и полной жизни «Коринфской невесте» изобразил изгнание любви не столько в соответствии с истинным принципом христианства, сколько согласно плохо
' Пер. М. Лозинского.
219
понятому требованию отречения и принесения себя в жертву. Он противопоставляет естественные человеческие чувства этому ложному аскетизму, осуждающему предназначение женщины быть супругой и признающему вынужденное безбрачие более святым, чем брак. Подобно тому как у Шиллера мы находим противоположность между греческой фантазией и рассудочными абстракциями новейшего Просвещения, так и здесь греческое нравственно-чувственное оправдание любви и брака противопоставляется взглядам, принадлежащим лишь одностороннему, неистинному пониманию христианской религии. С большим искусством Гёте придал всей поэме ужасающий тон, главным образом тем, что остается неизвестным, идет ли речь о действительно живой девушке или об умершей, о живой или о призраке; при этом в употреблении размера он с исключительным мастерством переплетает шаловливость с торжественностью, что еще более усиливает жуткость произведения.
с) Разложение классического -искусства в его собственной области
Но прежде чем попытаться понять во всей глубине ту новую •форму искусства, противоположность которой старой форме не входит в эволюцию искусства (на существенных моментах этой эволюции дам еще предстоит остановиться), мы должны сначала уяснить ближайшую форму перехода, еще принадлежащую старому искусству. Принцип этого перехода заключается в том, что дух, индивидуальность которого до сих пор созерцалась в согласии с истинными субстанциями природы и человеческого существования и который в этом согласии знал и находил себя в собственной жизни, воле и собственном действии,— дух теперь начинает возвращаться в бесконечность внутренней жизни. Однако вместо истинной бесконечности он обретает лишь формальное и конечное возвращение в себя.
Если мы бросим более пристальный взгляд на конкретные состояния, соответствующие указанному принципу, то убедимся, что, как это уже было показано, греческие боги имели своим содержанием субстанции реальной человеческой жизни и действия. Помимо воззрения на богов существуют и высшее назначение, всеобщий интерес и жизненные цели. Подобно тому как для греческого духовного образа искусства существенным было то, что он выступал как внешний и действительный, так и абсолютное духовное назначение человека проявлялось как реальная действительность; индивид требовал согласия с ее субстанцией и всеобщностью. Этой высшей целью были -в Греции государственная
220
жизнь, государственная гражданственность, нравственность и живой патриотизм. Помимо этого интереса не было ничего более высокого, более истинного. Но государственная жизнь как мирское и внешнее явление, так же как и вообще мирская действительность, уходит в прошлое. Государство, где господствует подобная свобода, государство, непосредственно тождественное со всеми гражданами, которые деятельны во всех общественных делах, может быть лишь малым и слабым и частично должно разрушаться само по себе, частично же будет раздавлено извне, в ходе мировой истории.
Ибо при такой непосредственной сплетенности индивида со всеобщностью государственной жизни,— с одной стороны, субъективное своеобразие, его частная особенность еще не достигает надлежащего значения и не находит места для развития, не наносящего ущерба целому. Это своеобразие остается ограниченным, природным себялюбием, которое идет собственными путями, преследует свои интересы, далекие от истинного интереса целого; оно отлично от субстанциального, в которое оно не включено. Эгоизм становится гибельным для государства, которому он в конце концов противопоставляет субъективную мощь. С другой стороны, в пределах самой этой государственной свободы пробуждается потребность в высшей свободе субъекта внутри самого себя. Он изъявляет притязание быть свободным не только в государстве как в субстанциальном целом, не только в рамках существующих нравов и законов, но и в собственной внутренней жизни, поскольку в своем субъективном знании он стремится порождать добро и справедливость из самого себя и собственными силами достигнуть их признания. Субъект хочет сознавать, что он в самом себе как субъект субстанциален; поэтому в указанной свободе возникает новый разлад между целью государства и целью свободного в самом себе индивида. Их противоположность появилась уже во времена Сократа. Тщеславие, эгоизм, необузданность демократии и демагогия настолько расшатали реальное государство, что такие люди, как Ксенофонт и Платон, испытывали отвращение к положению, создавшемуся в их родном городе, где забота об общих делах находилась в руках эгоистических и легкомысленных людей.
Дух перехода основывается на разрыве самостоятельного для себя духа и внешнего существования. Духовное в этом отрыве от своей реальности, в которой оно больше не находит самого себя, становится абстрактно духовным. Но оно является не тем, чем был, например, восточный бог, а напротив,— знающим себя действительным субъектом, который порождает и удерживает всеоб-
221
щее содержание мысли — истину, добро, нравы — в своей субъективной 'внутренней жизни, имея в них лишь собственные мысли и убеждения, а не знание существующей действительности.
Это отношение, поскольку оно останавливается на антагонизме и противопоставляет друг другу стороны как только противоположные, могло бы носить весьма прозаический характер. Однако на этой ступени до этой прозы дело еще не доходит. С одной стороны, существует внутри себя устойчивое сознание, которое хочет добра и представляет себе, что исполнение его желания, реальность его понятия зависит от добродетели его души и от почитания старых богов, нравов и законов. Вместе с тем оно настроено против современного ему внешнего бытия, против реальной политической жизни своего времени. Оно раздражено разложением старого образа мыслей, прежнего патриотизма и государственной мудрости и раскалывается на противоположность субъективного внутреннего содержания и внешней реальности. В своем внутреннем мире оно не испытывает полного удовлетворения от одних только представлений об истинной нравственности и обращается поэтому против внешнего мира, относясь к нему отрицательно, враждебно, ставя себе целью его изменить.
Итак, с одной стороны, как мы уже сказали, существует внутреннее содержание, которое, высказываясь твердо и определенно, имеет дело с находящимся перед ним и противоречащим ему миром и получает задачу изобразить эту действительность в ее испорченности, противоположной добру и истине. С другой стороны, эта противоположность еще находит свое решение в самом искусстве. Возникает новая форма искусства, в которой борьба против антагонизма ведется не посредством мысли и не застревает в разладе. Сама действительность в ее нелепой испорченности изображается так, что она разрушает себя в самой себе, чтобы именно в этом саморазрушении ничтожного истинное могло обнаружиться как прочная сохраняющаяся сила, а глупость и неразумие были бы лишены силы прямой противоположности подлинному в себе содержанию. Такой характер носила комедия, созданная среди греков Аристофаном, избравшем для нее предметом важнейшие области действительности своей эпохи; он осмеял их без гнева, в радостном веселье.
00.htm - glava46
3. сатира
Мы видим, однако, что это еще соответствующее искусству решение также исчезает, потому что противопоставление останавливается на форме противоположности и вместо поэтического
222
примирения приводит к прозаическому отношению обеих сторон. Тем самым классическая форма искусства кажется устраненной, так как это прозаическое отношение приводит к гибели как пластических богов, так и прекрасный мир людей. Здесь мы должны сразу же отыскать ту форму искусства, которая на этой переходной стадии еще способна дать место высшему способу формирования и осуществить его. При рассмотрении символического искусства мы установили, что его конечным пунктом являлось отделение образа как такового от его смысла — в различных формах: в басне, притче, загадке и т. д. Если и здесь аналогичное отделение составляет основу разложения идеала, то возникает вопрос: чем отличается данный переход от прежнего? Различие состоит в следующем.
а) Различие между разложением классического искусства и символического
Хотя в собственно символической и сравнивающей форме искусства образ и смысл, несмотря на их родство и связь, с самого начала чужды друг другу, они все же находятся не в отрицательном, а в дружественном отношении, так как именно одинаковые или сходные в этих аспектах качества и черты оказываются основанием их сочетания и сопоставления. Поэтому их пребывающее разделение и отчужденность внутри такого соединения не являются враждебными в отделенных друг от друга аспектах, и этим не нарушается тесное само по себе слияние. Напротив, идеал классического искусства исходит из завершенного взаимопроникновения смысла и образа, духовной внутренней индивидуальности и ее телесности. Поэтому, когда различные аспекты, собранные в такое завершенное единство, отделяются друг от друга, то это происходит только потому, что они больше уже не могут ужиться вместе и вынуждены перейти от мирного соединения к непримиримости и враждебности.
Ь) Сатира
Вместе с этой формой отношения, отличной от символической, изменилось и содержание сторон, отныне противостоящих друг другу. В символической форме искусства намекающее чувственное воплощение получают абстракции, общие мысли или определенные положения в форме всеобщностей рефлексии. Напротив, в той форме, которая выступает в переходной стадии от классического к романтическому искусству, содержанием хотя и служат сходные абстракции — общие мысли, взгляды и рассудочные
223
положения,— но содержание одной стороны противоположности составляют не эти абстракции как таковые, а их существование в субъективном сознании и опирающемся на себя самосознании. Ближайшее требование этой промежуточной .ступени заключается в том, чтобы духовное, которое достигнуто идеалом, самостоятельно выступило для себя.
Уже в классическом искусстве главным была духовная индивидуальность, хотя со стороны своей реальности она оставалась примиренной со своим непосредственным существованием. Теперь речь идет о том, чтобы воплотить субъективность, которая стремится к господству над не соответствующим ей более обликом и внешней реальностью. Тем самым духовный мир становится для себя свободным; он изъял себя из чувственной стихии и в этом уходе в себя обнаруживается как самосознательный субъект, удовлетворенный лишь своей внутренней жизнью. Но этот субъект, отталкивающий от себя внешнее, с духовной стороны еще не представляет истинной целостности, имеющей своим содержанием абсолютное в форме самосознательной духовности, а есть лишь абстрактная, конечная, неудовлетворенная субъективность, находящаяся в противоположности к действительности, Ей противостоит такая же конечная действительность, которая, со своей стороны, также становится свободной. Однако так как истинно духовное ушло из нее во внутреннюю жизнь и уже не хочет и не может снова обрести себя в ней, то она предстоит как действительность, лишенная божественного начала, и как развращенное существование.
Таким путем искусство создает на этой ступени враждебное отношение мыслящего духа-субъекта, основывающегося на самом себе как субъекте с его абстрактной мудростью, знанием и желанием добра и добродетели, к испорченности современной ему жизни. Неразрешенность этой противоположности, в которой внутреннее и внешнее остаются в прочной дисгармонии, составляет прозаичность отношения между этими двумя сторонами. Благородный дух, добродетельная душа, которой отказано в осуществлении своего сознания в мире порока и глупости, отвращается то со страстным возмущением, то с тонким остроумием или холодной .горечью от находящегося перед ним существования, негодует или издевается над миром, который прямо противоречит его абстрактной идее добродетели и правды.
Формой искусства, которую принимает образ обнаруживающейся противоположности между конечной субъективностью и выродившимся внешним миром, является сатира. Обычные теории не знали, как быть с сатирой, и затруднялись, куда ее от-
224
нести. Ибо в сатире нет ничего эпического, к лирике она также не относится. В ней находит свое выражение не чувство души, а всеобщее представление о добре и внутренне необходимом, которое хотя и смешано с субъективной особенностью и выступает как особенный характер добродетели того или иного субъекта однако не наслаждается собою в свободной, нестесненной красоте представления и не источает это наслаждение. Наоборот, это представление угрюмо цепляется за разногласие между собственной объективностью и ее абстрактными принципами и эмпирической действительностью, и оно не создает ни подлинной поэзии, ни настоящих произведений искусства. Поэтому сатирическую точку зрения нельзя постичь, исходя из указанных родов поэзии, а она должна быть понята более общо, как переходная форма классического идеала.
·;) Римский мир как почва сатиры
Так как в сатире проявляется прозаическое по своему внутреннему содержанию разложение идеала, то мы не должны искать его действительную почву в Греции, этой стране красоты. Сатира в ее только что описанном виде представляет своеобразное достояние римлян. Дух римского мира — это господство абстракции, мертвого закона, разрушение красоты и веселых обычаев, вытеснение семьи как непосредственной природной нравственности, вообще — принесение в жертву индивидуальности, которая отдается государству и находит свое хладнокровное достоинство и рассудочное удовлетворение в повиновении абстрактному закону. Принцип этой политической добродетели, холодной жестокости, которой извне покоряется всякая индивидуальность народов, в то время как внутри государства формальное право развивается с аналогичной последовательностью до полного завершения,— этот принцип противоположен истинному искусству, И действительно, в Риме мы не находим прекрасного, свободного, великого искусства. Скульптуру и живопись, эпическую, лирическую и драматическую поэзию римляне взяли у греков и обучились ей. Характерно, что у римлян на родной почве выросли комические фарсы, фесценнины и ателланы; наоборот, более сложные комедии, комедии Плавта и Теренция, заимствованы у греков; они были скорее продуктом подражания, чем самостоятельного творчества. Энний также черпал из греческих источников и сделал мифологию прозаической. Своеобразны для римлян только те виды искусства, которые по своему принципу прозаичны, например дидактические стихотворения, в особен-
225
ности когда они проникнуты моральным содержанием; общие размышления получают здесь лишь внешнее украшение с помощью размера, образов, сравнений и красивой риторики.
В первую же очередь сюда должна быть отнесена сатира, Здесь в пустых декламациях стремится излиться дух добродетельной досады на окружающий мир. Более поэтической эта сама по себе прозаическая форма искусства может стать лишь постольку, поскольку она воссоздает перед нашим взором образ испорченной действительности так, что эта испорченность разрушается в самой себе вследствие собственной нелепости. Например, Гораций, который в лирике полностью освоил греческую художественную форму и манеру, в своих посланиях и сатирах, где он проявляет больше оригинальности, набрасывает живой образ нравов своей эпохи, изображая глупость, которая вследствие несообразности своих средств сама себя разрушает. Это тонкая и культурная, но отнюдь не поэтическая веселость, удовлетворяющаяся тем, что делает дурное смешным. У других же поэтов абстрактное представление о справедливости и добродетели прямо противопоставляется порокам. Здесь недовольство, досада, гнев и ненависть отчасти выступают как отвлеченное витийство о добродетели и мудрости, отчасти же с негодованием благородной души ожесточенно нападают на испорченность в рабский дух своей эпохи или противопоставляют господствующим порокам картину древних нравов, древней свободы, добродетелей совершенно другого, отошедшего в прошлое состояния мира, не имея настоящей надежды и веры на возвращение таких времен. Неустойчивости, изменчивости, трудностям и опасностям позорного настоящего не могут противопоставить ничего другого, кроме стоического равнодушия и внутренней непоколебимости добродетельных убеждений души.
Эта неудовлетворенность сообщает аналогичный тон и римской историографии и философии. Саллюстий считает необходимым выступать против испорченности нравов, которой он сам не остался чужд. Тит Ливии, несмотря на свое риторическое изящество, ищет утешения и удовлетворения в изображении прошлого. Но больше всех Тацит со столь величественным, сколь и глубоким негодованием раскрывает порочность своей эпохи, делая это очень наглядно и без всякой пустой декламации.
Из сатириков большой резкостью отличается Персии; он ожесточеннее Ювенала. Позже греческий сириец Лукиан с веселым легкомыслием выступает против всего на свете — против героев, философов и богов, главным же образом он делает предметом своих насмешек богов Древней Греции, рассматривая их со сто-
226
роны человеческих черт и индивидуальности. Однако он часто болтает о чисто внешних чертах образов богов и их поступков и благодаря этому становится, в особенности для нас, скучным. Ибо, с одной стороны, мы в согласии с нашей верой покончили с тем, что он хотел разрушить, а с другой, мы знаем, что эти черты богов, рассматриваемые с точки зрения красоты, сохраняют вечное значение вопреки его шуткам и насмешкам.
В наши дни сатиры больше не удаются. Котта и Гёте назначили премии за сатиры, но стихотворных произведений в этом жанре не поступило. Для сатиры требуются твердые принципы, с которыми современность находится в противоречии, мудрость,. остающаяся абстрактной, добродетель, которая с упрямой энергией следует лишь самой себе и которая, хотя и может вступить. в разлад с действительностью, не в состоянии, однако, осуществить ни подлинно поэтического разрешения ложного и отвратительного, ни подлинного примирения в истине.
Но искусство не может остановиться на этом разладе между абстрактным внутренним убеждением и внешней объективностью, не отступая от своего собственного принципа. Субъективное должно быть понято как в самом себе бесконечное, как в себе и для себя сущее. Хотя оно и не оставляет существовать конечную действительность как нечто истинное, все же при всей своей противоположности этой действительности оно не относится к ней только отрицательно, а в такой же мере движется к примирению. Лишь в этой деятельности оно впервые получает Bоплoщение как абсолютная субъективность в противоположность идеальным индивидам классической формы искусства.
227·
228
Третий отдел
РОМАНТИЧЕСКАЯ ФОРМА ИСКУССТВА
229
230
00.htm - glava47
Введение О РОМАНТИЧЕСКОМ ВООБЩЕ
Форма романтического искусства, как это следует из всего нашего изложения, определяется внутренним понятием того содержания, которое искусство призвано воплотить. Прежде всего мы должны уяснить своеобразный принцип того нового содержания, которое осознается теперь как абсолютное содержание истины и создает новое миросозерцание и новую форму искусства.
В начальной стадии искусства влечение фантазии заключалось в стремлении перейти от природы к духовности. Но это стремление оставалось только поисками духа. Поскольку он еще не мог дать искусству истинного содержания, он проявлял себя лишь как внешняя форма по отношению к природному смыслу или к лишенным субъективности абстракциям субстанциально внутреннего начала, абстракциям, образовывавшим подлинное средоточие.
Обратное мы нашли в классическом искусстве. Здесь духовность, хотя она благодаря снятию природного смысла и достигает впервые самостоятельности, составляет основу и принцип содержания, а природные явления в своей телесной и чувственной предметности — внешнюю форму. Но эта форма не остается, как на первой ступени, только поверхностной, неопределенной и не проникнутой своим содержанием. Здесь совершенство искусства достигает своей вершины именно благодаря тому, что духовное полностью пронизывает свое внешнее проявление, идеализируя природное в этом прекрасном единстве и делая его соразмерной реальностью духа в форме субстанциальной индивидуальности. Тем самым классическое искусство стало воплощением идеала, соответствующим понятию, завершением царства красоты. Ничего более прекрасного быть не может и не будет.
Однако существует нечто более высокое, чем прекрасное явление духа в непосредственном чувственном облике, даже если
231
этот облик создан самим духом как адекватный ему. Ибо это единство, осуществляющееся в элементе внешнего бытия и делающее чувственную реальность соразмерным существованием, в свою очередь сопротивляется истинному понятию духа и из его примирения с самим собой в телесной стихии вытесняет его к примирению внутри себя. Простая, положительная целостность идеала разрешается и распадается на двойственную целостность: внутри себя сущего субъективного начала и внешнего явления. Посредством этого разделения дух может добиться более глубокого примирения в своей собственной стихии, в стихии внутренней жизни. Дух, имеющий своим принципом адекватность с самим собой, единство своего понятия и своей реальности, может найти соответствующее ему бытие только в своем родном, духовном мире чувства, сердца и вообще внутренней жизни. Благодаря этому дух осознает, что он, как дух, имеет свое иное, свое существование в себе и внутри самого себя, и только вследствие этого он наслаждается своей бесконечностью и свободой.
1. ПРИНЦИП ВНУТРЕННЕЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ
Возвышаясь к себе, дух приобретает внутри самого себя ту объективность, которую он тщетно искал во внешней и чувственной стихии бытия; он ощущает и знает себя в единении с самим собою. Это возвышение составляет основной принцип романтического искусства, и с ним связано то необходимое определение, что для данной ступени искусства красота классического идеала, то есть красота в ее подлинной форме и наиболее соответствующем содержании, не представляет собой последнего предела. Ибо на ступени романтического искусства дух знает, что его истина состоит не в том, чтобы погружаться в телесность; наоборот, он становится уверенным в своей истине лишь благодаря тому, что уходит из внешней стихии в задушевное слияние с собою и полагает внешнюю реальность как некое несоразмерное ему существование. Поэтому, хотя новое содержание ставит себе задачу сделать себя прекрасным, для него красота в прежнем смысле остается все же чем-то подчиненным и превращается в духовную красоту в себе и для себя внутреннего, то есть внутри себя бесконечной духовной субъективности.
Но для того чтобы дух поднялся до своей бесконечности, он должен равным образом возвыситься от чисто формальной и конечной личности до абсолютного, то есть духовное должно воплотить себя как субъект, наполненный всецело субстанциальным началом, знающий и желающий в нем самого себя. И на-
232
оборот, субстанциальное истинное начало не следует понимать как только потустороннее по отношению к человеческому. Надо отбросить антропоморфизм, характерный для греческого созерцания, и сделать принципом человеческое как действительную субъективность; лишь благодаря этому антропоморфизм, как мы уже видели раньше, придет к завершению.
2. БЛИЖАЙШИЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ РОМАНТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Из ближайших моментов, содержащихся в этом основном определении, мы должны развить в общих чертах как круг предметов, так и форму, измененный образ которой обусловлен новым содержанием романтического искусства.
Подлинным содержанием романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой — духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность и свободу. Это внутри себя бесконечное, в себе и для себя всеобщее начало есть абсолютная отрицательность по отношению ко всему особенному, есть простое единство с собою, которое уничтожает всякую внеположность, все процессы природы и круговороты их возникновения, гибели и возрождения, всякую ограниченность духовного существования. Оно привело всех особенных богов к чистому бесконечному тождеству с собою; в этом пантеоне все боги сброшены с престола, пламя субъективности разрушило их, a вместо пластического многобожия искусство знает отныне только единого бога, единый дух, единую абсолютную самостоятельность, которая в качестве абсолютного знания и воли остается в свободном единстве с собою и уже не распадается на те особенные характеры и функции, единственной связью которых, удерживавшей их вместе, было принуждение слепой необходимости.
Абсолютная субъективность как таковая ускользнула бы 'из области искусства и была бы доступна лишь мышлению, если бы она не вступила во внешнее бытие и из этой реальности не ушла бы в себя, чтобы быть действительной, соответствующей своему понятию субъективностью. Этот момент действительности принадлежит абсолютному, ибо абсолютное, являющееся бесконечной отрицательностью, имеет результатом своей деятельности самого себя в форме простого единства знания с собою и в форме непосредственности. Благодаря этому непосредственному существованию, основа которого заключена в самом абсолютном, последнее оказывается не единым, ревнивым богом, который
233
лишь уничтожает природное я ограниченное человеческое бытие, не выявляясь в нем как действительная божественная субъективность, но — истинно абсолютное раскрывается и тем самых становится постижимым и изображаемым также и для искусства.
Но бытие бога не есть природное и чувственное как таковое, а чувственное, приведенное к нечувственному, к духовной субъек-тивности, .которая не теряет во внешнем явлении уверенности в себе как абсолютном, а именно в этой своей реальности обретает настоящую, действительную уверенность в себе. Бог в своей истинной сущности не является просто идеалом, порожденным фантазией. И хотя он вступает в сферу конечности и внешней случайности существования, он знает себя в ней божественным субъектом, оставаясь внутри себя бесконечным и создавая эту бесконечность для себя. Так как благодаря этому действительный субъект есть явление бога, то искусство лишь теперь получает высшее право использовать человеческий облик и его способ внешнего проявления для выражения абсолютного.
Однако новая форма искусства может заключаться лишь в том, чтобы в человеческом облике сделать предметом созерцания не погружение внутреннего во внешнюю телесность, а наоборот, возвращение внутреннего в себя, духовное сознание бога в субъекте. Различные моменты, составляющие целостность этого миросозерцания как целостность самой истины, находят в человеке свое проявление таким образом, что содержание и форму образуют не природные предметы как таковые — солнце, небо, звезды и т. д.— и не круг греческих богов красоты, не герои и не внешние подвиги на поприще семейной нравственности и политической жизни. Бесконечную ценность обретает теперь действительный отдельный субъект в его внутренней жизненности, так как лишь в нем распространяются и сосредоточиваются, по лучая существование, вечные моменты абсолютной истины, которая действительна только как дух.
Если мы сравниваем это определение романтического искусства с задачей классического искусства, как ее наиболее адекватно осуществила греческая скульптура, то мы должны будем при знать, что пластический образ богов не выражает движения я деятельности духа, ушедшего в себя из своей телесной реальности и достигшего внутреннего для-себя-бытия. Правда, изменчивые и случайные черты эмпирической индивидуальности уничтожены s этих возвышенных образах богов, однако им все ж«· недостает действительного бытия сущей для себя субъективности в знании и воле самой себя. Внешне этот недостаток раскрывается в том, что в образах скульптуры отсутствует простое вы
234
ражение души, свет глаз. Самые высокие произведения греческой скульптуры лишены взгляда, их внутреннее содержание не обнаруживается как знающая себя внутренняя жизнь в той духовной сосредоточенности, о которой возвещают глаза. Этот свет души находится вне их и принадлежит зрителю, который не дерзает смотреть образам душа в душу, взором, обращенным во взор.
Бог же романтического искусства является нам видящим, знающим себя, внутренне субъективным и раскрывающим свое внутреннее содержание внутреннему. Ибо бесконечная отрицательность, возвращение духовного в себя устраняет слияние с телесной сферой. Субъективность — это духовный свет, который освещает сам себя, свое дотоле темное пространство, в то время как природный свет может светить лишь в одном предмете. Этот духовный свет сам для себя является той почвой, тем предметом, в котором он сияет и о котором он знает, что это и есть он сам. Но поскольку это абсолютно внутреннее обнаруживается в своем действительном существовании как человеческий способ проявления, а человеческое находится в связи со всем миром,— то с ним сочетается широкое многообразие как духовно субъективного, так и внешнего, к которому дух относится как к себе принадлежащему.
Действительность абсолютной субъективности может иметь следующие формы содержания и проявления.
а) Нашим исходным пунктом должно быть само абсолютное, которое, будучи действительным духом, дает себе существование, знает себя и действует. Здесь человеческий облик представлен так, что он непосредственно известен как имеющий в себе божественное начало. Человек является не просто человеком с его чисто человеческим характером, ограниченными страстями, конечными целями и исполнением последних или обладающим только 'сознанием о боге, но знающим себя единственным и всеобщим богом; в его жизни и страданиях, рождении, смерти и воскресении открывается и для конечного сознания, что есть дух, вечное и бесконечное по своей истине.
Это содержание романтическое искусство вкладывает в историю жизни Христа, его матери, его учеников, равно как и всех тех, в которых деятелен святой дух и налично все божественное. Поскольку в человеческом существовании обнаруживается бог, который в себе обладает всеобщим содержанием, то эта реальность не ограничивается единичным, непосредственным существованием в образе Христа, а раскрывается во всем человечестве, в котором делает себя зримым дух божий, оставаясь в этой
235
действительности в единстве с собою. Распространение этого самосозерцания, этого внутри-себя и у-себя-Сытия духа есть мир, примиренность духа с собою в его объективности,— божественяый мир, царство божие, в котором божественное, изначально имеющее своим понятием примирение со своей реальностью, осуществляет себя в этом примирении и благодаря этому существует и для самого себя.
Ь) Хотя это отождествление и находит свое основание в сущности абсолютного, все же оно как духовная свобода и бесконечность не есть примирение, непосредственно имеющееся в природной и духовной мирской действительности. Напротив, оно осуществляет себя лишь как возвышение духа к его истине из ограниченного непосредственного существования. Для того чтобы дух мог достигнуть целостности и свободы, он должен отделиться от самого себя и противопоставить себя в форме ограниченного природного и духовного бытия самому же себе как бесконечному в себе. И наоборот, с этим разрывом связана необходимость выйти из той разорванности с самим собой, внутри которой сфера конечного и природного, непосредственность наличного бытия, 'естественные чувства определены как отрицательное, дурное и злое; лишь путем преодоления этого недействительного бытия можно вступить в царство истины и удовлетворения.
Поэтому мы должны понимать и изображать духовное примирение только как деятельность, как движение духа, как процесс, в ходе которого возникают усилия, борьба и существенными моментами которого являются боль, смерть, скорбное чувство ничтожности, муки духа и тела. Бог сначала отделяет от себя конечную действительность; подобно этому и конечный человек. пребывая вне царства божия, получает цель возвыситься к богу, отделить от себя конечное, совлечь ничтожность и через умерщвление своей непосредственной действительности стать тем, что бог, являясь в облике человека, сделал объективным, представляющим собой- истинную действительность. Бесконечная боль этой жертвы наисобственнейшей субъективности, страдание и смерть, которые в большей или меньшей степени были исключены из сферы изображения классического искусства или выступали в нем лишь как физическое страдание,— только в романтическом искусстве обретают свою настоящую необходимость.
Нельзя сказать, чтобы греки понимали смерть в ее существенном значении. Ни природное как таковое, ни непосредственность духа в его единстве с телесным не считалось чем-то в самом себе отрицательным, поэтому смерть была для них лишь абстрактным исчезновением, протекающим без страха и ужаса.
236
прекращением жизни без дальнейших неизмеримых последствий для умирающего индивида. Но когда субъективность в ее духовном внутри-себя-бытии обретает бесконечную ценность, тогда отрицание, которое носит в себе смерть, есть отрицание самого высокого и важного, поэтому оно страшно. Оно представляет умирание души, которая тем самым может считать себя, по существу, отрицательной, навсегда отрезанной от счастья, абсолютно несчастной, осужденной на вечные муки. Напротив, греческая индивидуальность, рассматриваемая как духовная субъективность, не приписывает себе этой ценности; поэтому она разрешает себе окружить смерть светлыми образами. Ибо человек испытывает страх лишь за то, что представляет для него большую ценность. Но жизнь обладает бесконечной ценностью для сознания лишь в том случае, когда субъект в качестве духовного, самосознательного субъекта является единственной действительностью; б справедливом ужасе он должен считать себя отрицаемы»
смертью.
С другой стороны, смерть для классического искусства не
приобретает того положительного значения, которое ода получает в романтическом искусстве. Греки не относились серьезно к тому, что мы называем бессмертием. Лишь для позднейшей рефлексии субъективного сознания, у Сократа, бессмертие имев» более глубокий смысл, удовлетворяя развившуюся потребность! Когда, например, Одиссей («Одиссея», XI, ст. 482—491), посетив подземный мир, провозглашает Ахилла более счастливым; том все те, которые жили до него и будут жить после него, так как он-де некогда почитался равным богам, а теперь — властелин над умершими,— то Ахилл очень низко оценивает это счастье ж отвечает: пусть Одиссей не утешает его ни одним словом по поводу смерти; он предпочел бы быть поденщиком и, будучи бедняком, служить за плату бедному человеку, чем царствовать здесь
над всеми мертвецами.
Напротив, в романтическом искусстве смерть есть только умирание природной души и конечной субъективности, умирание, которое относится отрицательно только к отрицательному в самом себе. Смерть устраняет ничтожное и тем способствует освобождению духа от его конечности и раздвоенности, равно как в духовному примирению субъекта с абсолютным. Для греков положительной была только лишь жизнь, соединенная с природным, внешним, земным существованием; поэтому они видели в смерти чистое отрицание, распад непосредственной действительности. В романтическом же миросозерцании она имеет значение отрицательности, то есть отрицания отрицания, и поэтому пере-
237
ходит в утвердительное в качестве воскресения духа из его голой природности и несоответственной конечности. Боль я смерть умирающей субъективности знаменуют возвращение в себя, Удовлетворение, блаженство и то примиренное положительное существование, которого дух может добиться лишь через умерщвление своего отрицательного существования, где он отрезан от своей подлинной истины и жизни. Это основное определение касается не только факта смерти, физически подступающей к человеку: есть некий процесс, который дух должен осуществить в самом себе независимо от этого внешнего отрицания, чтобы истинно жить.
с) Третью сторону, относящуюся к этому абсолютному миру духа, образует человек, поскольку он не выявляет непосредствен но в самом себе абсолютного и божественного начала как божественного, равно как и не представляет собой процесса возвышения к богу и примирения с богом, а останавливается в своем собственном человеческом кругу. Следовательно, здесь содержанием служит конечное как таковое, как со стороны духовных целей — мирских интересов страстей, коллизий, страданий и радостей, надежд и удовлетворения, так и со стороны внешнего — природы и ее царств и единичных явлений.
Однако способ постижения этого содержания бывает двояким. С одной стороны, дух, утвердив себя, удобно располагается на этой почве как в правомерной в самой себе и удовлетворяющей его стихии. В ней он лишь обнаруживает этот положительный характер и отражает себя в своем утвердительном удовлетворении и 'задушевности. С другой стороны, это же самое содержание низводится духом до степени чистой случайности, которая не может притязать на самостоятельную значимость, так как дух не находит в ней своего истинного существования. Поэтому он приходит к единству с собою лишь тогда, когда разрушает для себя самого это конечное бытие духа и .природы как ограниченное и отрицательное.
3. ОТНОШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ К СПОСОБУ ВОПЛОЩВНПЯ
Наконец, что касается отношения этого содержания к способу его воплощения, то, соответственно только что сказанному. сначала кажется, что
а) содержание романтического искусства, поскольку peчь идет о божественном, очень узко. Ибо, как мы уже указывали. природа лишена здесь божественного ореола; моря, горы, реки и
238
долины, источники, время и ночь, равно как и всеобщие процессы природы, потеряли свое значение рядом с изображением и содержанием абсолютного. Создания природы не подвергаются больше символическому расширению; у них отнято определение, согласно которому их формы и виды деятельности способны быть чертами божественного. Ибо все великие вопросы о возникновении мира, вопросы о том, откуда возникла, для чего существует я куда движется сотворенная природа и человечество, а также все символические и пластические попытки разрешить и изобразить эти проблемы исчезли благодаря откровению бога в духе.
В духовной же области пестрый, красочный мир с его классически воплощенными характерами, действиями, событиями также сосредоточился в одной светлой точке абсолютного и вечной истории искупления. Все содержание концентрируется на внутренней жизни духа, па чувстве, представлении, на 'душе, которая стремится к единению с правдой, ищет и добивается порождения, сохранения божественного в субъекте и не столько желает осуществлять цели и предприятия в мире ради 'мира сего, сколько стремится делать существенным лишь внутреннюю борьбу человека и его примирение с богом. Речь идет здесь лишь об изображении личности и ее сохранении, равно как и о мерах, необходимых для этой цели. Героизм, который может выступить здесь на передний план, не есть героизм, создающий по своему почину законные учреждения, создающий и преобразующий ситуации, а героизм покорности. Для него все уже определено и установлено высшей властью. Поэтому ему остается только приводить в порядок земные дела, применять это высшее, в себе и для себя 'значимое, к существующему миру и делать его значимым в земных делах.
Но так как это абсолютное содержание представляется со-
средоточенным в субъективной душе и все процессы заключены во внутреннюю человеческую жизнь, то и сфера содержания снова бесконечно расширяется и развертывается в . беспредельное многообразие. Хотя указанная объективная история и составляет субстанциальную сторону души, но субъект все же пронизывает ее целиком, изображает отдельные ее моменты или же ее самое во все новых и новых человеческих чертах. Кроме того, он может вовлекать а себя всю природу как окружение и место, в котором проявляется дух, может использовать ее для этой великой цели. Благодаря этому история жизни души становится бесконечно богатой и может воплощаться многообразнейшим образом β зависимости от постоянно изменяющихся обстоятельств и ситуаций.
239
Если же человек выходит из этого абсолютного круга и начинает заниматься мирскими делами, то объем интересов, целей и чувств становится тем неизмеримее, чем глубже стал дух в соответствии со всем этим принципом. Тем самым человеку развертывает себя в бесконечной интенсивной полноте внутренних в внешних коллизий, разладов души, ступеней развития страсти в многообразнейших стадий удовлетворения. Внутреннее Содержание романтического искусства составляет абсолютное, являющееся в себе безусловно всеобщим и осознающее себя в человеке, Таким образом, человечество и все его развитие представляет собой неизмеримый материал романтического искусства.
b) Но это содержание не создается романтическим искусством как искусством, как это было в значительной мере в символической, а главным образом в классической форме искусства и ее идеальных богах. Как мы уже видели ранее, романтическое искусство не является поучением, открывающимся как искусство и наглядно представляющим содержание истины именно в художественной форме. Содержание уже существует само по себе за пределами искусства, в представлении и чувстве. Здесь религия как всеобщее сознание истины составляет существенную предпосылку искусства в совершенно иной степени,— даже со стороны внешнего способа проявления она существует для действительного сознания в чувственной реальности как прозаическая современность. Поскольку содержанием откровения для духа служит вечная абсолютная природа духа, который отрешается от природного как такового и принижает его, то явление в непосредственности получает такое значение, что это внешнее, поскольку оно существует и обладает наличным бытием, образует лишь случайный мир, уходя из которого абсолютное концентрируется как духовное и внутреннее и только таким образом становится само для себя истиной. Тем самым внешнее рассматривается как некий безразличный элемент, к которому дух не питает полного доверия и в котором он не может оставаться. Чем меньше он считает форму внешней действительности достойной себя, тем меньше он может искать в ней свое удовлетворение в заходить примирение с самим собой в единстве с ней.
c) В соответствии с этим принципом способ действительного формообразования в романтическом искусстве со стороны внешнего проявления не выходит, по существу, за пределы обыденной действительности и не уклоняется от включения в себя реального существования в его конечной ограниченности и определенностиЗдесь, следовательно, исчезла та идеальная красота, которая возвышает внешнее созерцание над временным бытием
240
и устраняет следы бренности, чтобы поставить цветущую красоту существования на место ее обычного, убого проявления. Романтическое искусство уже больше не имеет своей целью изображение свободной жизненности бытия в его бесконечной тишине и погружении души в телесное, не имеет целью изображение этой жизни как таковой в ее собственной сущности и отворачивается от этой вершины красоты. Оно переплетает свое внутреннее содержание со случайностью внешних образований и предоставляет широкий простор 'безобразному в его характерных чертах.
В романтическом искусстве перед нами, следовательно, два мира. С одной стороны, духовное царство, завершенное в себе, душа, внутри себя примиренная. Она нарушает обычное прямолинейное повторение возникновения, гибели и возрождения, впервые превращая его в истинный круговорот, в возвращение в себя, в подобную Фениксу подлинную жизнь духа. С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденного от прочного единства с духом; внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью, образ которой не затрагивает души. В классическом искусстве дух господствовал над эмпирическим явлением и полностью проникал его, потому что как 'раз в этом явлении он должен был получить свою совершенную реальность. Теперь же внутреннее 'стало равнодушным к способу формообразования непосредственного мира, так как непосредственность недостойна внутреннего блаженства души. Внешнее явление уже больше не может служить выражением внутреннего, а когда оно все-таки еще призывается к этому, то его задача — лишь доказать, что внешнее не есть то существование, которое дает удовлетворение; оно должно указывать на внутреннее, на душу и чувство, как на существенный элемент.
Но именно поэтому романтическое искусство позволяет внешней стихии свободно раздернуться и любому материалу, вплоть до цветов, деревьев и предметов самой обычной домашней утвари, беспрепятственно становиться объектом изображения даже в их природной случайности существования. Однако это содержание неразрывно связано с тем определением, что оно в качестве чисто внешнего материала носит безразличный, низменный характер и приобретает свою настоящую ценность только в том случае, если в нем запечатлелась душа; оно должно выражать не только внутреннее содержание, но и сокровенные стороны души, которая не сливается с внешним, а примирена в себе с самой собою. Внутреннее в этом состоянии, доведенное до конца, представляет лишь проявление, лишенное внешнего элемента.
241
Оно как бы незримо внимает только самому себе; это звучание без предметности и образа, реяние над водами, звучание над /миром, который в своих инородных явлениях может только /воспринимать и отражать некоторый отсвет этого внутри-серя-бытия души.Если сформулировать одним словом отношение между содержанием и формой в романтическом искусстве, там. где оно сохраняет своеобразие, то мы можем сказать, что это искусстве музыкально, потому что его основным принципом служит увеличивающаяся всеобщность и неутомимо деятельная глубина души, и лирично, будучи наполнено определенным содержанием представления. Лиризм есть как бы стихийная основная черта романтического искусства, тон, который характерен даже для эпопея и драмы и который, подобно всеобщему аромату души, наполняет произведения изобразительных искусств, так как здесь дух и душа каждым своим произведением желают беседовать о духом и душой.
4. ДЕЛЕНИЕ
Что же касается деления, которое мы должны установить для более подробного, развернутого рассмотрения этой третьей великой области искусства, то основное понятие романтического в его внутреннем разветвлении распадается на следующие три момента.
Первый круг образует религиозное как таковое, в центре которого — история искупления, жизнь, смерть и воскресение Христа. Основным определением здесь являются отрицание духовной непосредственности и конечности, преодоление их и посредством этого освобождения — приобретение для самого себя своей бесконечности и абсолютной самостоятельности в собственной сфере.
Во-вторых, эта самостоятельность, возникающая из внутренней божественности духа и из возвышения конечного человека к богу, вступает в земной мир. Здесь, прежде всего, субъект как таковой стал для самого себя положительным; субстанцией его сознания и смыслом его существования являются добродетели этой самоутверждающей субъективности — честь, любовь, верность и смелость — цели и обязанности романтического рыцарства.
Содержание и форму третьей главы можно, в общем, обозначить как формальную самостоятельность характера. После того как субъективность достигла важной для нее духовной самостоя-
242
телъности, особенное содержание, с которым она соединяется, получает равную самостоятельность. Однако эта самостоятельность может иметь только формальный характер, так как она не коренится в субстанциальности ее жизни. Лишь в себе и для себя сущая религиозная истина имеет своим источником субстанциальность жизни. И наоборот, внешние обстоятельства, ситуации, переплетения событий приобретают свободный и независимый облик и характер произвольных приключений. Конечной точкой романтического искусства является случайность как внешнего, так и внутреннего элемента и распадение этих сторон, вследствие чего само искусство устраняет себя и показывает, что для постижения истины сознанию необходимо перейти к более· высоким формам, чем те, которые может дать искусство,
243
Первая глава РЕЛИГИОЗНЫЙ КРУГ РОМАНТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Так как романтическое искусство, изображая абсолютную субъективность как истину всего, имеет своим субстанциальным содержанием единение духа с его сущностью, удовлетворение души, примирение бога с миром и с собою, то, по-видимому, лишь на этой ступени идеал полностью обретает себя. Ибо основныме определениями идеала являются блаженство и самостоятельность, удовлетворение, тишина и свобода. Конечно, мы не имеем права исключить идеал из понятия и реальности романтического искусства, но по сравнению с идеалом классическим он получав? совершенно другой вид. Хотя в общих чертах мы уже наметили отношение между ними, здесь с самого начала надо установить его более конкретный смысл, чтобы уяснить основной тип романтического способа воплощения абсолютного.
В классическом идеале божественное, во-первых, ограничено, будучи сведено к индивидуальности, а во-вторых, душа в блаженство отдельных богов всецело .разлиты в их телесном облике; в-третьих, так как здесь принципом является нераздельное единство индивида внутри себя и в его внешнем проявлении, то отрицательность -внутреннего раздвоения, телесной и духовной боли, жертвы и отречения не может выступить как существенный момент. Хотя божественное начало классического искусства распадается на круг богов, однако внутри себя оно не разделяется на всеобщую сущность и на единичное субъективное эмпирическое явление в человеческом облике и человеческом духе. Точно так же божественному началу классического искусства не противостоит мир зла, греха и заблуждения — как абсолютному, не выступающему в явлении. Здесь ему не ставится задача примирить эти противоположности и быть истинно действительным в божественным лишь а качестве такого примирения.
244
Напротив, понятие абсолютной субъективности предполагает •противоположность между субстанциальной всеобщностью и личностью,— противоположность, осуществленное опосредствование которой наполняет субъективность субстанцией и поднимает субстанциальное до уровня себя знающего и желающего себя абсолютного ;субъекта. Однако в действительности в субъективности как духе заключена еще более глубокая противоположность конечного мира. Благодаря снятию конечного мира и примирению и абсолютным бесконечное своей абсолютной деятельностью создает собственную сущность для себя самого я только тогда становится абсолютным духом.
Проявление этой действительности в сфере и образе человечecкoro духа приобретает совершенно другой смысл по отношению к красоте, чем в классическом искусстве. Греческая красота показывает внутреннее содержание духовной индивидуальности совершенно слитым с ее телесным обликом, поступками и событиями; [внутренняя жизнь полностью выражается во внешнем ι блаженно пребывает в нем. Для романтической же красоты необходимо, чтобы душа, проявляясь во внешнем, в то же время обнаруживала свое возвращение из этой телесности в себя в жизнь внутри самой себя. На этой ступени телесное может выражать внутреннюю жизнь духа лишь постольку, поскольку оно обнаруживает, что душа находит совпадающую с ней действительность не в этом реальном существовании, а в себе самой. Поэтому красота относится теперь не к идеализации объективного образа, а к внутреннему облику души в себе самой. Она становится красотой задушевности, выражая лишь тот способ, каким каждое содержание формируется и развивается во внутренней жизни субъекта, и не удерживая внешнего в этом слиянии с духом.
Поскольку интерес к тому, чтобы возвышать реальное бытие
дο классического единства, утрачен и он сосредоточивается на противоположной цели — сообщить новую красоту внутренней форме духовного, то искусство уделяет внешней стороне мало внимания. Оно берет внешнее в том виде, в каком его непосредственно находит, предоставляя ему принимать по своему усмотрению ту или другую форму. Примирение с абсолютным в романтическом искусстве представляет акт внутреннего переживания, который хотя и выявляется во внешнем, однако не имеет твоим существенным содержанием и целью само внешнее в его
реальном виде.
С этим равнодушием к идеализирующему единению души и
тела выступает — по отношению к индивидуальным особенностям245
внешней стороны — портретное начало в искусстве. Оно яе затушевывает частные черты и формы, как они непосредственно существуют,—убогость природного, жизненные лишения—дне ставит на их место нечто более соразмерное. Впрочем, и в этом отношении мы должны требовать соответствия от данного вида искусства. Однако определенная форма этого соответствия становится безразличной и ne очищается от случайностей конечного эмпирического бытия.
Необходимость этого всеохватывающего определения романтического искусства может быть оправдана еще и с другой стороны. Классический идеал, там, где он стоит на своей истинной высоте, завершен 'в себе, самостоятелен и невосприимчив; он выступает как завершенный индивид, отклоняющий от себя иное. Его облик есть его собственный облик, он живет всецело в нем и только в нем; он не должен приобщаться к обыденности эмпирического и случайного. Поэтому тот, кто воспринимает эти идеалы как зритель, не в состоянии понять их существование как нечто внешнее, родственное 'его собственному явлению. Хотя образы вечных богов и человечны, они все же не принадлежат смертным; ибо сами эти боги не подвержены недугам конечного существования, а непосредственно возвышаются над ними. Общность с эмпирическим и относительным разрушена.
Напротив, бесконечная субъективность, абсолютное начало романтического искусства не погружено в свое явление, оно внутри себя и вследствие этого обладает своим внешним не для себя, а для других в качестве свободного и доступного каждому внешнего аспекта. Далее, это внешнее должно принять облик обыденного, эмпирически-человеческого, так как сам бог нисходит здесь в конечное, бренное существование, чтобы опосредствовать и примирить абсолютную противоположность, заключающуюся χ понятии абсолютного. Благодаря этому эмпирический человек обретает сторону, открывающую ему некое родство и точку соприкосновения, так что он начинает с доверием подходить к себе в своей непосредственной природности. Внешний облик не отпугивает его классической суровостью по отношению к частному в случайному, а предлагает его взору то, чем он сам обладает, или то, что он знает и любит в своем окружении. Эта родственность в обыденном и есть то, чем доверчиво привлекает нас романтическое искусство. Но так как внешнее, принесенное в жертву обыденности, самим фактом жертвы должно указывать на красоту души, на величие задушевности, святость чувства, то оно вместе с тем призывает пае погрузиться во внутреннюю жизнь духа, в его абсолютное содержание и освоить их.
246
Наконец, в этом самоотречении заключена та всеобщая идея,. что в романтическом искусстве бесконечная субъективность не одинока внутри себя, в отличие от греческого бога, живущего » полной завершенности в себе и невозмутимо счастливого в своей отрешенности. Она выходит за свои пределы, вступая в отношение к иному, которое, однако, принадлежит ей; в нем она снова находит 'самое себя и остается в единстве у самой себя. Это ее·единобытие со своим иным и составляет подлинно прекрасное содержание романтического искусства, его идеал, форму и явление которого составляет внутренняя жизнь, субъективность, душа и чувство. Романтический идеал выражает поэтому отношение в другому духовному явлению,— так связанному с задушевностью, что лишь в этом ином душа живет в задушевном согласии с собой. Как чувство жизнь в некоем ином представляет собой задушевность любви.
Поэтому мы можем указать на любовь как всеобщее содержание романтического в его религиозной сфере. Однако свое· подлинно идеальное формирование любовь получает лишь тогда, когда она выражает положительное непосредственное примирение духа. Но прежде чем мы рассмотрим эту ступень прекраснейшего идеального удовлетворения, мы должны сначала обозреть процесс отрицания, в который вступает абсолютный субъект, чтобы преодолеть конечность и непосредственность своего· явления в облике человека. Этот процесс развертывается в жизни, страдании и смерти бога за мир и человечество ради возможного его примирения с богом. 'С другой стороны, существует человечество, которое должно пройти тот же самый процесс в обратном порядке, чтобы в самом себе осуществить возможность этого примирения. Между этими ступенями, средоточие которых образует отрицательная сторона физической и духовной смерти,. находится выражение положительного блаженства удовлетворения, которое в этом кругу принадлежит к прекраснейшим предметам искусства.
Для более строгого расчленения нашей первой главы мы
должны рассмотреть три различные сферы.
Во-первых, историю искупления Христа: моменты абсолютного духа, воплощенные а самом боге, поскольку он сделался человеком, обладает действительным бытием в конечном мире и его конкретных отношениях и поскольку в этом единичном существовании выделяется само абсолютное.
Во-вторых, любовь в ее положительном образе как примиренное чувство человеческого и божественного: святое семейство, материнскую любовь Марии, любовь Христа и любовь учеников.
247
В-третьих, общину, дух божий, присутствующий в человечестве вследствие исправления души, умерщвления природного в конечного начала и обращения человечества к богу,—обращения. а котором наказания и муки первоначально опосредствуют соединение человека с богом.
00.htm - glava48
1. ИСТОРИЯ ИСКУПЛЕНИЯ ХРИСТА
Благодаря появлению бога в мире примирение духа с сами' собою, абсолютная история, процесс истинности становится наглядным и достоверным. Простым содержанием этого примирения служит слияние воедино абсолютной существенности и единичной человеческой субъективности; некий единичный человек есть бог, и бог есть некий единичный человек. Человеческий дух в себе по своему понятию и сущности есть истинный дух. Бесконечное предназначение и роль каждого отдельного субъекта, человека, заключается в том, чтобы быть целью бога и находиться в единстве с ним. Человек должен сделать действительным свое понятие, которое сначала существует только «в себе», то есть поставить целью своего существования соединение с богом и достигнуть этого. Если он исполнил это предназначение, то он является в себе свободным, бесконечным духом. Он может добиться этого лишь постольку, поскольку это единство представляет собою нечто первоначальное — вечную основу человеческой в божественной природы.
Эта щель есть в себе и 'для себя сущее начало, предпосылка романтического религиозного сознания, (»стоящая в том, что сам бог стал человеком, плотью, этим единичным .субъектом. В нем поэтому примирение не существует лишь в себе, не остается известным лишь согласно понятию, а предстает чувственному созерцающему сознанию как объективно существующее в качестве этого единичного, действительно существующего человека. Форма единичности важна, поскольку каждый отдельный человек должен иметь в ней созерцание своего примирения с богом, которое является не только чистой возможностью в себе и для се* бя, но и действительностью и должно проявиться как реально осуществленное в этом единичном субъекте. Поскольку, однако. единство как духовное примирение противоположных моментов не есть лишь непосредственное единобытие, то в этом одном субъекте должен осуществиться тот процесс духа, благодаря которому сознание становится истинным духом в форме истории самого субъекта. Эта история духа, совершающаяся в отдельном человеке, содержит в себе то, чего мы уже коснулись выше,
248
именно, что единичный человек телесно и духовно освобождается от своей единичности, то есть страдает и умирает, и, наоборот, вследствие боли смерти он возникает из самой смерти, воскресает как возвеличенный бог, как действительный дух. Хотя он теперь и вступает в существование как единичный определенный субъект, однако по существу он поистине бог в качестве духа » своей общине.
a) Кажущаяся ненужность искусства
Эта история составляет основной предмет религиозного романтического искусства, для которого, однако, искусство, взятое только как искусство, становится в известной степени чем-то излишним. Ибо основное заключается здесь во внутренней уверенности, в чувстве и представлении этой вечной истины, в вере, дающей себе свидетельство истины .в себе и для себя и благодаря этому перемещаемой во внутренний мир представлений. Глубокая вера состоит именно в непосредственной уверенности, что в представлении о моментах этой истории человек осознает саму истину. Но если речь идет о сознании истины, то красота явления и изображения оказывается чем-то второстепенным и безразличным, ибо для сознания истина существует и независимо от
искусства.
b) Необходимость появления искусства
С другой стороны, религиозное содержание имеет в самом себе момент, благодаря которому оно не только доступно для искусства, но в известном отношении и нуждается в нем. В религиозном представлении романтического искусства, как уже неоднократно упоминалось, само содержание доводит антропоморфизм до крайней степени. Средоточием этого содержания является полное взаимослияние абсолютного, божественного с человеческой субъективностью — реально созерцаемой и существующей во внешней и телесной форме; оно необходимо должно представлять божественное в этой единичности, связанной со скудостью природы и конечного способа проявления. Для того чтобы представить бога, искусство доставляет созерцающему сознанию единичный действительный облик и конкретный образ внешних событий, в которых развертываются рождение Христа, его жизнь, страдания, смерть, воскресение, вознесение одесную бога. Только в искусстве мимолетное действительное явление бога повторяется вновь и вновь.
249
с) Случайные черты внешнего явления
Но поскольку в этом явлении подчеркивается то, что бог •есть отдельный субъект, исключающий другие субъекты, и что он не только представляет собою единство божественной и человеческой субъективности вообще, но воплощает его в облике определенного человека,— то в искусстве в силу самого содержания снова обнаруживается случайность и частный характер внешнего конечного существования, от которых красота освободилась на высоте классического идеала. Все то, что свободное понятие прекрасного удалило как несоответственное, неидеальное, здесь необходимо воспринимается и рассматривается в качестве момента вытекающего из самого содержания.
а. Поэтому часто избирают предметом изображения личность Христа как таковую. Однако, художники, стремившиеся сделать из Христа идеал в духе и форме классического идеала, совершали огромную ошибку. Подобные изображения головы и облика Христа выражают серьезность, спокойствие и достоинство,— но Христос должен обладать, с одной стороны, внутренней жизнью и безусловно всеобщей духовностью, а с другой — субъективной личностью и единичностью; тому и другому противоречит выражение блаженства в чувственном человеческом облике. Связать вместе эти два конечных полюса выражения и формы в высшей степени трудно; в особенности же живописцы всегда оказывались в затруднении, выходя за пределы традиционного тина. В изображении таких голов должны обнаруживаться серьезность и глубина сознания, но черты, формы лица и всего облика не должны сбиваться в сторону низкого, уродливого или возноситься к чистой возвышенности как таковой. В отношении внешней
•формы лучше всего придерживаться середины между своеобразием природного и идеальной красотой. Правильно ухватить эту
•середину трудно, и в этом проявляется искусство, чутье и ум художника.
Если отвлечься от содержания, принадлежащего религиозной вере,— в изображениях романтического искусства остается больше, чем в классическом идеале, простора для субъективного творчества художника. В классическом искусстве художник хочет непосредственно изобразить духовное и божественное в формах самого тела, а облике человеческого организма. Поэтому телесные формы в их видоизменениях, отступающих от обыденного и конечного, и составляют основной интерес. Теперь же образ остается обычным, знакомым, его формы до известной степени безразличны, представляют нечто частное, которое может быть
250
таким или иным; в этом отношении образ может трактоваться весьма свободно. Преобладающий интерес вызывает поэтому, с одной стороны, способ, каким художник добивается того, чтобы в этом обыденном и знакомом проглядывало духовное и сокровеннейшее как духовное, а с другой стороны — субъективное исполнение, технические средства и мастерство, с помощью которых художник сообщил своим образам духовную жизненность. и наглядность, ощутимость духовного.
β. Дальнейшее содержание состоит, как мы только что видели, в абсолютной истории, проистекающей из самого понятия духа, истории, которая делает объективным обращение телесной? и духовной 'единичности к ее сущности и всеобщности. Ибо примирение единичной субъективности с богом выступает не как непосредственная гармония, а как гармония, возникающая только из бесконечного страдания, самоотречения, самопожертвования, умерщвления конечного, чувственного и субъективного. Конечное и бесконечное здесь связаны воедино, и примирение в его истинной глубине, задушевности и силе опосредствования обнаруживается лишь через величие и суровость противоположности, которая должна найти свое разрешение. Вся острота и весь диссонанс страдания, мук, терзаний, в которые вовлекает подобна» противоположность, входит в природу самого духа; его абсолютное удовлетворение является здесь содержанием.
Этот процесс духа, взятый сам по себе, представляет вообще сущность, понятие духа 'и содержит в себе то определение,. что он является для сознания всеобщей историей, которая должна повторяться в каждом индивидуальном сознании. Ибо именно. создание множества единичных людей является реальностью и существованием всеобщего духа. Но так как дух, по существу, действителен в индивиде, то сначала эта всеобщая история протекает только в образе одного единичного человека, в котором она осуществляется как его собственная история, как история его рождения, страдания, умирания 'и воскресения, и, однако, в этой единичности она сохраняет значение истории всеобщего·
абсолютного духа.
Подлинным поворотным пунктом в этой жизни бога является прекращение его существования в облике единичного определенного человека, история страстей господних, его страдания на кресте, Голгофа духа, смертные муки. Здесь само содержание требует, чтобы внешнее телесное явление, непосредственно существующее в качестве индивида, показало себя как отрицательное в боли своего отрицания, чтобы дух принесением в жертву чувственности и субъективной единичности достиг своей истины и
251
своего неба. Вследствие этого сфера изображения более всего отдаляется от классического пластического идеала. Хотя, с одной стороны, земное тело и немощь человеческой природы возвышаются и освящаются тем, что сам бог является в этом теле, но, г другой стороны, это человеческое, телесное полагается отрицательным образом и обнаруживается в своем страдании, между тем как в классическом идеале оно не теряет нерушимой гармонии с духовным и субстанциальным. Христос, подвергшийся бичеванию, обвитый терновым венцом, несущий крест к лобному месту, пригвожденный к кресту, умирающий страдальческой, медленной смертью, не может быть изображен в формах греческой красоты. В этих ситуациях обнаруживается внутренняя святость, глубина внутренней жизни, бесконечность страдания как вечные момент духа, терпение и божественный покой.
Окружение этого образа составляют друзья и враги. Друзья также не являются идеалом, но по своему понятию они частные индивиды, обыкновенные люди, которых дух ведет к кресту. Враги же, выступающие против бога, осуждающие его, осмеивающие, пригвождающие его к кресту, представляются внутренне злыми, и представление о внутренней их испорченности и враждебности богу приводит к тому, что внешне они изображаются отвратительными, грубыми, варварскими, свирепыми я безобразными. Во всех этих отношениях безобразное является здесь объективно необходимым моментом по сравнению с классической красотой.
γ. Процесс смерти должен рассматриваться в божественной природе только как промежуточный момент, посредством которого осуществляется примирение духа с собою и утвердительно соединяются те аспекты божественного и человеческого, всеобщности и субъективности, об опосредствовании которых здесь идет речь. Это положительное соединение, которое обрадует основу и первоначало, должно проявляться также положительным образом Из ситуаций жизни Христа благоприятные возможности представляют преимущественно воскресение и вознесение, и, кроме того, те моменты, в которых Христос выступает как учитель. Но здесь возникает главное затруднение, в особенности для искусства изобразительного, ибо, во-первых духовное должно быть изображено само по себе а его внутренней жизни; во-вторых, абсолютный дух, который в своей бесконечности и всеобщности существует в положительном единстве с субъективностью и возвышен над непосредственным существованием, должен наглядно и ощутимо выразить свою бесконечность и внутреннее содержание в телесной и внешней среде.
252
00.htm - glava49
2. РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЮБОВЬ
Дух в качестве духа, существующего в себе и для себя, не является непосредственно предметом искусства. Его высшее действительное внутреннее примирение может быть примирением и удовлетворением лишь в духовной сфере. Но духовное как таковое в своей чисто идеальной стихии не поддается художественному выражению, поскольку абсолютная истина выше видимости прекрасного, которая не в состоянии отрешиться от чувственного и являющегося. Но если дух в своем положительном примирении должен получить посредством искусства духовное существование, в котором он не только познается как чистая мысль, как идеальное, но его могут чувствовать и созерцать,— то единственной формой, удовлетворяющей двойному требованию, с одной стороны — духовности, с другой — постигаемости и изобразимости средствами искусства, остается только интимная область духа, душа, чувство. Эта задушевность, которая одна соответствует понятию удовлетворенного в себе свободного духа, есть любовь.
а) Понятие абсолютного как любви
В любви, рассмотренной со стороны содержания, заключаются те моменты, на которые мы указывали как на основное понятие абсолютного духа: примиренное возвращение из своего инобытия к самому себе. Это иное, представляя собою такое иное, в котором дух остается у самого себя, может быть лишь духовным, духовной личностью. Подлинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом »я» и, однако, в этом исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать собою. Это опосредствование духа собою я наполнение его до целостности представляет абсолютное, однако не так, что абсолютное в форме единичности и конечной субъективности сливается с самим собою в другом конечном субъекте, а так, что содержанием субъективности, опосредствующей себя в ином, служит здесь само абсолютное: дух, который лишь в другом духе есть знание себя и обнаружение своей воли как абсолютного и который удовлетворен этим знанием.
Ь) Душа
Это содержание в качестве любви имеет форму концентрированного в себе чувства, которое, вместо того чтобы раскрывать для себя свое содержание и осознать его определенность и все*
253
общность, наоборот, непосредственно ограничивает его широту в неизмеримость, сводя их к простой душевной глубине, не развертывая для представления богатства, в нем заключенного. Благодаря этому то же самое содержание, которое в своей всеобщности, выраженной чисто духовно, не поддавалось художественному воплощению, снова становится постижимым для искусства, получая субъективное существование в качестве чувства. Ибо, о одной стороны, при нераскрытой глубине души это содержание не развертывается с полной ясностью,— с другой стороны, оно заимствует из этой формы элемент, созвучный искусству. В какой бы мере душа, сердце, чувство ни оставались духовными в внутренними, они всегда сохраняют связь с чувственным и телесным. В телесности, во взгляде, в чертах лица или — более одухотворенным способом — в звуке и слове они всегда могут возвещать о самых сокровенных сторонах жизни и существования духа. Но внешнее призвано выразить здесь эту внутреннюю жизнь в ее внутреннем душевном переживании.
с) Любовь как романтический идеал
Если мы выдвинули в качестве понятия идеала примирение внутреннего с его реальностью, то любовь мы можем обозначить как идеал романтического искусства в его религиозном кругу, Она духовная красота как таковая. Классический идеал тоже обнаруживал опосредствование и примирение духа с его иным. Но там «иным» духа было пронизанное им внешнее, его телесный организм. Напротив, в любви иное по отношению к духовному не есть нечто природное, а само есть некое духовное сознание, Другой субъект. Дух оказывается реализованным для самого себя в своем достоянии, в своей собственной стихии. Таким образом, любовь в этом положительном удовлетворении и в успокоенной в себе блаженной реальности является идеальной, но всецело духовной красотой, которая вследствие своего внутреннего содержания может выразить себя только в стихии задушевности, как за* душевное чувство. Ибо дух, наличный для себя в духе я в нем непосредственно сознающий себя, имеет материалом и почвой своего внешнего бытия духовное, существует внутри себя, носит задушевный характер и является задушевностью любви.
а. Бог — это любовь, поэтому его глубочайшая сущность должна быть постигнута и воплощена в Христе в этой соответствующей искусству форме. Но Христос представляет божественную любовь, объектом которой является, с одной стороны, сам бог в его сущности, не обнаруживающейся в явлении, а с другой
254
стороны, человечество, которое должно заслужить искупление» Таким образом, в нем может обнаружиться не столько растворение некоего субъекта в другом определенном субъекте, сколько идея любви в ее всеобщности, абсолютное, дух истины в стихии « в форме чувства.
Вместе со всеобщностью ее предмета обобщается и выражение любви, в котором субъективное сосредоточение сердца и души не становится главным. Подобно этому и у греков, хотя и в совершенно другом смысле, в древнем титаническом Эросе и в Венере Урании главную роль играет всеобщая идея, а не субъективный аспект индивидуального чувства. Лишь в том случае, когда Христос — в изображениях романтического искусства — понимается одновременно и как единичный, углубленный в себя субъект и как нечто большее, тогда и любовь выражается в форме субъективной задушевности, хотя она всегда возвышается и поддерживается всеобщностью своего содержания.
β. Особенно доступна для искусства в религиозном круге любовь Марии, материнская любовь, наиболее примечательный предмет религиозной романтической фантазии. Наиболее реальная и человеческая, материнская любовь, однако, совершенно духовна, не таит в себе заинтересованности и вожделения, не чувственна и все же действительна: она представляет собой абсолютно удовлетворенную блаженную задушевность. Это любовь без желаний, но не дружба, ибо дружба, как бы она ни была полна задушевности, все же требует объединяющей цели, содержания и существенного дела. Напротив, материнская любовь лишена одинаковых целей и интересов, хотя имеет непосредственную опору в естественных отношениях.
Но любовь матери не ограничивается этой природной стороной. Мария в ребенке, которого она носила под сердцем, которого она родила в муках, знает и ощущает самое себя. Хотя это дитя, плоть от ее плоти, стоит выше ее, однако это высшее принадлежит ей и составляет тот объект, в котором она забывает и сохраняет самое себя. Естественная задушевность, присущая материнской любви, здесь полностью одухотворена; она имеет своим подлинным содержанием божественное, но это духовное удивительно незаметным и бессознательным образом проникнуто природным единством и человеческим чувством. Это блаженная материнская любовь, любовь лишь одной матери, которая с самого начала испытывает это счастье.
Правда, и эта любовь не лишена боли, однако здесь боль— зто лишь скорбь об утрате, сетование о страдающем, умирающем, умершем сыне; она не превращается, как мы это увидим на
255
позднейшей ступени развития, во что-то несправедливое, в мучения, вызванные извне, или в бесконечную борьбу с грехом, в. терзания и самоистязания. Эта задушевность обнаруживает духовную красоту, идеал, человеческое отождествление человека с богом, духом, истиной. Это чистое забвение, полнейшее самоотречение, которое в этом забвении все же с самого начала едино. с тем, во что оно погружается, и ощущает это единство в блаженной удовлетворенности.
В романтическом искусстве материнская любовь, этот образ духа, столь прекрасно становится на место самого духа потому что дух постигается искусством только в форме чувства, а чувство единства отдельного человека с богом всего первоначальное,. всего реальнее, всего живее представлено в материнской любви мадонны. Эта любовь необходимо должна быть воплощена в искусстве, так как в этом круге должно быть изображено идеальное, положительное, удовлетворенное примирение. Было время, когда материнская любовь святой девы почиталась и изображалась как высочайшая и священнейшая. Но когда дух осознает себя в собственной стихии независимо от всякой чувственной природной основы, то свободное от такой основы духовное опосредствование может рассматриваться в качестве свободного пути к истине. В протестантизме высшей истиной искусства и веры стал не культ Марии, а святой дух и внутреннее опосредствованно духа.
Наконец, в-третьих, положительное примирение духа как чувство проявляется в учениках Христа, в женщинах и в друзьях, последовавших за ним. Эти люди благодаря дружбе, учению, проповедям их божественного друга — Христа — преодолели суровость идеи христианства, не испытав внешней и внутренней муки обращения. Они завершили эту идею, овладели ею и сами собою и глубоко укрепились в ней. Правда, им недостает прежнего непосредственного единства и задушевности материнской любви, но связующим началом здесь все еще является присутствие Христа, привычка к совместной жизни и непосредственное веяние духа.
00.htm - glava50
3. дух общины
Рассматривая переход в последнюю сферу этого круга, мы можем связать его с тем, что уже было сказано об истории Христа. Непосредственное существование Христа как определенного отдельного человека, который есть бог, снято, то есть в самом бытии бога как человека обнаруживается, что истинной реаль-
256
ностью бога служит не непосредственное существование, а дух. Реальностью абсолютного как бесконечной субъективности служит лишь сам дух; бог наличен лишь в знании, в стихии внутреннего.
Это абсолютное существование бога в качестве столь же идеальной, сколь и субъективной всеобщности не ограничивается этим единичным человеком, который в своей жизни воплотил примирение человеческой и божественной субъективности. Абсолютное бытие бога расширяется до примиренного с богом человеческого сознания и вообще до человечества, существующего во многих единичных людях. Однако человек, взятый сам по себе как единичная личность, непосредственно не представляет божественного, а напротив, представляет конечное и человеческое. Оно достигает примирения с богом лишь постольку, поскольку действительно полагает себя как отрицательное, как то, чем оно является в себе, и таким образом снимает себя как конечное. Только посредством этого освобождения от недостатков сферы конечного человечество утверждает себя как существование абсолютного духа, как дух общины, в котором совершается единение человеческого и божественного духа внутри самой человеческой действительности,— реально опосредствуя то, что в себе, согласно понятию духа, находится в изначальном единстве.
Основные формы нового содержания романтического искусства, имеющие существенное значение, можно разделить следующим образом.
Единичный субъект, разлученный с богом, живет в грехе и борьбе непосредственности, в нужде конечного: он имеет бесконечное назначение достигнуть примирения с собою и с богом. Но поскольку в истории искупления Христа отрицательность непосредственной единичности оказалась существенным моментом духа, то единичный субъект получает возможность возвыситься к свободе и миру в боге посредством исправления природного и конечной личности, и только через это.
Это снятие конечности выступает здесь трояким образом. Оно выступает, во-первых, как внешнее повторение истории страстей, которые становятся действительным телесным страданием,— мученичество.
Во-вторых, исправление касается внутреннего содержания души, являясь в качестве внутреннего опосредствования раскаянием, покаянием и обращением.
Наконец, в-третьих, явление божественного в мирской действительности истолковывается в том смысле, что обычное течение
257
природы и естественная форма других событий снимаются, чтобы обнаружить могущество и присутствие божественного, поэтому формой изображения становится чудо.
а) Мученики
Ближайшее проявление, в котором дух общины обнаруживает свое действие в человеческом субъекте, состоит в том, что человек в самом себе отражает, как в зеркале, божественный процесс, делая себя новым бытием 'вечной истории бога. Здесь снова исчезает выражение упоминавшегося ранее непосредственного положительного примирения, так как человек должен достигнуть этого примирения, только снимая свою конечность. Здесь целиком и в более сильной мере повторяется то, что было существенным на первой ступени, так как несоразмерность и недостойность человечества является той предпосылкой, уничтожение которой признается высшей и единственной задачей.
а. Подлинным содержанием этой сферы является претерпевание жестокостей и собственное добровольное отречение, жертвы, лишения; испытывая всякого рода лишения, страдания, пытки, муки, дух преображается внутри себя и чувствует себя единым, удовлетворенным, блаженным на своем небе. Эта отрицательная сторона страдания становится в мученичестве самоцелью, и степень преображения измеряется омерзительностью того, что человек выстрадал, и ужасом того, чему он себя подверг. Первым же, что может быть подвергнуто отрицанию в незавершенном внутреннем содержании субъекта при отречении от мира и приобщении к святости, является природное существование человека, его жизнь, удовлетворение ближайших, необходимых для существования потребностей. Главным предметом этого круга служат телесные мучения, которые отчасти причиняются верующему врагами и гонителями веры, побуждаемыми ненавистью и мстительностью, отчасти же предпринимаются для искупления грехов по собственному побуждению, отвлеченному от всех прочих обстоятельств. И то и другое человек в своем фантастическом терпении приемлет не как несправедливость, а как благодать. Только благодаря ей можно сломить жестокость плоти, сердца, души, греховных по своей природе, и примириться с богом.
Поскольку в таких ситуациях обращение внутреннего мира может воплощаться только в отвратительных истязаниях внешнего, то этим легко оскорбляется чувство красоты; поэтому предметы этого круга представляют очень опасный материал для искусства. Ибо, с одной стороны, индивиды как действительные от-
258
дельные индивиды в гораздо большей степени, чем мы это требовали для истории страстей Христовых, должны быть отмечены печатью бренного существования и изображаться со всеми пороками, свойственными всему конечному и природному. С Другой стороны, мучения и неслыханные ужасы, увечья и уродование членов, телесные истязания, действия палачей, обезглавливание, поджаривание, сожжение, погружение в кипящее масло, колесование и т. д., взятые сами по себе, являются безобразными, противными, отвратительными внешними фактами. Они настолько далеки от красоты, что здоровое искусство не должно избирать и χ своим предметом. Способ трактовки этих предметов художником по своему исполнению может быть превосходным, но в этом случае интерес, вызываемый превосходным исполнением, всегда относится только к субъективному аспекту, который хотя и может представляться отвечающим художественным требованиям, все же тщетно старается согласовать со своим совершенством неподходящий материал.
β. Изображение этого отрицательного процесса нуждается поэтому еще в другом моменте, который возвышается над этими терзаниями тела и души и обращается в сторону положительного примирения. Это внутреннее примирение духа, достигнутое как цель и результат перенесенных ужасов. С этой стороны мученики являются хранителями божественного начала, отстаивающими его против грубой внешней силы и варварства неверия. Ради царства небесного они претерпевают страдания и смерть, поэтому в них должны проявиться мужество, сила, стойкость и воодушевление. Однако эта задушевность веры и духовная красота любви представляют собой не духовное здоровье, проникающее собою тело, а некоторое внутреннее переживание, достигнутое и выражающееся в страдании, даже в преображении и все еще содержащее в себе боль как подлинно существенный момент.
Особенно живопись часто делала предметом своего изображения подобное благочестие. Ее главная задача заключается в том, чтобы выразить в чертах лица, во взоре и т. д., несмотря на телесные муки, блаженство мучений как безропотную преданность богу, преодоление физических страданий, удовлетворение от того, что во внутренней жизни субъекта достигнут и вновь стал живым божественный дух. Напротив, когда хочет выразить аналогичное содержание скульптура, она менее способна изобразить столь одухотворенно концентрированную глубину чувства; она вынуждена подчеркивать страдальчески искаженные черты, поскольку последние более отчетливо выступают в теле.
γ. В-третьих, самоотречение и терпение затрагивают на этой
259
ступени не только природное существование и непосредственную конечность, но и доводят до крайности устремление души к небесному, так что человеческое и мирское вообще оттесняется и пренебрегается даже в тех случаях, когда оно само по себе носит нравственный и разумный характер. Чем 'больше дух, наполняющий здесь жизнью идею своего обращения внутри себя, остается необразованным, тем более варварски и абстрактно использует он свою концентрированную силу благочестия против всего того, что противостоит как конечное этой простой внутренней бесконечной религиозности, против всякого определенного чувства человечности, против многосторонних нравственных склонностей, отношений, связей и сердечных обязанностей. Ибо нравственная жизнь в семье, узы дружбы, крови, любви, государства, профессии — все это принадлежит мирскому, а мирское, поскольку оно здесь еще не проникнуто абсолютными представлениями веры и не возвышено до единства и примирения с этими представлениями, кажется верующей душе с ее абстрактной задушевностью ничтожным в себе и потому враждебным, вредным благочестию и не включается в сферу ее чувств и обязанностей.
Нравственный организм человеческого мира не уважается еще и потому, что его стороны и обязанности еще не признаны как необходимые, правомерные звенья в цепи внутри себя разумной действительности, в которой ни одна сторона не должна получать изолированную самостоятельность, но должна быть сохранена в качестве значимого момента и не принесена в жертву. В этом отношении само религиозное примирение остается здесь абстрактным и обнаруживается в простом внутреннем переживании как некая интенсивность веры, лишенной экстенсивности, как благочестие одинокой души, еще не достигшей всестороннего развернутого доверия к своим силам и всеохватывающей уверенности в самой себе. Если сила такой души, наперекор мирскому, рассматриваемому только как отрицательное, твердо стоит на своем и насильственно отрешается от всех человеческих уз, хотя бы и устойчивых первоначально, то это грубость духа и варварская мощь абстракции, которые должны нас оттолкнуть.
С точки зрения современного сознания мы можем почитать и высоко ценить зародыш религиозности в таких изображениях. Но если благочестие доходит до насилия над в самом себе разумным и нравственным, то мы не в состоянии симпатизировать такому фанатизму святости. Более того, этот вид отречения нам должен казаться безнравственным и противоречащим религиозности, так как он отвергает, разрушает и попирает то, что само по себе справедливо и свято.
.
260
Существует много легенд, рассказов и поэм на эту тему. Например, рассказ о человеке, который полон любви к жене и семье и который любим ими; он покидает свой дом и странствует. Возвратившись под видом нищего, он не открывается своей семье. Ему подают милостыню и из жалости указывают для житья уголок под лестницей. Так живет он двадцать лет в своем доме, видит печаль своей семьи о нем и открывается лишь перед смертью. Перед нами отвратительное упорство фанатизма, которое мы должны почитать как святость.
Эта настойчивость в отречении может напомнить нам о тех нелепых истязаниях, которым добровольно подвергают себя индийцы в религиозных целях. Однако истязание индийцев носит совершенно другой характер. Там человек старается достигнуть отупения и отсутствия сознания; здесь же боль, преднамеренное осознание и ощущение боли являются подлинной целью. Она может быть достигнута, как рассчитывают, в тем более чистом виде, чем более страдание связано с осознанием ценности того, от чего отрекаются, с любовью к нему и с непрерывным созерцанием отречения. Чем богаче сердце, подвергающее себя таким испытаниям, чем более благородное достояние оно в себе заключает — и все же считает себя вынужденным осудить это достояние как ничтожное и заклеймить его как грех,— тем тяжелее ощущается отсутствие примирения; это может привести к ужаснейшим конвульсиям и величайшему 'разладу. Такой человек чувствует себя дома только в интеллигибельном, а не в земном мире и потому чувствует себя потерянным в законах и целях этой определенной действительности, существующих сами по себе. Хотя он всей душой пребывает в них и связан с ними, он все-таки рассматривает это нравственное как нечто отрицательное по отношению к его абсолютному предназначению.
Такой человек кажется нам сумасшедшим и в страданиях, им же созданных, и в его покорности, так что мы не можем ни чувствовать к нему сострадания, ни почерпнуть в нем возвышающих нас сил. Этим поступкам не хватает содержательной, действительной цели, ибо то, чего они достигают, лишь совершенно субъективно, это цель единичного человека для самого себя, для спасения своей души, для своего блаженства. Но ведь лишь немногих интересует, обретает ли этот человек блаженство или нет.
Ь) Внутреннее покаяние и обращение
Противоположный способ изображения в той же сфере отвлекается, с одной стороны, от внешних мук тела, а с другой — от отрицательной направленности против в себе и для себя пра-
261
вомерного в земной действительности, получая и в отношении содержания и в отношении формы почву, более соответствующую идеальному искусству. Этой почвой является исправление внутреннего мира, которое теперь выражается в его духовном страдании, в обращении души. Благодаря этому здесь, во-первых, исчезают жестокие и отвратительные истязания тела; во-вторых, варварская душевная религиозность уже не восстает против нравственной человечности, чтобы в абстракции чисто интеллектуального удовлетворения насильственно попирать всякое другое наслаждение в боли абсолютного отречения. Она восстает только против того, что на самом деле является греховным, преступным и дурным в человеческой природе.
Существует великая уверенность, что вера, эта внутренняя направленность духа на бога, способна превратить совершенное деяние в нечто чуждое субъекту даже в том случае, когда оно представляет грех и преступление,— что вера может превратить его в несовершившееся, смыть его. Это отступление от злого, абсолютно отрицательного, действительно осуществляющееся в субъекте, после того как субъективная воля и дух отвергли и уничтожили себя как злое начало, которым они были раньше,— это возвращение к положительному, укрепляющееся теперь внутри себя как подлинно действительное, вопреки прежнему греховному существованию,— есть истинно бесконечная сила религиозной любви, присутствие и действительность абсолютного духа в самом субъекте.
Чувство силы, стойкость собственного духа, побеждающего зло благодаря богу, к которому он обращается, и осознающего свое единство с ним, ибо он опосредствует себя с богом,— это чувство доставляет удовлетворение и блаженство. Оно заключается в том, что хотя бог созерцается как абсолютно иное, чем грехи бренной жизни, однако я знаю, что это бесконечное тождественно со мною как субъектом, что я ношу в себе это самосознание бога как мое «я», мое самосознание, и что это столь же достоверно. как достоверен я для самого себя. Это обращение происходит во внутреннем мире и принадлежит скорее религии, чем искусству. Однако так как это обращение совершает по преимуществу душа, которая может проявляться во внешнем элементе, то даже изобразительное искусство, в частности живопись, получает право довести до нашего созерцания подобное обращение. Но если она полностью изобразит весь процесс, заключенный в такого рода историях, то здесь снова может появиться элемент безобразного, потому что в этом случае должно быть изображено преступное я отвратительное, как, например, в рассказе о блудном сыне. По-
262
этому живописец выиграет, если сосредоточит · обращение только в одном образе, не описывая подробно преступлений.
Такова Мария Магдалина, которая должна быть причислена к прекраснейшим образам религиозного круга. Особенно превосходно и в соответствии с требованиями искусства она изображалась итальянскими художниками. Она и внешне и внутренне является прекрасной грешницей, в которой грех столь же привлекателен, как и обращение. Однако в таких случаях ни грех, ни святость не очень-то принимаются всерьез; ей было много прощено, потому что она много любила; прощено ради ее любви и красоты. Трогательность этого сюжета в том, что он все же делает эту любовь предметом угрызения совести, что чувствительность, душевная красота Марии заставляет ее проливать слезы печали. Ее заблуждение не в том, что она так много любила; ее прекрасное, трогательное заблуждение состоит в том, что она считает себя грешницей, тогда как ее полная чувства красота вызывает лишь представление, что она была в своей любви душевно благородна и глубока.
с) Чудеса и легенды
Коснемся последнего аспекта, который связан с двумя предшествующими и может иметь силу как в том, так и в другом, а именно чудес, играющих главную роль во всем религиозном круге. Мы можем охарактеризовать чудеса как историю исправления непосредственного природного существования. Действительность окружает нас как некое низменное, случайное существование; это конечное затрагивается божественным. Непосредственно вторгаясь в стихию внешнего и частного, оно разламывает его, искажает, делает его иным тому, чем оно было раньше, и нарушает естественный ход вещей. Изображение души, захваченной такого рода неестественными явлениями, в которых она будто бы познает наличие божественного,— души, побежденной в своем конечном представлении,— такое изображение представляет главное содержание многих легенд. Но в действительности божественное может существовать в природе и управлять ею только как разум, как неизменные законы самой природы, вложенные в нее богом; божественное не должно проявлять себя в качестве божественного в обстоятельствах и действиях, нарушающих законы природы, ибо только вечные законы и определения разума управляют природой.
Легенды часто нелепы, безвкусны, бессмысленны и смешны, так как ум и душа должны верить, что бог присутствует и действует в том, что само по себе лишено разумности, ложно и не-
263
божественно. Умиленность, благочестие, обращение могут представлять известный интерес, но только с одной, внутренней стороны. Поскольку эта внутренняя сторона вступает в связь с другой стороной, с внешним, и это внешнее должно содействовать обращению души, внешнее перестает быть в самом себе чем-то
бессмысленным и неразумным.
Таковы основные моменты субстанциального содержания, которое в этом круге имеет значение божественной природы и процесса, посредством которого и в котором оно существует как дух. Это абсолютный предмет, который искусство не творит и не открывает из самого себя, а берет из религии; сознавая, что он является в себе и для себя истинным, искусство стремится выразить и изобразить его. Это содержание верующей, тоскующей души, являющейся внутри себя бесконечной целостностью; внешнее остается здесь более или менее внешним и безразличным, не достигая полной гармонии с внутренней жизнью, и поэтому часто становится враждебным и не поддающимся искусству материалом.
264
Вторая глава РЫЦАРСТВО
Принцип внутри себя бесконечной субъективности, как мы видели, имеет сначала содержанием веры и искусства само абсолютное, дух божий, как он себя опосредствует и примиряет с человеческим сознанием и только в этом впервые истинно существует для самого себя. Эта романтическая мистика, поскольку она ограничивается блаженством в абсолютном, остается абстрактной задушевностью, так как она, вместо того чтобы проникать собою земное и положительно принимать его в себя, противопоставляет себя ему и отвергает его.
В этой абстракции вера отделена от жизни, далека от конкретной действительности человеческого существования, от положительного отношения людей друг к другу, которые лишь в вере и благодаря вере знают себя тождественными и любят себя в некоем третьем, в духе общины. Только это третье и есть тот чистый источник, в котором отражается их образ. Человек тут не смотрит непосредственно в глаза другому человеку, не вступает с ним в непосредственные отношения, не ощущает в конкретной жизненности единства любви, доверия, уверенности, целей и поступков. То, что составляет чаяния и страстное желание внутренней жизни, человек находит в своей абстрактно религиозной задушевности лишь как жизнь в царстве божьем, в общении с церковью. Он еще не вытеснил из своего сознания это тождество в некоем третьем, чтобы иметь непосредственно перед собою в знании и воле других то, что он представляет собой в своем конкретном самостоятельном бытии. Поэтому хотя все религиозное содержание и принимает форму действительности, однако оно находится лишь во внутреннем мире представления, которое уничтожает расширяющееся и полное жизни внешнее бытие и далеко от того, чтобы в самой жизни исполнить высшие требования
265
собственной жизни, наполненной также и мирским содержанием и ставшей действительностью.
Поэтому душа, достигающая завершения только в своем простом блаженстве, должна выступить из небесного царства своей субстанциальной сферы, заглянуть внутрь самой себя и прийти к наличному содержанию, принадлежащему субъекту как субъекту. Благодаря этому прежняя религиозная задушевность получает теперь мирской характер. Христос, правда, сказал: оставь отца и мать свою и следуй за мною; брат будет ненавидеть брата; они будут распинать вас и преследовать и т. д. Но если царство божие нашло себе место в мире и способно пронизывать собою мирские цели и интересы и преображать их, если отец, мать и брат находятся вместе со мною в общине, тогда и мирское начинает со своей стороны требовать своего признания и осуществлять его. Если это право завоевано, то отпадает и отрицательное отношение души, поначалу исключительно религиозной, к человеческому как таковому. Дух расширяет свою власть, вглядывается в существующее, и его реальная земная душа становится более широкой. Основной принцип сам по себе не изменяется: бесконечная внутри себя субъективность только обращается к другой сфере содержания.
Этот переход характеризуется тем, что субъективная единичность в качестве единичности становится теперь свободной для самой себя независимо от опосредствования с богом. Ибо как раз в том опосредствовании, в котором она отрешилась от своей чисто конечной ограниченности и природности, она прошла путь отрицания и, став положительной внутри себя, свободно выступает с требованием, чтобы в качестве субъекта обрести уважение для себя и для других в своей, хотя сначала и только формальной, бесконечности. Поэтому она вкладывает в эту свою субъективность всю внутреннюю жизнь бесконечной души, которую она до сих пор наполняла только богом.
Если мы спросим, чем полно на этой новой ступени человеческое сердце в его задушевности, то окажется, что содержание затрагивает только субъективное бесконечное отношение к себе. Субъект полон только самим собою как бесконечной внутри себя единичностью, лишенной дальнейшего конкретного развертывания и не обладающей в самой себе значимостью объективного субстанциального содержания интересов, целей и поступков. Здесь существенны главным образом три чувства, возвышающиеся по отношению к субъекту до этой бесконечности: субъективная честь, любовь и верность.
Собственно говоря, это не нравственные качества и доброде-
266
тели, а лишь формы наполненной собою романтической внутренней жизни субъекта. Ибо личная самостоятельность, за которую борется честь, проявляется не как храбрая защита общего дела и добропорядочности его устоев или законности в сфере частной жизни. Напротив, она борется только за признание и абстрактную неприкосновенность отдельного субъекта. Точно так же и любовь, составляющая средоточие этого круга, есть лишь случайная страсть субъекта к другому субъекту. Даже если эта любовь обогащается фантазией, углубляется задушевным чувством, она тем не менее не представляет собой нравственных уз брака и семьи. Верность кажется чем-то более нравственным, так как она хочет не только своего, твердо держится за нечто высшее, общее, предана другой воле, желанию или приказу господина и тем самым отказывается от себялюбия и самостоятельности собственной частной воли. Но чувство верности относится не к объективному общему интересу, взятому самостоятельно в его свободе, развитой в форме государственной жизни,— а соединяется лишь с личностью господина, который поступает индивидуально ради самого себя или же связан более общими отношениями и действует ради них.
Эти три стороны, взятые и сплетенные воедино, составляют помимо религиозных отношений основное содержание рыцарства. Они образуют необходимый переход от принципа религиозной внутренней жизни к вступлению ее в мирскую духовную жизненность. Здесь романтическое искусство обретает точку зрения, исходя из которой оно может творить независимо, из самой себя, u быть более свободной красотой, ибо оно стоит теперь между абсолютным содержанием религиозных представлений, прочных самих по себе, и пестротой частных и ограниченных особенностей конечного и мирского. Из отдельных видов искусства главным образом поэзия сумела лучше всего овладеть этим материалом, так как она более всех других искусств способна выразить углубленную в себя внутреннюю жизнь, ее цели и события.
Поскольку перед нами материал, который заимствуется человеком из собственной души, из мира человеческих отношений, то может показаться, что здесь романтическое искусство стоит на одной почве с искусством классическим и, следовательно, именно здесь мы можем сравнить их друг с другом и противопоставить друг другу. Уже раньше мы обозначили классическое искусство как идеал объективно истинной в самой себе человечности. В центре его фантазии находится содержание, носящее субстанциальный характер и обладающее нравственным пафосом. В поэмах Гомера, в трагедиях Софокла и Эсхила речь идет об ин-
267
тересах всецело объективного содержания, о страстях, не выходящих за пределы этого содержания. Эти произведения отличаются красноречием и способом выполнения, соответствующим мыслительному содержанию. Над кругом героев и образов, индивидуально самостоятельных лишь в пределах такого пафоса, возвышается круг богов, характеризующийся еще большей объективностью.
Даже там, где искусство становится более субъективным, как в бесконечных играх скульптуры (например, в барельефах), в позднейших элегиях, эпиграммах и других прелестных видах лирической поэзии,— способ выполнения все же более или менее диктуется самим предметом, обладающим уже своей объективной формой; здесь появляются твердо очерченные, определенные в своем характере образы фантазии — Венера, Вакх, музы. И в позднейших эпиграммах мы имеем перед собою описания существующего, или же, как это делал Мелеагр, знакомые цветы сплетаются в венок и получают благодаря чувству осмысленную связь. Это веселые хлопоты в богатом доме, наполненном всевозможными дарами, произведениями и годной для любой цели утварью; поэт и художник—только волшебник, их вызывающий, собирающий и группирующий.
Совершенно иначе обстоит дело в романтической поэзии. Поскольку она является светской и не связана непосредственно со священной историей, добродетели и цели ее героизма не те, что сво11ственны греческим героям, нравственность которых раннее христианство рассматривало лишь как блестящий порок. Ибо греческая нравственность предполагает существование человеческого, которое приняло определенную форму и в котором воля (она должна быть, согласно своему понятию, деятельной в себе и для себя) достигла определенного содержания и осуществленных отношений свободы, обладающих абсолютной значимостью. Это отношения между родителями и детьми, супругами, гражданами города, гражданами государства в своей реализованной свободе. Так как это объективное содержание действия относится к развитию человеческого духа, совершающемуся на положительно признанной и упроченной природной основе, то оно уже не может соответствовать той концентрированной религиозной задушевности, которая стремится уничтожить природное в человеке. Оно должно уступить место противоположной добродетели смирения, отречения от человеческой свободы и прочного спокойствия в себе.
В силу своей односторонности добродетели христианского благочестия умерщвляют мирское и делают субъект свободным
268
лишь в том случае, если он абсолютно отрекается от всего человеческого. Субъективная свобода рассматриваемого нами круга, правда, не обусловлена больше только терпением и самопожертвованием, а положительна в себе, в мирском. Однако бесконечность субъекта, как мы уже видели, имеет своим содержанием лишь задушевность как таковую, субъективное чувство, движущееся в самом себе,— как свою мирскую почву внутри себя. В этом отношении поэзия не имеет здесь перед собой никакой предпосланной объективности, никакой мифологии, никаких статуй и образов, которыми она могла бы воспользоваться. Она возникает совершенно свободно, без всякого материала, чисто творчески; она подобна птице, которая вольно поет свою песню. Но хотя субъективность обладает благородной волей и глубокой душой, все же в ее поступках, отношениях и существовании обнаруживается лишь произвольность и случайность, поскольку в отношении нравственного содержания свобода и ее цеди исходят из внутреннего размышления, еще лишенного субстанции.
Итак, мы находим в индивидах, скорее, не особенный пафос в греческом смысле этого слова и тесно связанную с этим пафосом живую самостоятельность индивидуальности, а только различные степени героизма в отношении любви, чести, храбрости, верности — степени, различия которых определяются низменностью или благородством души. Тем не менее герои средних веков имеют одно общее качество с героями античности — храбрость. Но и она получает здесь совершенно другой смысл. Она не является природным мужеством, основанным на здоровой доблести, на силе тела и воли, силе, не ослабленной образованием, и не служит опорой при осуществлении объективных интересов. Эта храбрость исходит из внутреннего переживания духа, из чести, рыцарских нравов и в целом отличается фантастичностью, подчиняясь приключениям внутреннего произвола и случайностям внешних обстоятельств или импульсам мистического благочестия и вообще субъективному отношению субъекта к себе.
Эта форма романтического искусства имеет своей родиной два полушария: Запад — уход духа в его субъективный мир, и Восток — первое расширение сознания, стремящегося освободиться от конечного. На Западе поэзия покоится в душе, возвратившейся в себя, ставшей для себя средоточием и осознающей свое мирское только частью своего отношения, как одну сторону, над которой находится более высокий мир веры. На Востоке представителем этой формы является преимущественно араб, который выступает подобно некоей точке, не имеющей вначале ничего перед собою, кроме выжженной солнцем пустыни и неба, высту-
269
пает полный сил, стремится к блеску и распространению мирского начала, сохраняя при этом свою внутреннюю свободу.
Вообще на Востоке магометанская религия очистила почву, изгнала всякое ограниченное и фантастическое идолопоклонство. Она дала душе субъективную свободу, целиком ее наполняющую. Мирское здесь не только составляет другую сферу,— оно поглощается, как и все остальное, всеобщей независимостью. Здесь сердце и ум, не формируя объективно бога, внутренне примиренные в живой радости, подобно нищим, счастливо наслаждаются теоретическим возвеличением своих предметов, любят, удовлетворены и блаженны.
00.htm - glava51
1. ЧЕСТЬ
Мотив чести был неизвестен античному классическому искусству. Правда, в «Илиаде» гнев Ахилла составляет содержание и движущее начало всех описываемых событий, так что весь дальнейший их ход зависят от него. Однако это не следует понимать как честь в современном смысле этого слова. Ахилл считает себя обиженным только потому, что Агамемнон отобрал у него реальную долю добычи, составляющую его почетную награду, его γέρας . Обида относится здесь к чему-то реальному, к дару, в котором заключалась некоторая привилегия, признание славы и храбрости. Ахилл разгневался, так как Агамемнон встретил его недостойно и показал, что он ни во что не ставит его среди греков. Однако обида не проникает до самой глубины личности как таковой, так что Ахилл чувствует себя удовлетворенным, когда ему возвращают отнятую у него долю с множеством других подарков и благ. Агамемнон в конце концов не отказывает ему в этом возмещении, хотя, согласно нашим представлениям, они грубо оскорбили друг друга. Но бранные слова вызывали у них только гнев, а обиду, имеющую партикулярно-вещную причину, они уладили столь же партикулярно-вещным образом.
а) Понятие чести
Романтическая честь носит другой характер. В ней обида касается не вещественной реальной ценности, собственности, состояния, обязанности и т. д., а относится к личности как таковой и ее представлениям о самой себе, к ценности, которую субъект сам себе приписывает. Эта ценность на данной ступени так же бесконечна, как бесконечен субъект. Обладая честью, человек обладает положительным сознанием своей бесконечной субъектив-
270
ности независимо от ее содержания. Честь придает абсолютное значение субъективности тому, чем обладает индивид, что составляет в нем нечто особенное, потеряв которое, он мог бы существовать так же, как и раньше; и это значение представлено здесь для себя и для других.
Таким образом, масштаб чести определяется не тем, чем человек является в действительности, а тем, что содержится в этом представлении. Но представление превращает всякое особенное во всеобщее, приводит к тому, что вся моя субъективность заключается в 'этом особенном, являющемся моим. Обычно говорят, что честь — это только видимость. Это, несомненно, верно, но, согласно настоящей точке. зрения, ее следует понимать как видимость и отблеск субъективности в самой себе; будучи видимостью внутри себя бесконечного, честь сама бесконечна. Именно благодаря этой бесконечности видимость чести становится подлинным существованием субъекта, его высшей действительностью. Всякое особенное качество, в которое проникает честь, делая его своим собственным качеством, приобретает бесконечную ценность уже в силу одного этого озарения.
Подобная честь составляет одно из основных определений в романтическом мире и имеет своей предпосылкой тот факт, что человек вышел из области чисто религиозного представления и внутреннего переживания и вступил в живую действительность. В ее материале он утверждает существование только самого себя, своей чисто личной самостоятельности и абсолютной значимости.
Честь может иметь самое разнообразное содержание. Ибо все то, чем я являюсь, что я делаю, что мне причиняют другие, относится к моей чести. Поэтому я могу сделать предметом чести то, что само по себе безусловно субстанциально — верность государю, отечеству, свою профессию, исполнение обязанностей отца, супружескую верность, честный образ жизни, добросовестность в научных исследованиях и т. д. Но с точки зрения чести все эти значимые и истинные внутри себя отношения санкционированы и признаны не сами по себе, а только благодаря тому, что я вкладываю в них мою субъективность и этим превращаю их в дело чести.
Человек чести всегда и при всех обстоятельствах думает в первую очередь о самом себе; вопрос тут не о том, справедливо ли нечто само по себе, а о том, прилично ли оно для него, соответствует ли его чести заниматься этим делом или лучше от него отказаться. Таким образом, он может совершать самые скверные поступки и все же оставаться человеком чести. Он ставит себе
271
также и произвольные цели, наделяет себя определенными чертами; благодаря этому как в своих, так и в чужих глазах он создает себе обязанности там, где, по существу, никакой обязанности и необходимости нет. Не само дело создает затруднения и осложнения, а субъективное представление, так как для этого человека дело чести заключается в том, чтобы отстоять однажды принятый им образ мыслей и поведения. Так, например, донна Диана считает противным ее чести признаться в испытываемом ею чувстве любви, потому что однажды она сочла себя не поддающейся этому чувству.
Содержание чести, в общем, предоставлено случайности, так как оно значимо только благодаря субъекту, а не в силу имманентной ему сущности. Поэтому в романтических изображениях, с одной стороны, в качестве закона чести выставляется то, что само по себе оправдано, причем индивид с сознанием правоты связывает бесконечное самосознание своей личности. Утверждение, что честь что-то требует или запрещает, служит здесь выражением того, что субъективность целиком вкладывает себя в содержание данного требования или запрета, так что его нарушение нельзя игнорировать, исправить или заменить другой сделкой; субъект уже не может принимать во внимание никакое другое содержание.
И, наоборот, честь может стать чем-то совершенно формальным и бессодержательным, поскольку она не содержит ничего другого, кроме моего пустого, для себя бесконечного «я», или же она берет в качестве обязательства совсем дурное содержание. В этом случае честь, в особенности в драматических произведениях, носит всецело холодный и мертвый характер, так как ее цели выражают собой не некоторое существенное содержание, а только абстрактную субъективность. Но только субстанциальное в себе содержание обладает необходимостью, развертывает себя в своих многообразных связях и осознает себя как нечто необходимое. Недостаток более глубокого содержания отчетливо обнаруживается тогда, когда хитроумие рефлексии связывает с честью нечто само по себе случайное и незначительное, соприкасающееся с субъектом. Материал тут всегда под рукой, ибо хитроумие анализирует с большой тонкостью, свойственной дару различения; многие стороны, сами по себе совершенно безразличные, могут быть сделаны здесь предметом чести.
Главным образом испанские драматурги тщательно разработали в своих поэтических произведениях казуистику рефлексии в вопросах чести и вложили ее в уста своих резонирующих героев. Так, например, можно в мельчайших подробностях проверить
272
верность супруги, однако уже одно подозрение со стороны других и даже только возможность такого подозрения (хотя бы муж и знал о его ложности) может стать предметом чести. Если это приводит к коллизиям, то их разрешение не дает удовлетворения так как мы не имеем перед собой ничего субстанциального; поэтому вместо умиротворения, следующего за столкновением, вызванным необходимостью, может возникнуть лишь тягостное ограниченное чувство.
И во французских драмах существенный интерес произведения представляет чопорная честь, взятая совершенно абстрактно, сама по себе. Но в еще большей степени мы встречаемся с этой холодной, как лед, и мертвенной честью в «Аларкосе» Фридриха фон Шлегеля. Из-за чего герой убивает здесь свою любящую благородную жену? Из-за чести; эта честь состоит в том, что он сможет жениться на дочери короля, к которой не питает ни малейшей страсти, и сделаться таким образом зятем короля. Это презренный пафос и дурное представление, которое пытается принять вид чего-то высокого и бесконечного.
Ь) Уязвимость чести
Поскольку честь является не только некоторой видимостью во мне самом, но и должна существовать в представлении и признании других, которые в свою очередь имеют право требовать такого же признания их чести, то честь весьма уязвима. Ибо широта и предмет моего требования всецело зависят от моего произвола. Малейшее нарушение в этом смысле может иметь для меня значение. Так как в конкретной действительности человек находится в многообразнейших отношениях с тысячью вещей и может расширять до бесконечности круг того, что он считает принадлежащим ему и в чем он хочет видеть свою честь, то спорам и раздорам нет конца, учитывая самостоятельность индивидов и их чопорную разобщенность, предполагаемую принципом чести. Поэтому при оскорблении, как и вообще в отношении чести, речь идет не о содержании, относительно которого я должен чувствовать себя оскорбленным. То, что здесь подвергается отрицанию, затрагивает личность, признавшую подобное содержание своим и теперь считающую себя задетой в качестве этого идеального бесконечного средоточия.
с) Восстановление чести
Благодаря этому всякое оскорбление чести рассматривается как нечто в самом себе бесконечное и может быть умиротворено
273
лишь бесконечным способом. Существует много .степеней оскорбления и столь же много способов удовлетворения. То, что я в этом круге принимаю за оскорбление, в какой мере я чувствую себя оскорбленным π хочу требовать удовлетворения — это также всецело зависит от субъективного произвола, который имеет право доходить до величайшей мнительности и раздражительнейшей чувствительности. Требуя удовлетворения, я должен признать, что оскорбивший меня есть такой же человек чести, как и я сам. Ибо я хочу признания моей чести другим; но, чтобы обладать честью в его глазах, я должен его самого считать человеком чести, то есть его личность должна быть признана чем-то бесконечным, несмотря на нанесенное мне оскорбление и мою субъективную к нему враждебность.
Таким образом, одним из основных определений принципа чести является то, что никто не должен своими поступками давать кому бы то ни было преимущества над собою. Поэтому, что бы он ни сделал и что бы с ним ни случилось, он хочет, чтобы с ним обращались и его рассматривали как обладающего неизменным бесконечным качеством.
Так как честь с вызываемыми ею раздорами и способами их удовлетворения покоится на личной самостоятельности, не знающей никакого ограничения и действующей из собственных побуждений, то мы снова обнаруживаем здесь (правда, в противоположной форме) то, что составляло основное определение героических образов классического идеала, а именно самостоятельность индивидуальности. Но в чести мы имеем не только то, что человек крепко держится за самого себя и действует только из собственных побуждений,— самостоятельность здесь связана с представлением о самом себе, и как раз это представление составляет подлинное содержание чести, так что она во внешнем и наличном материале представляет себе свое и представляет себя в нем во всей своей субъективности. Таким образом, честь выступает как рефлектированная внутри самой себя самостоятельность, которая имеет своей сущностью только именно эту рефлексию; она всецело предоставляет воле случая, будет ли ее содержание нравственным и необходимым в самом себе дли случайным и незначительным.
00.htm - glava52
2. ЛЮБОВЬ
Вторым чувством, преобладающим в изображениях романтического искусства, является любовь.
274
а.) Понятие любви
Если в чести основное определение составляет личная субъективность, которая представляет себя в абсолютной своей самостоятельности, то в любви самым высоким, скорее, является посвящение субъекта индивиду другого пола, отказ от своего самостоятельного сознания и своего уединенного для-себя-бытия. Свое знание о себе субъект может иметь только в сознании другого. В этом отношении любовь и честь противоположны друг другу. Но и наоборот, мы можем рассматривать любовь как реализацию того, что уже содержится в чести, поскольку потребность последней заключается в том, чтобы быть признанной, чтобы бесконечность личности была воспринята другой личностью.
Это признание истинно и полно, когда не только моя личность уважается другим in abstracto или в отдельном конкретном и ограниченном случае, но когда я со всей своей субъективностью, со всем тем, чем она является и что содержит в себе,—когда я в качестве определенного индивида (независимо от того, каким он был, что он представляет собой сейчас и каким будет) проникаю в сознание другого индивида и становлюсь его собственной волей и знанием, его стремлением и достоянием. Тогда другой субъект живет только во мне, так же как и я существую для себя только в нем. Только в этом наполненном единстве мы впервые существуем для самих себя, вкладываем в это тождество всю свою душу и весь свой мир. Эта же внутренняя бесконечность субъекта сообщает любви то важное значение, которое она имеет для романтического искусства,— значение, еще более возрастающее с тем великим богатством, которое приносит любовь.
Любовь, в отличие от чести, не покоится на размышлениях и казуистике рассудка, а проистекает из чувства. Так как при этом играет роль и половое различие, то она имеет свою основу в одухотворенных природных отношениях. Однако существенной она становится только благодаря тому, что субъект в этом одухотворенном природном отношении растворяет свое внутреннее содержание, свою внутреннюю бесконечность. Потеря своего сознания в другом, видимость бескорыстия и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые снова находит себя и приобретает начало самостоятельности; самозабвение, когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни своего существования в другом и вое же в этом другом всецело наслаждается самим собою,— это и составляет бесконечность любви. Прекрасное заключается здесь в том, что это чувство не остается только влечением и чувством. Фантазия создает свой мир вокруг
275
этого отношения, все интересы, обстоятельства, цели действительного бытия и жизни превращаются фантазией в украшение этого чувства; решительно порывая со всем в этом кругу, фантазия сообщает чувству ценность лишь в этой связи.
Любовь прекраснее всего в женских характерах, ибо в них преданность, отказ от себя достигает наивысшей точки — они концентрируют и углубляют всю духовную и действительную жизнь в этом чувстве, только в нем находят опору своего существования. И если на них, на их любовь обрушивается несчастье, то они тают, как свеча, гаснущая от первого грубого дуновения.
В этой субъективной задушевности чувства любовь не встречается нам в классическом искусстве. Здесь она является или подчиненным моментом в изображении или только чувственным наслаждением. У Гомера любви либо не придается большого значения, либо она выступает в своем наиболее достойном образе — как брак, показывающий женщину в домашнем кругу. Такой мы видим ее, например, в образах Пенелопы и Андромахи, в образах супруги и матери, объятых тревогой или изображенных в других нравственных отношениях. Напротив, узы, связующие Париса с Еленой, признаются безнравственными, причиной ужасов и бедствий Троянской войны; любовь же Ахилла к Бризеиде заключает в себе мало чувства и внутреннего содержания, ибо Бризеида — рабыня, послушная во всем герою. В одах Сафо язык любви поднимается, правда, до лирического вдохновения, однако здесь скорее выражается изнурительный, пожирающий жар крови, чем задушевность сердца и субъективного чувства.
В небольших прелестных песнях Анакреона любовь — светлое всеобщее наслаждение; она минует бесконечные страдания, протекает без овладевающей всем существом страсти или благочестивой преданности души, подавленной, томящейся, молчаливой. Любовь у Анакреона радостно устремляется к непосредственному наслаждению как к чему-то естественному, которое может быть достигнуто разными путями. Обладать именно этой девушкой и никакой другой здесь в такой же мере не имеет существенного бесконечного значения, как и при монашеском
взгляде, согласно которому надо вообще отказаться от половых связей.
Высокая трагедия древних также не знает страсти любви в ее романтическом значении. В особенности Эсхил и Софокл не притязают на существенный интерес к ней. Ибо хотя Антигона предназначена Гемону в супруги и Гемон заступается за Антигону перед своим отцом и даже убивает себя из-за нее, не имея возможности ее спасти, однако он выдвигает перед Креономтоль-
276
ко объективные обстоятельства, а не субъективную силу своей страсти, которой он и не чувствует в том смысле, в каком ее переживает современный влюбленный. Еврипид, например в «Федре», уже рассматривает любовь как существеннейшее страстное вдохновение. Однако и здесь она выступает как преступное заблуждение крови, как чувственная страсть, внушенная Венероа, которая собирается погубить Ипполита за то, что он не желает приносить ей жертвы. И хотя Венера Медицейская — пластический образ любови, против изящества красоты ее облика ничего нельзя сказать, однако здесь совершенно отсутствует выражение внутреннего чувства, как его требует романтическое искусство. То же самое мы встречаем и в римской поэзии, где после гибели республики и разложения нравственной жизни любовь выступает в большей или меньшей степени как чувственное наслаждение.
Напротив, Петрарку обессмертила именно эта порожденная фантазией любовь, которая вследствие художественной пылкости души, воспитанной под небом Италии, сроднилась с религией. Сам же Петрарка считал свои сонеты забавой и думал прославиться латинскими стихотворениями и прозаическими произведениями. Данте также обессмертила его любовь к Беатриче; просветленная, эта любовь затем преобразилась в нем в любовь религиозную. Одновременно его мужество и смелость превратились в энергию религиозного воззрения на искусство, и он дерзнул тут на то, на что никто, кроме него, не осмелился: взял на себя роль судьи над людьми, посылая их в ад, чистилище или на небо. В противоположность ему Боккаччо изображает любовь отчасти в силе ее страсти, отчасти совсем легкомысленно, без всякого намека на нравственность, открывая нашему взору в красочных новеллах картину нравов своего времени, своей страны.
В немецких песнях миинезмнгеров любовь является сентиментальной, нежной; она бедна воображением, игрива, меланхолична, однообразна. У испанцев любовь отличается богатством фантазии; она рыцарственна, хитроумна в поисках и защите своих прав и обязанностей, подобно личной чести, и мечтательна в своем высшем блеске. В позднейшей французской литературе она более галантна и тщеславна. В поэзии она часто становится искусственным чувством, созданным в высшей степени остроумно с помощью софизмов; она является то чувственным наслаждением без страсти, то страстью без наслаждения, сублимированными. полными рефлексии чувством и чувствительностью.
Однако я должен прервать 'эти указания, для подробного развития которых здесь нет места.
277
Ь) Коллизии любви
Мирской интерес разделяется на два аспекта: на одной стороне находится мирское как таковое — семейная жизнь, государственный союз, гражданские отношения, закон, право, нравы и т. д. Этому прочному для себя существованию противостоит зарожденная в благородных, пламенных душах любовь — эта мирская религия сердца, которая, разносторонне соединяясь с религией, подчас ставит ее ниже себя, забывает ее и провозглашает только себя существенным, единственным или высшим интересом жизни. При этом она не только может решиться на отказ от всего остального и бежать с любимым в пустыню, но в своем крайнем и тогда безобразном проявлении доходит до того, что несвободно, рабски, по-собачьи жертвует достоинством человека, как это мы видим, например, -в «Кетхен из Гейльбронна». Цели любви из-за этого разделения не могут быть осуществлены в конкретной действительности без коллизий, ибо наряду с любовью предъявляют свои требования и права также и другие жизненные отношения и этим могут нанести ущерб единовластию любовной страсти.
а. В этом отношении первая, чаще всего встречающаяся коллизия, о которой мы должны здесь сказать,— это конфликт между честью и любовью. Честь обладает такой же бесконечностью, как и любовь, и может обрести содержание, которое станет на пути любви как абсолютное препятствие. Обязанность, налагаемая честью, может потребовать принесения любви в жертву. С известных точек зрения было бы, например, противно чести человека из высшего сословия полюбить девушку из более низкого сословия. Различие между сословиями необходимо и дано природой вещей. Если мирская жизнь еще не оздоровлена в соответствии с бесконечным понятием истинной свободы, в которой сословие, профессия и т. д. исходят от субъекта как такового и его свободного выбора, тогда, с одной стороны, определенное место всегда более или менее диктуется человеку природой, рождением, а с другой — возникающие из-за этого различия фиксируются честью как абсолютные и бесконечные, ибо она делает себя своим собственным сословием в делах, к ней относящихся.
β. Во-вторых, кроме чести могут прийти в столкновение с любовью и не допустить ее осуществления также вечные субстанциальные силы — интересы государства, любовь к отечеству, семейные обязанности и т. д. Это излюбленный вид коллизии особенно в новейших изображениях, в которых объективные жизненные отношения уже достигли наибольшей силы. Любовь здесь проти-
278
вопоставляется другим правам и обязанностям как одно из важнейших прав субъективной души, причем либо сердце отказывается следовать этим обязанностям, ибо они имеют подчиненное значение, либо же оно признает их и ему приходится бороться с самим собой и с силой собственной страсти. «Орлеанская дева», например, в своей основе имеет именно такого рода коллизию.
γ. В-третьих, любви могут противодействовать вообще внешние обстоятельства и помехи: обычный ход вещей, проза жизни, несчастные случаи, страсть, предрассудки, ограниченность, каприз других, самые разнообразные события. Здесь часто примешивается много безобразного, страшного, подлого; в таких случаях нежной душевной красоте любви противопоставляются злоба, грубость и дикость других страстей. В новейшее время в драмах, рассказах и романах мы особенно часто встречаем такого рода внешние коллизии, интересующие нас главным образом тем участием, которое они вызывают к страданиям, надеждам, разрушенным планам несчастных влюбленных. Кроме того, они должны трогать и удовлетворять хорошим или дурным исходом или вообще быть только занимательными. Однако этот вид конфликтов имеет второстепенное значение, так как он основан на чистой случайности.
с) Случайность любви
Взятая со всех этих сторон, любовь заключает в себе высокое качество, поскольку в ней говорит не только склонность полов,— в любви отдает себя прекрасная, богатая, благородная душа; для того чтобы достигнуть единства с другой душой, она живет, действует, обнаруживает мужество, готова жертвовать собою и т. д. Но вместе с тем романтическая любовь имеет и свои границы. Ее содержанию недостает в себе и для себя сущей всеобщности. Она представляет собой только личное чувство единичного субъекта, наполненного не вечными интересами и объективным содержанием человеческого существования — семьей, политическими целями, отечеством, профессиональными обязанностями, сословием, стремлением к свободе, религиозностью,— а лишь собственным самобытием, которое хочет получить обратно свое чувство, отраженное другим самобытием.
Это содержание формальной задушевности не соответствует подлинной целостности, какой должен быть конкретный в себе индивид. В семье, браке, долге, государстве субъективное чувство как таковое и соединение именно с этим и никаким другим индивидом, вытекающее из этого чувства, не есть то главное, о
279
чем должна идти речь. В романтической же любви все вертится вокруг того, что этот мужчина любит именно эту женщину, эта женщина любит этого мужчину. Единственная причина, почему любят именно этого мужчину или именно эту женщину, заключается в субъективном, частном характере данного лица, в случайности произвола.
Каждому мужчине его любимая (точно так же как девушке ее любимый) представляется прекраснейшей, чудеснейшей из всех на свете,— хотя другие могут находить ее совсем обыкновенной. Так как для всех или для многих людей характерна такая исключительность, предметом же любви является не сама Афродита, единственная, а наоборот, для каждого его любимая является Афродитой,— именно поэтому оказывается, что есть много девушек, которые равноценны. Всякий знает, что на свете есть много красивых или хороших, превосходных девушек, все они, или по крайней мере большинство, находят себе любовников, поклонников и мужей, которым они кажутся прекрасными, добродетельными, милыми и т. д. То обстоятельство, что данный мужчина отдает безусловное предпочтение одной и именно только этой, является лишь частным делом субъективной души, своеобразия или причуды субъекта. Бесконечное упорство, заставляющее только в этой женщине необходимо искать свою жизнь, свое высшее сознание, оказывается бесконечным произволом необходимости. В атом получает признание высшая свобода субъективности и ее абсолютный выбор,— свобода заключается здесь не в подчинении пафосу, некоему божеству, как это представил Еврипид в образе Федры; но вследствие того, что выбор имеет своим источником только единичную волю, он выступает одновременно как некоторый каприз и упрямство частной воли.
Вследствие этого коллизии любви, когда она противопоставляется в борьбе другим субстанциальным интересам, всегда сохраняют в себе аспект случайности и .необоснованности. Это происходит потому, что здесь субъективность как таковая с ее требованиями, не имеющими значения в себе и для себя, противополагается тому, что должно получить признание благодаря собственной существенности. В высокой античной трагедии индивиды — Агамемнон, Клитемнестра, Орест, Эдип, Антигона, Креон и т. д.— хотя и ставят себе индивидуальную цель, однако субстанциальное начало, пафос, являющийся содержанием их поступков, абсолютно правомерен и именно потому имеет всеобщий интерес сам по себе. Участь, которая выпала им за их дела, не трогает нас потому, что это несчастная судьба, несчастье, которое вместе с тем абсолютно почитается, так как пафос, не останавливающий-
280
ся, пока он не достигнет удовлетворения, обладает сам по себе необходимым содержанием. Если вина Клитемнестры не будет наказана, если оскорбление, нанесенное Антигоне как сестре, не будет устранено, то это несправедливость сама по себе.
Однако те страдания любви, те разрушенные надежды, вообще та влюбленность, те бесконечные страдания, которые испытывает любящий, то бесконечное счастье и блаженство, которое он себе представляет, обнаруживают не сам по себе всеобщий интерес, а нечто такое, что касается лишь его одного. Каждый человек имеет сердце, способное полюбить, и право сделаться благодаря этому счастливым. Однако если именно в данном случае, при таких-то и таких-то обстоятельствах по отношению к определенной девушке его цель не достигнута, то этим не совершена несправедливость. Ибо нет никакой необходимости в том, чтобы его каприз остановился именно на этой девушке и чтобы нас необходимо заинтересовал этот в высшей степени случайный факт и произвол субъективности, не имеющий ни распространения, ни всеобщности. В этом причина холода, охватывающего нас, не смотря на весь пыл страсти при изображении такой любви.
00.htm - glava53
3. верность
Третьим моментом, получающим важное значение для романтической субъективности в ее мирской сфере, является верность. Под верностью, однако, мы не должны понимать здесь ни последовательного соблюдения однажды произнесенных уверений в любви, ни непоколебимости дружбы, прекраснейшим примером которой считались у древних Ахилл и Патрокл и в еще большей мере Орест и Пилад. Дружба в этом смысле слова имеет своей почвой и своим временем юность. Каждый человек должен сам по себе проделать свой жизненный путь, добыть себе и удержать некую действительность. Лишь юность, когда индивиды живут еще в общей неопределенности их действительных отношений, есть то время, когда они соединяются и так тесно связываются друг с другом в едином умонастроении, единой воле и единой деятельности, что дело одного тотчас же становится делом другого.
Этого уже нет больше в дружбе мужчин. Обстоятельства жизни мужчины идут своим чередом и не допускают осуществления его целей в таком прочном единении с другим, чтобы один не мог ничего совершить без другого. В зрелом возрасте люди встречаются друг с другом и снова расстаются, их интересы и дела то расходятся, то объединяются. Дружба, тесная связь помыслов. принципов, общая направленность остаются, но это не дружба
281
юношей, в которой никто не решает и не приводит в исполнение того, что не становилось бы непосредственно делом другого. Принцип нашей более глубокой жизни требует, чтобы в целом каждый заботился сам о себе, то есть чтобы каждый был искусным в своей собственной области действительности.
а) Верность в служении
Если верность в дружбе и любви существует только между равными, то верность, которую нам предстоит рассмотреть, относится к начальствующему, к высшему, к господину. Сходный с этим вид верности мы встречаем уже у древних в верности слуг семье, дому их господина. Прекраснейший пример — свинопас Одиссея, ночью и в непогоду охраняющий его свиней; он полон печали о судьбе своего господина, которому оказывает верную помощь против женихов Пенелопы. Аналогичный образ трогательной верности, которая, однако, всецело становится здесь делом внутреннего чувства, показывает нам Шекспир — например, в «Короле Лире», где Лир (акт I, сцена IV) спрашивает Кента, желающего служить ему: «Знаешь ли ты меня, человек?» — «Нет, господин,— отвечает Кент,— но у вас есть что-то такое в лице, что я охотно назвал бы вас господином». Это уже совсем близко к тому, что 'мы характеризуем 'здесь как романтическую верность. Ибо верность на данной ступени — это неверность рабов и холопов, которая может быть прекрасной и трогательной, но при этом лишена свободной индивидуальной самостоятельности, собственных целей и поступков и потому является подчиненной.
Но та верность, которую мы имеем в виду, есть рыцарская верность вассала, при которой субъект, несмотря на свою преданность вышестоящему — князю, королю, императору, сохраняет в качестве решительно преобладающего момента свою свободную самостоятельность. Эта верность составляет в эпоху рыцарства высокое начало потому, что в ней заключалась главная связь взаимных отношений и соответствующего им общественного порядка; так по крайней мере обстояло дело при первоначальном возникновении.
Ь) Субъективная самостоятельность в верности
Но та содержательная цель, которая обнаружилась в этом новом объединении индивидов, не представляет собой патриотизма как объективного всеобщего интереса, а связана только с одним субъектом, с господином. Поэтому она обусловлена собствен-
282
ной честью, частной выгодой, субъективным мнением. В своем величайшем блеске верность проявляется в неупорядоченном, неорганизованном внешнем мире, где еще нет господства прав и законов. Внутри такой лишенной законов действительности наиболее сильные и выдающиеся князья становятся прочными центрами, вождями, к ним примыкают по свободному выбору другие.
Такое отношение позднее развилось в узаконенную связь ленного господства, в котором каждый вассал сам по себе притязает на свои права и преимущества. Но основным принципом, на котором покоится целое в соответствии с происхождением, является свободный выбор в отношении как субъекта зависимости, так и ее постоянства. В верности рыцарство умеет сохранять собственность, право, личную самостоятельность и честь индивида. Поэтому она признавалась не долгом как таковым, который следует исполнять даже вопреки случайной воле субъекта, а напротив, каждый индивид ставит ее существование и, следовательно, существование всеобщего порядка в зависимость от своего удовольствия, склонности и единичного умонастроения.
с) Коллизии верности
Верность и послушание в отношении к господину могут очень легко прийти в столкновение с субъективными страстями, щепетильностью чести, чувством обиды, любовью и прочими случайными событиями внутренней или внешней жизни. Поэтому они становятся чем-то в высшей степени ненадежным. Например, рыцарь верен своему властелину, но его друг повздорил с этим властелином. Рыцарь должен выбрать между одной верностью и другой; более же всего он может быть верен сам себе, своей чести, своей выгоде. Прекраснейший пример подобной коллизии мы находим в «Сиде». Он верен королю и самому себе. Когда король поступает правильно — он предоставляет ему свои услуги, но когда государь совершает несправедливость или Сид подвергается оскорблению — он лишает его своей твердой поддержки. Пэры Карла Великого поступают так же. Перед нами связь верховного господства и послушания, подобная той, которая существовала между Зевсом и прочими богами и с которой мы уже познакомились: верховный глава приказывает, шумит и бранится, но самостоятельные, полные сил индивиды противятся ему, где и когда им это угодно.
Однако вернее и прелестнее всего эта расторжимость и хрупкость подобного союза изображается в «Рейнеке-Лисе». Подобно тому как в этой поэме имперские вельможи служат, собственно
283
говоря, только сами себе и своей самостоятельности, так немецкие князья и рыцари в средние века не чувствовали себя дома, когда им нужно было что-то совершить для пользы целого и своего императора. Кажется, будто средние века ставились так высоко именно потому, что в подобном состоянии каждый оправдан и является человеком чести, если только он следует своему произволу; это не дозволено ему при разумно организованной государственной жизни.
Основой всех этих трех ступеней — чести, любви и верности — служит внутренняя самостоятельность субъекта, душа, раскрывающаяся для все более широких и все более богатых интересов; в них она примирена с самой собою. К этому в романтическом искусстве относится прекраснейшая часть того круга, который находится вне религии как таковой. Цели затрагивают человеческие стремления, которым, по крайней мере со стороны субъективной свободы, мы можем симпатизировать, а не находить, как это иногда бывает в религиозной области, что и материал и способ изображения сталкиваются с нашими понятиями. Но во многих случаях эта область может быть связана с религией, и тогда религиозные интересы переплетаются с интересами светского рыцарства, как, например, в приключениях рыцарей Круглого стола при отыскании ими священного Грааля. В таком обороте в рыцарскую поэзию входит много мистического, фантастического и аллегорического. Но светская область любви, чести я верности может выступать и совершенно независимо от углубления религиозной цели и помысла, представляя нашему взору только движение души в ее мирской внутренней субъективности.
Однако данной ступени еще недостает наполнения этой внутренней жизни конкретным содержанием человеческих отношений, характеров, страстей и вообще реального бытия. Бесконечная внутри себя душа по сравнению с этим многообразием остается еще абстрактной и формальной, задача ее в том, чтобы принять в себя также и этот более обширный материал и изобразить его в художественно переработанном виде.
284
Третья глава
ФОРМАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Оглядывая пройденный путь, мы видим, что сначала мы рассмотрели субъективность в ее абсолютном круге: сознание в его опосредствовании с богом, всеобщий процесс примиряющегося в себе духа. Абстракция состояла здесь в том, что душа, отвернувшись от мирского, природного и человеческого как такового, даже тогда, когда оно было нравственно и правомерно, ушла в себя, чтобы удовлетворять себя лишь в чистом небе духа.
Во-вторых, человеческая субъективность, не изображая отрицательности, заключавшейся в указанном опосредствовании, стала для себя и других положительной; однако содержанием этой мирской бесконечности как таковой была лишь личная самостоятельность чести, задушевность любви и преданность верности. Это содержание может сделаться предметом созерцания в разносторонних отношениях, в великом многообразии и градации чувства и страсти, при значительной изменчивости внешних обстоятельств; тем не менее в этих случаях оно представляет только отмеченную выше самостоятельность субъекта и его задушевность.
Третьим пунктом, который нам еще остается рассмотреть, является тот способ, каким прочий материал человеческого существования, взятый с внутренней и внешней стороны,— природа, ее постижение и значительность для души — в состоянии войти в романтическое искусство. Следовательно, здесь становится свободным для себя мир особенного, мир существующего вообще; поскольку этот мир не проникнут религией и не сочетается в единство абсолютного, он становится на собственные ноги и самостоятельно выступает в своей собственной области.
В этом третьем круге романтической формы искусства исчезает религиозный материал и рыцарство с его порожденными из глубины души высокими воззрениями и целями, которым в дейст-
285
вительности ничего непосредственно не соответствует. Теперь получает удовлетворение жажда этой действительности, довольствование тем, что есть, довольство самим собою, ограниченностью человека и вообще конечным, частным, носящим портретный характер. Человек в своем настоящем хочет, чтобы перед ним стояло само наличное, воссозданное искусство во всей жизненности как его собственное духовное человеческое произведение, хотя бы ради этого пришлось пожертвовать красотой и идеальностью содержания и проявления.
Христианская религия, как мы уже видели, ни по своему содержанию, ни по своей форме не выросла на почве фантазии подобно восточным и греческим богам. Если фантазия и создает из себя смысл, чтобы достичь единения истинно внутреннего с завершенным его образом, и в классическом искусстве действительно осуществляет это сочетание,— то в христианской религии мы, напротив, находим, что мирское своеобразие явления, как оно не* посредственно существует, сразу же воспринимается как момент идеального, духовного; душа удовлетворяется привычным и случайным характером внешнего, не требуя красоты. Однако человек сначала лишь в себе, насколько это возможно, примирен с богом. Правда, к вечному блаженству призваны все, но избранных мало, и душа, для которой и царство небесное и царство мира сего остается потусторонним, должна, пребывая в духовной сфере, отказаться от мирского и от эгоистического существования в нем. Она исходит из бесконечной дали,— и, чтобы принесенное ей поначалу в жертву оказалось утвердительно посюсторонним, это положительное самонахождение и стремление к осуществлению себя в наличном, что в другой форме искусства представляет собой начало, здесь является завершением развития романтического искусства; это последнее достижение, результат внутреннего углубления и сосредоточения человека.
Что касается формы этого нового содержания, то мы нашли, что романтическое искусство с самого начала находится во власти противоречия, в том, что бесконечная внутри себя субъективность несоединима сама по себе с внешним материалом и должна оставаться несоединимой с ним. Самостоятельное противопоставление этих двух сторон и уход внутренней жизни в себя составляют содержание романтического. Сплетаясь друг с другом, эти стороны постоянно вновь отделяются друг от друга, пока наконец не расходятся совсем. Этим они показывают, что своего абсолютного соединения им следует искать в другой области, а не в искусстве. В силу этого распадения эти стороны становятся в отношении искусства формальными, так как они не могут высту-
286
пать как целое в том полном единстве, которое сообщает им классический идеал.
Классическое искусство пребывает в круге прочно установленных образов, в круге завершенной искусством мифологии и ее нерушимых созданий. Поэтому разложение классического искусства, кроме ограниченных областей комического и сатирического, представляет собой — как мы видели это, рассматривая переход к романтической форме искусства,— или движение к приятному, или подражание, вырождающееся в мертвенную и холодную ученость и деградирующее в конце концов до уровня небрежной и плохой техники. Но предметы этого искусства, в общем, те же самые, что и раньше; только прежний талантливый способ творчества заменяется все более и более бездарным изображением и ремесленной, внешней традицией. Напротив, поступательное движение и 'заключительный этап романтического искусства — это внутреннее разложение самого материала искусства, распадающегося на свои элементы. Его стороны становятся свободными; субъективное мастерство и искусство изображения возрастают, и чем больше они совершенствуются, тем все более исчезает субстанциальное начало.
Более определенное деление этой последней главы мы можем произвести следующим образом.
Во-первых, мы имеем перед собой самостоятельность характера, который является особенным, определенным индивидом, замкнутым в свеем мире, со своими частными свойствами и целями.
Этому формализму особенного характера противостоит, во-вторых, внешняя форма ситуаций, событий, поступков. Поскольку романтическая задушевность вообще равнодушно относится к внешнему, то реальное явление выступает здесь свободно, само по себе, так, как если бы оно не было ни проникнуто внутренним смыслом целей и поступков, ни воплощено в адекватной ему форме. В своем несвязанном, свободном проявлении оно превращает в приключения случайные переплетения, обстоятельства, результаты событий, способ осуществления и т. д.
В-третьих, обнаруживается распадение сторон, полное тождество которых и составляет собственное понятие искусства; благодаря этому происходит распад и разложение самого искусства. С одной стороны, искусство переходит к изображению обыденной действительности как таковой, к изображению предметов в том виде, в каком они находятся перед нами в их случайной единичности и своеобразии; оно интересуется лишь превращением этого внешнего бытия в видимость посредством техники искусства. Другой же стороны, это искусство впадает в полнейшую субъек-
287
тивную случайность понимания и изображения, в юмор, как и искажение и смещение всякой предметности и реальности посредством остроумия и игры субъективного взгляда на мир; оно кончает творческой властью художественной субъективности над какими бы то ни было содержанием и формой.
00.htm - glava54
1. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Субъективная внутренняя бесконечность человека, из которой мы исходили при рассмотрении романтической формы искусства, остается основным определением и в этой сфере. Новое, что входит в эту самостоятельную для себя бесконечность, есть, с одной стороны, особенность содержания, составляющего мир субъекта, а с другой — непосредственная связь субъекта с этой своей особенностью, ее желаниями и целями и, в-третьих, живая индивидуальность, в которой замыкается характер. Поэтому под выражением «характер» мы не должны понимать здесь то, что, например, итальянцы изображают в своих масках. Хотя итальянские маски являются определенными характерами, однако они показывают эту определенность только в ее абстрактности и всеобщности, без субъективной индивидуальности. Напротив, данной ступени свойствен своеобразный характер, самостоятельность целого, индивидуальность субъекта. Если мы и говорим здесь о формализме и абстрактности характера, то это относится лишь к тому, что главное содержание, мир такого характера выступает, с одной стороны, как ограниченный и вследствие этого отвлеченный, а с другой — как случайный. То, что представляет собой индивид, имеет своей опорой и движущей силой не субстанциальное, внутри себя оправданное содержание, но голую субъективность характера, которая лишь формально опирается на свою собственную индивидуальную самостоятельность, вместо того чтобы покоиться в своем содержании и обладать самим по себе прочным пафосом.
Внутри этого формализма мы можем отметить два основных различия.
На одной стороне находится энергично осуществляющая себя твердость характера, ограничивающая себя определенными целями и вкладывающая в реализацию этих целей всю силу односторонней индивидуальности. На другой стороне выступает характер как субъективная целостность, которая существует, не развертывая своей внутренней жизни и не раскрывая душевной глубины, и которая не в состоянии раскрыться и дойти до полного проявления.
288
а) Формальная твердость характера
Перед нами частный характер, который хочет быть таким, каков он есть непосредственно. Как звери бывают разными и находят себя для самих себя в этом различии, так и существуют различные характеры, круг и своеобразие которых остаются случайными и не могут быть твердо ограничены понятием.
а. Предоставленная только самой себе индивидуальность не имеет продуманных намерений и целей, которые связали бы ее с каким-нибудь всеобщим пафосом. Все то, чем она обладает, то, что она делает и совершает, она черпает совершенно непосредственно, без особо глубокой рефлексии, из собственной определенной природы. Эта природа такова, какова она есть, и она не хочет быть обоснованной чем-то высшим, быть в нем растворенной и найти свое оправдание в чем-то субстанциальном. Она непреклонно опирается на самое себя; проявляя твердость, она либо осуществляет себя, либо гибнет.
Такая самостоятельность характера может обнаружиться лишь там, где небожественное, человеческое по преимуществу, достигает своей полной значимости. Подобными характерами являются главным образом персонажи Шекспира, напряженная твердость и односторонность которых как раз и вызывают удивление. Здесь речь не идет ни о религиозности, ни о поведении, вызываемом религиозным внутренним примирением человека, ни о нравственности как таковой. Напротив, перед нами самостоятельные, рассчитывающие только на самих себя индивиды, ставящие себе особые цели, которые являются исключительно их целями и диктуются только их собственной индивидуальностью. Осуществления этих целей они добиваются с непоколебимой последовательностью страсти, без побочной рефлексии и всеобщности, действуя лишь для собственного удовлетворения.
В особенности в трагедиях «Макбет», «Отелло», «Ричард III» и других главной темой является один подобный характер, окруженный характерами менее выдающимися и энергичными. Так, характер Макбета определяется его страстным честолюбием. Вначале он колеблется, но затем протягивает руку к короне, совершает убийство, чтобы ее получить; желая ее сохранить, он совершает одну жестокость за другой. Эта беспощадная твердость, тождество человека с собою и со своей целью, проистекающей из него самого, придает ему существенный интерес. Ни уважение к святости королевского сана, ни безумие его жены, ни отпадение вассалов, ни быстро надвигающаяся гибель не заставляют его поколебаться. Он не отступает ни перед чем, ни перед
10 Гегель т. 2
289
какими правами, небесными или человеческими, а продолжает стремиться к своей цели. Леди Макбет похожа на него по характеру; лишь нелепая болтовня некоторых новых критиков могла признать ее преисполненной любви. При первом же своем появлении (акт I, сцена 5), читая письмо Макбета (в котором он сообщает о встрече с колдуньями и их пророчестве, гласившем: «Да здравствует кавдорский тан Да славится Макбет, грядущий король!»),—она восклицает: Да, ты гламисский и кавдорский тан И будешь тем, что рок сулил, но слишком Пропитан молоком сердечных чувств, Чтоб действовать'.
Она не обнаруживает исполненного любви удовольствия, радости по поводу счастья ее мужа, нравственного порыва, участия, сожаления, свойственных благородной душе, а лишь опасается, что характер ее мужа послужит помехой его честолюбию; на него самого она смотрит как на средство. Тут мы не видим никакого колебания, никакой неопределенности, никакого раздумья и отступления, которые сам Макбет сначала все же испытывает, никакого раскаяния; перед нами лишь чистая абстрактность и жестокость характера, осуществляющего без дальних рассуждений то, что соответствует его природе. Надламывающая Макбета катастрофа, извне надвигающаяся на него после свершения злодеяния,— у леди Макбет вызывает безумие.
Таковы же Ричард III, Отелло, старая Маргарита и многие другие. Они прямая противоположность жалким современным характерам, выведенным, например, Коцебу; последние кажутся в высшей степени благородными, великими, превосходными, а по существу своему оказываются ничтожествами. У позднейших писателей, несмотря на их крайне презрительное отношение к Коцебу, дело обстоит не лучше, хотя и в другом отношении. Так, Генрих фон Клейст в своих произведениях «Кетхен из Гейльбронна» и «Принц Гомбургский» изображает характеры, в которых наивысшим и превосходнейший! 'считается магнетическая одержимость, сомнамбулизм, лунатизм — в противоположность состоянию бодрствования, где обнаруживается определенная последовательность поведения. Принц Гомбургский — очень жалкий генерал. Располагая войска, он рассеян, плохо пишет приказы, в ночь перед сражением занимается глупостями, свидетельствующими о болезненном его состоянии, а днем, во время
Пер. Б, Пастернака.
290
сражения, вытворяет нелепости. И при такой раздвоенности, разорванности и внутреннем разладе характера эти авторы думают, что следуют Шекспиру Но они далеки от этого идеала: шекспировские характеры внутренне последовательны, верны себе и своей страсти, и во всем, что они собою представляют и что с ними случается, они ведут себя согласно своей твердой определенности.
β. Чем более частным является характер, твердо ориентирующийся только на самого себя и благодаря этому легко скатывающийся к злу, тем больше ему приходится не только бороться против препятствий, попадающихся ему на пути в конкретной действительности и мешающих осуществлению его целей, но в еще большей мере само это осуществление толкает его к гибели. Когда он прокладывает себе путь, его настигает судьба, порожденная самой определенностью характера, и гибель, которую он сам себе подготовил. Однако развертывание этой судьбы не только проистекает из действия индивида, но есть вместе с тем внутреннее становление, развертывание самого характера в его бурном устремлении, одичании, крушении или изнеможении. Поскольку у греков важен пафос, субстанциальное содержание человеческих поступков, а не субъективный характер, то у них судьба в меньшей степени затрагивает этот определенный характер, который и не развивается, по существу, в своих действиях, а остается до конца тем, чем он был вначале. На данной же ступени развития действия есть также и развитие индивида в его субъективной внутренней жизни, а не только внешнее движение событий.
Поступки Макбета, например, обнаруживают одичание его души, совершающееся столь последовательно, что, после того как он преодолел нерешительность и бросил жребий, оно уже не может быть задержано. Его супруга с самого начала проявляет решительность; развитие судьбы в ней проявляется только как внутренний страх, возрастающий до физического и духовного крушения, до сумасшествия, от которого она гибнет. Так же обстоит дело почти со всеми характерами, как значительными, так и незначительными. Правда, античные характеры также являются твердыми; у них дело доходит даже до конфликтов, когда уже ничем нельзя помочь, и для их разрешения должен выступить deus ex machina'1. Но эта твердость, как, например, у Филоктета, полна содержания и нравственно оправданного пафоса. Буквально: бог из машины (латин.) — неожиданное появление божества, своим вмешательством распутывающего положение.
291
γ. В характерах рассматриваемого нами круга невозможно объективное примирение ввиду самостоятельности их индивидуальности и случайности того, что они ставят своей целью. Связь между тем, что они собою представляют, и тем, что с ними происходит, отчасти остается неопределенной, отчасти же — для них самих не решается вопрос «почему» и «для чего». Здесь снова появляется фатум как абстрактнейшая необходимость. Единственным примирением для индивида остается его бесконечное внутреннее бытие, его собственная твердость, благодаря которой он возвышается над своей страстью и ее судьбой. «Так это происходит», и то, что с ним случается, от чего бы оно ни проистекало — от господства ли рока, необходимости или от случая,— это тоже существует. Здесь нет размышления, почему и для чего это существует; -нечто совершается, и человек делает и хочет видеть себя перед этой властью окаменевшим.
Ь) Характер как внутренняя, но не развитая целостность
Во-вторых, в противоположность указанному, формальность характера может зависеть от внутреннего переживания как такового; индивид пребывает в нем, не достигая его расширения и осуществления.
а. Таковы субстанциальные души. Они заключают в себе целостность, но переживают всякое глубокое душевное движение в простой сосредоточенности внутри себя, не развивая и не развертывая его вовне. Формализм, нами рассмотренный, относился к определенности содержания и состоял в том, что индивид всецело вкладывал себя в одну цель, которую он четко и полностью выявлял, высказывал, осуществлял и — в зависимости от обстоятельств — при этом погибал или сохранял себя. Формализм, о котором мы теперь говорим, состоит, наоборот, в нераскрытости, бесформенности; ему недостает проявления и развертывания. Такая душа сходна с драгоценным камнем, который сверкает отдельными гранями, и его блеск подобен молнии.
β. Для того чтобы такая замкнутость имела ценность и была интересна, требуется наличие внутреннего душевного богатства, которое, однако, обнаруживает свою бесконечную глубину и широту лишь в немногих, безмолвных, так сказать, проявлениях и распознается как раз в этом молчании. Такие простые, не сознающие себя, молчаливые натуры могут быть очень привлекательными. Их молчание подобно неподвижной поверхности моря. Оно должно быть молчанием неизмеримо глубокой, а не мелкой, пустой, тупой души. Подчас плоскому человеку,292
который мало себя проявляет вовне и лишь изредка дает возможность полуразгадать свои поступки, удается создать мнение, что он мудр и обладает глубокой внутренней жизнью. Окружающие могут полагать, что в этом сердце и уме скрывается нечто чудесное, между тем как в конце концов оказывается, что за этим ничего нет.
Напротив, бесконечная содержательность и глубина других молчаливых душ обнаруживается в отдельных, разбросанных, наивных и сказанных невзначай остроумных высказываниях,— что требует большой гениальности и мастерства от художника. Для людей, способных понимать, эти непреднамеренные высказывания свидетельствуют о том, что такая душа глубоко и проникновенно постигает субстанциальное начало в окружающих обстоятельствах, но ее размышление не переплетается со всем клубком особенных интересов, соображений, конечных целей, оно чисто от них, незнакомо с ними и не позволяет обыденным движениям сердца рассеять подобное серьезное отношение и участие.
γ. Но и для такой замкнутой в себе души должно наступить время, когда ее внутренний мир будет потрясен и она бросит всю свою нерастраченную безраздельную силу в одно чувство, определяющее всю жизнь, привяжется к нему и станет счастливой или погибнет. Ибо для твердой опоры человек нуждается в развитой нравственной субстанции, которая одна только и сообщает объективную прочность.
К таким характерам принадлежат очаровательнейшие создания романтического искуссства, в их прекраснейшем совершенстве созданные Шекспиром. Такова, например, Джульетта в трагедии '«Ромео и Джульетта». Вы, наверное, присутствовали при постановке трагедии (в Берлине в 1820 году, когда роль Джульетты была сыграна мадам Грелингер). Стоит ее посмотреть; это в высшей степени подвижное, живое, искреннее, пылкое, остроумное, совершенное, благородное создание. Однако характер Джульетты может быть понят и иначе. Вначале она только ребенок, простая девушка четырнадцати-пятнадцати лет. Видно, что она еще не сознает ни себя, ни мира. Не тая в себе никакого движения, порыва или желания, она со всей непосредственностью заглянула в окружающий ее мир, как в laterna magica 1, ничему не научилась и не пришла ни к каким размышлениям. И вдруг мы видим, как развивается все величие этой души, видим хитрость, осмотрительность, силу, способную пожертвовать всем на 'свете и подверпнуться жесточайшим испыта-
Водшебный фонарь (латин.).
293
ниям. Целостность характера обнаружилась подобно тому, как впервые распускаются лепестки розы; здесь проявляется бесконечно глубокая цельная натура. Если раньше она была недифференцированна, неразвита, то, выступая из прежде замкнутого духа, она предстает непосредственным созданием проснувшегося одного интереса и не осознает прекрасной богатство своего чувства и своей власти. Это пожар, который возник от одной искры, почка, которая, едва ее коснулась любовь, неожиданно распускается совершенным цветком, но чем быстрее она распускается, тем быстрее опадает и никнет.
К этим характерам принадлежит Миранда в «Буре». Шекспир показывает нам ее, воспитанную в тишине, ее первое знакомство с людьми; изображая ее лишь в немногих сценах, он дает нам полное, бесконечно яркое представление о ней. Шиллеровскую Теклу, хотя она и является плодом рефлектирующей поэзии, мы также можем причислить к этим характерам. Богатая и шумная жизнь вокруг не трогает ее. Лишенная тщеславия и размышления, она наивно отдается только одному воодушевляющему ее интересу. Вообще для прекрасных, благородных женских натур только в любви впервые открывается мир и их собственная внутренняя жизнь; они только тогда рождаются духовно. Подобной же 'задушевностью, которая не может полностью раскрыться, наделены as герои большей части народных песен, в особенности германских. Эти песни выражают полную содержания целостную жизнь души. В какой бы мере душа ни была проникнута каким-нибудь интересом, она может проявлять себя в этих песнях только отрывочными высказываниями, открывая нам свою глубину. Безмолвие этого способа изображения как бы снова возвращает искусство к символизму, так как то, что выражается, это не открытое, ясное выявление всего внутреннего содержания, а только некий знак и намек. Однако это не символ, значение которого в абстрактной всеобщности, а высказывание, внутренним содержанием которого является субъективная, живая, действительная душа.
В позднейшее время, когда господствует рефлектирующее сознание, далекое от упомянутой наивности, оттесненной теперь внутрь себя,— в позднейшее время такие изображения представляют огромные трудности и служат доказательством оригинального поэтического дарования. Мы уже видели ранее, что Гёте, в особенности в своих песнях, является мастером таких символических изображений, то есть умеет в простых, кажущихся внешними и безразличными чертах раскрыть всю преданность и бесконечность души. Таков, например, «Фульский король», одно
294
из прекраснейших поэтических произведений Гёте. Король ничем не обнаруживает свою любовь; лишь кубок, который старик сохранил на память о своей возлюбленной, свидетельствует о ней. Старый бражник умирает; вокруг него стоят рыцари в высоком королевском зале. Свое царство, свои сокровища он завещает наследникам, кубок же бросает в волны — никто другой не должен обладать им.
В тот миг, когда пучиной Был кубок поглощен, Пришла ему кончина, И больше но пил он '.
Но такая глубокая, тихая душа, которая скрывает в себе энергию духа, как кремень искру, которая не формирует себя, не развивает своего существования и размышления о нем,— эта душа не освободила себя посредством такого развития. Когда в ее жизнь врывается диссонанс несчастья, она находится во власти жестокого противоречия, не обладая нужным уменьем, не зная путей для сближения своего сердца с действительностью, не умея защититься против внешних обстоятельств, проявить выдержку перед их лицом и постоять за себя. Если она попадает в коллизию, то оказывается беспомощной, быстро и необдуманно переходя к деятельности или пассивно давая себя запутать.
Так, например, Гамлет — прекрасная благородная душа. Не будучи внутренне слабым, он, однако, не обладает сильным чувством жизни; охваченный тяжелой меланхолией, он бродит печально и бесцельно. У него тонкое чутье. Нет никакого внешнего признака, никакого основания для подозрений, но ему чудится что-то неладное, не все идет так, как должно быть. Он предчувствует, что свершилось нечто чудовищное. Дух его отца сообщает ему подробности. Быстро рождается в его душе решение отомстить. Он всегда помнит о долге, который ему предписывает собственное сердце. Но он не позволяет, подобно Макбету, увлечь себя, не убивает, не беснуется, не наносит удар прямо, подобно Лаэрту, а продолжает оставаться в состоянии бездеятельности, свойственном прекрасной, погруженной в свои переживания душе, которая не может сделать себя действительной, не может включить себя в современные отношения. Он выжидает, ищет объективной уверенности, следуя прекрасному чувству справедливости, однако не приходит к твердому решению. Даже обретя эту уверенность, он предоставляет все внешним обстоятельствам.
Пер. Б. Пастернака.
295
Далекий от действительности, он не разбирается в том, что его окружает, и убивает старого Полония вместо короля, действуя опрометчиво там, где требуется рассудительность. Он погружен в себя, когда требуется проявить настоящую энергию, пока наконец в этом сложном потоке обстоятельств и случайностей помимо его деятельности не осуществляется судьба целого и его собственного, вновь возвратившегося в себя, чувства.
В таком положении оказываются, особенно в новое время, люди, принадлежащие к низшим сословиям. Они не обладают образованием, подготавливающим к осуществлению всеобщих целей, и не проникнуты многообразием объективных интересов. Поэтому, когда у них исчезает одна цель, они не могут найти опору ни для своей внутренней жизни, ни для своей деятельности. Отсутствие образования приводит к тому, что чем менее развиты замкнутые характеры, тем тверже и упорнее держатся они того, что сразу овладело всей их индивидуальностью, каким бы односторонним оно ни было.
Такое однообразие сосредоточенных в себе молчаливых людей свойственно преимущественно немцам. Вследствие этого они легко оказываются неуживчивыми, неприветливыми, упрямыми и недоступными, а в своих поступках и речах весьма неуверенными и противоречивыми. Мастером в изображении таких молчаливых характеров, принадлежащих к низшим классам, является Гиппель, автор «Жизненных карьер в восходящей линии», одного из немногих оригинальных юмористических произведений на немецком языке. Он далек от сентиментальности и пошлых ситуаций, характеризующих Жан Поля. Отличаясь удивительной индивидуальностью, свежестью и живостью, он с поразительной силой изображает замкнутые характеры, не умеющие высказать то, что у них на душе, и делающие это со страшной энергией, когда их на это толкают. Они ужасным образом разрешают бесконечное противоречие своей внутренней жизни и несчастных обстоятельств, в которых видят себя запутавшимися. Этим они совершают то, что в других случаях делает внешняя судьба, как это происходит, например, в «Ромео и Джульетте», где внешние случайности расстраивают хитроумное и искусное вмешательство монаха и приводят к смерти любящих.
с) Субстанциальный интерес при изображении формального характера
Таким образом, эти формальные характеры показывают нам, с одной стороны, лишь бесконечную силу воли особенной субъективности, проявляющей себя такой, какова она есть, и бурно осу-
296
ществляющей свою волю. С другой стороны, они представляют цельную внутри себя неограниченную душу, которая, будучи затронута в какой-нибудь определенной стороне своей внутренней жизни, сосредоточивает ширь и глубину всей своей индивидуальности в этом единственном пункте, попав же в коллизию, оказывается не в состоянии ориентироваться и, прибегнув к рассудку, помочь себе; она не развертывается вовне.
Третий момент, на который мы должны теперь еще указать» заключается в следующем. Если мы желаем, чтобы эти совершенно односторонние и ограниченные по своим целям, но развитые по своему сознанию характеры представляли не только формальный, но также и субстанциальный интерес,— мы должны получить от их изображения впечатление, что ограниченность их субъективности есть лишь некая судьба, иначе говоря, переплетение их совершенно частной определенности с глубоким внутренним содержанием.
Шекспир дает нам возможность познать в них эту глубину и богатство духа. Он показывает людей свободной силы представления и гениального духа, ибо рефлексия возвышает их над тем, чем они являются по своему состоянию и своим определенным целям. Поэтому кажется, что они совершают свои деяния вследствие несчастных обстоятельств и коллизий своего положения. Но это надо понимать не так, что деяния Макбета, например, мы должны приписывать только злым колдуньям; колдуньи являются лишь поэтическим отражением его собственной упрямой воли. То, что шекспировские герои осуществляют, их особая цель, имеет своим происхождением и основой своей силы их собственную индивидуальность. Но эта же индивидуальность сохраняет вместе с тем величие, которое стирает то, чем она является в действительности по своим целям, интересам и поступкам, расширяя и возвышая ее в самой себе.
И точно так же вульгарные характеры у Шекспира — Стефано, Тринкуло, Пистоль и абсолютный герой среди всех Фальстаф — при всей своей вульгарности вместе с тем обнаруживают ум. Их гений мог бы охватить собою все, иметь полное, свободное существование и вообще быть тем, чем являются великие люди. Напротив, в французских трагедиях даже величайшие и лучшие люди довольно часто оказываются при надлежащем рассмотрении только напыщенными, злыми тварями; им хватает ума лишь для оправдания себя всякими софизмами. У Шекспира мы не находим ни оправдания, ни осуждения, а лишь размышление о всеобщей судьбе, необходимость которой индивиды принимают без жалоб и без раскаяния. Исходя из необходимости
297
и рассматривая себя как бы извне, они видят все и самих себя
исчезающими.
Во всех этих отношениях область таких индивидуальных характеров представляет бесконечно богатую сферу; однако существует опасность впасть в пустоту и пошлость. Поэтому лишь немногие мастера обладали достаточным поэтическим даром и умом, чтобы постигать истинное.
00.htm - glava55
2. МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Рассмотрев ту сторону внутреннего содержания, которая может быть изображена на этой ступени искусства, мы должны, во-вторых, направить свой взор π на внешнее, на те особенные обстоятельства и ситуации, которые способствуют выявлению характера, на те коллизии, в которых он замешан, и на весь облик, принимаемый внутренним содержанием в конкретной действительности.
Как мы уже неоднократно указывали, основным определением романтического искусства является то, что духовность есть душа, то есть рефлектированное внутрь себя некое целое. Поэтому она относится к внешнему не как к своей реальности, проникнутой ею, а как к отделенному от нее, чисто внешнему началу, которое, будучи отпущено на свободу духом, развертывается, осложняется и разбрасывается в разные стороны в качестве бесконечно подвижной, изменчивой, запутанной случайности. Замкнутой в себе душе безразлично, к каким обстоятельствам она обратится. Для нее является случайным, какие обстоятельства ей представятся, ибо она стремится своими действиями не создать обоснованное в самом себе произведение, существующее посредством самого себя, а лишь вообще проявлять себя, совершать дела.
а) Случайность целей и коллизий
Итак, здесь существует то, что мы, правда, в другом смысле назвали падением божественного ореола природы. Дух ушел из внешних явлений в себя. Так как внутреннее содержание субъективности больше не видит в них себя, то и со своей стороны они формируются самостоятельно, вне субъекта, будучи к нему равнодушны. Правда, согласно своей истине дух опосредствован и примирен внутри себя с абсолютным, но поскольку мы пребываем здесь на ступени самостоятельной индивидуальности, которая исходит из себя, будучи взята такой, какой она себя непосредст
298
венно находит, и сохраняет себя таковой, то действующий характер также утрачивает свою божественность. Он со своими случайными целями вступает в случайный мир, с которым не сливается в единое, внутри себя совпадающее целое. Эта относительность целей в относительной среде, определенность и переплетение которой коренится не в субъекте, а определяется внешне, случайно и приводит к случайным коллизиям и причудливо переплетающимся друг с другом разветвлениям,— эта относительность целей и составляет мир приключений, который является основным типом романтического искусства в отношении формы событий и действий.
Для того чтобы изобразить действия и события с точки зрения идеала и классического искусства, требуется наличие истинной внутри себя, в себе и для себя необходимой целя, в содержании которой заключается то, что определяет внешнюю форму и способ осуществления в действительности. Этого нет в делах и событиях, изображаемых романтическим искусством. Хотя здесь изображаются реализуемые сами по себе всеобщие и субстанциальные цели, все же эти цели не обладают в самих себе определенностью действия, тем, что упорядочиваем и расчленяет нх внутреннее течение. Этот момент реализации они предоставляют свободе и случайности.
а. Романтическому миру предстояло совершить лишь один абсолютный подвиг — распространение христианства, деятельное выявление духа общины. Осуществляясь во враждебном мире неверующей античности или варварского и дикого сознания, переходя от учения к деяниям, этот подвиг становился пассивным перенесением страданий и мук, принесением в жертву собственного бренного существования ради вечного спасения души. Дальнейший подвиг, аналогичный по содержанию, был в средние века делом христианского рыцарства. Он заключался в изгнании мавров, арабов и вообще магометан из христианских стран, а затем в крестовых походах, предпринятых для завоевания святого гроба господня.
Однако это не было целью, затронувшей все человечество; ее должна была осуществить лишь совокупность отдельных индивидов, которые собирались по своей воле.
В этом смысле мы можем назвать крестовые походы коллективной авантюрой христианского средневековья, приключением, которое внутри себя было разорванным и фантастичным: оно имело духовный характер, но было лишено истинно духовной цели и было ложно в отношении действия и характера. Ибо, что касается религиозного момента, крестовые походы ставят перед
299
собою в высшей степени пустую, внешнюю цель. Христианский мир должен искать своего спасения только в духе, в Христе, который, воскреснув, воссел одесную бога и обретает свою живую действительность, свое пребывание не в гробе и в чувственных, непосредственно существующих местах своего прежнего земного воплощения,— а в духе. Но порыв и религиозное стремление средневековья были направлены лишь на внешнюю местность, связанную с историей страданий Христа и гробом господним.
В столь же непосредственном противоречии с религиозной целью находилась и чисто мирская цель завоевания, приобретения, которая по своему внешнему проявлению носила характер, совершенно отличный от религиозного. Итак, хотели завоевать духовное, внутреннее, а ставили себе целью найти чисто внешнюю местность, из которой исчез дух. Стремились к земной выгоде, а связывали мирское -с религиозным как таковым. Эта противоречивость составляет разломанность, фантастичность, в которой внешнее извращает внутреннее, а внутреннее — внешнее, вместо того чтобы эти две стороны были приведены в гармонию. Поэтому и в выполнении подвига сочетаются противоположные элементы, лишенные примирения. Благочестие превращается в грубость и варварскую жестокость, а эта грубость, развязывающая эгоизм и все человеческие страсти, снова влечет за собой глубокое вечное сокрушение духа и умиление,— во имя чего все это и происходит.
Наличие таких противоречивых элементов и приводило к тому, что деяниям и событиям, связанным одной и той же целью, недоставало единства и последовательности в ее осуществлении; вся совокупность событий, составлявших эти походы, распадается на ряд приключений, побед, поражений, пестрых случайностей, а исход этого предприятия не соответствовал имевшимся в распоряжении средствам и грандиозным приготовлениям. Цель уничтожалась своим осуществлением. 'Крестовые походы хотели еще раз подтвердить истину слова: «Ты не дашь ему лежать в гробу, не допустишь, чтобы твой святой подвергся тлению». Но именно это страстное стремление найти Христа живого в земной местности, даже в гробу, месте смерти, и получить духовное удовлетворение — и есть лишь тление духа (сколько бы ни восхищался им г. Шатобриан ), из которого Христианский мир должен воскреснуть, чтобы вернуться к свежей, полной жизни конкретной действительности.
Сходную цель — мистическую, с одной стороны, фантастическую, с другой, и авантюрную в своем осуществлении — представляют потоки святого Грааля.
300
β. Более высоким делом является то, которое каждый человек должен осуществить в самом себе,— его земная жизнь, определяющая жизнь вечную. Эту тему трактует, например, Данте в своей «Божественной комедии», в согласии с католическими воззрениями проводя нас через ад, чистилище и рай. Несмотря на строгое расчленение целого, и здесь нет недостатка ни в фантастических представлениях, ни в авантюрных элементах, поскольку награждение загробным блаженством и осуждение на загробные муки изображаются не сами по себе, в своей всеобщности, а в своем частном осуществлении, в почти необозримом ряде отдельных примеров. Поэт дерзает присвоить себе права церкви, берет в свои руки ключи от врат рая, дарует блаженство и осуждает. Он делает себя судьей мира, отправляя в ад, чистилище или рай знаменитейших людей древнего и христианского мира, поэтов, граждан, воинов, кардиналов и пап.
γ. Другим материалом для действий и событий служат бесконечно многообразные приключения — создания представления, внутренние и внешние случайности любви, чести и верности,— совершающиеся на светской почве. В одном случае рыцарь сражается за собственную славу, в другом — он спешит на помощь преследуемой невинности (даже если невинностью, которую рыцарь освобождает, была банда мошенников), совершает удивительнейшие подвиги в честь своей дамы или восстанавливает ущемленное право силой собственного кулака, ловкостью своей руки. Здесь нет положения, ситуации, конфликта, благодаря которым действие стало бы необходимым, здесь душа, желая проявиться во внешнем, намеренно отыскивает себе приключения. Так, например, поступки, связанные с любовью, по своему своеобразному содержанию не имеют никакой другой цели, как доказать прочность, верность, продолжительность любви и показать, что окружающая действительность в совокупности ее отношений есть лишь материал, в котором проявляется любовь. Деяние, в котором она проявляется, определяется не самим собою, а предоставлено взбредшей в голову причудливой мысли, капризу дамы, произволу внешних случайностей.
Совершенно так же обстоит дело с целями чести и храбрости. Они являются целями субъекта, который еще оторван от субстанциального содержания и вкладывает себя во всякое случайно попавшееся ему содержание, ищет в нем возможность оскорбления или повод доказать свою храбрость, свою ловкость. Здесь не существует мерила, указывающего, что должно быть отнесено к содержанию и что нет, здесь нет и критерия, определяющего, что действительно является оскорблением чести и что может
301
быть истинно достойным предметом храбрости. Право, которое является целью рыцарства, осуществляется точно так же. Право и закон оказываются здесь не состоянием и целью, устойчивыми в себе и для себя, всегда осуществляющимися согласно закону и его необходимому содержанию, а тем, что само представляет собой лишь субъективную причуду. Поэтому и защита права и суждение о том, что в том или другом случае является справедливым или несправедливым, предоставлены случайному субъективному мнению.
Ь) Комическая трактовка случайного
Следовательно, в области мирского, в рыцарстве и упомянутой формальности характеров, мы сталкиваемся со случайным (в большей или меньшей степени) характером как проявляющим волю души, так и тех обстоятельств, в рамках которых совершается действие. Упомянутые ранее односторонние индивидуальные персонажи могут сделать своим содержанием нечто всецело случайное, опирающееся только на энергию их характера. В коллизиях, обусловленных внешними обстоятельствами, им или удается, или не удается его осуществить. Подобно им, рыцарство в чести, любви и верности находит в себе высокое оправдание, сходное с истинно нравственным. С одной стороны, благодаря единичности обстоятельств, на которые оно реагирует, рыцарство получает характер случайности, поскольку вместо всеобщего дела оно осуществляет лишь частные цели; его делам недостает в себе и для себя сущих связей. Благодаря этому, с другой стороны, в субъективном духе индивидов возникает произвол или самообман относительно намерений, планов и предприятий. Последовательно проведенный авантюрный характер их поступков, событий и их результатов оказывается миром происшествий и судеб, разлагающимся внутри себя и — вследствие этого — комическим.
Это внутреннее разложение рыцарства достигло своего осознания и получило свое наиболее адекватное изображение преимущественно у Ариосто и Сервантеса, а отмеченная особенность индивидуальных характеров — у Шекспира.
а. У Ариосто особенно забавны бесконечная запутанность судеб и целей, сказочное сплетение фантастических обстоятельств и шутовских ситуаций, которыми с легкостью, доходящей до легкомыслия, играет влюбленная в приключения фантазия поэта. Здесь разыгрываются неподдельно дурацкие, безумные вещи, к которым герои должны относиться вполне серьезно. Любовь с
302
высот божественной любви, воспетой Данте, или фантастической нежности у Петрарки низводится до уровня чувственных, неприличных историй и смешных коллизий, а героизм и храбрость взвинчены до такой степени, что вызывают уже не доверчивое восхищение, а лишь улыбку по поводу сказочности подвигов. Относясь равнодушно к тому, как возникают изображаемые им ситуации, каким образом они влекут за собой удивительные перипетии и конфликты, как эти конфликты завязываются, обрываются, опять сплетаются, разрубаются и наконец изумительно разрешаются, комически трактуя, кроме того, рыцарские подвиги,— Ариосто все же умеет выделить и возвысить все то благородное и великое, что имеется в рыцарстве,—мужество, любовь, честь и храбрость,— не в меньшей мере, чем другие страсти — плутовство, хитрость, присутствие духа и многое другое. ·
β. Если Ариосто воюет больше против сказочности рыцарских приключений, то Сервантес обратил внимание на их романтический характер. В своем «Дон-Кихоте» он изображает благородный характер, в котором рыцарство переходит в сумасшествие. Здесь рыцарские приключения перенесены в прочные, определенные условия действительности, которая подробно изображается во всех ее внешних отношениях. Отсюда возникает комическое противоречие между рассудочным, упорядоченным собственными силами миром и изолированной душой, которая хочет создать эту прочность, этот порядок с помощью своих рыцарских подвигов, которые, однако, только ниспровергают ее.
Несмотря на это комическое заблуждение, в «Дон-Кихоте» полностью сохранилось то, что мы хвалили раньше в произведениях Шекспира. Дон-Кихот — благородная, многосторонняя и духовно одаренная натура, которая все время живо интересует нас, Дон-Кихот — это душа, которая в своем безумии вполне уверена в себе и в своем деле; вернее, его сумасшествие в том и состоит, что он уверен и остается уверенным в себе и в своем деле. Без этого спокойствия, лишенного рефлексии, по отношению к характеру и успеху своих поступков он не был бы подлинно романтичным. Эта уверенность в субстанциальной сути своих действий действительно велика, гениальна и украшает его прекраснейшими чертами характера.
Произведение в целом представляет собой, с одной стороны, осмеяние романтического рыцарства, являясь подлинной иронией, между тем как у Ариосто приключения остаются только легкомысленной шуткой. С другой стороны, события в «Дон-Кихоте» — лишь нить, на которую прелестно нанизывается ряд подлинно романтических новелл, чтобы показать истинную ценность
303
того, что в другой части романа принижается в комических сценах.
γ. Аналогично тому, как здесь рыцарство, даже в важнейших своих интересах, низводится до комического, так и Шекспир либо ставит рядом со своими четкими индивидуальными характерами, с трагическими ситуациями и конфликтами комические фигуры и сцены, либо выводит индивидуальные характеры с помощью глубокого юмора за пределы самих себя, когда они упрямо преследуют свои ограниченные и ложные цели. Фальстаф, шут в «Короле Лире», сцена с музыкантами в «Ромео и Джульетте» представляют собой иллюстрации первого, а «Ричард III» — иллюстрацию второго приема.
с) Романическое
К этому разложению романтического в его прежней форме примыкает, наконец, в-третьих, романическое начало в современном смысле этого слова; ему по времени предшествуют рыцарские и пастушеские романы.
Это романическое представляет собой рыцарство, ставшее снова серьезным, обретшее действительное содержание. Случайность внешнего существования превратилась в прочный, обеспеченный порядок гражданского общества и государства, так что там, где ставил себе химерические цели рыцарь, теперь существуют полиция, суды, армия, государственное управление. Поэтому меняется и характер рыцарства героев, действующих в новейших романах. В качестве индивидов, обладающих своими субъективными целями, любовью, честью, благоговением или своими идеалами улучшения мира, они противостоят этому существующему порядку и прозе действительности, которая всюду ставит на их пути затруднения.
Из-за этой противоположности субъективные желания и требования взвинчиваются безмерно высоко. Каждый застает перед собою зачарованный, для него совершенно не подходящий мир, против которого он должен бороться, так как этот мир противится ему и в своей неподатливой прочности не уступает страстям героя, выдвигает как препятствие желание отца, какой-нибудь тетки, гражданские отношения и т. д. Такими новыми рыцарями являются преимущественно юноши, которым приходится пробиваться сквозь мирской круговорот, осуществляющийся вместо их идеалов. Эти юноши считают несчастьем, что существуют вообще семья, гражданское общество, государство, законы, профессиональные занятия та. т. д., так как субстанциаль-
304
ные жизненные отношения с их ограничениями жестоко противодействуют их идеалам и бесконечному закону сердца. Надо пробить брешь в этом порядке вещей, изменить, улучшить мир или по крайней мере, вопреки ему, создать себе на земле небесный уголок, пуститься в поиски подходящей девушки, найти и отвоевать ее наперекор злым родственникам или неблагоприятным обстоятельствам.
Но 'эта борьба знаменует в современном мире лишь годы ученичества, воспитания индивида, соприкасающегося с существующей действительностью. Только в этом ее истинный смысл. Ибо учение это кончается тем, что субъект обламывает себе рога, вплетается со своими желаниями и мнениями в существующие отношения и разумность этого мира, в его сцепление и приобретает себе в нем соответствующее местечко. Сколько бы тот или иной человек ни ссорился с миром, сколько бы его ни бросало из стороны в сторону, он в конце концов все же получает свою девушку и какую-нибудь службу, женится и делается таким же филистером, как все другие. Жена будет заниматься домашним хозяйством, не преминут появиться дети, женщина, предмет его благоговения, которая недавно была единственной, ангелом, будет вести себя приблизительно так же, как и все прочие. Служба заставит работать и будет доставлять огорчения, брак создаст домашний крест, и таким образом он ощутит всю ту горечь похмелья, что и другие.
Мы видим здесь тот же мир приключений, с которым имели дело выше. Различие лишь в том, что он находит свое подлинное значение, а фантастическое получает в нем необходимый корректив.
00.htm - glava56
3. РАЗЛОЖЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИСКУССТВА
Последнее, что остается нам еще сделать,— это установить момент, когда романтическое, которое в себе уже является разложением классического идеала, начинает действительно выступать как разложение.
Здесь мы сразу же должны принять во внимание совершенно случайный и внешний характер того материала, который охватывает и формирует художественная деятельность. В пластике классического искусства субъективное внутреннее содержание так относится к внешнему, что это внешнее есть образ, свойственный внутреннему, и не получает самостоятельного существования. Напротив, в романтическом искусстве, где внутреннее переживание отступает в себя, содержание внешнего мира обретает сво-
305
боду, возможность самостоятельно развертывать себя и сохранять свое своеобразие и определенность. И наоборот, когда субъективное, внутреннее, душевное переживание становится существенным моментом изображения, тогда столь же случайным будет то, в какое содержание внешней действительности и духовного мира будет вживаться душа.
Романтическое внутреннее содержание в состоянии обнаруживать себя при любых обстоятельствах. Оно выражается в огромном множестве положений, состояний, отношений, блужданий, переплетений, конфликтов и удовлетворений. Это возможно лишь потому, что предметом поисков становится и имеет ценность только субъективное формообразование в самом внутреннем содержании, выражение и способ восприятия души,— а не объективное, в себе и для себя значимое содержание. Поэтому в изображениях романтического искусства все находит себе место: все жизненные сферы и явления, большое и малое, высокое и ничтожное, нравственное, безнравственное и злое. Чем больше это искусство становится мирским, тем в большей мере оно захватывает конечные явления мира. Эти явления становятся излюбленными предметами его изображения, оно делает их полностью значимыми, и художник чувствует себя хорошо, изображая их такими, каковы они есть.
Так, например, у Шекспира наряду с изображением самых возвышенных областей и важнейших интересов мы встречаем изображение самых незначительных и второстепенных явлений, потому что у него действия персонажей уходят в конечные жизненные связи, дробятся и рассеиваются, переходя в круг случайностей, причем все имеет свое значение. В «Гамлете», например, мы видим наряду с королевским двором — часовых, в «Ромео π Джульетте» — челядь, а в других пьесах — шутов, дураков и всевозможные низменные явления повседневной жизни: кабаки, извозчиков, ночные горшки и блох,— точно так же как в религиозном круге романтического искусства в изображении рождения Христа и поклонения волхвов должны быть волы и осел, ясли и солома. И так происходит везде, дабы и в искусстве исполнилось изречение: первые да будут последними.
В случайном характере избираемых искусством предметов, которые отчасти являются только фоном более важного в самом себе содержания, отчасти же изображаются и самостоятельно,— обнаруживается то разложение романтического искусства, которого мы уже коснулись. С одной стороны, выступает реальная действительность в ее — с точки зрения идеала — прозаической объективности. Содержание обычной повседневной жизни пости-
306
гается не в своей субстанции, в которой оно содержит нравственное и божественное, а в своей изменчивости и конечном преходящем характере. С другой стороны, субъективность со своими чувствами и взглядами, с правом и силой своего остроумия возводит себя в хозяина всей действительности. Ничего не оставляя от обычной связи и значения действительности для обыденного сознания, она чувствует себя удовлетворенной лишь постольку, поскольку все вовлеченное в эту область оказывается в самом себе разложимым и разложившимся для созерцания и чувства благодаря той форме и установке, которую придают всему субъективное мнение, каприз, гениальность.
Поэтому мы должны остановиться, во-первых, на принципе тех многообразных произведений искусства, которые в своем способе изображения низменного существования и внешней реальности приближаются к тому, что мы привыкли называть подражанием природе.
Во-вторых,— на субъективном юморе, играющем большую роль в современном искусстве. У многих поэтов он составляет основной тип их произведений.
И в-третьих, остается еще указать ту точку зрения, исходя из которой искусство в состоянии существовать и в наше время.
а} Субъективное подражание искусства существующему
Круг предметов, который может охватить эта сфера, расширяется до беспредельности, так как здесь искусство берет своим содержанием не внутри себя необходимое, область которого замкнута в себе, а случайную действительность в ее безграничных видоизменениях образов и обстоятельств. В этот круг попадает природа с ее пестрой игрой разъединенных форм, повседневные дела человека, обусловленные природными потребностями, и их приятное удовлетворение, его случайные привычки, положения, уклад семейной жизни, его обыденные гражданские занятия и вообще все непредвиденно меняющееся во внешней предметности. Благодаря этому искусство не только приобретает портретный характер, какой всегда свойствен романтическому искусству, но оно целиком сводится к портретным изображениям — как в ваянии и живописи, так и в поэтических описаниях. Оно возвращается к подражанию природе, к намеренному приближению к случайности непосредственного, некрасивого в самом себе и прозаического существования.
Здесь, естественно, напрашивается вопрос, должны ли мы вообще называть такого рода продукцию художественным произ-
307
ведением. Если исходить из понятия подлинно идеальных художественных произведений, в которых, с одной стороны, дело идет о неслучайном и непреходящем содержании, а с другой стороны, о всецело соответствующем такому содержанию способе формообразования, то продукты творчества настоящей ступени не выдержат испытания. Но в искусстве есть и другой момент, который здесь получает существенное значение: субъективный замысел и исполнение художественного произведения, индивидуальный талант, умеющий оставаться верным как субстанциальной внутренней жизни природы, так и образованиям духа, даже в тех крайне случайных формах, которые он принимает. Благодаря этой правде и удивительнейшему мастерству изображения талант делает значительным даже то, что само по себе лишено значения. К этому прибавляется та субъективная интенсивность, с которой художник всецело вживается своим духом и душой в существование таких предметов, взятых во всем их внутреннем и внешнем облике и явлении. Одухотворяя их, он ставит их перед нашим созерцанием. Поэтому мы не имеем права отказать созданиям, принадлежащим этому кругу, называться художественными произведениями.
Из отдельных искусств главным образом живопись и поэзия изображают такие предметы. Ибо, с одной стороны, содержанием здесь служит в самом себе частное, а с другой стороны, формой изображения оказывается случайное и все же подлинное в своем круге своеобразие внешнего явления. Ни архитектура, ни скульптура, ни музыка не подходят для выполнения такой задачи.
а. В поэзии обыденная домашняя жизнь, имеющая своей субстанцией порядочность, умение жить на свете и мораль сегодняшнего дня, изображается в своих обычных мещанских перипетиях, в сценах и фигурах, взятых из жизни средних и низших классов. Из французов особенно Дидро настаивал на естественности и подражании существующему. У немцев на сходный путь (но в более высоком смысле) вступили в молодости Шиллер и Гёте. Внутри этой живой естественности изображения и своеобразия изображаемого они искали более глубокое содержание и существенные, интересные конфликты. В это же самое время Коцебу и Ифланд, один с поверхностной быстротой восприятия и созидания, другой с серьезнейшей пунктуальностью и филистерской моралью, срисовывали повседневную жизнь своего времени в ее прозаических связях, обнаруживая недостаток чутья к настоящей поэзии.
Вообще немецкое искусство очень охотно, хотя и позже дру-
308
гих, восприняло эту манеру и достигло в ней виртуозности. Долгое время искусство было для нас чем-то более или менее чуждым, полученным извне; оно не возникло по собственному почину. В этом обращении к окружающей действительности сказывается потребность в том, чтобы материал искусства был имманентным, родным, принадлежал национальной жизни поэта и публики. Побуждением к таким изображениям было стремление освоить искусство, которое и по своему содержанию и по способу изображения было бы всецело нашим, родным, хотя бы для этого пришлось пожертвовать красотой и идеальностью. Другие народы пренебрегли такими областями искусства или же только теперь начинают живо интересоваться материалом, заимствованным из повседневного и обыденного существования.
β. Останавливаясь на наиболее удивительном, что достигнуто в этом отношении, мы должны обратить внимание на жанровую живопись поздних голландцев. Уже в первой части, рассматривая идеал как таковой («Эстетика», т. I, стр. 178), я коснулся той субстанциальной, согласно всеобщему духу, основы, из которой она возникла. Удовлетворенность существующей жизнью, выражающаяся в самом обыденном и незначительном, вытекает у голландцев из того обстоятельства, что они были вынуждены добывать себе в трудной борьбе и тяжком труде то, что другим народам природа доставляет непосредственно. Из-за ограниченной территории они стали великими в заботе о самых ничтожных вещах, которые научились ценить. С другой стороны, это народ рыбаков, моряков, бюргеров, крестьян. Они знают цену тому, что необходимо и полезно в большом и малом деде, и умеют добыть его своим трудолюбивым усердием. По своей религии голландцы — что очень важно — были протестантами, а только протестантизму свойственно всецело входить в прозу жизни, признавать за ней, взятой самой по себе, независимо от религиозных отношений, полную значимость и предоставлять ей развертываться о неограниченной свободой. Никакому другому народу, жившему при других обстоятельствах, не пришло бы в голову сделать главным содержанием художественных произведений предметы, которые предлагает нам голландская живопись. Но при всех этих интересах голландцы не знали бедного и скудного существования, их дух не был угнетаем, они сами реформировали свою церковь, победили религиозный деспотизм и светскую испанскую власть и могущество. Своей деятельностью, своим трудолюбием, храбростью, бережливостью они, ощущая добытую ими свободу, достигли благосостояния, богатства, правопорядка и были преисполнены бодрости, веселья. Они даже кичились своим радостным
309
повседневным существованием. В этом — оправдание выбора предметов их искусства.
Более глубокое чувство, ищущее истинное внутри себя содержание, такие предметы не могут удовлетворить; но если сердце и мысль и не получают удовлетворения, то более пристальное созерцание все же примиряет нас с ними. Ибо нас радует и увлекает искусство живописи и мастерство живописца. И в самом деле, если желаешь знать, что такое живопись, то следует посмотреть на эти небольшие картины, чтобы сказать о том или другом мастере: этот человек умеет писать красками. Рисуя, художник вовсе не интересуется тем, чтобы в художественном произведении дать нам представление о предмете, который оп нам показывает. О виноградных кистях, цветах, оленях, деревьях, песчаных берегах, о море, солнце, небе, о пышности и украшениях утвари, используемой в повседневной жизни, о лошадях, воинах, крестьянах, о курении, вырывании зубов, о самых разнообразных сценах из домашней жизни мы уже имеем самое полное представление; всего этого в природе достаточно. Нас здесь должно привлекать не содержание и его реальность, но видимость, которая совершенно безразлична к предмету. Из сферы прекрасного выделяется и как бы фиксируется видимость как таковая, и искусство есть мастерство в изображении всех тайн углубляющейся в себя видимости внешних явлений.
Искусство состоит в том, чтобы с тонким чутьем подметить в существующем мире со стороны частных проявлений его жизни, согласующихся, однако, с общими законами видимости, мгновенные, всецело изменчивые черты бытия и верно и правдиво удержать мимолетное. Дерево, ландшафт есть уже само по себе нечто прочное и пребывающее. Однако уловить блеск металла, мерцание освещенной виноградной кисти, исчезающее видение луны, солнца, улыбку, выражение сменяющихся душевных настроений, комические движения, позы, игру лица, уловить это преходящее и мимолетное в его полной жизненности и длительно запечатлеть его для созерцания — вот трудная задача этой ступени искусства. Если классическое искусство воплощает в своем идеале, по существу, только субстанциальное, то здесь Остаде, Тенирс, Стен охватывают и запечатлевают для нашего созерцания изменчивую природу в ее мимолетных проявлениях — текущую воду, водопад, пенящиеся морские волны, натюрморт со случайным поблескиванием стаканов, тарелок и т. д.; внешний образ духовной действительности в конкретных ситуациях — женщину, при свете лампы вдевающую нитку в игольное ушко, случайно взбудораженный разбойничий притон, мгновенный жест,
310
быстро исчезающий смех и оскал зубов крестьянина. Это победа искусства над бренным, и кажется, что субстанциальное теряет свою власть над случайным и мимолетным.
Здесь видимость предметов как таковая составляет подлинное содержание, но искусство, запечатлевая мимолетный внешний вид, идет еще дальше, независимо от предметов, изобразительные средства становятся сами по себе целью, так что субъективное мастерство и применение художественных средств сами возводятся до уровня объективных предметов художественных произведений. Уже старинные голландские живописцы основательно изучили физические свойства красок: ван Эйк, Мемлинг, Скорельизумительно, до обманчивости похоже умели воссоздать блеск золота, серебра, игру благородных камней, шелк, бархат, меха и т. д. Это мастерство, это умение посредством магии красок и их волшебных тайн вызывать поразительнейшие эффекты приобретают теперь самостоятельное значение. Подобно тому как дух, мысля, постигая, воспроизводит для себя мир в представлениях и мыслях, так теперь главной задачей становится (независимо от какого-либо предмета) субъективное воссоздание внешнего вида с помощью чувственного элемента красок и освещения.
Это как бы объективная музыка, звучание в красках. Если в музыке отдельный тон сам по себе не имеет никакого значения, а создает впечатление лишь в своем отношении к другим тонам, в диссонансе, в гармонии, переходе и слиянии, то так же обстоит дело и с красками. Если мы будем рассматривать вблизи, например, цвет, блистающий как золото или сверкающий как освещенные галуны, то увидим только беловатые, желтоватые штрихи, точки, окрашенные поверхности. Отдельная краска как таковая не обладает тем блеском, который она производит; только их соединение создает это сверкание и этот блеск. Возьмем, например, атлас на картинах Терборха. Каждое красочное пятно само по себе представляет нечто тускло-серое, оно в большей или меньшей степени беловато, голубовато, желтовато; но на некотором отдалении, благодаря его положению по отношению к другим цветам появляется тот красивый мягкий блеск, который свойствен настоящему атласу. И точно так же обстоит дело с бархатом, игрой света, облаками и вообще со всем, что изображается. Это не отражение души, которая хочет изобразить себя в предметах, как это, например, часто бывает в ландшафтах. Здесь перед нами совершенно субъективное мастерство, которое таким объективным способом проявляет себя как мастерство самих средств, создавая собственными силами предметность в ее живом облике и действии.
311
γ. Тем самым интерес к изображенным объектам направляется в другую сторону — к чистой субъективности самого художника, которая хочет себя выявить. Ей важно не формирование произведения готового и покоящегося в самом себе, а созидание, в котором творящий субъект показывает лишь самого себя. Поскольку эту субъективность перестают интересовать внешние изобразительные средства, а интересует само содержание, искусство становится искусством каприза и юмора.
Ь) Субъективный юмор
В юморе личность художника производит самое себя как в своих частных, так и в своих более глубоких аспектах. Здесь, по существу, речь идет о духовной ценности этой личности.
а. Юмор не ставит себе задачу объективно раскрыть и воплотить некоторое содержание в соответствии с его существенной природой, художественно расчленить и завершить его в этом развитии. Здесь сам художник врывается в материал, и главная его деятельность состоит в том, чтобы силой субъективных выдумок, молниеносных мыслей, поразительных способов трактовки разложить все то, что хочет сделаться объективным и приобрести прочный образ действительности или только обладать видимостью во внешнем мире. Этим внутренне уничтожается всякая самостоятельность объективного содержания и прочная в себе, данная самой природой связь образа. Изображение является лишь игрой с предметами, смешением и извращением материала, беспорядочным блужданием без руля и без ветрил; оно выступает в виде субъективных высказываний, взглядов и приемов, в которых автор жертвует как собой, так и своими предметами, β. Здесь возникает естественная иллюзия, будто очень легко шутить и острить по поводу самого себя и окружающего. Поэтому к юмористической форме прибегают часто, но столь же часто юмор становится плоским, когда субъект совершенно произвольно пользуется случайно взбредшими ему на ум мыслями и шутками, слабо связанными между собой. Он нанизывает их до бесконечности, с намеренной причудливостью соединяя самые разнородные вещи. Некоторые народы более снисходительны к такого рода юмору, другие же относятся к нему строже. У французов юмористическое имеет небольшой успех. У нас ему везет больше, и мы терпимее к его блужданиям. Так, Жан Поль у нас — излюбленный юморист. Однако у него больше, чем у других, мы сталкиваемся с причудливым сочетанием объективно отдаленнейших вещей, с пестрым переплетением предметов, связь которых
312
друг с другом носит совершенно субъективный характер. Сюжет, содержание и ход событий в его романах возбуждают наименьший интерес. Главным оказывается неожиданное движение юмора, который пользуется всяким содержанием лишь для того, чтобы проявить в нем свое субъективное остроумие.
В этом сочетании и переплетении материала, собранного из всех стран мира и областей действительности, юмор как бы возвращается назад к символическому, где смысл и облик также расходятся друг с другом. Разница в том, что теперь материалом и смыслом распоряжается только субъективность поэта. Она располагает их в порядке, чуждом их природе. Но причуды быстро утомляют, в особенности если от нас требуют, чтобы и наше представление вживалось в комбинации, случайно промелькнувшие в уме художника и часто не поддающиеся разгадыванию. Особенно у Жан Поля одна метафора, одна острота, шутка, одно сравнение убивает другие; мы ничего не видим, все улетучивается. Но то, что должно разложиться, должно сначала раскрыться и быть подготовлено. Когда субъект лишен в себе устойчивой опоры, души, наполненной истинной объективностью, юмор часто переходит в сентиментальность и чувствительность. Жан Поль дает нам пример и такого перехода.
γ. Истинный юмор, желающий избежать таких отклонений, требует глубины и богатства духа. Только они могут представить действительным то, что кажется лишь субъективным, и выявить субстанциальное в _ случайностях и чистых причудах. Свободное творчество поэта должно, как у Стерна и Гиппеля, носить характер совершенно непреднамеренного, легкого, незаметного повествования, которое в своей незначительности дает наиболее высокое понятие о глубине духа. Поскольку отдельные события всплывают здесь беспорядочно, тем глубже должна быть заложена их внутренняя связь; она должна бросать светлый луч духа на разрозненные детали.
Мы достигли конца романтического искусства. Отличительная черта искусства нового времени состоит в том, что субъективность художника возвышается над своим материалом и созданием. Над ней больше не господствуют данные условия определенного круга содержания и формы. Художник всецело распоряжается и выбирает как содержание, так и способ его формирования.
с) Конец романтической формы искусства
Искусство, рассмотренное до сих пор, имело своей основой единство смысла и образа, единство субъективности художника
313
с его содержанием и произведением. Субстанциальная норма, проникающая все произведения, была заданной содержанию и
соответствующему ему воплощению определенным видом этого единства.
В начальной стадии искусства, на Востоке, дух еще не был для самого себя свободным. Он искал то, что для него было абсолютным, в природе, постигал ее как само по себе божественное. Классическое искусство изображало греческих богов как непринужденных, одухотворенных индивидов, еще обремененных, однако, человеческим естественным обликом как неким положительным моментом. Лишь романтическое искусство впервые заставило дух погрузиться в свою внутреннюю жизнь. Плоть, внешняя реальность и вообще мирское вначале признавались ничтожным, несмотря на то, что духовное и абсолютное должны обнаруживаться лишь в этом "элементе. Однако мирское сумело в конце концов приобрести положительное значение.
а. Эти виды миросозерцания составляют религию, субстанциальный дух времен и народов, проходя как через искусство, так и через все другие области жизни данной эпохи. Подобно тому как человек во всякой своей деятельности — политической, религиозной, художественной, научной — является сыном своего времени и имеет своей задачей выявить существенное содержание и разработать необходимо обусловленную этим содержанием форму, так и назначение искусства состоит в том, чтобы найти художественно соразмерное выражение духа народа. До тех пор пока художник в непосредственном единстве и твердой вере сливается с определенным содержанием такого миросозерцания в религии, он сохраняет истинно серьезное отношение к этому содержанию π его воплощению. Это содержание остается для него тем, что есть бесконечного и истинного в его собственном сознании. Он по самой своей внутренней субъективности живет в изначальном единстве с этим содержанием, тогда как форма, в которой он его выявляет, представляется для художника окончательным, необходимым, высшим способом сделать наглядным абсолютное и вообще душу предметов. Имманентная субстанция материала связывает его с определенным способом выражения. Материал и форму, соответствующую этому материалу, художник носит непосредственно внутри себя, они являются сущностью его существования, которую он не выдумывает, а которая есть он сам. Ему надо только объективировать это истинно существенное, представить его и воплотить во всей его жизненности, извлекая его из себя. Лишь в этом случае художник всецело воодушевлен своим содержанием и изображением. Вымыс-
314
лы его оказываются не продуктом произвола, а возникают в нем, исходя из него, из этой субстанциальной почвы, из того фонда, содержание которого полно беспокойства, пока не достигнет с помощью художника индивидуального облика, соответствующего своему понятию.
Если в наше время кто-либо пожелает сделать предметом
скульптурного произведения или картины греческого бога, подобно тому как современные протестанты избирают для этой цели Марию, то он не сможет отнестись к такому материалу с подлинной серьезностью. Нам недостает глубочайшей веры, хотя во времена полного господства веры художник вовсе не обязательно должен был быть тем, кого принято называть благочестивым человеком, да и вообще художники не всегда были очень-то благочестивыми людьми. К ним предъявляется лишь то требование, чтобы содержание составляло для художника субстанциальное, сокровеннейшую истину его сознания и создало для него необходимость данного способа воплощения. Ибо художник в своем творчестве принадлежит природе, его мастерство — природный талант, его деяния не есть чистая деятельность постижения, которая всецело противостоит своему материалу и объединяется с ним в свободной мысли, в чистом мышлении. Творчество художника, как еще не отрешившееся от природной стороны, непосредственно соединено с предметом, верит в него и тождественно с ним в своем сокровеннейшем самобытии. В этом случае субъективность целиком находится в объекте. Художественное произведение всецело проистекает из нераздельной внутренней жизни и силы гения, созидание прочно, устойчиво и сосредоточивает в себе полную интенсивность. Это основное условие существования искусства в его целостности.
β. При той ситуации, в которой необходимо оказалось искусство в ходе своего развития, все отношение совершенно изменилось. Этот результат мы не должны рассматривать как чисто случайное несчастье, постигшее искусство лишь вследствие трудного времени, прозаичности, недостатка интереса и т. д. Он является действием и поступательным движением самого искусства, которое, приводя свой материал к предметной наглядности, благодаря этому развитию способствует освобождению самого себя от воплощенного содержания. Когда мы имеем перед своим чувственным или духовным взором предмет, выявленный благодаря искусству или мышлению столь совершенно, что содержание его исчерпано, все обнаружилось и не остается больше ничего темного и внутреннего,— тогда мы теряем к нему всякий интерес. Ибо интерес сохраняется только при живой деятельности.315
Дух трудится над предметами лишь до тех пор, пока в них еще есть некая тайна, нечто нераскрывшееся. Здесь речь идет о том случае, когда материал еще тождествен нам.
Но если искусство всесторонне раскрыло нам существенные воззрения на мир, заключающиеся в его понятии, и содержание, входящее в эти воззрения, то оно освободилось от данного определенного содержания, предназначенного всякий раз для особого народа, особого времени. Истинная потребность в нем пробуждается только с потребностью обратиться против того содержания, которое одно до сих пор обладало значимостью. Так, Аристофан восстал против своего времени, Лукиан — против всего греческого прошлого, а в Италии и Испании на исходе средних веков Ариосто и Сервантес начали выступать против рыцарства.
В противоположность той эпохе, когда художник благодаря своей национальности и своему времени находится субстанциально в рамках определенного мировоззрения, его содержания и формы воплощения, в новейшее время достигла полного развития совершенно иная точка зрения. Почти у всех современных народов отточенная рефлексия н критика затронула также и художников, а у нас, немцев, к этому прибавилась и свобода мысли. Это сделало художников, так сказать, tabula rasa ' в отношении материала и формы их творчества, после того как были пройдены необходимые особенные стадии романтической формы искусства. Связанность особенным содержанием и способом воплощения, подходящим только для этого материала, отошла для современного художника в прошлое; искусство благодаря этому сделалось свободным инструментом, которым он в меру своего субъективного мастерства может затрагивать любое содержание. Тем самым художник возвышается над определенными освященными формами и образованиями; он движется свободно, самостоятельно, независимо от содержания и характера созерцания, в которое прежде облекалось для сознания святое и вечное. Никакое содержание, никакая форма уже больше непосредственно не тождественны с задушевностью, с природой, с бессознательной субстанциальной сущностью художника. Для него безразличен любой материал, если только он не противоречит формальному закону, требующему, чтобы материал этот был вообще прекрасным и был способен сделаться предметом художественной обработки.
В наши дни нет материала, который сам по себе возвышался бы над этой относительностью. Коли он над ней и возвышается, то отсутствует безусловная потребность в изображе-
' Чистая доска (латин.).
316
нии его искусством. Художник относится к своему содержанию в целом словно драматург, который создает и раскрывает другие, чуждые лица. Он и теперь еще вкладывает в него свой гений, вплетает в него часть собственного материала, но этот материал является лишь общим или совершенно случайным. Более строгая индивидуализация не принадлежит самому художнику, он пользуется здесь своим запасом образов, способов формирования, образами прежних форм искусства. Сами по себе взятые, они ему безразличны и приобретают важность лишь постольку, поскольку они представляются ему наиболее подходящими для того или иного материала.
В большинстве искусств, особенно изобразительных, предмет дан художнику извне. Он работает по заказу и должен лишь придумать, что может быть сделано из библейских или светских рассказов, сцен, портретов, церковных зданий и т. д. Ибо сколько бы он ни вкладывал свою душу в данное ему содержание, оно все же всегда остается материалом, который для него самого не есть непосредственно субстанциальный элемент его сознания. Бесполезно вновь усваивать субстанцию прошлых мировоззрений, то есть вживаться в одно из них,—стать, например, католиком, как это в новейшее 'время многие делали ради искусства, желая укрепить свое душевное настроение и превратить определенную ограниченность своего изображения в нечто в себе и для себя сущее. Художник не должен приводить в порядок свое душевное настроение и заботиться о спасении собственной души. Его великая свободная душа еще до того, как он приступает к творчеству, должна знать и ощущать, в чем ее опора, быть уверенной в себе и не бояться за себя. Особенно современные большие художники нуждаются в свободном развитии духа, приводящем к тому, что всякое суеверие и вера, ограниченные определенными формами созерцания и воплощения, низводятся на степень моментов, над которыми властвует свободный дух. Он не видит в них освященных, незыблемых условий своего выражения и способа формирования, ценя их только благодаря тому высшему содержанию, которое он вкладывает в них как соразмерное им.
Итак, в распоряжении художника, талант и гений которого освободились от прежнего ограничения одной определенной формой искусства, находятся отныне любая форма и любой материал.
γ. Но если мы поставим вопрос: каковы те содержание и форма, которые могут рассматриваться как характерные для этой ступени, то окажется следующее.
317
Всеобщие формы искусства были связаны преимущественно с абсолютной истиной, которой достигает искусство. Источник своего обособления они обретали в определенном понимании того, что сознание считало абсолютным и что в самом себе носило принцип своего формирования. Поэтому в символическом искусстве природный смысл выступает в качестве содержания, а природные предметы и человеческие олицетворения — в качестве формы изображения. В классическом искусстве мы имели духовную индивидуальность, но как нечто телесное, не ушедшее в себя наличное, над которым возвышалась абстрактная необходимость судьбы. В романтическом искусстве — это духовность имманентной самой себе субъективности, для внутреннего содержания которой внешний облик оставался случайным. В этой последней форме искусства, так же как и в предшествующих, предметом искусства было божественное в себе и для себя. Но это божественное должно было объективироваться, определиться и тем самым перейти к мирскому содержанию субъективности. Сначала бесконечное начало личности заключалось в чести, любви, верности, затем в особенной индивидуальности, в определенном характере, сливающемся с особенным содержанием человеческого существования. Наконец, срастание с такой специфической ограниченностью содержания было устранено юмором, который сумел расшатать и разложить всякую определенность и тем самым вывел искусство за его собственные пределы.
В этом выходе искусства за свои границы оно представляет собой также возвращение человека внутрь себя самого, нисхождение в свое собственное чувство, благодаря чему искусство отбрасывает всякое прочное ограничение определенным кругом содержания и толкования и его новым святым становится Ниmanus — глубины и высоты человеческой души как таковой, общечеловеческое в радостях и страданиях, в стремлениях, деяниях и судьбах. Тем самым художник получает свое содержание в самом себе. -Он действительно является человеческим духом, определяющим, рассматривающим, придумывающим и выражающим бесконечность своих чувств и ситуаций. Ему уже больше ничего не чуждо из того, что может получить жизнь в сердце человека. Это предметное содержание, которое само по себе не определено художественно, а предоставляет произвольному вымыслу определять содержание и форму. Здесь не исключен никакой интерес, так как искусство больше уже не должно изображать лишь то, что на одной из его определенных ступеней является вполне родным ему, а может изображать все, в чем человек способен чувствовать себя как на родной почве.
318
Имея в виду эту обширность и многообразие материала, необходимо прежде всего выдвинуть требование, чтобы в способе трактовки материала повсюду проявлялась современная жизнь духа. Современный художник может, разумеется, примкнуть к древним художникам — быть гомеридом, хотя бы и последним, прекрасно; творения, которые отражают поворот романтического искусства к средним векам, также имеют свои заслуги. Однако одно дело — эта общезначимость, глубина и своеобразие материала, а другое — способ его трактовки. Ни Гомер, Софокл и т. д., ни Данте, Ариосто или Шекспир не могут снова явиться в наше время. То, что так значительно было воспето, что так свободно было высказано,— высказано до конца; все это материалы, способы их созерцания и постижения, которые пропеты до конца. Лишь настоящее свежо, все остальное блекло и бледно.
Хотя мы и должны подвергнуть французов критике в отношении исторической верности и красоты за то, что они изображали греческих и римских героев, китайцев и перуанцев как французских принцев и принцесс, приписывая им мотивы и взгляды эпохи Людовиков XIV и XV, однако если бы эти мотивы и взгляды были сами по себе глубже и прекраснее, то в этом перенесении прошлого в современную художественную жизнь вовсе не было бы ничего плохого. Напротив, все материалы, из жизни какого бы народа и какой бы эпохи их ни черпали, обретают свою художественную правду только как носители живой современности, того, что наполняет сердце человека и заставляет нас чувствовать и представлять себе истину. Проявление и деяние непреходяще человеческого в самом многостороннем его значении и бесконечных преобразованиях — вот что может составлять теперь абсолютное содержание нашего искусства в этом сосуде человеческих ситуаций и чувств.
Если, установив вообще, в чем состоит своеобразие содержания этой ступени, мы вспомним, что рассматривалось в качестве форм разложения романтического искусства, то окажется, что это, с одной стороны, распад искусства, подражание внешне объективному, несмотря на случайность его облика, а с другой стороны, напротив, освобождение субъективности с ее внутренней случайностью, что происходит в юморе. В заключение мы можем выявить теперь совпадение обеих крайностей романтического искусства внутри указанного материала.
Подобно тому как в поступательном движении от символического искусства к классическому мы рассмотрели переходные формы, а именно образ, сравнение, эпиграмму и т. д., так π в отношении романтического искусства мы должны упомянуть об
319
аналогичных формах. Главное содержание тех способов постижения составлял распад, разделение внутреннего смысла и внешнего образа, которое частично устранялось субъективной деятельностью художника, превращаясь, например, в эпиграмме в отождествление. Романтическое же искусство с самого начала характеризовалось более глубоким раздвоением удовлетворенной в себе внутренней жизни, которая находится в состоянии разорванности или безразличия к объективному, ибо объективное вообще не соответствует сущему в себе духу. Эта противоположность развивается все глубже по мере развития романтического искусства, которое интересуется либо случайным внешним миром, либо столь же случайной субъективностью. Удовлетворенность внешней реальностью и субъективным изображением возрастает и приводит, согласно принципу романтического искусства, к углублению души в предмет. С другой стороны, юмор, схватывая объект и его формирование в рамках своего субъективного отражения, проникает внутрь предмета и становится тем самым как бы объективным юмором, Однако подобное углубление может быть лишь частичным и выражаться лишь в объеме стихотворения или быть частью некоего целого. Расширенное и наполненное объективностью, оно должно стать действием и событием и объективно изображать их. То, что мы причисляем к таким произведениям, есть лишь полное чувств распространение души в предмете. Хотя и развиваясь, оно остается, однако, субъективным остроумным движением фантазии и сердца, капризом. Этот каприз не только случаен π произволен, он представляет собой также внутреннее движение духа, которое целиком посвящает себя предмету и делает его объектом своего интереса и своим содержанием.
В этом отношении мы можем противопоставить эти последние цветы искусства древнегреческой эпиграмме, где эта форма выступила в ее первом, простейшем облике. Форма, которая имеется здесь в виду, появляется лишь тогда, когда обсуждение предмета не ограничивается простым его называнием, надписью или адресом, лишь объясняющим данный предмет. Она возникает, когда к этому присоединяется более глубокое чувство, меткая острота, полное глубокого смысла размышление и одухотворенное движение фантазии. Поэтическое истолкование оживляет и расширяет самое незначительное явление. Подобные стихотворения на любую тему, стихотворения о деревне, ручье, весне и т. д., о живых и мертвых могут быть бесконечно многообразными и могут возникать у каждого народа. Они носят второстепенный характер и легко теряют свое значение, ибо всякий, если рассудок
320
и язык достаточно развиты, может блеснуть умом по поводу большинства предметов и отношений, может искусно выразить свое мнение о них, подобно тому как всякий человек в состоянии написать письмо. Этот общий, часто повторяемый, хотя и с новыми нюансами, напев скоро надоедает. На этой ступени речь идет главным образом о проникновении души, о том, что человек с глубоким умом и богатым сознанием целиком вживается в данные состояния, ситуации и т. д., задерживаясь в них и создавая из предмета нечто новое, прекрасное, само по себе ценное.
Персы и арабы, которым свойственны восточная пышность образов, свободное блаженство фантазии, относящиеся к предметам всецело теоретически, дают блестящий образец такой поэзии даже для настоящего времени и современной субъективной задушевности. Испанцы и итальянцы тоже оставили нечто подобное. Хотя Клопшток и говорит о Петрарке: «Лауру Петрарка воспел в песнях как поклонник — прекрасно, но как любящий — нет»,— однако любовные стихотворения Клопштока полны только морализующих размышлений, тоскливого, меланхолического томления и страстного стремления к счастью бессмертия, тогда как у Петрарки мы восхищаемся свободой внутреннего облагороженного чувства, которое хотя и включает в себя потребность быть с любимой, все же удовлетворено в самом себе. Ибо в кругу этих предметов, ограниченном вином и любовью, кабаком и виночерпием, присутствуют желание, вожделение, и персидские поэты, например, отличаются необычайной пышностью этих своих образов. Здесь, однако, фантазия, исходя из своего субъективного интереса, совершенно удаляет предмет из сферы практических желаний; она интересуется только этим полным фантазии занятием, которое выражается во множестве сменяющих друг друга оборотов и выдумок и которое остроумно играет как радостями, так и печалями.
Среди современных поэтов на уровне такой же остроумной свободы, но более субъективно интимной глубины фантазии находятся главным образом Гёте в его «Западно-восточном диване» и Рюккерт. Стихотворения Гёте в «Диване» существенно отличаются от его прежних стихотворений. В «Привете и расставании», например, язык, изображение прекрасны, чувство отличается интимностью, однако ситуация здесь совершенно обыденна, исход тривиален и свободная фантазия тут не развернулась. Совершенно другой характер носит стихотворение в «Западно-восточном диване», называющееся «Воссоединение». Здесь любовь целиком перенесена в область фантазии, в ее порывы, счастье и блаженство. Вообще в аналогичных произведениях нет субъек-
321
тивного томления, влюбленности, вожделения. Здесь перед нами чистое удовольствие от предметов, безбрежный разлив фантазии, безобидная игра, свобода, проявляющаяся и в шалостях рифм и в искусных размерах; при всем этом сохраняется задушевность и веселье взволнованной души. Ясность формы возвышает душу над всеми тягостными ограничениями действительности.
Этим мы можем закончить рассмотрение особенных форм, на которые распадается идеал искусства в ходе его развития. Я сделал эти формы предметом более подробного исследования, стремясь указать их содержание, из которого вытекает и способ изображения. Ибо в искусстве, как и во всех человеческих делах, решающим является содержание. Призвание искусства, согласно его понятию, заключается в том, чтобы воплотить содержательное в самом себе начало в адекватной форме чувственного существования. Философия искусства должна постигнуть мысленным образом, в чем состоит это содержательное начало и прекрасные формы его проявления.
322
1


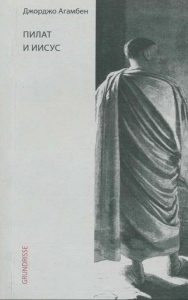
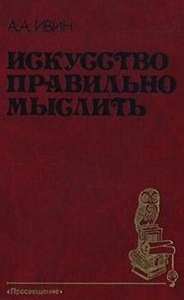
Комментарии к книге «Эстетика т.2», Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Всего 0 комментариев