М. В. Николаева Понятие «мы» и суждение «нашей» воли Переход от субъективной к социальной логике
Введение
Проблема допустимости исполнения воли
в развитии самосознания общества как такового
Редкое общественное устройство не позволяет заявить о профессиональном призвании, политической избранности, боговдохновении. Но оно не всегда распознает в самом себе предпосылки подобной решимости. Определенно можно сказать, что здесь осуществляется выражение не всецело санкционированной свыше, но и не опустившейся до безначалия, в известной мере общей для «мы», – включающего в себя произносящего речь, выслушивающих ее и всех затронутых предстоящим поступком, – то есть «нашей» воли. Долгожданную формулировку собственной проблемы, посетившую во время погружения размышления в себя и только в себя, часто принимают за внеличностное откровение. Под озарением, или интуицией как первоначалом философии вообще, понимается результат длительного сосредоточения на частной идее вплоть до ее наложения на субстанцию чистого осознания и дальнейшую рефлективную пустотность формы всеобщего самосознания, периодически обретающего конкретные проявления через данное вошедшее в него сознание. Например, метафизические размышления (meditationes de prima philosophia) Декарта удовлетворяют этому определению.
В полном спектре степеней осознанности высшей воли и исполнительной структуре констатируемых состояний рассудка, наделенных соответствующей властью, существуют трудноуловимые тонкости отличения самосознанием общества как такового среди привходящих импульсов к действию – тех, что исходят от «Мы» (связанного с субъектом всеединства), «мы» (познающего самое себя человеческого общения) и «я» (исключающего первые два фактора). В задачи самоопределения всякой общественной структуры входит принятие решения наделять избранных претендентов на расширение собственного сознания правом на власть (политическая предвыборная кампания) или бесправием на отказ от власти (нарушаемая особенность церковной самоорганизации, например, рукоположение отшельника в настоятели).
Не имеет смысла даже намереваться устанавливать однозначные признаки истинного проявления воли, по которым можно было бы «смягчить» доверие к интуиции, сделать его более или менее оправданным разумом. – Но лишь просмотреть всевозможные формы процесса воления вообще и ввести в употребление понятия, пригодные для развития общественного сознания, взятого не в конкретном историческом воплощении, а в отвлеченном рассмотрении зарождающейся функции «нашего» самосознания, восполняющего недостаток принципа самодостаточности. Заключение о положении дел в данной сфере предметности социальной философии, констатирующее недостижимость государственности для государства, остается в силе по существу.
Следовало бы считать государство не ошибкой, а несовершенством и фрагментарностью претворения универсальной воли в том, что касается идеала человеческого единства, или «мы». Наивысшее развитие «я» вообще опередило становление «мы», в то время как воспитание каждого отдельного «я» стимулируется установками среднего «мы». Но это не значит, что «мы» является онтологическим дубликатом «я» и вынуждено проходить те же самые ступени самоосознания и самореализации. Государство есть внеположенность «мы», незавершенность его внешней рефлексии. Даже поиски альтернативных и религиозных по сути общинных устройств выражают стремление к снятию, а не к уничтожению его достижений.
Телесность остается средством к спасению– как достижению всеединства вплоть до преображения самого тела – не только для индивида, но и для общества. Одухотворение механизма государственной власти отражает основную задачу «нашей» воли. Дело не в том, что государством намерены управлять философы в качестве внешней принудительной санкции, но само государство – или то иное, во что оно окажется готовым перейти – предназначено к тому, чтобы стать философствующей структурой «нашего» сознания. Ничто в объективной реальности на данном логическом этапе не отвечает подобным запросам, но в социальной реальности мышления удается констатировать факты претворения «нашей» воли.
Задачи исследования
Вступим в диалог между субъектами, занимающими разные позиции по отношению к осознанию собственного единства, насколько таковой вообще возможен – подобные позиции плохо соотносятся, поскольку их выразители встречаются изредка и ненадолго. Мы постараемся вернуться к предпосылкам социализации абсолютного выбора пути к высшей цели и остановиться на той грани, когда определенное понимание своего долга уже не ведет к воссоединению, но еще не препятствует ему – когда надо решиться на признание в неверности собственного определения воли – и попробуем заполнить именно этот разрыв содержанием всех отношений, заключенных между верховной волей (наиболее абстрактной именно в крайней конкретности) и принятием ее человеком. Недостаточно представлять себе последовательность ценностей, переходя от одного достижения к другому; непосредственное приближение к идеалу должно вызывать к наличному бытию преображение наших ближних, оставляя вопрос о социальной власти «Мы» («Я» и «Ты») над «мы» («я» и «они») принципиально открытым.
По мере философского предсоборования следует ответить себе-«нам» на те вопросы, которые суть запросы «Мы» к развитию «нашей» воли, поскольку все мы, волящие мыслить по любви к истине и ради людей, расширяем содержание понятия самодостаточности до границ самодовления некоторого общежития. В целях изменения опыта следует выработать понятие о связности, чтобы облегчить обнаружение в этом процессе точек контактов и стержня само-инициации по мере осуществления сплошной корреляции своих и прочих велений в модусе «нашей» воли и обретения центра координации «Мы» и «мы» как полюсов единения. Далее встают следующие вопросы.
Как возрастает личная склонность к взаимо-включению себя и других в направленное целеполагание? В частности, где кончается благоволение нравственного закона к развитию личностного начала и начинается сопротивление сформировавшейся личности произволению к всеобщему благу, скрепляющемуся воедино в неразличенности «Мы» для вступающих в него «я»? Переформулируем в церковных терминах, не претендуя на воцерковленность замысла: как возможно возлюбить самого Бога живого, а не сначала свое, а потом «наше» представление о Нем, включающее произвольную трактовку Его волеизъявлений? И что означает совпадение указанных проблем в самоопределении любого социума: расторжение воли на отдельные акты с невосполнимыми пустотами самовластия «мы», нагнетание тяжести ответственности в исполнении перекрывающихся требований, или мирное разрешение коллизии глобализации? Последнее выражает осознание субъектом «мы», или самой деятельностью обобществления, столкновения волевой гармонизации с гармонией и зарождение в зоне разрешения этого конфликта «нашей» воли.
Продолжая традиции русской философии, преимущественно религиозной, даже социальные проблемы приходится формулировать в апокалиптическом контексте. Когда «с нами (нам благоволит) Бог» неведомо как превращается в подспудное «мы (вместе) с Богом (намерены)», то понятие верховной личности Господа сводится к представлению о феноменальном проявлении абсолютной санкции на тот или иной поступок. Но существует ли Бог как социальный феномен, или Его трансцендентность преодолевается только в индивидуальном воплощении? И остается ли Он вообще личностью, когда с Ним встречаются не наедине, или являет Себя в другой форме – абстрактной или субстанциальной, например? Вопрос о совершенном субъекте имеет два аспекта: получает ли статус социального факта личное откровение; и наоборот, сохраняется ли форма субъективности при совместном получении откровения?
Предпосылка «нашей с Богом» совместимости, искомая со времен начала истолкования иудейских пророчеств и составившая особый род философской литературы, содержится в установлении волевого равновесия: сколько и как смиряется сама Самость, принимая человеческий или социальный облик; сколько и как смиряется человек или общество, внимая вселяющемуся в них Слову и покоряясь одержимости самым из всех самозабвений? Таковы и исконно русские вопросы о народе-богоносце и подневольности мессианства в социальной мысли. Находясь в замешательстве среди всеобщего несогласия о том, какова деятельная любовь Бога к Самому Себе и в чем выражается преобладание «Нашей» воли над «нашей» волей, следовало бы пойти дальше в вопрошании: есть ли иная воля Бога, зарождающаяся в переживании единства с Ним, кроме той, чтобы вновь отделить Себя от Себя в еще более перспективной рефлексии?
Эсхатологическая ориентация русской мысли сохраняется в социальных исканиях. «Русский онтологизм выражает не примат реальности над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше действование в нем. С этим связано и напряженное внимание к социальной проблеме, но ярче всего это обнаруживается в решающем внимании к историософии».[1] «Нравственное сознание человека есть практическая сторона сознания его богочеловеческого существа. Добро, как Божья воля и действие Бога в нас и на нас, есть условие нашего собственного существования. Этика имеет социально-философское основание».[2]
Бог в собственном смысле слова, не искаженном религиозными или материалистическими догматами, есть первый предмет философии вообще, поскольку она должна быть идеализмом, не признающим конечные вещи истинно сущим.[3] Философия начинается с определения Бытия, и оспаривать право мыслить Бога недопустимо, поскольку Он и есть Сущий, понятие и бытие которого нераздельны и неотделимы. Социальные отношения также балансируют на неосознанно принятом в качестве предпосылки определенном соотношении реального и идеального. «Наша» воля оказывается дальнейшей конкретизацией их дисгармонии, тогда как воля Бога есть первый предмет социальной философии.
Герменевтическое отмежевание
от проблем одиночества в отношении «я – они»
В истолковании текстов мы будем придерживаться определенной схемы ввиду обилия исследований о воле и полной незатронутости темы «нашей» воли. Акцентируем основные требования к содержанию: первоначальное отношение «Я» к «Ты» и «они», названное соответственно «Мы» или «мы»; проблески понятия «нашей» воли, по-разному применимого в обоих случаях; установление господства-рабства как элементарного волевого отношения в назревшем «мы» и сподвижничества в предвосхищении «Мы».
Что касается способов опосредования при социальной инициации воли в условиях предрасположенности государственного устройства к систематизированному управлению отдельными волениями, необходимо уяснить отличительные признаки понятий, близких к воле по смыслу – желания, влечения, стремления, произвола, выбора, намерения и других. Существенна непосредственность волевого акта, даже если подобные поступки осуществлялись, но неизвестны индивиду и не совершались им до включения социальной интуиции. Также важно рассмотреть то основание воли в «Мы», которое остается незатронутым процессами социальной дифференциации.
Отметим волевой характер соотношения текстуальных объектов, подлежащих герменевтической деятельности, явный из определения подчиненного положения одного из них, что позволит в дальнейшем судить не только о герменевтическом пороке эклектики «мы» в подборе цитат, но и о совершенстве литературной формы «Мы» автора с читателем в их отрешенности от сообщенного им текста. Суждение «я не есмь мое тело» преломляется в ссуждении (ассоциация с деньгами уместна) «мы не есть наш текст», подавая повод к овнешнению рефлексии «нашей» воли над «нашим» телом.
Не вдаваясь в детальное изложение того, что входит в отрицательное определение предмета нашего исследования, сделаем акцент на сознательном отказе от конкретизации понятия «они», входящего в структуру безнадежного «мы», не имеющего в перспективе никакого «Мы». Иногда под ним подразумевают «оно»[4] как некий фон или среду, отдавая себе отчет в большей субъективности и терминологической четкости «они».
Косвенным образом, занимаясь ограничением полномочий патологического «мы» в связи с явно выраженной «не-нашей» волей, мы дадим понятию «они» отрицательное определение, что кажется наиболее адекватным движением мысли. Сюда же входит отсутствие интереса к апологии богооставленности, одиночества с Богом или одиночества самого Бога и сострадания к Нему. И не потому, что ничего подобного, равно как и гнева Божьего, в буквальном смысле не существует, – а на том основании, что реальность, означенная этими словами, становится уже чем-то нереальным по отношению к тем духовным фактам, с которыми хотела бы иметь дело «наша» воля. Однако нереальность эта будет развиваться сама собой в конкретезирующемся противопоставлении, и сверх-феноменальная целостность «нашей-не-нашей» воли не останется нарушенной.
I. Формирование социо-логического контекста
1. Переопределение подлежащего
Переход от «я» к «мы» – смена как объекта, так и субъекта. Альтернатива «мы» («я» и «оно») и «Мы» («Я» и «Ты»). Аргументация насущной для приемлемости философии обществом потребности в специфической разработке категории “нашей” воли. Бубер и Кант: обращение к «Ты» – властное или с любовью; безволие как безотносительность к Другому. Волеопределение реальное, идеальное или систематичное. Франк и «Декарт-Гегель». Сохранность личной воли в решении сообща. Зиммель и Аристотель. Уместность проявления воли в ситуации неравенства. Намечающийся профессионализм повелевания и исполнительности
Вторая непосредственность интерсубъективности
Для фиксации начала предполагается известная замкнутость познающего и необщительного автора, вследствие чего вездесущему читателю предлагается отвлеченное теоретизирование на межличностные темы. Предстоящий выход из прочно установившегося самодовления в социум означает смену не столько объекта познания, сколько субъекта воления, ибо объектом и в этом случае останется сам субъект. Мы совсем не хотим настаивать на том, что самодостаточное «мы» первично, и наш переход к осознанной несамодостаточности говорит о развитии ситуации в целом. Также мы не станем утверждать и того, что иррефлективное «Мы» сколько-нибудь зависимо от наличия или отсутствия саморефлексии индивидов, входящих в него фрагментарно, как «я», или даже всецело, как «мы». Но мы постараемся отстоять здесь то предположение, что самосознательное «Мы» всегда производно, будет ли оно рассмотрено с точки зрения самосознательного «я», превосходящего собственную определенность, или с точки зрения бессознательного «мы», впервые обретающего способность самоопределения. На самом деле это один и тот же процесс.
Сама постановка задачи очевидным образом предопределяет позицию среди существующих разнородных методов центрации социального познания. Выделим три отрасли научного подхода к обществу: формальная социология, социальная философия и философская антропология. Соответственно, возьмем за ориентиры в указанных областях трех представителей: Зиммеля, Франка и Бубера. При всем различии их концепций, все они исходят из того, что обособляют «Мы» общения как форму исконного отношения «Я – Ты» (из которого впоследствии развивается «Мы» общества) – от «мы» познания как формы вторичной и второстепенной связи «Я – оно» (чисто ментального объединения, ставшего, по общему мнению, тупиковым и непродуктивным). Известно, что «мы» познания тождественно самодостаточному «я», в то время как «Мы» общения не бывает тождественно никакому «я» и никогда не будет редуцировано к структуре просто рефлектирующего «я», хотя бы это было само «Я» абсолютного познания, ибо таковое немыслимо вне соборности всего непостижимого в существе Бога.
Вместо того, чтобы и впредь довольствоваться обнаружением онтологически фундаментальной сущности «Мы» и принятием ее в качестве нового основания собственной деятельности, мы видим проблему в том, что начальное «Мы» безусловно контактно и общительно. Но именно в силу необусловленности своей доверчивости оно бессознательно (точнее, только сознательно и держится на отрицании иного без всякого самоограничения) и, следовательно, безвольно, – то есть его воля не является волей в смысле способности к самоопределению. Это детское «Мы» пассивно перед любой совместной деятельностью, которую оно готово никогда не прекращать. В то время как конечное «мы» совершенно асоциально, поскольку оно просто воспроизводит на новом уровне закрытую (даже совсем замкнутую) систему «я», постигающего феноменальный мир «оно». Реальность такова, что первоначальное «Мы» переходит в окончательное «мы». Остается открытым вопрос о центре координации данных полюсов единения.
Второе из вышеназванных «мы» обладает тем преимуществом, что оно владеет или, по крайней мере, располагает хорошо разработанным категориальным аппаратом практической философии. С этой точки зрения проще выразить проблему социализации, поскольку понятие воли уже было многократно переформулировано и многосложно дифференцировано. Однако перед самым входом в социум вырисовывается другая трудность в процессе социализации. Кооперация «Я – оно» инстинктивно (инстинкт есть «свернутый» разум, чем и отличается от интуиции) отторгает нисходящую благодать соборования, делая основной упор на самодостаточности. Воцерковленная жертвенная философия утверждает необходимость полностью отказаться от воли, – вернее, обязательность смены воли. Но у отцов церкви речь шла о смирении «своей» воли перед волей «Божьей», а не о волевом «Мы», волящем и волимом. Церковь – это совсем другое, хотя и деятельное. Возврат от взрослого «мы» (нас как «оных») к детскому «Мы» (нас как «Твоих») предполагает, что мы ведаем, что творим: а именно, становимся детьми вновь, а не остаемся ими и впредь. Другими словами, при всякой социальной адаптации речь идет о внеличностной, «нашей» богореализации.
Допустим намеченную ситуацию смены воли. Познающее «мы» в процессе своего полного обращения (несравнимого с проверочным обращением сознания в феноменологии Гегеля) и обратного становления в «Мы» общения (тем более, несравнимого со сходящимся в самом себе становлением в логике Гегеля) будет знать лишь ту свою волю, от которой оно само и отказывается. Как каждая категория, воля сказывается многозначно, и своеволие тоже непросто. Но мы принимаем в рассмотрение только случай безоглядной решимости, где завершенная воля всецело определяется через самоотрицание. И отказывается «мы» от себя по иной воле, в пользу которой и происходит подавление этой. Мы не можем допустить какого бы то ни было «напластования» Божьей воли на свою волю, ссылаясь попросту на догмат о свободе воли. Остается предположить разрыв в причинно-следственной связи воления, или наличие промежуточной волевой интенции, носящей характер чистого контраста между двумя противоположными волями. Это и есть само-снимающаяся и, тем самым, твердая воля к смирению «мы» познания перед «Мы» общения в предвосхищении его прославления.
Если здесь существует разрыв, то он должен быть в каком-то смысле заранее спланирован, причем с обеих сторон. Этот смысл нам и предстоит выяснить. Возьмем крайний пример – намерение юродствовать, внешне представляющееся безрассудным. По достоверным свидетельствам предания, оно никогда не самовольно, но вдохновенно. Выставление подвига безумной веры на суд мира сего подчинено призванию, выявленному посредством откровения или совета более опытного подвижника, и назначено служить конкретным целям спасения ближних, – то есть оно всегда исторически актуально. Такова была курьезная молитва отшельников на северном острове: «Трое нас, трое Вас… Господи, помилуй нас!» – понятие триединства было для них реальным способом существования. Пусть даже «мы» (все еще «мы») переходит к другому самоопределению, к другому способу самоопределения и даже к другому пониманию самого самоопределения вообще. Но оно сохраняет при этом непрерывность самосознания и, следовательно, должно отвечать как за последовательность воления, так и за его своевременность. Когда один церковный чин взял на себя труд обучить тех подвижников каноническим молитвам, они смиренно внимали ему, но после его отплытия, взявшись за руки побежали вдогонку по воде каяться в своей забывчивости. И он уже не стал повторяться (повторять себя в своей отдельности от их слитности, пытаясь слить их в качестве «они» с собой, а не себя с ними как «Ты»).
Представленная последовательность проблематична и предполагает вполне определенный порядок решения вопроса о свободе воли в связи с разумом. Тем не менее мы утверждаем ее, хотя бы не логически, но этически. Ведь поскольку «Мы» (уже «Мы») остается вменяемым и признается или даже не признается таковым другими «мы» (все еще «мы»), оно несет ответственность за обоснование принятого решения. Следует обратить внимание на два различных характера целостности «мы» и «Мы» в последних сочетаниях. В первом случае: «еще мы» и «уже Мы» – смена позиции требующего нашего внимания субъекта воления, разорвавшего круг завершенности познания. Во втором случае: «уже мы» и «еще Мы» – смена перспективы интересующего нас объекта познания, разорвавшего круг завершенности воления. Форма единства в обоих случаях не образует завершенности, поскольку она отличается от формы другого единства и есть нечто отдельное от него, а значит и раздельное в самом себе. Ответственность за объективность поступка принимается на том основании, что по видимости оставляемые и продолжающие воздействовать на «Мы» те же самые для себя «Я – оно» становятся теперь для «Нас» – «Вы».
Философская антропология: дихотомия воли
Присмотримся к означенному под односторонней неразделенной ответственностью нового «Мы» перед прежними «Мы» и «мы». Обращение «Мы» к «Мы» относится к непосредственному самооправданию и никого не интересует. Для того чтобы упрочить доказательство неизбежности сохранения связей с «мы», достаточно показать, каким образом Бубер утверждает независимость акта перехода со стороны «мы – Мы» в отношении к другому, включенному нашим «Мы – мы» в себя – конкретно, перехода от обращения с «ним» до обращения к «Ты», – от ответа со стороны этого другого. Основное событие по Буберу все равно произошло на нашей стороне, и «Мы» состоялось.
Следовало бы заметить, что мы лишаемся «Ты» в тот же самый момент, как только отказываем ему в способности оставаться для нас «им», то есть вести себя неадекватно нашей собственной трансформации. Ведь таким образом мы игнорируем его волю к сохранению прежнего союза и требуем от него иных отношений, превращая его в объект под названием «Ты». Но Бубер говорит о любви, а наша тема лежит пока в иной плоскости рассмотрения, поэтому мы обращаем внимание на закономерности управления сознанием, избегая безоговорочной апелляции к имманентной власти истинного единодушия.
Вернемся к подведомственным нашему пониманию силовым отношениям. Бубер пользуется такой парой соотносительных понятий, как «маленькая воля» и «большая воля», причем только первое наделяется смыслом термина «произвол своеволия» (странная тавтология в русском переводе) и употребляется наряду с ним, тогда как второе служит скорее намеком на предстояние перед «Ты». Но это не понятия вообще уже по одному своему количественному характеру. Очевидно, он подразумевает под ними задействованные выше своеволие и волю Божью.
Подобное деление было проведено в античности и неоднократно перепроверено на разных этапах развития системы практической способности познающего «мы» от Декарта до Гегеля, а позже его оппонентами. Другими словами, оно всегда было классической темой познающего «мы». Бубер, поскольку он переходит от невыразимого переживания к сравнению культурных способов общения и познания, должен был воспользоваться традиционно установленными категориями или привести более веские основания для введения новых, чем приписывание лучшему «Мы» лучшего из волений «мы». Если же перевод направленности воления от «оно» к «Ты» – переход от неуместного к совместному волению – считается корректным, то категории все-таки предпочтительнее развивать до введения их в полемику.
Обратимся к сравнению религиозной антиномии с философской. «Кант мог релятивизировать философский конфликт между необходимостью и свободой, отнеся первую к миру явлений, а вторую – к миру сущностей, так что они уже не противоречили друг другу, а скорее соотносились, как те области, в которых они действуют. Но если я рассматриваю необходимость и свободу не в мыслимых мирах, а в реальности моего пребывания перед Богом, если я знаю: “Я отдал себя”, и в то же время знаю: “Это зависит от меня”, – тогда я не вправе уйти от парадокса путем отнесения двух несовместимых положений к двум различным сферам действия; я должен принять их оба; и, переживаемые, они суть одно».[5]
Невозможно непосредственно приписать свободу великой воле и подверженность злому року – малой воле, но приходится сохранять представление о волевой способности недифференцированным. Допустим, что Кант действительно осознанно находится в присутствии Бога, но называет его мыслимым, тогда как Бубер, наоборот, в собственной плоскости референции называет свое осмысление переживанием близости к Богу, – и нет критерия, чтобы оценить, чье определение нравственного долга ближе к воле Бога, – «бога» Канта или «бога» Бубера. Великая воля остается свободна от малой воли посредством слияния с ней, но не освобождается от иной противоположности произвола, заведомо неслиянной с ним. Данная дилемма входит в раздвоенность «я» между «Ты» и «оно». «В понятии социального объединяют как вырастающую из отношения общину, так и скопление лишенных отношения человеческих единиц… Но нельзя разделить свою жизнь на реальное отношение к Богу и нереальную Я – оно связь с миром».[6]
Дихотомия воли оказывается определяющей для различения введенных типов «мы» и снимается в единстве понятия «мы» вообще. Такова неразличенность между «Божьей волей для нравственного самосознания» Канта и «решением великой воли, встречающей Ты» Бубера. Однако деление «мы» отражается и на само-различении «я» и «Я» – в зависимости от характера отношений, в которые оно вступает. Пусть это будет не развитие «Я» самосознания из «я» сознания, но неприкосновенность «Я» богореализации для «я» мирского мудрствования, – если не устанавливать однозначного соответствия и между ними.
Доступность интерпретации представлений о внутреннем и внешнем для «мы» воления, сложившихся в односторонней полемике Бубера с Кантом, – прототипом которой для Бубера послужило членение понятия «мы», – казалось бы, выявлена. Но сравнение снова теряет наметившуюся почву. Суть дела не в подразделении категории воли, а в смещении области ее означаемого. Самый факт наличия воли оказывается для Бубера основным признаком предстояния пред «Ты»: «Только тот, кто знает отношение и присутствие Ты, способен принимать решение… Именно то надо называть правильным, на что решаются; и если существует дьявол, то не тот, кто против Бога, а тот, кто не принимает решения в вечности».[7]
Основополагающим противоречием воле Господа считается не частное самовольство, но полное безволие. Никакой воли у «Я», связанного только с «оно» и лишь на разумном основании, пусть и практическими отношениями, вообще не предполагается. Своеволие служит средним термином в суждении смирения, и оно просто вынуждено двоиться. В силу приоритета многоликости воли перед ее многозначностью, движения многих и одного субъектов в целостном волении пары противоположностей, заключенной внутри промежуточного «мы – Мы», оказываются примерно скоординированы: «Воля к извлечению пользы и воля к могуществу действуют естественно и законно до тех пор, пока они сопутствуют человеческой воле к отношению, пока они движимы ею… Общественные структуры черпают свою жизненность от изобильной силы, реализующей подлинное отношение, которое пронизывает ее, определяя ее телесную форму».[8]
Располагая отношением не смены волений, но их соподчинения, было бы удобно судить о подавлении «нашей» воли «Нашей» волей, однако остановимся на самом общем выводе. Замысел Канта сконцентрирован в «мы» познания, отвлеченном от материальности воления, а не в «Мы» общения, вовлеченном в преображение телесности «нашего» воления. Согласно Буберу, антропология Канта не отвечает на вопрос «Что есть человек?»[9] Тем более не отвечает его метафизика нравственности на вопрос «Кто суть люди?» Добавим подразумеваемое: «Что мы можем знать? Что нам надлежит делать? На что мы смеем надеяться?» – намечая исследование оттенков воления в формулировках, относящихся к прошлому и будущему. Ведь именно временность отношений, закравшаяся во всякое «мы», поддается воле к осуществлению «Мы». Пусть Буберу позволительно игнорировать прошлое «он» Канта, и наоборот, мы не способны объяснить будущему «ты» Канта, о чем говорит Бубер. Равно как и представить, чтобы Кант в конце концов заключил, что он не понимает выходящее за рамки его системы. До сих пор все слишком ясно только для самого мертвого «мы».
Социальная философия: волевой сюрреализм
Кант судит по воле, формально совпадающей с чистым разумом и определяющей сферы нравственности и религии вне самоочевидности бытия. Это положение привело к тому, что борьба против кантианства стала постоянной темой русской философской мысли.[10] При обращении к основополагающему социально-философскому труду Франка обнаруживаются трудности, подобные тем, что вызвали неуверенность нашего подхода к замыслу Бубера. Но свое противостояние классической философии Франк осуществляет в более глубоком и личном отношении, вступая в отрицательное общение по поводу познания человека, бывшее для Бубера всего лишь завещанием покойного Канта. Наиболее значим из снятых «мы» первоначальный «он» – Декарт.
Франк считает самодостоверность «cogito ergo sum» гносеологическим субъектом, не исчерпывающим живого личностного самосознания, и утверждает полную невозможность вывести представление о «Мы» общения в картезианской эгоцентрической системе. Однако он забывает о важности для мысли Декарта понятия Бога, первичного по отношению к «я» и отличного от него, – то есть другого «Я», милостивого к самому существованию всякого «я», а не единственно к развитию его разума, – что представляет собой проект «Мы с Богом», определяющий возможность снисходительности и к «не-я», восполняющего «я» до «мы». Теологический аргумент от благодати дополняется философской апелляцией к закону тождества. Отношение к другому происходит из отрицания господства. «Я» и Бог суть противоречие, а не противоположность – они не допускают промежуточного субъекта, разве только объекты.
Осознав, что он не один в мире, Декарт переходит к идее не просто другого «я» или «он», но Бога, то есть «Ты». «Одна только воля, или способность свободного решения, которую я ощущаю в себе, настолько велика, что… она-то и показывает мне, что я ношу в себе образ и подобие Бога».[11] «Поэтому мы и полагаем, что другие, имея свободную волю, могут подобно нам хорошо ею воспользоваться».[12] Декарт признает, что собственное «я» есть для познания самое легкое, а представление о другом «я» требует определенного волевого усилия. Вывод о наличии других людей допустим именно через понятие воли.
Однако для Франка отличие социальной философии от практической отчетливее всего выражается нововведением понятия реальной воли в противопоставлении волевому идеалу, установленному философией права. «В области общественного самосознания основополагающей наукой является не философия права, не самодовлеющее познание общественного идеала, а именно социальная философия, как феноменология и онтология социальной жизни… Можно показать подчиненное положение философии права в отношении социальной философии. Ведь общественный идеал для своего оправдания требует не только того, чтобы он был верным идеалом, но и того, чтобы он был осуществимым. Не отвлеченный нравственный идеал, как таковой, а конкретная реальная нравственная воля человека есть подлинное содержание нравственной жизни».[13]
Вспомним, что философия права была построена Гегелем как последовательная система волеопределения, где воля представала перед судом разума и как объект, и как субъект их рефлективного отношения. Франк делает волю содержанием осмысленной жизни, не давая ей самостоятельной силы в качестве идеала. Гегель отстаивает право философии на существование, или способность мышления иметь дело с конкретными нравственными реалиями и в качестве воли перемещать себя в наличное бытие: «Философия, именно потому, что она есть проникновение в разумное, есть постижение наличного и действительного, а не выступление потустороннего начала».[14]
Конечно, Гегель имеет в виду волевое постижение, а не волевое общение, но ведь и Франк говорит о социальной философии, а не о социальном действии, – во всяком случае, его общественная позиция состоит в выражении некоторой мысли, сконцентрированной в памятовании о том, что исполняющий волю Божию пребывает вовек,[15] – то есть обладает идеальным существованием. Равно как и творческая судьба Бубера состоялась лишь постольку, поскольку замирание в молчании перед «Ты» окончилось вместе с произнесением «Ты» и «не оно», так что «оно» сразу оказалось в подчинении у боготворимого «Ты». Создается впечатление, что по степени реализма Франк предлагает перейти к жанру философской панорамы, наподобие того, как додумываются впрягать нарисованную лошадь в самую настоящую скрипучую телегу ради расширения возможностей живописи. «Государство может осуществляться в форме такого воздействия одной воли на другую, которое носит характер организации, создания коллективного единства через внешнее подчинение единой направляющей воле… а всякая попытка парализовать индивидуальную волю, поскольку она вообще осуществима, приводя к потере человеком своего существа, как образа Божьего, тем самым ведет к разложению и гибели общества».[16]
Это добавление совпадает по сути с гегелевским определением государства как шествия Бога в мире, где государственная воля не просто занимает место образа Божьего в существе человека, но находится в органической связи с волей индивидуальной, вырастая из нее и оставаясь в соотношении с ней. Под личным решением оба понимают свободное принятие или непринятие решения общественного, ибо и Франк чурается спонтанности богообщения на грани юродства или хотя бы утопии. Так, он и не задумывается, подобно Федорову (не будем распространяться о насильническом утилитаризме трудового сознания, для которого личность подчинена проекту),[17] о воскрешении в своих собственных телах тех, чья философия кажется ему отжившей и не заслуживающей обращения на «Ты» – просто в силу предполагаемой вторичности и еще более предполагаемой безответности такого обращения.
Добросовестность исследования требует сделать из всех недоумений по поводу радикального реализма Франка тот вывод, что наше сравнение социальной и практической философии поверхностно. Все поставленные по ходу дела вопросы следует считать далеко не риторическими, воздерживаясь от вмешательства в самоопределение источников предварительных ответов. Не беря на себя смелость и труд ответить Франку от лица Гегеля, что этого я не понимаю, сосредоточим внимание на более общем отношении к миру. «Образ мира в новозаветном его понятии имеет ближайшим образом отрицательный смысл, определенный наличием в мире универсального факта греха. Но образ мира, будучи творением Божиим и – производно, через принадлежность к нему человека – образом и подобием Божиим, есть совокупность вечных, бого-установленных устоев бытия».[18]
Онтологическая позиция предполагает удержание того и другого образа мира в их единстве именно в силу поддержания субъективного тождества представляющего и представляемого – завершенности рефлексии как целостного процесса. Онтологизм не может быть «русским» или «нерусским», – на данном уровне абстрагирования снимаются все подобные определенности, тогда и Россия находится не в отношении к миру, а в единстве с ним. Иначе, если рефлексия отсутствует, возникает та или иная относительность: Россия представляется либо «богоизбранной», либо «забытой Богом», а мир без России – пустыней или плеромой.[19]
Размыванию этой границы способствовала эмиграция русской интеллигенции, представителем которой был и Франк. Проблема существования мира без России являлась насущной; воля народа склонялась к вероломству, а условием русского возрождения казалось создание национальной власти в России.[20] Опыт социалистического интернационализма не стал этапом онтологизации предпосылок в обыденном сознании. Его можно определить как случай рассогласования в воле к созданию нового мира между волей к взаимопредставлению и взаимодействию. Отсутствие «нашей» воли в центре структуры власти, регламентирующей общую волю, связано с недостатком идеализма.
Политическая ложь порождает патологическую ассоциацию народов,[21] но считается нормальной в целях диссоциации искаженных общечеловеческих ценностей. Глава государства оказывается раздираем между двумя «нашими» волями – волей своего народа и волей к единению человечества, если ему не удается согласовать их. Профессионально пригоден лишь тот президент, который знает, что на самом деле президентом является «Мы», а он только изображает президента для «мы». Диссоциативный характер политической ассоциации выражается в том, что правительство имеет дело не с народом, а с массами – само считает себя ведомым волей народа и призванным управлять массами.
Расслоение одного и того же социального факта на уровне его констатации на народ и массы выявляет существование некоего «люфта» между ассоциацией и диссоциацией волений. Отношения подчинения получают массовое наполнение. Массы обладают способностью более или менее равномерно растворять в своей среде целостность устремлений народа. Именно масс-медиа[22] подменяют собой средний слой (промежуточный между принудительным законом и свободным действием любви), который Франк считал истинным базисом внешних законодательных реформ – сферу непроизвольно слагающихся нравов.[23]
Формальная социология: соподчинение волений
Разрабатывая применение категории «нашей» воли, предицирующей «Мы» общения, нужно считаться с формально-социологически-ми построениями. Именно здесь находится отправной пункт для положительного диалога между «мы» познания и «Мы» общения, что происходит в силу достаточно аргументированной позиции, соблюдающей требование техничности объяснения новообращенного «Мы», вновь обращенного к разомкнутому его собственным выходом «мы». Возникновение нового понимания и постепенное введение новых понятий, совершенно иррациональных для недавно оставленного общества, заставляет прикладывать усилия к конкретизации их в прежнем контексте до тех пор, пока не истощатся все прежние связи.
«Можно говорить о существующем для индивидов верхнем и нижнем порогах общения. В обоих случаях общение перестает быть центральным формообразующим принципом и начинает играть формальную, посредническую роль. Конституирующий общение принцип: каждый должен настолько удовлетворять свое влечение к общению, насколько это совместимо с точно такой же степенью удовлетворения этого влечения всеми другими».[24]
Зиммель, отошедший от чистого философствования и разделивший трудности упрочения зарождающейся социологии, – пытаясь оправдать собственное предпочтение «Мы» перед «мы», возводя его в форму всеобщности, – подобно Буберу и Франку начинает исследовать саму возможность существования общества с непосредственного признания факта «Ты» в сознании не только званого вместе с «мы», но и избранного «Я», вхожего напрямую в «Мы». Он тоже сохраняет над этим фактом приоритет исконно двойственного положения индивида в отношении обобществления, так что никакое «Ты» не может быть однозначным. И так же понятие воли косвенным, но решающим образом входит в определение общества именно в смысле категориальном: не совершенное общество, но совершенное общество. Предпосылкой общества, названного так в его завершенной форме, признается «предустановленная гармония между нашими духовными энергиями – сколь бы индивидуальны они ни были – и внешним объективным существованием».[25]
Понятия гармонии и гармонизации расплываются в связи с зарождением в области их пересечения «нашей» воли. Исполнение указанного предустановления должно быть поручено той странной воле, которая возникает как промежуточная, или координирующая стремления к человекобожию и богочеловечности. Вопрос, в какой мере (сохранение полной противоположности неактуально) реализована сплошная корреляция своих и Божьих велений в модусе «нашей» воли, обостряется очевидной необходимостью ввести категорию профессионального призвания. Зиммель возводит эту предопределенность к наличию основополагающего отношения, принцип которого выступает в политике Аристотеля.
Под первичной профессиональной дифференциацией подразумевается жесткое предназначение всякого «я – Я» занять в мире место господина или раба; впоследствии исходная пара противоположных мест подвергается дальнейшему разложению. Тем самым теряется простая контрастность своей и не-своей воли даже в одной и той же плоскости воления, что еще более усложняет вопрос о мере смирения ответом о соразмерности послушания. Противостояние господина и раба – как абсолютно отсеченное от Божьей воли, так и целостно возведенное в рок (не принимая в расчет никакие смешанные состояния, которые одни только и встречаются в действительности) – представляет собой элементарное волевое отношение, или волевое противоречие в чистом виде.
Вначале, «вследствие слишком еще тесной связи между отдельными волевыми актами и определенными группами интересов одна целесообразная деятельность приводит в движение много других, хотя собственно для этой цели они не нужны… Недостаточная дифференциация не только допускает слияние функции одной части с функцией другой, но и субъективное суждение о них часто не открывает возможности разделения».[26] В дальнейшем, «стремление к дифференциации, относящееся, с одной стороны, к целому, с другой стороны – к части, создает противоречие, которое является противоположностью экономии сил. И внутри отдельного существа дифференциация в рамках последовательного возникновения оказывается в конфликте с дифференциацией в рамках одновременного сосуществования».[27]
В конце концов, продуктивнее и экономичнее оказывается обратное движение дифференциации. Обращение к Богу не случайно само собой исчезает по мере углубления в тему феноменологии «нашего» самоопределения во времени, затрагивающей смену власти: «Он не знает памяти в человечески-временной форме, которая всегда содержит в себе и свою противоположность, забвение. Тому, кто не нуждается в воспоминании, для того нет и времени, а целостность собственного бытия не падает в разломы временной протяженности… Бог прежде всего могуществен; это предполагает особенность Его существования, в которой наличествует формирующая, превозмогающая, направляющая власть. Слившийся в единство с наличным бытием Бог не может обладать такой властью, ибо для нее у Него не оказывается объекта… В соответствии с такой двойственностью Бог должен мыслиться как личность, если мы хотим Его мыслить: как жизненность существования, которое обозревает единичные свои представления, наделено над ними властью, но с известными перерывами в реализации господства, не затрагивая их самостоятельности».[28]
В понятии личности разрешается субъект-объектное противоречие «нашей» воли. Но возникает иное псевдо-противоречие: Бог есть личность, поскольку Он обретается вне времени и не попадает в его разломы; и Бог есть личность, поскольку он самовластно соблюдает перерывы в актуальном волеизъявлении. Первый тезис имеет отношение к христианскому, еще невоцерковленному, или личному Господу, тогда как второй тезис касается первоначального образа Бога, имевшего ограниченный социальный характер.
Мнимое противоречие состоит в том, что Господь в одном случае сокрушает властную структуру промежуточной инстанции общества в целом, а в другом – Сам является властной структурой промежуточных инстанций внутри общества: «Линия, восходящая от индивидуума к Богу, не растекается, встретившись с промежуточной инстанцией, какой является социальная группа. Их всех властных структур Он первой сокрушает исключительность социальной группы, которая защищала общие интересы индивидуумов… Божество является трансцендентным местом сосредоточения групповых сил; взаимодействия и влияния, осуществляющиеся в действительности между элементами группы и образующие единство в функциональном плане, преобразились в лоне Бога в самостоятельные сущности».[29]
Господь есть Личность по преимуществу, и в само определение личности, полностью реализованной, входит бытие Богом. Что касается человеческой личности, как она упрочивается в безликом и лицемерном обществе и далее наличествует в функции набожности в межличностном безбожном общении, то ее понятие находится в становлении, заданном рефлексией воли соответствующего типа. Наиболее самостоятельными по отношению к своеволию и воле Божьей, причем обе представлялись чем-то производным, межличностные волевые связи предстали в социологии. «Отношение подчинения покоится не на определенном знании о превосходстве и не на одной только любви, но на том промежуточном психическом образовании, которое мы называем верой в человека или коллектив… В вере в божественное воплотился чистый процесс веры, оторванный от связи с социальным партнером».[30]
Для системы, в которой Бог есть общество, необходимо найти проход между богом и обществом – к Богу. Социализация источника представлений о Боге, отличного от него Самого, имеет развитую традицию в психоанализе, где речь идет о представлении, а не о понятии, если Бог отличается от конечных вещей именно тем, что Его понятие и бытие нераздельны и неотделимы. Сведение Бога к пласту веры в Него и эксплуатации общественным мнением неоднозначности ее проявлений характерно также для постструктурализма, где понятия заменяются силами. Таковым представляется и непосредственное воление тех верующих строителей, которые напрасно трудятся, «если не созиждет Господь город», и стражей, которые напрасно бодрствуют, «если не сохранит Господь город», – и в целом воля города, населенного подобными строителями и стражами.
Рассмотрим основание «Мы» в общении, которое остается незатронутым всеми указанными процессами. Обратившись к феноменологии Гегеля, мы находим знакомый сюжет (впрочем, не статичный, но динамический): первое возникновение «я» как «мы» для самого сознания в форме разделения моментов самостоятельности и несамостоятельности самосознания на два, и только два, персонажа – господина и раба – абсолютную власть и абсолютное подчинение. Поскольку именно это основное противоречие будет многократно решаться в философии права, тем самым повышая уровень конкретизации сферы воления в целом; а также поскольку именно гегелевская философия права уже поставлена во вполне определенное отношение к социальной философии, характеризуемое некоторым специфическим волением, которое предстоит определить строго категориально, – постольку мы должны сосредоточить внимание, прежде всего, в этой связи.
2. Распределенность субъективизации
Диалектика самостоятельности и несамостоятельности самосознания – «я» как «мы» – в «Феноменологии духа» Гегеля. Задействованность данного гештальта в социальной адаптации современной философии: Лакан, Рикёр, Фуко, Гадамер. Иерархия, синархия, анархия. Интимное и публичное в отношении хозяина и раба. Закрепощение в иллюзии высвобождения из самозамкнутой сферы деятельности. Лакан и Рикёр о Гегеле и Фрейде. Отчуждение в рамках борьбы за признание. Недопустимая нетерпимость и недостижимое долготерпение. Феноменология и психоанализ. Фуко: от вещи к речи. Вопрос об инициации в дискурсивном контексте. Обращение к герменевтике. Практическое и теоретическое – образование или образованность. Рефлексия полагающая (господство) и определяющая (властность рабства). Условия существования в мире без любви, или лакуна в центре текста.
Практическая интуиция и стержень инициации
Повторим в общих чертах феноменологический сюжет порабощения духа собственной внеположенностью, делая акценты на зарождение в общности и властности новых возможностей само-со-хранения. Чистое понятие признавания, удвоение самосознания в его единстве, появляется для него самого прежде всего со стороны неравенства. Средний термин, – «Я», которое есть «Мы», и «Мы», которое есть «Я», – распадается на крайности, противоположные друг другу: «я» и «мы» (именно так, а не «Я» и «Мы», сохранявшиеся только в их тождестве), – признаваемое и признающее – господин и раб.[31] Тот факт, что рабу в большей степени присуще сознание «Мы», дает ему превосходство над самим собой, которым не обладает «я» господина, более склонное к «мы», и в дальнейшем Гегель пользуется этим скрытым рычагом для размыкания их связи, именуя господина рабом своего раба. Но осуществленное нами называние оказывается избирательным, ведь мы изначально переобозначили термины сравнительно с подобными отношениями в собственном замысле. Воздержание от вхождения внутрь смысла, позволяет не подпадать окончательно под влияние текста Гегеля.
Внутри отношений недопустимы сравнения, обыкновенно доступные каждому: в частности, своего «я» – с другими рабами или господами; вообще, собственных отношений подчинения – с инаковыми. Именно частность взаимозависимости возведена во всеобщность: опосредствующий исходные вожделения субъектов объект установил между ними самими субъект-объектную связь. Кроме чистого логического выхода из этих конкретных отношений невозможно вмешательство других сил. Под замкнутостью Гегель подразумевает не случай, но характер привязанности. Один – всегда и везде раб, и он вынужден разрешить самому себе выход из господского лабиринта. Другой – никогда таковым не бывает, но тем самым не становится он и больше самого себя. Дополнительный шанс рабу давала бы ситуация смены господ, – не только как факт появления другого господина, но и как процесс служения двум господам, а по сути ни одному; Гегель же исключает и эту последнюю возможность избавиться от необходимости труда. В самом деле, раб не освобождается, он просто возвращается к предшествующим формам сознания, чтобы через вещь и ее обман оказаться перед новым господином; и сдвоенность развертывается в дурную бесконечность.
Иерархия, основанная на принципе разорванного «мы», представляется как весьма посредственная координация уровня мышления и уровня жизни: господин есть раб, но не своего раба, а другого господина; раб есть господин, но не своего господина, а другого раба; и оба имеют равных себе. Дуализм разрушается, и самосознание зацикливается на ближайшем намеке на самого себя, не в силах перейти к самому себе. Но Гегель отождествляет «мы» с «я» (в конечной точке единства это будут, безусловно, «Мы» с «Я», ведь полнота прояснения друг для друга есть любовь к другому как к самому себе) и решает проблему самостоятельности и несамостоятельности одного и того же самосознания, или власти над самим собой, подтверждая тезис о сущностной спорности власти:[32] сознание всецело подчинено самосознанию; раб – господину, ибо раб только станет «Мы», господин является «мы». Итак, важнее всего тотальность противостояния при-общающегося сознания и со-общающего самосознания.
Если раб, не выходя из-под власти господина, получает сведения о науке или религии, это не делает его исследующим или верующим. Хотя его труднее свести к одной покорности, он снова и снова отступает в сферу личной дополнительности к предметам. Само-замкнутость духа, смежающая господина и раба до имманентно субъективного поиска выхода в безвыходной ситуации, способна породить само-инициацию более высокой формы развития, научного или религиозного. Подобная инициация, или запуск действия,[33] может оказаться иллюзией, то есть полной реализацией всего сохраненного в самосознании потенциала восприятия; или, что бывает существеннее и реже, – настоящей инверсией, нарушающей заданную последовательность, вернее, вносящей коррективы в познание порядка и соотношения двух форм внеположенности Духа. Во всяком случае, это не есть ни подражание, ведь отдельно взятая внешность не поддается этому вовсе; ни посвящение, ибо не обязано своим происхождением ничьей посторонней помощи; ни воспоминание, будучи первичным настолько, что никакое прошлое не властно над ним, даже если такое прошлое было. Мы будем в дальнейшем подразумевать под самоинициацией практическую, – или, в более узком смысле, социальную, – интуицию, которая постепенно редуцируется к одной интенции, не захватывая всецело сущности господски-рабских отношений.
Конкретизируем отложенный вариант иллюзии, чтобы удостовериться в его неприемлемости. Единство составляет раздвоение на самостоятельные образования (Gestalten)[34] – господина и раба. Очевидно, что каждый из гештальтов есть характерная взаимодополнительностью к другому совокупность образности предшествующего сознания многообразия вещей, вобранная обратно в себя. Ожидание пассивной восприемлемости от некоторой вещи и повторное одурачивание (Tauschung)[35] с ее стороны до сих пор присутствует в самосознании в снятом виде, как чисто «силовое»[36] поле напряжения между господином и рабом и как уже намеренная трансформация поместившейся в нем вещи в новой функции объекта обработки и потребления. Скрытная тяга к сознательному восприятию вещи продолжает работать в обычных отношениях повеления и подчинения. И самым радикальным образом она задействуется при инициации, когда вся целостность доминирующего над самим собой Духа начинает воображать себя.[37]
Совсем в другом смысле происходит самоинициация по типу инверсии, как настоящая встреча раба с безупречным исследователем или служителем культа. Это пересечение духовных воплощений разных уровней не аналогично логическому, когда категории одной сферы, более низкой или высокой, используются для раскрытия выводимых понятий в другой сфере. Кроме того, что друг с другом сообщаются ранее несовместимые феноменологические персонажи, в определении каждой отдельно взятой феноменологической фигуры происходит наложение разных логических уровней. Так, господин и раб соотносятся друг с другом в трех плоскостях сразу: наличного бытия, рефлексии и свободы, – их жесткие взаимоотношения в рамках для-себя-бытия имеют своей сущностью познающее «мы», а высшим смыслом, или понятием, «Мы» общения. По крайней мере, их взаимодействие истолковывается в любых терминах, что облегчает задачу нахождения точек контактов и стержня инициации.
Намерение использовать сюжет господства и рабства как схему элементарного волевого отношения позволяет заметить, что подавляется в этом процессе вовсе не воля. «В качестве первого момента мы имеем устойчивое существование самостоятельных образований или подавление того, что есть различение в себе, которое в том именно и состоит, чтобы не быть в себе и не иметь устойчивого существования. Второй же момент состоит в подчинении указанного устойчивого существования бесконечности различия… Только будучи негативной сущностью оформленных самостоятельных моментов, простое “я”… есть вожделение».[38]
Допустим, что после освобождения от двойного гнета, налагаемого на него господином с одной стороны и вожделенной вещью с другой, раб реабилитирует для себя самого свое собственное представление о воле, ибо то не есть воля, что могло оказаться подавлено. Тогда он снова обнаруживает себя в положении зависимости, ведь воля снова определена и тем самым реально ограничена. Круг проходится полностью, но не перешагивается в целом. Лишь в силу самодостаточности на любом логическом уровне в пределах доступного ему среза существования, самозамкнутый «господин – раб» может перейти на следующую феноменологическую ступень и стать стоиком. Но навязчивое желание стать только господином удерживает его в рабстве и даже заставляет дорожить таким положением дел. Одним словом, он начинает лениться явно (в проекции господства) или заболевает ленью, продолжая неустанно трудиться (обнаружив в себе склонность к рабству).
Замедленность (обсессивность) и своенравие
Рабу нечего возразить на упреки в лености, поскольку в перспективе он – господин; в то время как господина ленивым не назовешь, коль скоро он уже раб и никаким будущим, кроме смерти (реальной или символической), не располагает – таковы их внешние данные. И все-таки Лакан утверждает, что обсессивный[39] невротик служит примером одной из ситуаций, которые Гегелем в его диалектике господина и раба не были разработаны. На самом деле обсессивность есть не что иное, как указанное Гегелем своенравие. Попытаемся это показать.
Лакан предлагает разрешить ситуацию господства-рабства таким способом. «Раб уклонился от смертельного риска, с которым связана возможность завоевать господство в борьбе чисто престижного характера. Но, зная о том, что сам он смертен, раб знает также, что может умереть и господин. Поэтому он может согласиться работать на господина и отказаться на это время от наслаждения в ожидании момента, когда господин умрет. [Или “наступит старость, перед которой все стушевывается, даже воля”.[40] ] В этом кроется интерсубъективная причина сомнения и промедления, характерных для поведения обсессивного субъекта. Тем временем весь труд его вершится под знаком этого намерения и становится вдвойне отчуждающим».[41]
Гегель иначе определяет предпосылку невроза навязчивости: «Если сознание испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг, то негативная сущность осталась для него чем-то внешним, его субстанция не прониклась ею насквозь. Так как не вся полнота естественного сознания раба была поколеблена, то оно в себе принадлежит еще определенному бытию [что и будет навязчивостью некоторой идеи, попыткой пребывания в собственной ситуации, а не просто в себе]; собственный смысл (der eigene Sinn) есть своенравие (Eigensinn), свобода, которая остается еще внутри рабства».[42]
Согласно Гегелю для рефлексии раба в самого себя, то есть для обретения не-самосознанием самостоятельности во всякой деятельности, необходимы два момента – страх и служба. Лакан, применительно к своему разрешению варианта несостоявшегося рабства, указывает на удвоенное отчуждение, которое должно было бы по замыслу раба пресекать попытки господина «пережить» его. Во-первых, раб испытывает сомнение в законности присвоения плодов труда; во-вторых, он осуществляет промедление, переходящее в постепенное и окончательное умирание в предвосхищении смерти господина, – открывающее его слабеющие глаза на существенность их связи: привыкнув к нерасторопности, он не успевает не только ничего исправить, но даже понять, что совершает самоубийство.
Подобное удвоение не удовлетворяет гегелевским требованиям, выражая присутствие страха при уклонении от службы, а именно незамкнутость друг на друге обоих моментов самосознания: самодостоверности и несамодостоверности – источника страха и источения поводов к прислуживанию – господина и раба. Гегель уточняет перспективы дальнейшей нестыковки разомкнутых моментов также и при одностороннем переживании страха, оторванном от момента службы: «Без дисциплины службы и повиновения страх не идет дальше формального и не простирается на сознательную действительность наличного бытия. Без процесса образования страх остается внутренним и немым, а сознание не открывается себе самому».[43]
В общей картине невроза, как служба не овнешняет страх, оставляя сомнение, так и страх не углубляет негативность (существенную как для создания ситуации, так и для ее разрешения), создавая нарочитую запоздалость действий. Лакан называет такой труд подыгрыванием, а Гегель – сноровкой. Проблема промедления получает категориальный статус при раскрытии смысла, в котором употребляется в данном контексте понятие времени. Рабский труд представляет собой заторможенное вожделение, задержанное исчезновение, нечто образующее.
В опыте безуспешной борьбы, – а завершиться иначе она не может по определению, поэтому невротик борется лишь за продолжение борьбы, – было бы в конце концов обнаружено то, что реконструирует в своей идеальной феноменологии Гегель. Присутствие волевого аспекта в отношениях смещает внимание с осознания на простое существование. «Жизнь столь же существенна, как и чистое самосознание… Круг жизни замыкается в следующих моментах. Сущность есть бесконечность как снятость всех различий, сама самостоятельность, в которой растворены различия движения, простая сущность времени, которая в этом равенстве самой себе имеет чистую форму пространства… Это единство есть раздвоение на самостоятельные образования, потому что оно есть абсолютно негативное или бесконечное единство».[44]
В занимающем Лакана случае несовершенного рабства, взятого на себя обсессивным невротиком сверх положенной ему меры, именно негативная сущность единства (временность, смертность) осталась для сознания чем-то внешним, не проработанным целонаправленно, хотя бы под видом вожделенной вещи. Замедленность означает разорванность живого гештальта на господина и раба при полном слиянии их в мертвом пространстве воображения. Ибо смерть и есть та самая пустота, которая представляет собой в чистой логике наличное бытие (или сознание в противоположность для-себя-бытию как самосознанию) самого ничто.[45] Переход «через смерть» в полном осознании не состоится, но постоянно воспроизводится бессознательно. Гегель пользовался для обозначения этого состояния термином «в себе», равнозначным по сути «для иного» и составляющим вместе с ним пару снимающихся друг в друге моментов.
Как Лакан, так и Рикёр – оба считают дискурсы Гегеля и Фрейда в определенном смысле идентичными. Однако определенность этого смысла для них различается; причем становится возможным акцентировать противоположные стороны в развитии содержания сознания, осуществленного феноменологическим методом. Рикёр отмечает для себя и пытается согласиться с тем, что развитие сознания соответствует развитию объективности; напротив того, Лакан спрашивает, каким образом конституирование объекта подчинено реализации субъекта. Контекст Рикёра положителен: самость, взрослость и смертность; Лакан работает в отрицательном контексте: восстановление идентичности и терапия. – Сделанные предположения требуют доскональной проверки, не оказываем ли мы излишнее давление, не уходим ли безоглядно в тему господства.
Собственно феноменологический подход к отношению господина и раба, как и к любому познанию, в которое невольно втягивается даже порыв к высокому общению, состоит в конкретизации «проверки». Соответствие понятия и предмета, – бытия-для-иного и в-себе-самом-бытия, – возвышается до чистого понятия признавания. Признанное Лаканом достойное гения Гегеля требование глубинной идентичности частного и универсального выражается во взаимной потребности друг в друге как самостоятельного, так и несамостоятельного самосознаний. В отношении подчинения Лакан добавляет отрицание субъективности связи между субъектами и утверждает отсутствие всякого «мы» вообще, но как отрицание отрицания, то есть формально как начало нового субъекта: «В требовании [взаимозаменимости господина и раба] оставалось нечто пророческое; психоанализ предоставил готовую парадигму, где идентичность реализуется как отъединяющаяся от субъекта. Это представляется главным возражением против ссылок на целостность индивида, ведь субъект вводит разделение как в индивидуум, так и в коллектив, являющийся эквивалентом индивидуума».[46]
Субъект «господин – раб» множественен, тогда как его объект (вещь, воплощение господина для раба и раба для господина) един. Разделение на индивидуум и коллектив не вполне адекватно разделению на частное и универсальное. В применении к отношению господства и рабства высказанная мысль состоит в простом переобозначении понятий «я» и «мы» на индивид и субъект. Решившись реабилитировать все высказанное о фрейдизме до статуса понятого гегельянства, приобщиться к их идентичности, мы должны прежде всего установить, в чем примиряются друг с другом Лакан и Рикёр, составляя некий цельный субъект общего для них герменевтического разделения. Согласно последнему: «Необходимо, чтобы эти два подхода – гегелевский и фрейдовский – стали бы безоговорочно единым подходом. Лучшим доказательством тому служит следующее: то, что можно сказать о первом из них, можно сказать и о втором».[47]
Для Лакана и Рикёра психоанализ остается конкретнее феноменологии, как мы ни пытаемся произвести инверсию субъекта и предиката их суждения на примере включения обсесса в своенравие. Аргументацией к обратимости самостоятельности и несамостоятельности самосознаний (роли господина и раба навязаны самим Гегелю и Фрейду) служит анализ избранного сюжета. Сохраним последовательность в удержании приоритетов, освобождаясь от влияния Гегеля и не впадая в зависимость от Фрейда, – попытаемся проявлять герменевтический стоицизм, не подменяя его обсессивным неврозом эклектики. Только так доступна рефлексия чувства, никогда не подводящего нас (Гегель считал, что двусмысленность слов отражает диалектичность языка – средства общения, которое до сих пор сводилось для господина и раба к одному знаку, а именно, к вещи).
Одухотворение объекта вожделения
Мнения Лакана и Рикёра совпадают в том, чтобы интерпретировать сеанс психоанализа как безысходную борьбу между господином и рабом. Рикёр делает это в контексте предостережения от известной опасности эклектики, когда сознание и бессознательное признают взаимодополнительными: «Компромисс есть карикатура на диалектику… Для гегельянца все дело заключается в движении фигур, включая и то, что Гегель называет дискурсом духа и чем каждый из нас обладает в качестве сознания. Для фрейдиста все состоит в жесткой детерминации со стороны фундаментальных символов, включая диалектическое отношение между рабом и хозяином. Эта сверхдетерминация совершеннейшим образом реализуется в отношении аналитика к тому, что он анализирует, так что курс лечения можно истолковать как борьбу за признание, протекающую в неравных условиях».[48]
Последнее утверждение, по видимости, поддерживает точку зрения Лакана на диалог психоаналитика и пациента: диалектика фиксируется в диалоге, но именно эта фиксация и есть эклектика, или даже экология, занятая не столько взаимодополнительностью речей, сколько описанием подходящего для них места. Однако вступив в простроенный нами диалог между самими Лаканом и Рикёром, мы признаем, что их воля по до-говоренности выражается в «их» слове – до известной черты, сдвигаемой нами.
Лакан приводит подобное объяснение сеанса психоанализа в двух контекстах: частный случай с обсессивным невротиком и общий принцип диалектики самосознания. Что же следует понимать под вещью или жизнью, разница в отношении к которой установила различие позиций господина и раба? Спрашивается, от чего один отказался и теперь владеет им, тогда как другой удержал это самое и стал неимущ. Также разделяются их дальнейшие права по отношению к общему предмету вожделения (в некотором смысле тоже общего): первый потребляет, второй обрабатывает.
Для Лакана искомой границей между встречными направлениями господства и рабства, асимметричными по психологическому определению,[49] выступает дискурс – слово, которое пребывает: раб говорит, а господин слушает; раб воспроизводит дискурс, но только господину доверяется судить о ценности этого дискурса. По Гегелю пациент безусловно находится в выгоднейшей ситуации, поскольку он не знает того, от чего не смог отказаться (сути невротического комплекса), и занят процессом образования, который приходится направлять в предзаданное русло, то есть утверждать превосходство того, к кому пришли (и он властен диктовать условия), перед тем, кто пришел (и волен уйти). Иначе психоаналитик, проводящий принцип бездействия, провоцирует пациента на подыгрывание. Раб, отчасти сущий в роли господина по уподоблению, при намеке на прерывание отношений проявляет свою «добрую волю» еще более демонстративно. Это единственный вид воли, который при данном раскладе подавляется. Лакан заключает: «Пренебрежение, выказанное господином к плодам подобной работы, произведет определенный эффект. Сопротивление субъекта может оказаться совершенно расстроенным».[50]
Гештальт господства-рабства целиком помещается в поле деятельности, промежуточном между самостоятельностью и несамостоятельностью самосознания и обладающем специфически ауто-абстракт-ным (невластным в себе самом) качеством властности. Речь, становящаяся предметом вожделения в диалогической борьбе за монолог, воздействует немногим сильнее вещи, ставшей признаком состоявшегося подчинения. Для сравнения крайних возможностей зафиксируем отсылы от сказанного в начале и конце лекции Фуко о порядке дискурса.
Вначале схема конкуренции обновляет свое содержание: несогласие в промежуточном звене развертывается между желанием и установлением, – устанавливая (субъект очевиден из характера действия) между ними отношение подчинения, где снова властвует воплощенная функция внимания к слову. «Желание говорит: “Мне не хотелось бы самому входить в этот рискованный порядок дискурса…” Установление отвечает: “Дискурс размещен в порядке законов, и если ему случается иметь какую-то власть, то получает он ее только от нас.” Но это установление и это желание – только два противоположных ответа на одно и то же беспокойство из-за того, что за всеми этими словами угадываются битвы, господство и рабство… В любом обществе производство дискурса контролируется с помощью процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия. Самая привычная процедура исключения – это запрет…»[51]
Подавляется совсем не воля, даже не вожделение, но дискурс, обрамляющий желание, – впрочем, лишь поскольку он сам характеризуется властностью. Впрочем, Фуко намерен «рассмотреть случай общества, которое изобличает проявления власти, которую оно само же и отправляет, и обещает освободиться от законов, которые обеспечили его функционирование. Произвести смотр не только этим дискурсам, но и той воле, которая их несет, и той стратегической интенции, которая их поддерживает».[52]
Подчеркнутое указание на отношения господства и рабства в подтексте дискурса сделано без явной апелляции к гегелевской феноменологии, как это было у Лакана. Фуко высказывает в целом, какую модификацию ей предстоит перенять, так что поражение текста очевидно уже из его избранности, поскольку помилование предполагает приговор.[53] Речь идет о социальной адаптации не индивида, пришедшего на прием к психоаналитику, а претендующей на универсальность системы отношений, по сути требующей перехода от «мы» к «Мы» самой философии – единственного субъекта, способного сделать его осознанно: «Из присутствия Гегеля… сделать схему испытания современности; и обратно: нашей современностью испытать гегельянство и вообще философию. Отсюда перестановки и подлинная инверсия тем… Последний сдвиг: если философия действительно должна начинаться как абсолютный дискурс – как тогда быть с историей, и что это за начало, которое начинается с некоторого единичного индивида, в некотором обществе, в некотором социальном классе и посреди битв?»[54]
Опыт «Ты» в безличном признавании
Вопрос об инициации обрастает дискурсивным контекстом, а подход стал герменевтическим и нуждается в подходящем для рефлексии содержании. Гегель определяет рабский труд как процесс практического образования, или деятельность по обузданию влечения. Гадамер восстанавливает двусторонность понятия образования, не выходя за пределы феноменологической парадигмы: «В описании практического образования можно увидеть основополагающее определение исторического духа: примирение с самим собой, узнавание себя в инобытии. Это определение проясняется в идее теоретического образования, ибо теоретическая деятельность – это уже отчуждение».[55]
Как достоверность себя самого, достигаемая практическим образованием, так и отчуждение духа от самого себя, следующее из теоретической образованности, описываются в терминах волевых взаимодействий. В одном случае воля тесно связана с вожделением, поскольку она едва обособилась от него, – и постольку она делает сознание несчастным. В другом случае воля вырабатывается в борьбе более высокого порядка – не за признание сознания самосознанием, а за просвещение духа. Завершается последняя деятельность также негативно: сознание испытывает ужас абсолютной свободы.
Мы получили набросок параметров, адекватно которым способна резонировать хорошо настроенная практическая интуиция. Предполагая не окончательные выводы, но лишь их допустимость, оборвем развитие рассуждения и включим дополнительный герменевтический потенциал. Отношение господства-рабства схватывается со стороны единства пра-феноменологического «Мы», в имманентной альтернативе которого избирается обновление смысла достоверности и недостоверности самосознания, то есть самопорождение несамодостаточности: «Отношение “Я – Ты” не является непосредственным, это – рефлективное отношение».[56]
Гадамер понимает рефлективность как обратимость сторон сколь угодно непростого отношения. Однако он и не пытается проследить разрешение взаимодополнительных опытов в опыте стоической готовности ко всякой взаимодополнительности. Находится, по-видимому, иной выход из несостоятельности подчинения, скрывающего настоящую властность рабства. Тирания самим покорным служением доводится вплоть до отрефлектированного стремления к господству в форме заботы и попечения.
Для подкрепления своей позиции Гадамер ссылается на опыт отрицательной рефлексии Ницше: «Даже в стремлении служащих я находил стремление быть господином. Пусть слабейший служит сильнейшему, вот к чему побуждает живущее его воли, которое желает быть господином над еще более слабейшим… А где есть жертвование, и услуга, и взор любви, там – стремление быть господином. По потаенной дороге пробирается слабейший в укрепленное место, до самого сердца могущественного – и похищает власть».[57]
Еще более слабейшим оказывается именно могущественный. Если бы Ницше предложил включить в отношение подчинения дополнительные персонажи, обратившись к покорности которых раб мог бы иногда позволять себе забыться в роли господина, он сделал бы вклад в социологию, но его критика философии была бы неоправданной. Однако его решение удовлетворяет исходным данным: вместе господин и раб представляют собой замкнутую структуру, – поэтому оно кажется новым: он предлагает недостаток страха, приводящий обыкновенно к своенравию, восполнить служением не просто усердным, но жертвенным. На глобальном уровне это приводит к краху философской системы, лишающей мышление свободы, что с самого начала принято называть «дионисийством».
Таково и суждение Ницше о смерти Бога. Будучи объявленной, смерть Бога в чем-то состояла, была ли она предвосхищена или состоялась, но, во всяком случае, она была чрезмерно истолкована самим вынесенным суждением. Дальнейшее избежание посмертного обетования заключалось не в том, что Бог окончательно умер из человека или, совсем наоборот, по направлению к нему, но в замалчивании завышенной способности Бога превосходить Самого Себя, а именно, умирать. Другим «я» для сверх-человека, ибо он нипочем не хотел бы стать и тем более остаться человекобогом, является не богочеловек, но сверх-бог.
В предпосылках заранее остается неясным, отличается по существу заверение в исконной первичности материи от возвещения искомого плотского бессмертия, или это только два подхода к прознанию о вечной смерти в структуре того, что человек пытался называть Богом. Сверхчеловек не одинок, ибо его воля к власти не могла бы удовлетвориться преодолением человеческого и даже покорением божественного, ведь последнему присуще смирение, – вызовом для него становится выход из отношений со сверх-богом.[58]
Материализм не знает дилеммы между духовной реальностью и мыслительной конструкцией, – ведь для него обе почти одинаково не существуют, – поэтому не столь важен относительный статус противостояния инаковости инакового (ино-человека и ино-бога), сколько взаимность этой рефлексии: удается ли им вообще отличаться друг от друга и обрести хотя бы некоторое восприятие друг друга?
Феноменологически недопустимое разворачивание простого опосредования в иерархическую лестницу многих еще более волевых и безвольных персонажей обладает положительным значением. Оно позволяет раскрыть временной аспект, данный в чистом противоречии лишь в снятом виде, в завершенном единстве с пространством, то есть в движении, концентрированном в простую вожделенную материю опосредования. Простраиваются условия (или условности) в мире снимаемого отношения господства-рабства, развивающиеся параллельно эволюции сознания.[59]
«В опыте герменевтики опыту “Ты” соответствует историческое сознание. Оно знает об инаковости другого, о прошедшем в его инаковости, так же хорошо, как понимание “Ты” знает это “Ты” в качестве личности. В прошедшем как в своем другом оно ищет не частные случаи всеобщей закономерности, но исторически неповторимое. Притязая на возвышение над собственной обусловленностью, историческое сознание оказывается жертвой диалектической видимости, поскольку стремится стать господином прошедшего… Тот, кто путем рефлексии выводит себя из двусторонности отношений [между “Я” и “Ты”], изменяет их, разрушая их нравственную обязательность».[60] Влияние Ницше на суть перетолковывания угадывается уже не так явно: “Избавить прошлых и всякое “это было” пересоздать в “я хотел так!” – вот что я назвал бы освобождением. Воля – так называется освободитель… Но самая воля есть еще пленник».[61]
Вариант ницшеанского освобождения – пресловутая смерть Бога, ставшая предварительным растворением чего-то бывшего в пред-последнюю материю для неосуществленного желания. Делёз и Гватари считают комизацией давать подобно Ницше десять-пятнадцать равно вероятных версий этого события и заключают, что Смерть бога не имеет никакого значения для бессознательного и вообще никаких последствий, а значит Он никогда и не существовал.[62]
Сходным образом, Хоркхаймер и Адорно находят у Ницше двойственное отношение к господству, отражающее постижение диалектики просвещения, которая состоит в принудительной целенаправленности лжи правителей.[63] Отношение соподчинения на всех уровнях оказывается развивающимся отношением по своей форме, поэтому всякая попытка выхода из него лишь добавляет полемичности в обсуждение кризисного положения его содержания.
Вернувшись к проблеме изменения опыта, нисколько не решенной в психоанализе, мы обнаружили окончательное местоположение расходящейся лакуны вопрошания. Это – замедленность обсессивного пациента, использованная Лаканом как пример затаенного превосходства раба над господином посредством осознания их равенства через их смертность, означающую конечность отношений.
В философской литературе встречается немало примеров уподобления отношениям «господства – рабства» характера взаимодействия как в более реальных субъект-объектных связях, так и в более абстрактных парах понятий. Среди них можно отметить наиболее очевидные параллели к полюсам, задающим поле напряжения власти, которые представлены спектром коннотаций в нерасторжимом противодействии следующих «персонажей»: любящего и любимого;[64] искренности и самообмана;[65] стыда и бесстыдства;[66] рационального и иррационального.[67] Однако мы не будем рассматривать их здесь.
Мы были верны последовательному стремлению не оставлять свободных концов в интенциональной системе отсылов избранного и опустошенного предмета. Но начали мы с того, что превосходство феноменологического раба состоит в проблесках его «Мы», а закончили предположением, что раб сознает власть «Мы» над «мы» и готов воспользоваться ею, дискредитируя замысел предустановленной гармонии в социологическом проекте.
II. Пределы и самоопределение познающего «мы»
1. Трансформация воли в практической философии
Воля «своя» и «добрая»: Платон, Аристотель, Плотин. Акт волевого суждения: Декарт, Спиноза, Лейбниц. Имманентный раскол самовластия: Кант, Фихте, Шеллинг. Осмысление воли как «хотения» в древнегреческой философии: необходимые способности для проявления воли; распознавание сходных движений души. Картезианский переворот и сближение понятия воли с разумом. Волевой характер ошибки и вымысла. Альтернатива адекватности и свободы. Конкретизация намерения в отдельном волевом акте. Воля, объединяющая миры, и проблема телесности «Мы». Воля к обожествлению идеи высшего блага как связь разумных существ: совместный опыт воления. Апофеоз систематичности: поэтапное возведение частной воли в всеобщее. Крайности: не-право в переходном мире; любовь как разрыв непрерывного самосознания.
Исходное противоречие стремлений
Отношения господина и раба в гегелевской феноменологии возникают из взаимодополнительности преодоленного и непреодоленного вожделений. Мы принимаем его за исходное для рассмотрения воли на всем пути ее становления. Простое вожделение состоит в следующем: «Самосознание достоверно знает себя само только благодаря снятию того другого, которое проявляется для него как самостоятельная жизнь… На деле сущность вожделения есть нечто иное, нежели самосознание. Самосознание достигает удовлетворения только в другом самосознании».[68] Существуют и другие основания для того, чтобы начинать осмысление воли с самого вожделения. Так, отличать волю от произвола приходится по признаку их отношения к вожделениям – потакания или сопротивления; кроме того, само вожделение зачастую называют волей. Переходя в самосознании от познающего «мы» к «Мы» общения, следует работать с понятиями, учитывая косвенные представления различных уровней сознания.
Вожделение – противоположное воле начало, из которого она происходит. Общим родом для вожделения и воли является желание. Платон исследует только (((((((((желание, влечение); Аристотель выделяет (((((((((хотение, воля), отличая его от других видов стремления по признаку добровольности; Плотин вносит дальнейшее различение между «доброй» и «своей» волей. Для избрания меры опосредования при социальной инициации воли в условиях предрасположенности государственного устройства к систематизированному управлению отдельными волениями, полезно уяснить отличительные признаки этих понятий. Т((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. – «Вожделение вызывает то, чего недостает, а не то, в чем нет недостатка».[69]
Вожделение порождается памятью, поскольку оно есть стремление, постоянно противоположное состояниям тела, противодействующее некоторым телесным «пустотам». Его форма – лишенность определенного ранее содержания, ведь у самого тела не бывает вожделений,[70] и непосредственность влечения исключается. Также поставлено в связь с вожделением и отчасти смешивается с ним творческое воображение, которым влечения возбуждаются в нас.[71] Вдохновение наи(ти)вно, оно оставляет неопределенной внутреннюю границу причинно-следственной связи возбуждения. Образ может быть или не быть отрицательным – считаться или нет лишенностью как формой не самого тела, но только памяти. Образ может возникать из подобного отрицания или, наоборот, так никогда в него и не перейти. Возможности опосредования угадываются, но не устанавливаются со всей однозначностью. Лишь в гегелевской психологии способности души развиваются последовательно: воображение, память, влечение и произвол,[72] – и переходы становятся объяснимы.
Платон выделяет три возможных формы соотношения непосредственного и опосредованного в восприятии общей душой ее собственных вожделений. В олигархическом государстве, преодолевшем самого себя, ничтожные вожделения большинства подчиняются разумным желаниям меньшинства. Наоборот, тираническая душа, невластная над незаконными вожделениями, беспорядочна: она вечно либо господствует, либо находится в рабстве. Среднему, демократическому настроению души свойственно равновесие желаний: «Всякий раз он будет подчиняться тому из них, которое ему словно досталось по жребию, пока не удовлетворит его полностью, а уж затем – другому желанию, причем ни одного не отвергнет, но все будет питать поровну… считая, что все вожделения заслуживают равного уважения».[73]
Способы отношения к привходящим вожделениям развиваются друг из друга. Концепция смены поколений предполагает составленность времени из эпох без применения чистой диалектики единого и многого. Для Платона государство является личностью, а вожделения воплощаются во многих людях в неравных пропорциях. Но чтобы говорить о многомерности социального воления или о многозначности такого понятия, как момент исторического времени, прежде нужны основания для принятия тезиса о социальной непосредственности.
Платон различает только виды: лучшие и худшие вожделения; Аристотель же отличает от вожделения новый род – волю, или хотение. И построение социума как такового (одной направленности вовне, к общению) описывается уже иначе: «Человек – это сила, порождающая действия. При изменении действий меняются и их первоначала. Первоначало действия, как хорошего, так и плохого, – намерение, воля. Мы свои действия изменяем добровольно, так что и первоначало, то есть намерение и воля, меняются добровольно… Этика входит в политику как ее часть и первоначало».[74]
Из тавтологии добровольности воли не следует непосредственность ни воли, ни даже действий по такой воле. Полная успешность есть само действие как самодеятельность, ведь добродетель не опредмечивается в принципе и не бывает личной принадлежностью, раз и навсегда присвоенной. С другой стороны, человек, стремящийся стать самым добродетельным, не станет им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет. Природа должна способствовать достаточному стремлению: стремление естественно (объективно), но не непосредственно (субъективно).
Для конкретизации вопроса о добровольности, охотности ((((((((() поступка Аристотель создает классификацию стремлений (((((((). Вожделение и порыв никогда не добровольны, хотение же бывает добровольным, и от него следует отличать свободный выбор ((((((((((() – добровольное решение, своеволие: «Добровольным в собственном смысле слова бывает то, что мы делаем без внешнего принуждения. То, в силу чего мы совершаем поступок, есть стремление, оно бывает трех видов: страстное желание (((((((((), порыв ((((((), хотение ((((((((()… Выбор – это стремление, соединенное с обдумыванием и решением. Добровольное не тождественно выбору. Наоборот, выбор всегда доброволен… Выбор направлен не на саму цель, а на то, что ведет к цели. Хотение и выбор не совпадают».[75]
Подавление – и всякое овнешнение – воли разрушает самое основание добродетели, поэтому необходимо очистить добровольность от порывистости. Порыв спонтанен, но не доброволен и не является субъективно непосредственным, разве только объективно. Добровольное совпадает с умышленным, а спонтанностью характеризуется мышление до уточнения его формы. Намерение есть направление действия, и воление нацелено на предмет. Непосредственность предстает как отсутствующий или неопределенный в своей субъективности центр сознания по мере его опосредствования при оформлении объекта хотения. Схема отношений господина и раба неприменима при переходе от вожделения к воле, но Аристотель сомневается в добровольности хотения, считая его сходным с вожделением. И, наоборот, по Гегелю вожделение есть способность самосознания; а господство и рабство – неравноправие его достоверности и недостоверности.
Аристотель проводит границу господства-рабства между самосознанием и не-самосознанием, причем и здесь добровольность связана с рассудительностью: «Раб – тот, кто может принадлежать другому и причастен рассудку в такой мере, что способен понимать приказания, но сам рассудком не обладает… Одни люди по природе рабы, другие нигде таковыми не бывают… Дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому: раб является некой частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной, частью его тела… Раб должен обладать и добродетелью в слабой степени, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам… Господин должен давать рабу импульс необходимой для него добродетели, но в обязанность господина вовсе не входит обучать раба этой добродетели».[76]
Господин тем и отличается от раба, что воля к добродетели есть основная характеристика самодовления. Сама добродетель непосредственна в силу проявления вместе с мышлением. Плотин вносит дальнейшее различение между доброй волей и своей волей, наметившееся у Аристотеля в связи с понятием выбора. Под своеволием он тоже понимает способность к выбору, не устанавливая родовидовых отношений с добровольностью, тогда как по Аристотелю сфера добровольного шире области свободного выбора. Аристотель на примере оправдания судом женщины, нечаянно отравившей человека любовным напитком, заключил, что добровольность связана с умыслом.[77]
Плотин усугубляет эту связь: «Мы называем добровольным то, что делаем без принуждения и с полным сознанием совершаемого, а лежащим в нашей воле все, что мы властны сделать или не сделать. Эти два момента сопутствуют друг другу, но они по существу своему различны и фактически иногда бывают в разладе между собой, как, например, если кто-либо имеет власть и волю убить человека и убивает этого человека, не зная, что это его отец, – тут свобода действия стоит в разладе с добровольностью и желаемостью… Чтобы действие было добровольным, требуется сознание его во всей полноте, а не только в некоторых частях. Свобода принадлежит воле, насколько воля совпадает с разумом, обладающим правильным знанием… Добродетель, проявляясь фактически, вынуждается на это обстоятельствами. Свобода принадлежит только желанию воли и решению духа, предваряющим эти действия».[78]
Добровольность – верный критерий полного осознания ситуации, но не позволяет судить о некоторой степени осознанности ситуации. Плотин исследует конечную волю ради постижения безграничной свободы Первосущего. Добродетель нисколько не пассивна, но спокойна: она начинается с полного покоя. Правонарушение не признано приемлемым средством для установления меры права. Выбор имеет форму согласия на нечто положительное с целью отклонить примирение с чем-то отрицательным. В обоюдном подавлении воли заключена динамическая уравновешенность смирения подданных и умеренности властей.
Само-до-вольство разумной деятельности
Декарт наделяет волю смыслом положительного мышления: «Все виды мыслительной деятельности могут быть отнесены к двум основным: восприятие разумом и определение волей… Наряду с рассудком для суждения требуется и воля… Воля обширнее разума – отсюда и проистекают все заблуждения… Свобода воли постигается без доказательств, одним внутренним опытом… Желание постичь истину побуждает людей ускорить свои суждения и считать истинными вещи, о которых они недостаточно осведомлены».[79]
По Декарту воля непосредственна и только непосредственна. Само мышление обязано спонтанностью своих актов именно воле, – ведь разум способен только к восприятию, которое ограничивается и определяется волей. Допускается относительное подавление или продление воли ради истины, но тогда непосредственность воления проявляется в поспешности и заблуждении. Любое суждение может оказаться ошибочным, если настаивать на полной свободе воли. Теории Декарта присуща антиномичность: воля либо истинна, либо непосредственна, – или воля никак не может быть «шире» разума.
Единство непосредственности и опосредования, без которого не обходится ни одно понятие, проявляется в интерпретации отношений господина и раба. Господин – волевая причина заблуждений раба: «Ошибки подчиненных часто следует приписывать господам, но никак не Богу. Ибо если кто-либо из людей, имея возможность воспрепятствовать злу, все же этого не сделал, мы его осуждаем как виновника зла; но не так в отношении Бога, потому что власть людей друг над другом установлена для того, чтобы они могли воспрепятствовать нижестоящим поступать дурно, всемогущество же Бога над мирозданием в высшей степени абсолютно и свободно».[80]
Разум и воля – истина и непосредственность – совпадают в Боге, давая ему философское определение. Противопоставление истины и непосредственности кажется странным, ведь для Аристотеля истинное познание сути вещи непосредственно, а добровольное и есть разумное. Но мы ориентируемся, опережая прозрения Декарта, на дефиницию истины, данную Кантом и развитую Гегелем, требующую согласия познания со своим предметом, или некоторого опосредствования.[81] Идеальное господство состоит в согласовании воли с разумом, осуществляемом не пассивно (не судить о непознанном), но активно (познавать подлежащее суждению). Реальная запроданность в рабство заключается в попытках удовлетвориться одной волей и постепенном сужении разума, ведущем в свою очередь к ослаблению воли, оставляя ее пустой формой без содержания, потерявшей всякую реальность и павшей до реальности.
Не так важна сила разума и воли, как их равная мера. Сама воля воспринимается, лишь когда она шире разума – в представлении, где нужно делать усилие, излишнее в мышлении.[82] Но представление есть известное применение познавательной способности к телу; воля же воздействует на душу, образуя вымыслы: «Когда душа старается вообразить нечто совершенно несуществующее или только умопостигаемое, но невообразимое, – то восприятия этого рода зависят главным образом от воли, способствующей их проявлению. Поэтому их скорее считают действиями, чем страстями».[83]
Воля, приложенная к душе, воспринимается сама собой, или непосредственно. Определение точного местоположения границы между душой и телом создает трудность в описании индивидуума и совсем неприменимо к объяснению общества. Граница является продуктом волевого измышления и ошибочна. Желание бывает двух родов: проявление деятельности души, заканчивающиеся в ней самой или в теле. Это деление воли, не задействованной в суждении: любить Бога или пойти прогуляться.[84] То, что Аристотель и Плотин считали добровольным, то есть согласным с суждением, Декарт и Спиноза называют свободой воли. Но отличается ли проблема непосредственности волевого акта при социальной инициации от вопроса о свободе воли? Ответ на него противоположен у Декарта и Спинозы; они и ставят его по-разному, хотя оба говорят о полноте согласия на поступок, а не об удовлетворении права собственности на весь замысел поступка. Что касается непосредственности волевого акта, – даже если таковые действия существуют, но неизвестны индивиду и не практиковались им до подключения социальной интуиции, – пусть это останется вопросом о свободе воли, лишь бы размышления были адекватны практической деятельности.
Спиноза окончательно растождествляет волю с желанием, относит ее к разуму и, следовательно, отрицает свободу воли: «В душе нет никакой абсолютной воли; но к тому или другому хотению душа определяется причиной, которая определена другой причиной, и так до бесконечности… Подобные способности или вымышлены, или составляют универсальные сущности, образуемые из единичных явлений, так что воля относятся к волевому явлению так же, как каменность к камню… Под волей я разумею способность, по которой душа утверждает или отрицает, что истинно и что ложно, а не желание, по которому душа домогается какой-либо вещи или отвращается от нее… Воля и разум – одно и то же… Отдельное волевое явление (volitio) и идея – одно и то же».[85]
Впервые встречается обособленное понятие волевого акта, коррелирующее с идеей в мышлении. Идеи связываются в суждения и умозаключения, так же связываются друг с другом и акты воли. Воление не есть промежуточное усилие, связывающее идеи между собой. Нет никаких внешних связей для идей, но сами идеи являются волевыми сущностями, такова их имманентная природа. Ошибки происходят при подавлении стремлений самих идей и навязывании им чуждой воли: именно поэтому впоследствии в гегелевской диалектической логике требуется следовать имманентному ритму понятий и воздерживаться от вмешательства в него с внешними рефлексиями.
Спиноза отвечает на все возражения Декарта.[86] Он вовсе не сужает область воли, но расширяет область разума, включая в нее не только ясные и отчетливые идеи, но и восприятия, или способность составлять понятия. Воздержание от суждения, равно как и ошибка при не-воздержании, есть на самом деле восприятие, а не свободная воля. Вопрос о свободной воле абсурден, ведь идеи различаются между собой, а воля есть нечто универсальное, прилагаемое ко всем идеям для их утверждения. Такую волю можно назвать как свободной, так и не-свободной, предвосхищая построения Канта, где воля тем самым и отличается от свободного произвола. Аристотель считал произвол зависимостью, а волю – подвластной лишь суждению о ее применении. Спиноза не меняет местами волю и произвол, но вся совокупность перестановок в определениях приводит к видимости их инверсии.
Этика Спинозы требует от каждого быть довольным своим и учит руководить гражданами так, чтобы они не несли иго рабства, а свободно делали наилучшее. Намеренная неразличенность воли и разума способствует снятию господски-рабских отношений, ведь рознятся только идеи, воля же всегда одинакова. Люди остаются до-вольными, не проявляя никакой воли помимо утверждения сути своего бытия. Отрицается не деяние, но ошибочное суждение о нем и деятельность сверх меры. Наметившуюся позицию определеннее занимает Лейбниц. Адекватное познание придерживается идеи одного предмета. Тождество отдельного воления и идеи представляет собой модификацию герменевтического круга: следовать божественной воле значит адекватно познавать предметы, сама же адекватная идея есть выражение воли Бога посредством данного предмета.
Понятие божественной воли не подвергается дифференциации, поэтому Лейбниц вынужден использовать вспомогательные понятия всеобщего и частного: «Наиболее ясное познание определяет волю, но не принуждает ее в собственном смысле слова. Только божественная воля всегда руководствуется суждением разума, все же мыслящие создания находятся во власти страстей… Бог не желает ни одного события, которое не согласно с истиной или всеобщей волей. Бог не имел первоначально частных определений воли… Отдельные события являются следствиями общих определений воли… Зло происходит по совпадению, вне предшествующей воли, но по последующей воле, содержась в свернутом виде в наилучшем из возможных замыслов; и метафизическое благо служит причиной того, что иногда надо дать место физическому и моральному злу».[87]
В раскрытии понятия воли задействовано временное измерение. Двусмысленно представление о воле во времени и безвременье: вечна предшествующая и определяющая воля Бога к спасению людей, но по последующей воле они также и гибнут. Временной сдвиг в сфере конечных волений позволяет ввести термин воля-к-воле. Область отношений господства-рабства сдвигается при обращении внимания на их временность. К условиям свободы по Аристотелю, самопроизвольности и пониманию, добавляется отмеченное схоластиками как безразличие – в смысле случайности, а не равновесия.
«Мы не бываем непосредственно хозяевами воли, хотя являемся причиной ее, потому что не избираем желаний, как избираем действия. Но мы обладаем некоторой властью над волей, ибо можем косвенно способствовать тому, чтобы желать в другое время того, чего хотели бы желать теперь… Мы всегда обладаем достаточной властью над нашей волей, но не всегда задумываемся над ее применением. Власть души над склонностями есть сила, которая может быть применена только косвенно. Мы господствуем над собой, но не так, как господствует в мире Бог, а как государь в своем царстве… Недостаточно быть хозяином самого себя, надо быть хозяином всех вещей, чтобы мы могли доставлять себе все желаемое, потому что в самих себе мы не находим всего».[88]
Платоновская метафора претерпевает превращение, отвечающее смене космогонических представлений антропоцентризмом: не государство как личность, а личность как государство. Допущение свободы в аспекте незатронутости случаем близко к пониманию зла в качестве привходящего, происшедшего по совпадению. Монахи, практикующие отсечение своей воли, свидетельствуют об обратном действии этой связи: когда нет в душе зла, случайности не имеют власти. Лейбниц проводит плоскость рассмотрения, где добро и зло суть представления, а случайность возникает из скрытых мотивов: «Воля всегда следует за наиболее сильным представлением о добре или зле, ясным или смутным, вытекающим из оснований, страстей или склонностей, хотя могут также существовать мотивы, задерживающие суждение. Но воля всегда действует согласно с мотивами».[89]
Декарт признавал самой отчетливой, преобладающей над осознанием собственного Я, идею Бога. Совокупность социально-реализованных устремлений вполне выражает степень осмысления соборности в существе Бога. Собственно волей невозможно считать не только желание, но и суждение; в связи с волением проблематична как телесность, так и рассудительность. Даже практическая деятельность возводится к сфере чистого разума.
Воля не желающая, не судящая, но верящая
Русские мыслители осуждали Канта за допущение моральной теологии помимо теологической морали, вследствие чего религия должна была основываться на нравственности, а никак не обратно. В самом деле, «откуда у нас понятие о Боге как о высшем благе? Только из идеи нравственного совершенства, которую разум составляет a priori и неразрывно связывает с понятием свободной воли».[90]
Отсюда происходит ханжеский аскетизм самозаконности воления, действующего в повелительном наклонении (в форме императива) и преобладающего над материальными основаниями воли. Отрешившись от чувственных стимулов, требуется сохранить представление о множестве, включающее в себя и идею другого «Я», будто бы за счет чистой формы единства, тогда как Аристотель считал материю возможностью нумерического деления. Проблема телесности «Мы» обнаруживается в отличии православной идеи соборности при воскресении в духовных телах от понятия святости, достижимой в интеллектуальном созерцании существования разумных существ,[91] ибо она совершает мышление-о-мышлениях, полностью адекватное воле Бога. Задержимся на переходе от верящей воли, уповающей на внутреннюю достоверность всеобщего закона, к святой воле. «Моральный закон побуждает нашу волю дать форму чувственно воспринимаемому миру как совокупности разумных существ».[92]
Воля обусловлена императивом, и в то же время принцип автономии есть свойство самой воли. Это синтетическое положение доказывается не расчленением на понятия-объекты (волю и закон) но критикой понятия-субъекта (чистого практического разума), ведь благодаря автономии – как воли, так и закона – он есть собственный объект. Характер объекта задает предел воли и потенциал ее гетерономии. Воля может быть распределена между субъектом и объектом, становясь несовершенным взаимоотношением двух личностей, каждая из которых представляет собой субъект-объект. Отношение воли и свободы как вида причинности и ее свойства представляет собой негативное определение свободы, поскольку в нем не развито содержание понятия причинности, а именно, законность.
Разделение воли и свободы между двумя прочно соединенными личностями бывает негативным или позитивным. В пределах одного субъекта проводится разделение понятий воли и произвола. Трансцендентальность воли и трансцендентность произвола противоречию свободы и необходимости состоит в следующем: «Из воли исходят законы; из произвола – максимы; произвол в человеке есть свободный произвол; волю нельзя назвать ни свободной, ни несвободной, потому что она имеет в виду не поступки, а непосредственно законодательство для максимы поступков, или сам практический разум».[93]
Субъективность воли и вещность произвола означают в их отношении друг к другу, что воля определяет произвол. Даже отдельный практический разум существует лишь как всеобщее нравственное сознание. Автономия воли возможна только как воля «мы», а единство субъекта в форме практического разума как такового составляет синтетичность положения о единстве воли и закона: «Выбирать только так, чтобы максимы, определяющие наш выбор, в то же время содержались в нашем волении как всеобщий закон… Категорическое долженствование представляет априорное синтетическое положение, потому что к воле, на которую воздействуют чувственные влечения, присовокупляется идея той же, но принадлежащей к умопостигаемому миру чистой, самой по себе практической воли, которая содержит высшее условие первой воли согласно с разумом… Разумное существо всегда должно рассматривать себя как законодательствующее в возможном благодаря свободе воли царстве целей, чем бы оно ни было – членом или главой. Место главы оно может удержать за собой, только если… оно не подчинено воле другого».[94]
Проследим два построения «мы». Во-первых, это внутреннее «мы» присутствия «я» в двух мирах, когда воля объединяет оба мира и сама является волей некоторого «мы». Во-вторых, принцип автономии ведет к понятию царства целей с систематической связью между различными разумными существами через общие им законы. При этом отношение господства и рабства, проявившееся в соподчинении автономии и гетерономии внутри самого воления как преобладание воли над произволом, касается внешнего аспекта. Кант намекает на замысел «нашей» воли, но сразу же признает его неосуществимость в чистом виде, как приводящей к цели достижения вечного мира: «Недостаточно желания всех отдельных людей жить в правовом устройстве по принципам свободы (дистрибутивное единство воли всех); необходимо, чтобы все вместе захотели такого состояния (коллективное единство объединенной воли)… Но при осуществлении этой идеи на практике нельзя рассчитывать на иное начало правового состояния, кроме принуждающей власти».[95]
Уточнение ее функции дается у Фихте: «В настоящее время достаточно опровергнуто то мнение, что государство является неограниченным опекуном человечества по всем делам последнего. Но в другом отношении слишком сузили права и обязанности государства… будто оно должно только наблюдать за состоянием владения, в котором оно застает своих граждан, а об основаниях владения не должно их спрашивать. Назначение государства состоит, прежде всего, в том, чтобы дать каждому свое, ввести его во владение его собственностью, а потом уже начинать ее охранять».[96]
Воздействие воли на мир в целом, конкретизирующееся в обустройстве правового государства, понимается уже несколько иначе. По Фихте сосуществование конечных существ – тайна для разума, определяемая верой; и в ней состоит продуктивность воления. Соответственно нашей бесконечности и конечности выделяются стороны активности и фактичности воли: «Вера – решение воли придавать значение знанию… Различные наши свойства должны создаваться волей, а не разумом. Если воля бесповоротно направлена на добро, разум сам встанет на сторону истины… Воля может быть рассматриваема частью как хотение, внутренний акт, направленный на себя самого, поскольку воля завершена одним этим актом, частью как нечто, как факт».[97]
Вера производится подобно суждению: выбор и обозначение знания. Вера – не ошибка в суждении, а иное выражение непосредственности воления, направленного на познание конечного после сообщения с бесконечным. Воление добра априорно, понимание истины апостериорно, – таков личный опыт воления. Воля есть связь миров, она переходит лишь от себя к себе, от чистой воли к воле конечной и обратно. В переходе обнаруживается взаимодействие конечных существ, совместный опыт воления.
«В вечном мире чистая воля является первым звеном в цепи следствий, бегущей через весь ряд духов, – как в земном мире действие образует первое звено материальной цепи, охватывающей всю систему материи. Моя воля охватывает оба мира… Воля связывает меня с самим собой и со всеми конечными существами, являясь общей посредницей между нами… Мы знаем друг о друге только благодаря общему духовному источнику; только в нем мы воздействуем друг на друга… Настоящий мир существует для нас лишь через веление долга, иной мир возникнет для нас через другое веление долга… Вечная воля – творец мира в конечном разуме. Коль скоро веление долга выступает из личности в мир, не о чем больше заботиться, ибо оно переходит в руки вечной воли. Я могу желать воздействовать только на убеждение и волю других, поскольку это дозволяет порядок общества и их собственное согласие, но отнюдь не на их силы и отношения».[98]
Конечные существа встречаются не в конечном, а в бесконечном мире. Фихте расходится с Кантом в представлении о многих мирах – не противоречии, а разворачивании воли. Воля Бога не есть последняя воля; она состоит в том, чтобы переходить из мира в мир. Как поддержание решения уничтожать личную реальную свободу, воля есть средство воспроизводить отождествление сущности и существования Бога в себе самом. В подобной самоотдаче непознанному должна находиться самоинициация как техника вызывания воли, ибо мир есть конечная сфера видимости воли, и будет снят: «Благодаря нравственной воле, которая создает миры из них и для них и для их вечной цели, они переживают гибель всех миров. Явление конечной цели происходит в индивидуальной форме, для него пригодна только воля; миры суть только сферы видимости индивидуальных воль. Те, кто не вызвал в себе воли, не будут существовать. Они суть явления первого мира и исчезнут вместе с ним».[99]
Воля как связь мышления с реальностью – альтернатива опосредованию их воображением, содержащая его в себе, будучи силой воображения. Намеченную тему образности воления разработал Шеллинг. В поисках выхода из порочного круга, еще не признанного герменевтическим, он согласовал требование сделать воление объектом для разума до самого воления с допущением другого разума и косвенного воздействия различных интеллигенций друг на друга по предустановленной гармонии отрицательного рода. Общее созерцание служит основой для «мы», но создание «я» на подобном субстрате предполагает, что в каждый индивидуум полагается нечто отрицаемое всеми другими. Этим ограничением, поскольку оно носит определенный характер, полностью устраняется общность между интеллигенциями. Всякое «я» вынуждено находить в основании самосознания понятие «мы», лишь сознавая его снятие.
Расширение ответственности носит характер перевода самоопределения с позиции «я» в сферу «мы». Решается вопрос, не затронутый Фихте, об успехе реализации воления во внешнем мире; а также вопрос, оставленный Кантом, как “я” может быть само причиной материи своего представления. Возникает концепция неявного господства-рабства, противостоящего явному: «Успех моей деятельности зависит не от меня, а от воли всех остальных. Единственно объективное в волении есть бессознательное. Объективное во всех действиях составляет некую общность, направляющую действия людей к единой гармоничной цели таким образом, что сколь бы безмерен ни был их произвол, они против своей воли действуют под давлением скрытой необходимости».[100]
Объективизация воления в бессознательном требуется понятийным сдвигом в самоопределении разума, или в определении внутреннего противоречия воли и произвола. Для Фихте видимостью воли был внешний мир; по Шеллингу явлением воли оказывается произвол, а мир остается бессознательным. Переопределению подлежат все термины, связанные с волей: «Оба действия – то, которое диктует объективировавшаяся чистая воля, и то, которого требует естественное влечение, – должны присутствовать в сознании как в одинаковой степени возможные. Эта противоположность превращает абсолютную волю в произвол. Произвол есть явление абсолютной воли – объективизировавшийся абсолютный акт свободы, с которого начинается всякое сознание. Воля может быть названа свободной, лишь поскольку она эмпирична. Воля, поскольку она абсолютна, возвышается даже над свободой. Свобода приписывается тому Я, которое парит между субъективным и объективным в волении».[101]
Волевой акт вписывается в определенный образ и выписывает его дубликат для другого сознания, тогда как состояние свободы позволяет ничего не переделывать, но все принимать. Парение есть способ движения в «Мы» в отличие от продирания через «мы». Бессознательность мира и эмпиричность свободы совместимы в высшем волении.
Тождество освобождения и подчинения
Личностное развитие зависит от социальной стимуляции. Но мирская иерархия есть весьма посредственная координация уровня мышления и уровня жизни. Непрямая зависимость между достигнутой стадией осознания и степенью его воплощения остается вопросом только воли. Выявленные грани неадекватности в применении понятия воли к конечным субъект-объектным отношениям допустимо называть подавлением воли, поскольку сила воли непосредственно связана с характером ее самоопределения.
Испытывающая долготерпение субъекта объективная воля всегда есть воля, взятая вне бесконечной формы самосознания, погруженная в свой объект или состояние, каковы они суть по своему содержанию.[102] Каждая ступень имеет право довления над предыдущими, и отношения господина и раба смещаются относительно собственного опосредования. Однако поэтапно-фиксированное саморазвитие абсолютного Духа происходит без инициации проявления высших определений воли в той среде, где далеко не все были бы способны их вынести или хотя бы заметить. Гегель приступает к вопросу о взаимозависимости воли и разума, а также их свободы, с той позиции, где различия между понятиями вовсе не актуальны.
«Свобода действительна лишь как воля, как субъект… Различие между мышлением и разумом – различие между теоретическим и практическим отношением; они не представляют собой двух способностей – воля есть особый способ мышления: мышление как перемещающее себя в наличное бытие… Невозможно обладать волей без интеллекта… Поскольку мышление и воление еще отличны друг от друга, мыслящий разум в качестве воли и состоит именно в том, что решается стать конечным… Свобода состоит в том, чтобы хотеть определенное, но в этой определенности быть у себя и вновь возвращаться во всеобщее… Произвол, если он выступает в качестве свободы, можно назвать просто иллюзией».[103]
Что касается определенного отношения воли и разума в ограниченном человеческом сознании, Гегель настаивает на несправедливости как заключения Декарта о преобладании воли над разумом, так и вывода Спинозы об их тождестве в качестве отдельных актов воления и идей, равно как и решения Канта о свободе произвола. Проследим развитие элементарного волевого отношения. Гегель высказывается вполне конкретно о принципиальном характере отношений господина и раба для построения системы волеопределения в процессе очищения влечений. Именно раболепствование есть объективная воля, погруженная в свой объект и в содержание своего состояния.
Может показаться, что господство предполагает большую развитость при меньшем стремлении к развитию, то есть именно раб соблюдает принципы иерархии, тогда как господин поступает бездумно, как это отмечают в отношениях доминирования среди животных.[104] Но положение правовых субъекта и объекта в общей картине оказывается относительным, поэтому подчеркивается необходимость понимания частного смысла субъективного и объективного в волении – господского и рабского – из контекста.
Не удивительно, что в гегелевском контексте «воля есть свободная воля только как мыслящий интеллект. Раб не мыслит себя. Это самосознание, постигающее себя посредством мышления как сущность и освобождающееся от случайного, составляет принцип права… Рабство относится к стадии перехода – к миру, в котором неправо еще есть право. Это неправовое деяние не только тех, кто обращает людей в рабство, но и самих рабов… Рабство есть пример отчуждения личности… Раб имеет абсолютное право освободиться».[105]
Но он сможет реализовать его, только отказавшись от положения господина, сохраняющего в себе сознание необходимости рабства. Гегель приводит две простейшие формы отношения воли к воле, где общая воля есть подлинное основание, на котором свобода обладает наличным бытием. Во-первых, это общее воление как внешнее обеим волям, но не имеющее самостоятельного существования, – сфера договора. Во-вторых, это общее воление как самостоятельное по отношению к обеим волям, хотя и происходящее из их собственной сущности – сфера любви.
В данном отношении также предварительно подчеркивается противоречивое отношение «я» к собственному телу: «Тело, поскольку оно есть непосредственное наличное бытие, не соответствует духу и должно быть взято духом во владение. Но для других я свободен в своем теле, каким я его непосредственно имею… Я могу уйти из своего существования в себя и сделать его внешним. Но это – моя воля, для другого я свободен лишь как свободный в наличном бытии».[106]
Сужая опосредование телом (присвоением собственного тела начинается процесс присвоения вообще) до незаметного, – а это сужение представляет собой процесс объединения волевых способностей, – устанавливают и переходят границу между личностями, где своя воля в качестве отчужденной есть вместе с тем другая воля. Любовь как «пунктирность» самосознания в непосредственной субстанциальности духа, будучи одновременно созданием и разрешением противоречия, не является проявлением сущности «Мы», но конструктивным определением «мы». Безусловно, гегелевская общая воля далека от приобретения характера «нашей» воли.
2. Смещение сферы воли от сути души к сущему человеку
Пересмотр системы волеопределения: альтернативные формы подавления и покорности; преодоление предопределенности смысла воли. Ницшеанство и марксизм; отражение новых веяний в русской мысли. Рикёр и Сартр: переобъяснение перелома. Дюркгейм и Тард: материализм в онтологии и психологизм в логике. Принуждение или подражание. Бог как социальная материя. Варианты феноменологий: Гуссерль, Шелер, Шарден. Потребность восстановить единство разума и воли. Экзистенционализм: сдавленность воли и призрачность господства. Повседневная онтология: техницизм и квантованность власти. Господство воли к воле над господином и рабом.
Сомнение в разумности воли и ее самомнение
Какое бы применение ни отводилось воле, после установления Аристотелем ее существенной связи с разумом, это отношение не прерывалось ни в одном из последующих определений воли в практической философии. Независимость воли от разума для самоопределения появляется в проекте лишь после разрыва в однозначности понимания самого разума. Самосознание объявляется иллюзией, а бессознательное – некоторой более основательной реальностью, и понятие воли оказывается лишенным прежней области применения, требуя переосмысления в ином способе существования, обнаруженном новым переходным человеческим существом.
Трансформация устремленности, в свою очередь, увлекаемой в различных неизвестных направлениях, породила критику системы Гегеля со всевозможных позиций: богословской (Кьеркегор), материалистической (Фейербах), психологической (Фрейд), эволюционной (Дарвин), социологической (Маркс) и собственно волюнтаристической (Шопенгауэр и Ницше). Мы лишь бегло обозначим некоторые из указанных путей и подробнее остановимся на последнем.
Богословие Кьеркегора асоциально – он исключает переход к единству с Богом от «мы» познания через «Мы» общения: «Парадокс веры таков: единичный индивид определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту, а не наоборот… Само этическое является искушением, которое может удержать от исполнения воли Божьей».[107] Кьеркегор отрицает промежуточные ступени в иерархии отношений между сознанием и сверхсознанием. Однако для Фрейда отношения господина и раба безусловно присутствуют в абстрактных отношениях сознательного и бессознательного и воспроизводятся в конкретном общении психоаналитика и пациента. Нерасторжимость людей изначальна: общество на сознательном уровне и масса – на бессознательном. «В психической жизни человека всегда присутствует другой. Психология личности с самого начала является также и социальной психологией».[108]
Естественный отбор в его классической форме, идущей от Дарвина, не означает преимущества стремления к господству, если не считать социальную среду совершенно нестабильной: «Излишняя агрессивность не приносит пользы животному, также и когда индивидуум занимает крайне подчиненное положение. В стабильных условиях промежуточные варианты в популяции более приспособленные».[109] Некоторые коррективы вносит в данную модель выявленная психологами двойственность объекта-цели. «В ситуации установления субординационной иерархии пища для обезьян становится не только источником утоления голода; обладание ею символизирует доминантное положение. Если обезьяна, занимающая подчиненное положение, попытается завладеть пищей, она подвергнется нападению со стороны доминантной особи. Если ей удастся убедить начальника, что банан ей нужен не для самоутверждения, а просто для утоления голода, тот позволит ей съесть его».[110]
Можно привести даже физиологическую модель амбивалентности. «Вместе с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности. Это отдача себя на волю сильнейшего, имеющая жизненное оправдание… Дело идет о двойных социальных актах: быть господином или рабом. Эти противоположности не так легко различаются… Больные нечто желают и имеют представления об этом желаемом (я господин, а не раб); и этого достаточно, чтобы возникло представление о противоположном (я раб)… Если возбуждающая частота действует на ослабленный организм, то она по закону предела приводит его в заторможенное состояние, а это тормозное состояние по закону взаимной индукции обусловливает возбужденное состояние вместо тормозного в другой половине ассоциированной пары, и поэтому связанный с ней раздражитель вызывает теперь не торможение, а раздражение. Это механизм негативизма».[111]
Тем не менее задача, поставленная волей и разумом друг перед другом, отчетливее всего была сформулирована именно с волюнтаристической точки зрения. Шопенгауэр критикует Гегеля за смешение реального и идеального, называя тождество воли и тела наиболее непосредственной философской истиной, не требующей доказательств, а под идеей понимает устойчивую ступень объективации воли, поскольку воля есть вещь в себе. Воля сопровождается познанием, чем и обусловливается ее определяемость мотивами, но это относится не к ее сущности, а лишь к ее ясному проявлению. Святость для Шопенгауэра есть деятельность самоотрицания воли к жизни, достигшей полного самосознания и изменения способа познания, когда идеи познаются как одна и та же воля во всем, и возникает общее успокоение воли.[112] Переводя мантру «Tat tvam asi» как «Это – ты!» вместо «ты есть То», он выводит как право на принуждение, так и тождество мучителя и мученика. Ссылаясь на внутреннее чувство всемогущества воли в себе, составляющее внутреннюю сущность человека, он признает одновременно, что может быть уничтожена индивидуальная изоляция воли, а при известных обстоятельствах воля может уничтожить границы индивидуации.[113] Если не воспринимать эти два утверждения как повторение одной мысли, то остается заподозрить, что воля не столь непосредственна, как представляется, – что и делает Ницше.
«Шопенгауэр высказал мнение, что собственно нам известна одна только воля… Хотеть – кажется мне, прежде всего, чем-то сложным… Но что есть самого удивительного в воле: поскольку мы представляем собой одновременно повелевающих и повинующихся и имеем обыкновение не замечать эту двойственность и обманывать себя с помощью синтетического понятия “я”… хотящий верит, что хотения достаточно для действия, как будто существует необходимость действия».[114] «Чувство истины должно оправдать себя в качестве средства для поддержания человека, как воля к власти. Также и любовь к прекрасному есть воля, творящая образы, пластическая воля. Оба чувства тесно связаны; чувство действительности есть средство получить власть преобразовывать вещи. Мы можем постичь лишь мир, который мы создали… Воля к установлению одной морали является на поверку тиранией того вида, для которого она скроена, над другими видами».[115]
Продолжая критику философии, Ницше называет принцип системы Гегеля диалектическим фатализмом, приводящим философа к полному подчинению действительности, и подытоживает назревший протест против сублимации воли. В процессе видо-изменения ино-человек вынужден оперировать идеей ино-бога. Сверх-божественное по преимуществу сверх-действенно, недоступно по праву сверх-бытия, или мертво. Дерзновение мыслить Бога, превосходящего самого Себя, рефлексивно; тем самым оно способно породить замысел плотского бессмертия и безрождения. Первое допускает возведение к ницшеанству, не будучи локализованным в данном течении мысли, второе – к далеко зашедшему марксизму.
Увлечение русских образованных слоев переносится с гегельянства сначала на ницшеанство. Отбрасывая порочность присвоения исключительного сверхчеловеческого значения, отмечают естественность тяготения к идеалу сверхчеловека, а самодеятельность признают фактом душевного опыта. Переосмысливая это побуждение, к нему предъявляют эсхатологическое требование: «Чем отличается человечество, над которым люди, желающие стать сверхчеловеками, думают возвыситься, как не тем, что оно смертно?… Сверхчеловек должен быть победителем смерти – освобожденным освободителем человечества от существенных условий, которые делают смерть необходимою, и исполнителем тех условий, при которых возможно вовсе не умирать или, умерев, воскреснуть для вечной жизни».[116]
Проверив на собственном опыте мышления первоначала ницшеанства, русское философствование, религиозное по преимуществу, не оставляет от них и следа, принимая лишь богочеловечество. Разве только допустимо считать плотское бессмертие человека бесспорной смертью для Бога и даже откровенным прозрением в Его посмертие. Проходит интерес к ницшеанству с тем, чтобы проявиться в приверженности к его антиподу – видоизменению общества не в социум сверх-человеков, а именно в сверх-общество. Этот путь избежания априорной систематичности составляют материалистические воззрения социалистов и марксистов. Основной тезис о волевом противоречии в чистом виде переворачивается: мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями.
Для разрешения накопившихся сомнений Маркс предпринял критический разбор гегелевской философии права и пришел к противоположному выводу: правовые отношения не могут быть поняты из самих себя, наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях.[117] Марксисты призывали угнетенные классы подняться как один человек, что вероятнее всего было в России, согласно провокационному пророчеству классиков марксизма:[118] «Социализм глубоко укоренен в русской природе… Социализм у русских носил религиозный характер и тогда, когда был атеистическим. Социализм коммунистический можно определить как волюнтаристический, экзальтирующий революционную волю. Лишь когда образовалась партия Народной Воли, социалистическое движение переходит к террористической борьбе».[119]
Относительно материализации сознания как такового, связываемой по сути с реализацией проекта безрождения, существовало два варианта: либо сносить церкви – по подозрению данной материи в не-первичности; либо перевоспитывать их путем устроения в них складов бездушных товаров и даже концлагерей для заблудших в духовную область материй. Заблуждение относительно народной воли состоит в отделении ее от «нашей» воли, образованной в единстве с неповторимостью «Ты», и стремлении уравновесить «их» воления, где «моя» воля выступает столько же, сколько «его» воля.
Отстаивая функциональность человеческого неравенства, приходится использовать термины форма и содержание в обычном, а не философском смысле, что показательно: «Народ довлеет самому себе. Верховным началом его жизни является его собственная воля, независимо от того, на что она направлена. Народная воля обожествляется потому, что она утверждается формально, без связи с ее содержанием. Но воля народная может быть направлена на зло, и тогда она подлежит осуждению, или она направлена на высшее добро, и тогда не воля народная, а само это божественное содержание должно быть признано верховным началом… Хочу, чтобы было то, чего захочу. Вот предельная форма народовластия».[120]
И вот освобождение, взаимодополнительное к ницшеанскому пересозданию свершившегося на примере констатации смерти Бога, – спроецированное уже не в прошлое, а в будущее. Настоящее, по существу тождественное вечности, так и не затрагивается, не становясь целью сосредоточения сил, хотя новое общество располагает дополнительными временными параметрами благодаря усложнению коллективной памяти. Пресечем дальнейшие комментарии, ибо и чрезмерное суждение о смерти Бога не должно получать чрезмерного осуждения.
Затянувшееся обсуждение народной воли было актуально для русских философов в эмиграции, согласных в том, что люди не равны и также не равны народы. «Истинная глубина и высота свободы раскрывается лишь в конкретной жизни личности, в личности индивидуальной и в личности народной. Право и государство есть лишь организация такой свободы».[121] «Для признания религиозного смысла национальной идеи необходимы две предпосылки: религиозный смысл культуры и множественность культурных путей спасения».[122] «Нации являются наиболее могущественными социальными системами. В конфликте классов и наций национализм иногда одерживал победу над разделяющими тенденциями социально-классовых интересов».[123]
В целях экономии текста вместо сравнения различных путей расшатывания системы Гегеля и систематического мышления ограничимся сопоставлением двух позднейших сравнений этих путей – Рикёра и Сартра. Во всяком случае, очевидно стремление к свободе «я» в преобладающем над ним безличном «мы», хотя идея «Мы» не сформирована и не намечается.
Рикёр находит общие в марксизме общие тенденции с ницшеанством, а также с фрейдизмом: «Декарт победил сомнение в вещи при помощи очевидности сознания; а Маркс, Ницше и Фрейд победили сомнение в сознании путем истолкования смысла… Маркс хотел освободить праксис путем познания необходимости; Ницше хотел возвышения человеческих способностей, восстановления его силы; Фрейд хотел, чтобы пациент, присваивая чуждый ему смысл, расширял бы поле своего сознания и становился более свободным».[124]
Сартр проводит другую плоскость обобщения в многогранной критике Гегеля, сравнивая марксизм и экзистенционализм по выражению несоизмеримости реальности и знания: «Гегель, согласно Марксу, смешивал экстериоризацию человека в универсуме с отчуждением, обращающим эту экстериоризацию против человека: царство свободы начинается там, где прекращается работа, диктуемая внешней целесообразностью. – Но в отношении исторического человека, который понимает себя, эта практическая свобода улавливается лишь как условие рабства. Марксистское знание относится к отчужденному человеку. Когда оно обретет человеческое измерение как основание антропологического знания, экзистенционализм утратит право на существование».[125]
Начало социологии: мотивация общего намерения
Послегегелевский период отсутствия устойчивости философии в самой себе и ее внешнего безволия позволил обрести самостоятельность многим вольным движениям мысли, в том числе социологии. Общественное мнение заговорило само от себя и о себе самом, проявляя характер личности, властной принимать решения и отказываться от обещаний. Его многоликость придавала ему видимость сложности, отвечающей всем требованиям новой организации многоуровневого осознания, взыскующего внимания и непримиримого с ярлыком отвлеченности от многих «я». Наиболее отчетливо на иное, чем Я и Бог, указывал Конт: «Это другое – собирательное целое, по внутреннему существу, а не внешним образом превосходящее каждого единичного человека, действительно его восполняющее как идеально, так и совершенно реально, – человечество, как живое положительное существо… Единичный человек сам по себе есть лишь абстракция; такого человека в действительности не бывает… Великое Существо совмещает в себе все существа, свободно содействующие совершенствованию всемирного порядка».[126]
Несмотря на прозрение в самую суть «мы», оно затмило то, что в классической философии называлось Богом, и социологическая мысль лишилась «Мы». Социология дезориентирует восприятие высшей воли, эксплуатируя представление о Боге как подлежащее в суждении о мирских связях. Обращение к Господу подменяется подразумеваемым обращением с Ним, как будто устойчивость общества находится на равных с абсолютной властью. Социология возникает в силу воли «по договоренности» как общественный логос, или «наше» слово. Незавершенный переход от «Я» к «мы» или «Мы», взятый в волевом аспекте, приходится поместить в новообразованный социологический контекст для выявления пограничных тенденций формального развития общества из общения.
Итак, мы располагаем следующей схемой рассмотрения: первоначальное отношение «Я» к «Ты» или «он», названное соответственно «Мы» или «мы»; понятие «нашей» воли, по-разному применимое в обоих случаях; установление господства-рабства в уже назревшем «мы» и рабства-господства в предвосхищении «Мы». Не только реальные, но даже понятийные переходы в очерченной структуре мы пока не будем продумывать, останавливаясь лишь на определениях. Контрастность позиций Дюркгейма и Тарда представлена принципиальными расхождениями на двух уровнях: при установлении основания и выборе метода.
«Делая объективным чисто субъективное отделение коллективного явления от составляющих его частных актов, Дюркгейм возвращается в глубину схоластики. Социология не то же самое, что онтология. Ищется социальное начало, но будут ли это договоры, услуги или принуждение, всегда имеются факты подражания. Сначала начальник показывает пример действия, и остальные ему подражают. Постепенно намерение приказывать, смешанное вначале с инициативой приказываемого действия, отделяется от последней. Отсюда проистекает обязательность для обращения к психологии за ключом к социологии».[127] – «Было сказано, что мы объясняем социальные явления принуждением, как Тард объясняет их подражанием. Речь шла о том, чтобы ограничить поле исследования. Принудительная власть столь мало отражает целостность социального факта, что он может в равной мере содержать в себе и противоположный признак. Но коллективное мышление целиком, как его форма, так и содержание, должно изучаться само по себе и для самого себя».[128]
Существенны не столько методологические средства аргументации, подражание или принуждение, сколько онтологическое или психологическое понимание происхождения общества. Общество есть идея, которая воплощается, или реальность, восприятие проявлений которой поддается обобщению в осмыслении. Подражание и принуждение – два названия одного и того же процесса в «мы» с разными субъект-объектными отношениями между двумя «я», – ведь ни тот, ни другой автор не находит подступов к «Мы», и невозможно говорить о взаимодействии «я» и «Ты». Но в сравнении «мы» с самим собой нет разницы, будем ли мы начинать с анализа и диссоциации господина (до разных самосознаний одного «мы», ибо господин всегда останется в одиночестве) или синтеза и ассоциации рабов (до единого сознания разных «Мы», то есть снова «мы», ибо раб всегда подчиняется самосознанию господина и принимает его «мы» вместо улавливаемого им своего «Мы»). Такие «я» в принципе равнозначны и обратимы внешним образом, без самопожертвования. Вариации воления, заключенного в связи господина и раба, поскольку оно социально целостно, всегда имеют структуру, замкнутую на самих себя.
Данные теории полезны как социологические рамки определения «нашей» воли: «мы» как довлеющее над «я» и оно же как игнорирующее всякое «Мы» и всю совокупность «Мы». Дюркгейм задает напряженность в отношениях между «я» и «мы», разграничивая онтологически самостоятельные сущности, вступающие во взаимодействие друг с другом из исходного противостояния. Намерения «я» и «мы» не представляют собой одного целого непосредственно, разве только по мере их сонастройки. Сопротивление «мы» относится к усилию «я» как форма к материи, откуда происходит формальный, независимый характер возникшего самосознания «мы». Самосознающая собственные устремления общность, прежде всякой телесно оформленной занятости, являет необходимость многомерного устройства времени при сплочении «мы».
«Нужно рассматривать социальные явления сами по себе, отделяя их от представляющих их себе субъектов. Их нужно изучать извне, как внешние вещи. Вещь узнается по тому признаку, что она не может быть изменена простым актом воли. Надо приложить еще более или менее напряженное усилие из-за сопротивления, которое она оказывает… Социальные факты не только не являются продуктами нашей воли, но сами определяют ее извне. Они представляют собой как бы формы, в которые мы вынуждены отливать наши действия».[129] «Ближайшими причинами новых представлений будут другие коллективные представления, а не тот или иной характер социальной структуры».[130] «Пока наука сводится к общим вопросам, она привлекает только умы, склонные к синтезу; последние отмечают ее своим влиянием так сильно, что она становится как бы их собственностью. Став более специализированной, наука становится также более безличной и доступной всем труженикам доброй воли».[131]
Возникает расслоение «нашей» воли и самосознания «мы». В тексте подразумевалось своеволие; но ведь воля, выраженная сообществом нескольких «я», не будет соответствовать воле самого этого сообщества, поскольку оно владеет ситуацией не только прицельно в-целом, диктуя условия каждому отдельному «я», но и над-целым, противостоя совместному договору всех «я». Судьба «мы» определяется отношением его самосознания к собственной воле. Заметим терминологическое отождествление вещи и формы в определении социального факта. Отрыв развития идеи общества от реализации в конкретном общении индивидов (подобно двум независимым атрибутам одной субстанции) основан на предустановленной гармонии, – иначе при соотношении формы с вещью мы вынужденно имеем две формы или две вещи: либо речь идет об отношении самих единства и множества, либо об отношении воплощенного единства с предметным множеством. В силу онтологичности «мы» нам известно о его субъективности, но мы не вправе его объективизировать, исследуя результаты самоопределения. Такое “мы” лично, хотя и не в абсолютной степени.
Напротив того, Тард отказывает «мы» в личном характере, вплоть до единства этого «мы» в Боге. Суждение тесно, без малейшего зазора, слито с намерением. В полученном понятии верования-желания нет уже ни веры, ни воли. Отсутствие личной веры в среде обобществленного верования выражается в следующем: Господь – не только не «Ты», но даже и не «Он», а всего лишь субстрат, в котором выделяются различные «он» и «ты». Он есть «Он» и предшествует настоящему «Ты» только в том смысле, что для Него нет разницы между «я» и «мы», а не потому, что в Нем образуется самостоятельное «Мы». Небытие воли в бытии желания проявлено тем, что Господь не есмь Субъект, но представляет собой субъективность вообще; Он не имеет иного содержания, кроме упования на Него верующих, и иной формы, кроме ограничения Его данности хулой неверующих. Также утверждается эквивалентность функции языка для «мы» и пространства-времени или материи для «я», из чего следует уподобление божественного стихии речи для «мы» и материальности в формировании сознания «я». Социальное как таковое оказывается исчерпывающим содержанием подобной божественности.
«Мысль становится вполне словесной и, стало быть, вполне социальной, в силу привычки думать для других, постоянно обращаясь к другим, в свою очередь обращающимся к третьим… Разграничим тот случай, когда суждение-намерение имеет подлежащим я, и тот, когда его подлежащим является другой человек… До сих пор подлежащим было я или мы и не было ни малейшего сомнения в реальности утверждаемого или отрицаемого желания. Иначе обстоит дело, когда, стараясь предвидеть решение другого, мы спрашиваем себя, чего же он желает и что же он думает, чтобы заключить, что хочет он делать… Мы или безличная форма означают одно и то же, когда речь идет о всех известных людях… Идея о Боге играет в первоначальном формировании общества ту же роль, какую играла идея о материи в первоначальном формировании я… Средством обмена идей и хотений в индивидуальной психологии является пространство-время; в социальной психологии таким средством служит язык».[132]
Волевой характер всякого «мы» выявился непосредственно в описании поведения «мы» в общей форме. Теперь нужно определить саму волю и показать, как «мы» в свою очередь входит в это определение. Дюркгейм представляет «мы» как нечто, содержащее внутри себя рефлектирующее воление, взаимодействующее с самим собой и развивающееся в противостоянии самому себе. «Мы» мыслится им безотносительно к «я», а такое «мы» не может создаваться внешними волевыми рефлексиями. Воля «я» не может превратиться в волю «мы», как и само основание «я» никогда не станет основанием «мы». Не только социальный факт, но и стремление также есть вещь, не поддающаяся внешней оценке, как всякая сила, имеющая собственную природу. Рассмотрение специализации подводит к прояснению отношений господина и раба, представляющих собой основную модель подчинения индивида обществом: «Каждый социальный акт есть сила, господствующая над нашей силой, поскольку он обладает собственной сущностью; чтобы придать ему бытие, недостаточно ни желания, ни воли. Надо, чтобы были даны силы, способные породить эту определенную силу… Давление, являющееся отличительным признаком социальных фактов, есть давление всех на каждого. Принятое и охотно переносимое давление все-таки остается давлением».[133]
Дюркгейм сужает понятие воли, а Тард расширяет до желания вообще. Он исследует суждение и волю в процессе их работы внутри общества, переопределяя их как верование и желание. Воля общества находится в зависимости от наличия или отсутствия воли индивида, а глубокий эгоизм представляет собой настоящую социальную абулию. Таким образом «я» и «мы» слитны, между ними не обнаруживается ни реальной, ни идеальной границы. Все желания «мы» присутствуют в структуре «я», не имеющего иной воли, кроме как стать «мы», во всяком случае, она оказывается решающей. В подоплеке подчинения усматривается подражание: господство не завоевывается, а порождается славой. Не одна воля, но и самосознание «я» вторично по отношению к «мы».
«Личное влияние представляет собою элементарное социальное явление… Заставив других сообразовываться с собою, человек начинает стараться и сам быть последовательным; развитие социальной логики влечет за собою развитие логики индивидуальной. Обе логики стремятся к согласованию различных видов согласия, которые они устанавливают независимо… Хотение – посредствующее желание; обязанность – посредственное хотение; приказание – создание обязанности, хотение появления некоторого хотения у другого лица. Слуга внутренне откликается на рассуждение господина».[134] Социальное согласование хотений позволяет по мере со-воления развивать функции желания.
Со-воление личностей более высокого порядка
Гуссерль не говорит о со-волении в связи с со-восприятием и употребляет слово «Мы» вместо понятия трансцендентальной интерсубъективности. Спрашивая: как, если все люди заключаются в скобки, я вообще могу перейти к «другим» и к себе самому? – он отвечает на обвинение в солипсизме, размышляя над эгологией Декарта и монадологией Лейбница, и выделяет несколько уровней построения со-инаковости.
«Объективный мир как идеальный коррелят интерсубъективно обобщенного опыта сущностно связан с интерсубъективностью, отдельные субъекты которой наделены согласующимися конститутивными системами. Конституция объективного мира заключает в себе гармонию монад… Еgo и alter ego с необходимостью даны в изначальном удвоении. Удвоение есть изначальная форма пассивного синтеза ассоциации. В случае ассоциации и апперцепции alter ego посредством ego удвоение имеет место только тогда, когда “другой” вступает в поле восприятия… Приведение-в-со-присутствие, некая аппрезентация. Здесь интенциональности должна быть присуща опосредованность, дающая возможность представить со-присутствие чего-либо, что никогда не может достичь само-присутствия».[135]
Гуссерль вводит два уровня непосредственности интерсубъективности и сферу их опосредованния. К последней принадлежат все переживания, содержащие неоднократные напластования – ноэтические и ноэматические – в волении: «С одной стороны, то решение или решание, какое мы осуществляем. Сюда относится немало ноэтических моментов. В основе полаганий воли лежат оценивающие, вещные полагания. С другой стороны, решение как вид специфически относящейся к области воли объектности, которая фундирована в ноэматических объектностях. Если мы как феноменологи выключим все наши полагания, то за феноменом воли как феноменологически чистым интенциональным переживанием останется его “волимое как таковое”, как присущая волению ноэма, – подразумеваемое волей, как подразумевается оно в этом волении, со всем тем, что здесь волится и ради чего волится».[136]
Гуссель представлял сложность перехода от одного непосредственного «мы» к другому «Мы», наделяя сферу их разобщенности формой заколдованного круга с безвыходностью к самоприсутствию, но в целом смыкающей гармонию монад с удвоением в восприятии. Напластования воли между ее собственно ноэтическим и собственно ноэматическим смыслом воспроизводят самотождество «нашей» воли. Но «мы», в которое вживался сам Гуссерль, представляется феноменологически проще и, одновременно, жизненно сложнее.
«Для нас» значит для современных философов, поддерживающих «мы» познания, но впавших в мучительное экзистенциальное противоречие и тем самым вступивших в круг «Мы» общения. Иррациональность воли, казавшаяся обетованием, вновь осознается как проблема, но возврат к прежнему принципу философской системы закрыт ее собственной завершенностью. Основным методом рационализации становится уравнивание, что бы под этим ни понимали в борьбе за человеческий смысл: «Подлинная борьба, характерная для нашего времени, – это борьба между уже распавшимся человечеством и человечеством, еще стоящим на твердой почве, – борьба различных философий… Радикальное самосознание достигается благодаря оценке изначальной подлинности целевых установок и метода философии, которая будучи осознана аподиктически, определяет и волю человека».[137]
Потребность в новом единстве разума и воли сказывается на неизбежном продолжении философствования вообще. Шелер не соглашается с теорией феноменологической редукции Гуссерля в частностях, но признает за ней то самое действо, которое определяет человеческий дух. Шелер признает свое возвращение к гегелевской мысли об абсолютном духе, непосредственно постигающем и осуществляющем себя в человеке, но преобразует ее в направлении активного включения центра нашего общего бытия в идеальные требования Бога, – то есть функционального единства взаимодействия порыва и духа. В анализе этого внутреннего отношения Шелер вскрывает заблуждение классической теории, будто идее присуща изначальная власть, поддерживая теорию о вытеснении влечений.
«Наличное бытие дается в переживании сопротивления раскрытой сферы мира – а сопротивление имеется лишь для побуждаемой влечениями жизни. Изначальное переживание действительности как сопротивления мира предшествует сознанию… Что значит идеировать мир? Это не значит воздерживаться от суждения о существовании; напротив, это означает попытку аннигилировать властное впечатление реальности с его аффективным коррелятом… Только дух в форме чистой воли может деактуализировать центр чувственного порыва, открывающий доступ к действительности действительного… Дух и воля человека не могут быть чем-то большим, чем руководство и управление. Дух как таковой предлагает силам влечения идеи, а воля либо предоставляет уже имеющимся импульсам влечения такие представления, которые могут конкретизировать осуществление этих идей, либо лишает их этих представлений… Если мы назовем чисто духовный атрибут в основании конечного бытия божеством, то у него нет позитивной творческой мощи. Если в бытии-через-себя заложено изначальное напряжение духа и порыва, тогда отношение этого бытия к миру должно быть иным. Основание вещей, если оно хотело осуществить заложенную в нем полноту идей, должно было растормозить миросозидающий порыв, чтобы самоосуществиться во временном протекании мирового процесса».[138]
Антропологический принцип доводится до того предела, где нет Бога без человека и нет воли Божьей для человека, если она не является человеческой волей. Порыв, в котором нуждается божество, откровенно назван демоническим, но предназначенным к обращению. Тем самым сказано, что не бывает открытого изъявления воли Господа. Концепция становящегося Бога выражается в требовании преодоления извечной противоположности власти и духа: «Человек – это существо, сам способ бытия которого – не принятое решение о том, чем оно хочет стать. Идеал для человека – это всечеловек, а не сверхчеловек… Если уравнивание – неотвратимая судьба человечества, то задачей духа и воли является управлять выравниванием групповых сил, чтобы оно соответствовало ценностному росту вида человек. Зарождается эпоха универсализирующей разрядки сил в человеческих отношениях, или уравновешивания сил… Социология религий имеет своим предметом взаимосвязь идей о Боге и спасении с политическими формами господства».[139]
Шелер пытался построить феноменологическую этику, исходя из вопроса: какова конечная цель всех стремлений воли? – открыть путь к учению об иерархии нравственных ценностей.[140] Уравнивание не препятствует построению иерархии. Имеется в виду не взаимное безволие, но именно со-воление друг к другу в различенности волений друг от друга. В подобной перспективе «наша» воля есть принцип гармонии, а не совокупная однонаправленность. Обратимся к самой неординарной попытке построить феноменологию, противопоставляя ее как неэволюционному смещению горизонтов Гуссерля, так и внутреннему развитию объективации духовной реальности Гегеля. Едва не отлученный от церкви, Шарден подобно Шелеру, но из иных соображений, наскоро примеряет на «мы» идеал сверхчеловека и сразу обходит его в стремлении к всечеловечеству.
«Только лишь феномен. Но зато уж весь феномен… Установить вокруг человека, взятого за центр, закономерный порядок, открыть среди элементов универсума не систему онтологических причинных связей, а эмпирический закон рекуррентности, выражающий их последовательное возникновение в течение времени… Увидеть, чем становится и чего требует человек, если его целиком и полностью рассматривать в рамках явлений… Продолжается испытание силой. Сверхчеловек должен расти из одной почки человечества… Таков первый образ, в котором человек должен был попытаться совместить надежды на беспредельную будущность с перспективами неизбежной индивидуальной смерти… Отныне наряду с индивидуальными реальностями имеются коллективные реальности, несводимые к индивиду… Для дальнейшего объединения человечество должно пунктуально осознать себя».[141]
Не происходит не только это, но и непременное условие осознанной соборности – принятие воли Бога за общее для человечества стремление к единству. Испытание силой возводится к присвоению источника этой силы путем перехода от «я» к «мы». Исходя из предпосылок усредненной феноменологии, – несводимой к чисто объективной или субъективной трактовке феномена и материалистичной лишь поскольку она принимает сразу обе идеалистические крайности и не может совместить их, – автор приводит нас к «мы» в том его опосредовании, которое несводимо к «мы» познания, тождественному по структуре индивиду, но и не восходит к «Мы» общения по преимуществу, не обладает исконным осознанием целостности помимо пунктуального. Слово отсылает одновременно к поэтапности и точности (однозначности) осознания, чем еще более подчеркивается вне-личностный, но и вне-соборный характер настоящего положения человечества в примеренной к нему форме «мы».
Шаткость позиции, заключенной между феноменологиями Гегеля и Гуссерля, заставляет посследовать за теми движениями мысли, которые вознамерились выйти из этой альтернативы вообще, искать другие варианты объяснения проявленности воли.
Полновластие техники над «обезволенными»
Вариационность феноменологии обладает стремлением к выходу за ее пределы. Не принявший позднего Гуссерля, хотя отчасти перенявший его ранние устремления, Ясперс создает аурическую картину государства, где понятия оказываются в отношении не к сущностям, и даже не к ореолам вещей (термин Гуссерля), но к канве событий. Гуссерль отслеживал общую интенцию к интернациональности глобального социального общества, где различные типы социальных сообществ со своей возможной иерархией характеризуются как личности более высокого порядка.
Согласно Ясперсу, интенциональность присутствует как внутренняя характеристика политической структуры. Он пытается осмыслить видимость правильного развития общества и общественного сознания, указывая на патологичность современной ситуации. Он констатирует нивелирование воли в исключительно волевом аппарате, планомерно формирующем управление и, соответственно, управляемость: «Аппарат развивается в столкновении волевых направленностей; критерием того, что делает индивид, служит успех, который определяет продолжение или устранение его деятельности. Все действует по плану, но не по плану целого… Человек лишен последовательности в существовании… Что человек окончательно не входит в запланированный порядок существования, очевидно из того, что сам порядок расщеплен на противоположности. Посредством их борьбы он беспокойно движется сквозь время, не зная завершения ни в одном образе».[142]
Также искажается и образ господства-рабства, поскольку в рассмотрение входит уже не простое подавление воли, или приоритет самосознания над сознанием, в пределах одной чисто феноменологической личности или двух экзистенциальных субъектов. Мы встречаемся со сдавленностью воления, – с чем-то, оказавшимся затертым между привычными волей и произволом, обыкновенно коррелирующими в практическом применении разум и рассудок. Человек находится не в положении господина или раба, но в пограничной ситуации, прототипом которой выступала для нас недопустимость рассмотрения развернутой иерархии исходя из самозамкнутых феноменологических отношений:
«Если человек хочет свое бытие, он оказывается в состоянии напряжения между собственным бытием и подлинным самобытием. То, что есть просто его своеволие, сопротивляется в слепом желании преимуществ индивидуального существования. Только в качестве возможности самобытия он ищет в воле своей судьбы выходящий за пределы всех расчетов риск, чтобы достигнуть бытия. Исходя из обоих импульсов, он подвергает опасности порядок существования как покоящееся пребывание… Господство становится в массовой организации призрачным и невидимым. Господство хотели бы вообще уничтожить… Люди действуют как в тумане, если не приходит к господству сама воля человека, которая противопоставляет себя общему порядку существования».[143]
Поскольку подавление произвола волей заменяется в экзистенциальной системе сдавленностью между волей и произволом, постольку не только господство неявно, но и вопрос о сознании «мы» просто не ставится. Индивидуальная воля так же проблематична, как воля общества, где отсутствует принадлежность отдельных волевых действий определенным лицам. Не менее таинственным предстает проект глобальной воли, казавшийся таким реалистичным у Гуссерля.
«Господствует фикция дополнения всех всеми, призывающая уничтожить подлинное воление человека… Насилие посредством разделения ответственности приписывается недостижимой власти. Не обладающее пониманием самого себя, существование теряет устойчивость; обнаруживается неуверенность воления… Методы политической деятельности до применения насилия должны заключаться в формировании воли, способной привести массы к единению. Однако в аппаратах массы каждая воля обладает своеобразной неуловимостью… В переплетении государств существует сила, способная господствовать, не обладая формой господства и заметными милитаристскими средствами. Суверенные по своей форме государства фактически находятся в полной зависимости. Существует точка, где в основе целого лежит возможность победоносного применения насилия… Целое являет собой напряжение несоединимого. Оно для нас – не предмет, а в неопределенном горизонте местопребывание людей как самосущих экзистенций… Быть может свобода человека может расширять опыт своего бытия только в том случае, если пребывает неразрешимость напряжения. Наша потребность в покое может стремиться к такому решению как единство. Однако то, что мы должны были бы хотеть, если бы можно было того хотеть, это – то, что решение, к которому мы стремимся, никогда не наступит».[144]
Отношение этого целого к воле Бога парадоксально. Чистое преданное служение не принимает прежде всего форму чистого преданного суждения, но минует ее как нечто, всегда стоящее на пути человека, подобно вехе, отмечающей самый факт наличия какого-то пути. Для современной веры характерно запросто произносить «мы с Богом…» – и это не столько следствие недалекости человеческого разумения, сколько констатация реального положения дел: Бог и человек необыкновенно и небывало сблизились в последнее время. Этот факт духовного опыта обостряет проблему различения «Нашей с Богом» воли от просто воли Бога, выраженной благословенной или проклятой жизнью в мире. К последней относятся техничность существования и связанная с ней беспомощность отдельно взятого человеческого существа, – тем надежнее ему приходится полагаться на проявление воли Бога в нем самом как «нашей», присущей всем людям.
«Действительность мира полна для человека ужаса. Его воля к истине с неизбежностью устанавливает: это так. Вопрос об оправдании Бога превращается в борение за Божество при знании о действительности мира. Это – борение с Богом за Бога… Создается полярность; человек будто слышит: Божья воля есть неограниченное исследование, исследование есть служение Богу и одновременно – оно посягает на тайну божественных свершений, и потому не следует снимать все покровы… Подлинная воля исследователя является борением с собственными желаниями и ожиданиями».[145]
«Мы» Хайдеггера начиналось с собирательного das Man – «Человек», которое на английский переводили как the They – «Они» (не «Мы»), а на русский и вовсе как «Среднее». Такое «мы» – не отношение, а субстанция, и нисколько не «Мы». Поэтому Хайдеггер не поддерживает волюнтативную теорию здесь-бытия, воспринятую Шелером от Канта,[146] и старается придать подручному бытию иной смысл. Под маской друг-за-друга разыгрывается друг-против-друга, независимое от согласия безличного Среднего. Преднамерение принадлежит целостной ситуации, и передача желаний оказывается видимостью.[147] Мы не станем вмешиваться во внутренние отношения «Мы» общения раннего-и-позднего Хайдеггера, где осуществлялось взаимное предстояние каждого из них перед своим «Ты», выраженное известным поворотом в его биографии. Зная «Мы» досконально, он мог осуждать остаточную субъективность этой структуры, кажущуюся принципиально построенной по типу простого «я», – не принимать никакого «мы» и не верить в его основательность.
«Лишь поскольку человек стал субъектом, перед ним встает вопрос, хочет ли и должен ли человек быть субъектом как отпущенное на собственный произвол Я или как общественное Мы. Только когда человек уже стал субъектом, возникает возможность скатиться к уродству индивидуализма. Только там, где человек остается субъектом, имеет смысл борьба против индивидуализма и за общество как желанный предел всех усилий… Во всех основных позициях субъекивности, поскольку человек определяется как я и ты, как мы и вы, возможен особенный род эгоизма. Субъективный эгоизм, для которого, большей частью без его ведома, Я заранее определяется как субъект, может быть сломлен сплочением многих Я в Мы. Благодаря этому субъективность только набирает силу. В планетарном империализме технически организованного человека субъективизм достигает наивысшего заострения, откуда он опустится на плоскость организованного единообразия и будет устраиваться на ней. Свобода субъективности совершенно растворится в соразмерной ей объективности».[148]
Последнее утверждение находит понятийную реализацию в том, что термин акт воли обретает смысловое продолжение в неизвестном метафизике термине квант власти, соответствующем ницшеанскому представлению о ценности, которое по существу привязано к господству, поскольку устанавливается волей к власти в произведении расчета на овладение очередной ступенью власти.[149] Через заимствование научного термина констатируется реальная связь господства и техники, как вышеупомянутая объективация субъективности воли. Техничность истины дискредитирует самообладание понятием своей истиной – обладание истины собой, поскольку она есть некоторое понятие – как ценность. Техника сама по себе является властной структурой и, тем самым, обусловливает человеческую абулию в Боге. Воля не исходит от Бога и направлена к Богу, она просто есть и не находит иного приложения, кроме как к себе самой. Далее развивается тема не-истинности самого человека, поскольку он есть человек волящий, неважно, господствующий или подневольный.
«Существо воли к власти поддается пониманию только из воли к воле… Основную форму проявления, в которой воля к воле организует сама себя среди бессобытийности мира законченной метафизики, можно назвать техникой… Человек волит себя как добровольца воли к воле, для которого истина становится заблуждением, в котором он нуждается, чтобы обеспечить самообман насчет того, что воля к воле не может волить ничего другого, кроме ничтожного ничто, в противостоянии которому он себя утверждает, не умея заметить собственную законченную ничтожность. Прежде чем сможет наступить событие Бытия в его изначальной истине, должно надломиться бытие как воля… Правильность воли к воле есть безусловное обеспечение ею себя самой. Правильность воли к воле есть безусловно не-истинное. Правильность не-истинного обладает в сфере воли особенной неотразимостью… Возникает мнение, будто источник воли к воле – человеческая воля, между тем как, наоборот, человек задействуется волей к воле, не осмысливая того, что он задействован… Борьба между теми, кто у власти, и теми, кто хочет к власти, есть борьба за власть. Принцип власти с обеих сторон возводится в принцип абсолютного господства власти. Вся борьба за власть заранее подвластна власти. Воля к воле только уполномочивает эту борьбу… Поскольку действительность состоит в единообразии планомерного расчета, то и человек должен униформироваться. Принцип производительности по видимости имеет последствием иерархическое упорядочивание; по сути его определяющее основание – распад всякой иерархии, потому что целью производительного производства оказывается равномерная пустота использования труда в обеспечении порядка. Безразличие тотального потребления вытекает из положительного недопущения иерархии – сообразно господствующей пустоте всех целеустановок… Воля толкает землю к Невозможному».[150]
Последний термин означает Бога в Его посмертии: воля-к-власти разворачивается в метафизическом пространстве, где Бог умер и существует свобода выбора, призванного решить, окажется ли бытие снова способным вместить Бога.[151] Это показатель несравнимого с прежним доверия Бога к Человеку Судящему, быть или не быть Его воле. Человек как никогда сознает себя Богом и решается принять на себя долю ответственности, которая раньше возлагалась на Бога, сущего вне «нас». Преображение и переименование Бога в человека – свидетельство завершения отношений с Богом в единстве с Ним, но как таковое оно осознано лишь в Боге.
Мы проследили развитие воли западного человека вплоть до глобальной тенденции к покровительству над Господом, но так и не ввели строгого размежевания между «Нашей волей» и «нашей волей». Это предположительное разделение, соответствующее терминологически «Мы» и «мы», не может оставаться долго удерживаемым. Совместное воление, если оно состоялось, должно рассматриваться не иначе, как воля «Мы», ибо «мы» обладает лишь желанием и мышлением. И поскольку разум есть способность различения, воля мыслящая с неизбежностью оказывается подчинена воле любящей, отвечающей потребности к единению. При этом с философии снимается грех самодостаточности, составлявший прежде предмет ее гордыни.
В суждениях и умозаключениях формальной логики бытие присутствовало в связке «есть», а господин и раб занимали свое изначальное положение на готовых для них местах в этом мире; в развитии понятия диалектической логики бытие присутствовало в деятельности мышления как таковой, то есть оставалось связью в деятельности отрицания отрицания, а господство и рабство знаменовали собой определенное состояние сознания; искомая нами связность находится в само-обетованном Присутствии Бытия, где господство и рабство становятся содержанием сподвижничества на пути к Богу и не существуют больше как определяющая форма, будет ли она выражена во внешних обстоятельствах или во внутренней предрасположенности.
III. Становление «нашей» воли в рефлексии общения
1. Христианство: оптимальное стремление к единству
Проблема инициации непосредственного волевого усилия в целях последовательного прохождения духовной иерар-хии. Опыт общежития и единения воли к смирению перед Волей. Масштабы образа и подобия Божьего – человек и мир. Плоть и соборность. Бывает ли безответной всенародная любовь к Богу? Выбор прорыва воли. Иночество «Мы» среди «мы». Рабство мирское и духовное.
Подавление или продление воли «нашего» ближнего
Расширяя содержание понятия самодостаточности до границ самодовления общежития, распространим сферу исследования на религиозный и психологический опыт, обращаясь по необходимости к вместившей его исторической среде. Сменим также и стиль последовательного тематического изложения на интуитивный подбор понятийных комбинаций, связывающих свободные смысловые валентности исходной проблематики.
Практическая философия, касаясь обустройства человеческого взаимодействия, признавала ненасилием исключительное воздействие воли непосредственно на непретворенное в действие убеждение другого. Представление об эгрегоре, – поскольку не воплощенный эгрегор неразумен, а вполне воплощенного не существует, – витало вне осмысления, оставаясь не возведенным в понятие. Новозаветное ((((((((приобретает смысл воскрешенного вместо пробужденного, смыкая общественное самосознание с обетованием соборности. Ожидается преображение плоти не только людей, но и церквей – в самом широком смысле слова: где двое или трое соберутся во имя Господне, даже не сознавая, что все имена – Его. Требования к себе и ближнему не могут быть одинаковы по плоти, разве только с позиции «Мы». Не могут они быть одинаковы и по вере.
O ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. – «Ибо Бог есть возделыватель в вас и хотения и действия по Своему благоволению».[152] – ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((, (((((((((((((((((((((((((((((((((, ((((((((((. – «И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас».[153]
Если следует не только действовать, но и хотеть по воле Бога, то возникает вопрос, уполномочены ли мы влиять на произволение «наших» ближних. Правомерна лишь такая непосредственность воздействия на инакомыслящих, которая является, по сути, молитвенным деланием – когда мы волим относительно иной воли согласно воле Бога. Подавление или продление воли ближнего – не «наше» дело. В практике монашеского общежития наставник понимается как посредник между Богом и людьми, проводник Его воли. Казалось бы, он воплощает собой ту среднюю волю в человеке, по которой происходит отказ от своеволия ради воли Всевышнего. Но «Мы», ориентированное на соборность, не тождественно «я» по структуре, хотя бы каждое «я» и имело подобную направленность.[154]
Кроме устава, другой способ вязания воли всех был всестороннее подначальство,[155] – при котором все были связаны узами послушания: когда брат отлучался по делу, с ним посылали другого в качестве набольшого. Никто ни минуты не оставался без руководства, своей воли не имел и следовать ей не мог. Предполагалось, что самоотречение происходит однажды – при вступлении в монастырь. Наставничество в общежитии отличалось от становления новоначальным послушником длительностью и обратимостью, поскольку не принимающий одобренного настоятелем должен был возразить: «Повиноваться подобает Богови паче, нежели человеком». Но окончательное непослушание выдавало несогласие с самим собою и вызывало недоумение: «Если не соглашается подчиниться, а следует собственной воле, то для чего и живет с ним?»[156]
Явное отличие структуры «нашей» воли выступает при определении полного пространства послушания: не только по совету настоятеля удерживаться от несообразного, но без его воли не делать даже и самого похвального. В последнем требовании подчеркивается формообразующий характер отсечения своеволия для структурирования «нашей» воли. Важно не содержание веления, а его положение в общей иерархии. Вот почему первой заботой старца было приучить послушника побеждать хотения вообще: он нарочно заставляет его всегда делать то, что противно его душе. Наиболее похвальным и показательным считалось смиренное исполнение самых абсурдных заданий, например, ежедневно поливать сухую ветвь три года просто потому, что так старец велел. Практическое абстрагирование волевой способности имело целью держать единение с братьями и хранить постоянный с ними мир, чтобы в общежитии пребыть навсегда.[157]
Другим путем шло обустройство мусульманской общины, где содержательность воли снималась через отсыл каждой конкретной нужды к жестким предписаниям относительно разрешенного и запретного – халал и харам,[158] и сами категории приобретали субъективность, близкую к общей воле. Списки приходилось постоянно исправлять, исходя из насущных нужд, но делать этого было нельзя, не покушаясь на авторитет. Господство книги (текст имел смысл только в целом, как субъект, его приходилось учить наизусть) можно было обойти, только овладев ее скрытым смыслом; но необходимость погружения в него и составляла собственно порабощение. Иерархия в общине воплощала различные степени сохранности и испорченности текста, выражая попытки различать безнадежное искажение и окольное проведение высшей воли. Единство текста гарантировало единство мира в беспрецедентно тесной зависимости, но даже центральное предание делилось на «благую весть» и «предостережение».
Очевидно, что для воли человека есть его тело, то для со-воления людей есть их мир, не наделенный изначально самоопределением в качестве «нашей» воли. Освобождение соборного воссознания от мира, сконцентрированного на самом процессе освобождения, не представляется возможным и даже желанным. Во всякой общине выявляется обратная тенденция – воплощение в еще большую реальность посреди относительно плотной структуры телесности мира в целом. Такова была и история христианской церкви: при всем стремлении превзойти мир организация отхода приобрела гораздо более строгую конституцию по сравнению с ним, становясь во многом предметнее даже государства (на Руси монастыри были крупнейшими землевладельцами и крепостниками, а их мирскую власть уважали даже иноверцы монголо-татары). Но именно это стеснение во внутреннем пространстве чистого сознания времени определенных отношений самосознаний приводит к во-ображению отчетливого «нашего» устремления к свободе.
Перспектива обожения «Мы» принципиально отличается от личного освобождения, начиная уже с характера «нашего» погружения в повседневные дела. Кроме обустройства «мы», существует и противоположная тенденция при сплочении «Мы», сталкивающаяся с предыдущей. Церковная история демонстрирует стремление к единству при последующей еретической – самовольной – дифференциации самого этого стремления, ведущей к созыву своего собора именно после разногласий на соборе общем. Тридентский собор обвиняли в крайнем консерватизме, но он являет собой пример воздержания от отстаивания истины ради сохранения единства: не желая усугублять проблемы церкви, один из кардиналов сохранял молчание, полагаясь на решение собора как на инструмент Святого Духа.[159] Об этом же тысячелетием ранее писал Арию царь Константин: «Ты неосмотрительно предлагал то, о чем подумавши, надлежало молчать. Вот откуда родилось между вами разделение, и святейший народ стал вне согласия общего тела Церкви».[160]
Преодоление этого расщепления осуществляется в единстве самосознаний, внешним проявлением которого и служит молчание. Оптимальным стремлением к всеединству по всем канонам будет любовь к Богу, согласная с Его волей. Но в силу реальности растождествления (логическая тавтология, но на том уровне действительности, который задается каждым из понятий, она обретает смысл) онтологизируется исчерпание последования. Учитывая временное измерение единения, ответственен ли я за последствия, обрушившиеся на того человека, которого я недавно называл «Я»? Так, мы должны примирить в замысле «нашей» воли несовместимость представлений о собственной вине и суде Божьем.
«Как думаем мы о прошлом и будущем? Если происходит что-то неприятное, спрашиваем ли мы: “Кто виноват?” – или утверждаем: “На то была воля Божия”? Ставить вопрос или нет – в этом выражается различие установки… “Так повелел Бог, и, следовательно, человек может это сделать”, – это ничего не значит. Здесь нет никакого следовательно. В лучшем случае оба выражения означают одно и то же. “Он повелел” означает: он накажет того, кто этого не сделает. Но отсюда вовсе не следует, может ли человек это выполнить или нет. Между тем это и составляет смысл предназначения… Если Бог действительно избирает, кого из людей спасти, то почему бы ему не избирать нации».[161]
Существуют разные мнения о причине взаимного отлучения Церкви от самой себя в превосполнении своей целостности: историческое и догматическое. Согласно первому, церкви имели различные властные структуры, что привело к конкуренции между римским папой и восточным императором, и со временем их соперничество переросло в открытый политический конфликт.[162] Согласно другим источникам, вопрос об исхождении Святого Духа (только от Отца, или от Сына тоже) как носителя воли Бога, был ключевым в истории Церкви как таковой, а остальные доктринальные разногласия – лишь его последствиями.[163] Конкретизируем представления о воле Господа в христианской концепции личного Бога. Восточная и западная церкви сходятся в том, – и это органично входит в концепцию их «Мы», – что воля Бога покоится в Его благодати; и требуют поддержания внутренней и внешней иерархии для приведения Его воли в действие.
Западная церковь акцентирует человеческое стремление к Богу, произведенное Его силой; Бонавентура законно составляет путеводитель души к Богу: «Благодать есть основание воли… Такова сила высшего блага, что сотворенные существа ничего не могут любить, кроме как через желание этого блага… Наш дух становится иерархичным для восхождения вверх. Первые ступени в человеческой душе относятся к природе, следующие – к усилию, а последние – к благодати… Порыв нашей души через восхищение полностью переходит в Бога».[164]
Восточная церковь обращена к силе Бога, производящей человеческое стремление, усваивая преимущества апофатичности от Дионисия Ареопагита: «Бог есть Сила, потому что Он проимеет в Себе и превосходит всякую силу. Он не только доставляет силу всему, но и пребывает выше всякой, даже самой-по-себе силы. И бесконечные Им бесконечно создаваемые силы не могут когда-либо притупить Его сверхбезграничную силотворную силу. Избыток мощи позволяет Ему придавать силу немощи. И само бытие имеет силу быть от сверхсущественной Силы… Неравенство, вообще всех от всех отличающее, Справедливость оберегает».[165]
Межличностное безбожие и наличная набожность
Любовь по определению есть стремление к единству в безусловном блаженстве, или благодать в действии, а ее собственным признаком является взаимность, в перспективе абсолютная, или по воле Бога. Несовершенство в любви выдает явное несоответствие деяний воле Божьей. «Спастись, то есть возродить свою индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только вместе со всеми… Единство социального организма действительно сосуществует с каждым из его индивидуальных членов, имеет бытие не только в нем и через него, но и для него… Связь активного личного начала с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей должна быть единым сизигическим отношением. Не подчиняться своей общественной сфере и не господствовать над нею, а быть с нею в любовном взаимодействии».[166]
Безответная любовь вносит разлад и раскол в осуществление «нашей» воли. Последняя сохраняется лишь в функции свидетеля, оказавшегося рядом с несогласными, то есть между ними или вовне их. Только для него стоит дилемма соотнесения с волей Божьей, тогда как для втянутых в событие лиц существует некоторая определенность, создавшая хотя и убогое, но все-таки равновесие взаимодействия. «При убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего… Можно представить положение, когда воля не имеет прямой целью лишить жизни человека, однако соглашается на это как на крайнюю необходимость… Нравственный порядок, или воля Божия, сами собою в мире не осуществляются… С представлениями о добре и зле воля Божия не связана, но с истинным понятием добра связана теснейшим образом… Воля Божия в том, чтобы я спас жертву, по возможности щадя злодея: увещеваниями, силой… тем крайним способом – крайним сверху – именно молитвою, то есть высшим напряжением доброй воли… Можно связать вопрос о личной защите с вопросом о защите государственной».[167]
В подобном положении свидетеля оказалась русская философия, соотносящаяся с восточной и западной церквями, несмотря на православие государства и народа. Прослеживая пути русского богословия, часто отмечают веру вообще, безразличную к вероисповеданию. Гоголь не перешел в католицизм именно потому, что не усматривал в нем никакого отличия от православия. Славянофилы, Герцен, Соловьев – и вовсе относились отрицательно к историческому христианству.[168] Однако апофатичность самого вероисповедания сказывается на его непримиримости с другими и непримеримости к другим. Диалог в христианстве слишком медленно переходит во внутренний монолог, образующий рефлектирующую намеченность «нашей» церкви, а не просто исходно одной церкви.
Мы вынуждены изыскивать шанс отстраниться от той свидетельской позиции, которую удобно занимать в России по отношению к самому отношению христианского Востока и Запада. Ведь апофатичность веры может соскользнуть в изначальную неопределенность церковной жизни даже с подачи православного священника, если неопределимость православной церковности есть лучшее доказательство ее жизненности.[169] Остается задуматься над выбором между бессознательным и сверхсознательным общежитием в Боге и уяснить себе механизм взаимоволения с Богом.
«Связь бытий, их взаимооткровение, есть нечто реальное и, не отрываясь от центров, ею связуемых, она и не сводится к ним. Она есть синэнергия, со-деятельность бытий… Слово есть познающий субъект и познаваемый объект, – сплетающимися энергиями которых оно держится… Позиция имяславия выражается формулой: Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни имя Его, ни Самое Имя Его… Общаясь с энергией Божией, человек соотносится с самым существом Его, хотя не непосредственно, а потому имеет право именовать эту энергию именем Действующего, – Богом».[170]
Сознание Имени является волевым актом, связующим суть бытия человеком с сутью бытия Богом. Самосознание предстоящего сознанию Образа долженствует выражать сокровенную сторону соотношения человека с самым существом Бога. Образ в пределе есть воплощенная божественная личность. Вмешательство Божьей милости, в конечном счете, решает все. Высшее напряжение доброй воли в молитве остается предметом спорным в богословии, особенно когда молятся за ближних и за весь мир. Апостольское послание утверждало необходимость молитвы, во всяком случае, прежде воли к действию и вместе с ним (не вместо него), а не самовольное решение, что именно будет добром. Проблема недостатка времени встает в общем виде как наличие временного измерения в волении Бога, связанном с восприятием его человеком.
Формально мы приняли слова «и хотение, и деяние – от Бога» как внимание к содержательному внушению Господа. Однако исторически существовала другая крайность прельщения (мы помним евангельский наказ об осторожности в недовольстве своим «Мы»: «кто скажет брату своему “пустой человек” – подлежит верховному судилищу»). Ориген отлучился от церкви своей отвлеченностью: «Изречение апостола не говорит, что от Бога – желание зла, или от Бога – желание добра, ни того, что от Бога – свершение добра и зла, но говорит вообще: желание и действие – от Бога… Силу воли мы получаем от Бога, но сами пользуемся волею как в добрых, так и в злых желаниях».[171]
Эти крайности – содержательная и формальная – не позволяют в действительности ни вверить себя воле Бога, ни стать свободным. Когда приходится окончательно на что-то решаться, со-весть (человека с Богом) не может удовлетвориться ни формальным смирением, ни содержательной свободой, равно как и наоборот. Ведь канонически «Бог – ненасытная любовь… Без Него мы не можем даже помыслить благое; поэтому нужно смиренно предаться воле Божией, чтобы Господь руководил нами… Когда Дух Святой прощает грехи, тогда получает душа свободу молиться Богу чистым умом. И это есть истинная свобода… Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем… Если народ или государство страдает, то надо всем покаяться, и тогда все исправится от Бога».[172]
«Наша» воля неделима на форму воления вообще и содержание или цель конкретного акта воли. Она рефлексивна в «нашем» разуме и есть воля к тому, чтобы быть всецело «нашей» волей. Общность человечества ограничивается различимым бытием в мире, а его соборность обладает свершенностью в Господе. Между церковью и личностью стоит народ. Всенародное предание воле Божьей – о покаянии государственном говорить не приходится, как и о его противоположности, подневольности мессианства, – составляющее «нашу» волю всякого народа-богоносца, возникает очагами юродства в смысле инаковости «Мы» среди «мы». Иночество предполагает келейность, но пустота кельи воплощает освобожденность мира от мирского, будучи моделью сосредоточенности предметности пространства в теле человека, вплоть до его обнаженности. Затворничество состоит по существу в избранности непосредственным орудием божественной воли. Своею жизнью напоминает юродивый своим ближним о том едином, что есть на потребу, служа тем самым к их спасению.
Монахи – вериги на растущем теле человечества, в отношении него поддерживающие волю к отказу от небытия без Бога, и поскольку они есть вне себя, соборность продолжает становиться в подвиге. Так, преподобный Серапион Синдонит дважды продавал себя в рабство (сперва язычникам-комедиантам, потом еретику-манихею) и постепенно подводил их к обращению[173] – гегелевский постулат о господстве раба над своим хозяином наделен в житии характером очевидности. Но замкнутость отношения неоспорима и в данном случае, ведь юродивый тем самым действительно служит ближнему и даже зависит от пробуждения его собственной воли к спасению. В обоих случаях, когда ему говорили: «Теперь мы отпустим тебя на свободу, так как ты сам освободил нас от постыдного рабства», – он возвращал им нерастраченные деньги, отказываясь даже раздать их нищим, как чужие. Но он же обманывает корабельщиков, вовсе не склонных везти его бесплатно, – дело здесь не в житейской честности. Святость не сводится к авторитарному харизматическому принципу легитимности, который может быть пересмотрен в антиавторитарном направлении. Фактическая значимость харизматического авторитета покоится целиком на признании подчиненных,[174] тогда как духовная власть – это не просто неотразимое влияние.
Другой расклад в соотношении между духовным и плотским рабством представлен в житии святого Андрея юродивого, который с детства находился в рабстве, но в видении Господь спросил его, хочет ли он служить Ему всей душою, и тот начал свой подвиг. Вельможа, считая его помешанным, заковал в цепи, но видя, что он остается в прежнем состоянии, отпустил его на волю. Именно ему было видение покрова Богородицы, которую он называет Госпожой и Владычицей мира. Конечно, дело снова не в том, что он с детства усвоил стереотип раболепствования и просто «поменял хозяина», – хотя в Евангелии существует концепция «рабов Божьих», а христианство нередко толковалось атеистами как «религия рабов». Андрей просто перестает быть рабом, когда для вельможи уже безразлично, свести ограничение его свободы вплотную к его телу (цепи) или, наоборот, совершить тот последний акт присвоения собственности (если больше присвоенного уже не присвоить), который состоит в отказе от нее.
Материальный мир – это место, куда воля Бога поступает с некоторой непредсказуемой задержкой, поэтому терпимость к ближнему сродни долготерпению Господа. Но следование воле Бога не должно доходить до преследования, или от терпимости – к навязчивости. Для переусердствовавшего в исполнительности последствия подобной поспешности формально сказываются в необходимости заполнить образовавшиеся временные вакуумы не чем иным, как действиями по ликвидации созданных этим самым поступком помех дальнейшему продвижению. Однако кроме закономерного нарастания и убывания «нашей» воли в процессе ассоциации и диссоциации волений, всегда существует возможность прорыва воли.
Укажем на расходящиеся интерпретации. С одной стороны, низводится представления о Господе, с другой – возводится в ранг просветления частный инсайт, полученный психоаналитическим методом. Так или иначе, вторая непосредственность интерсубъективности, обладающей способностью к переживанию собственной целостности, не дана: «Псевдорациональная точка зрения политиков не отличается от религиозного мировоззрения. Как религиозное решение, представляющее собой подчинение воле Бога, так и компьютерное решение, базирующееся на вере в логику фактов, являются формами отчужденных решений, при которых человек уступает чувство ответственности идолу – будь то Бог или компьютер».[175]
Далее предполагается необходимость в обеих ситуациях – в молитве или программировании – оставлять решение основных вопросов за самим человеком, причем в одном и том же смысле. Но ведь свобода воли в отношениях с Богом определяется для человека тем духовным фактом, что он и есть Бог, тогда как в случае с компьютером – тем сугубо материальным фактом, что он не есть компьютер. Психоаналитик связывает с революцией надежды некую силу, состоящую в бесстрашии перед жизнью, обусловленном свободой от поклонения идолам, к которым причисляется сам Бог; он признает эти заключения справедливыми и для общества, постоянно балансирующего между стремлением к развитию и склонностью к упадку; и с закономерной безуспешностью решает проблемы перепроизводства и неумеренного потребления.
Но даже на уровне психологии, растворяющей Бога в бессознательном и обретающей Его только в нем, теряя тем самым бессознательное как бессознательное, а Бога – как Бога (ибо Господь непостижим, а осознанное бессознательное ничем не выдает нам сути бытия Богом), возможно понимание обусловленности подобной свободы: «Чем выше осознание человека, тем труднее ему предпринять действие… Духовная сила – это сохранение способности принимать решения при растущем уровне осознания… Одиночество – это измерение, в котором существует сходство между духовной и политической властью. Человек, приближающийся к вершине духовной эволюции, подобен находящемуся на вершине политической власти. Не на кого свалить ответственность… Эту ношу никто не выдержал бы, если бы не то обстоятельство, что чем дальше уходим мы от людей, тем теснее становятся отношения с Богом».[176]
Речь идет скорее о бессилии самого бессознательного перед своей невместимостью, невыводимостью в самосознание, под которым понимается сознание, завладевшее субъективностью. Отождествление воли «Мы» с волей «мы» выдает, при всем пафосе обожения своими собственными силами, ущербность представления о всемогуществе Бога и образа его в человеке. Оставим тему сопротивления благодати, вернемся к единству и добавим, что все это тоже верно, а воля к развитию и есть феномен любви.
2. Межкультурные контакты: воля к взаимодействию
Актуальность комментариев к взаимопроникновению традиций. Параллелизм в западных и восточных структурах мышления: Декарт и Упанишады (вывод-для-себя и вывод-для-другого). Индия: два вида народной воли (шакти и тапасья); варны как первые социальные формации. Китай: вечная попытка поведения (воля в форме «своетаковости»); правление как невмешательство в дела народа. Пример встречи двух культур в древности: Греция и Индия (от сведений о землях до суждений о рабстве).
Совместимость западных и восточных источников
Аргументируя отдельные утверждения, хотелось бы воспользоваться не только западными, но и восточными трактатами, необходимость привлечения которых состоит в актуальности комментариев к взаимопроникновению традиций. Первое впечатление при попытке охватить общую картину их развития складывается помимо трансмиссии абстрактного и конкретного. В западной культуре философия занималась отношением сознания и бытия, а религия – безотносительностью блаженства в Господе; в ведическом мировоззрении фундаментальным стало триединое понятие сат-чит-ананды: бытия, сознания и блаженства. Находился ли Гегель в непрерывном переживании благодати и признавал ли он писания святых отцов плодом диалектического мышления? По-видимому, здесь было решающее расхождение. Со своей стороны, осуществляли ли святые отцы постоянную рефлексию бытия сущего, признавая форму мышления о мышлении, содержащую в себе бытие как таковое, хоть сколько-нибудь близкой к благодати? Бытие Бога не было для них бытием мыслимым в том же самом смысле, что и для Гегеля. Тогда как логическая система ньяя возводится к ведам, поскольку суждение сопровождало жертвоприношение,[177] – то есть достойным основателем философской системы признавался лишь просветленный, а решающим доказательством – сверхличность создавшего ее мыслителя.
Проследим за стадиями медитации Декарта о первоначалах философии и определениями первичной реальности в Тайттирия упанишаде.[178] Вначале они совершенно идентичны: ни вещи, ни чувства, ни воспринимающее сознание (рассудок или манас) не принимаются в качестве надежного основания. Но на уровне самосознания (разума или виджняны), пути западной и восточной философии расходятся. Декарт утверждает мышление несомненным: «Я мыслю, следовательно, существую»; а Бога – первостепенной идеей, обладающей полнотой воли к установлению всякого мышления и бытия. Упанишада признает даже самосознание несовершенным: «Я не есть мое мышление», – и переходит к наивысшей стадии ананды, или реальности блаженства, не в качестве определения, а как к переживаемому состоянию целостности. Утверждения о том, что сознание (чит) благостно, а самосознание (виджняна) таковым не является, – с гегелевской системой мы сравнивали первое из них, а с картезианскими размышлениями последнее, – подразумевают добровольное самоограничение блага как такового. Но мы и не настаивали на соединении в понятии сат-чит-ананды несовместимых определений разума в западной философии и богословии, а лишь на введении в отношение сознания и бытия такой составляющей, как блаженство.
Обустройство социального положения при погружении в философствование оказывается структурным моментом. Состоящие во внутреннем и внешнем проявлении особенности индийского опыта мышления позволяют ему становиться «ты» для западной традиции самосознания, актуализируя состоятельность их «Мы». Прежде их заметного влияния друг на друга целостность открытости и закрытости системы мышления в Греции и Индии строилась прямо противоположным образом. В Греции философствовать мог каждый свободный человек, но мыслил он для-себя, и в аристотелевской логике нет вывода-для-другого, – хотя иначе характеризовать ту эпоху можно по диалогам Платона и отраженному в них культу дружбы. В Индии овладение понятийным мышлением зависело от особых социальных условий – общинности, а пятичленное высказывание служило при получении нового знания собеседником.[179]
Кроме умозаключения «для других», вызывающего сомнение в передаче познания, а не просто его словесного выражения, которое имеет условное значение и зависит от воли человека,[180] существовала форма шактипата, представляющая собой прямое сообщение учителем силы своего опыта ученику, ориентирующее волю последнего на укрепление линии преемственности. Экзистенциальные проблемы связаны с восстановлением предустановленной тройственной гармонии:[181] неопровержимо-неуловимая воля Воли, явленная между людьми, должна соразмерять в себе утверждение правоты с приверженностью к смирению: «Государству не под силу то, на что претендует государственность. Коллективный прогресс совершается индивидуальными, личными усилиями… Государство отражает, по сути, лишь общественный эгоизм, то есть самое низшее из всего того, на что данное общество способно… Государство либо совсем лишено души, либо имеет ее в самом зачаточном состоянии».[182]
Неизменная соотнесенность сознания с миром вообще дополняется изменчивым отношением этого сознания с другими сознаниями, временно населяющими тот или иной мир по своему усмотрению и устроению в нем. Если библейская концепция образа мира связывает его исключительно с волей Бога к Само-сознанию в Само-созидании, то ведическая традиция, получившая определенное преломление в буддизме, находит место в миротворении и растворении миров для воли каждого живого существа, так что всякий мир или каста общества, – то есть форма существования, наделенная содержанием собственного признака, – является результатом воли Вселенского Правителя по своей форме и, хотя не единства, но совокупности устремлений живых существ по своему содержанию.
«То, куда стремятся идти находящиеся здесь и откуда не хотят уходить находящиеся там, называют состоянием сознания… Живые существа населяют благие места пребывания по собственному желанию или ввергаются в дурные формы существования вопреки своим желаниям собственными действиями и находятся там не по своей воле. Бывает четыре состояния сознания: устремленное к материи, ощущениям, понятиям и представлениям, формирующим факторам… Сознание, побуждаемое жаждой, никогда не опирается на основания, относящиеся к другим ступеням существования».[183]
Согласно упанишадам, человек – создание воли,[184] и освободиться от влияния принципа кармы как сохранения моральной энергии можно только путем бескорыстного социального служения.[185] «Истинная свобода обретается только тогда, когда нет порабощенности объективным миром. Рабская зависимость лежит в каждом действии, совершенном с осознанием своего тела как своего Я. Постоянно удерживая в уме идеальное состояние свободы, человек может стать освобожденным».[186]
Сравнивая индийский опыт преломления воли как таковой в государственной власти отдельной страны, определяющей границы всемирного, с китайским, обратимся к даосской традиции следования естественному ходу вещей. «Древние греки считали не-бытие и неограниченное низшими по отношению к бытию и ограниченному, в китайской философии наоборот, поэтому там не было эпистемологии… В сфере познания мыслитель находился в вечном поиске, а в сфере волеизъявления – в вечном поведении или попытке поведения… Совершенномудрый – это высшая точка человеческих отношений».[187] «С понятием недеяние тесно связано понятие своетаковость. Это своеобразное выражение идеи воли, или вольности».[188]
Собственная воля мира или общества, несмешанная с волей правителей, остается событием еле уловимым. Среди социо-культурных традиций наиболее фундаментальным положение государства в общем космосе было у китайского народа. Волевые проявления подчиняются законам превращения энергии. Путь Неба обладает силой пустоты, но не может не действовать, тогда как путь человека состоит в том, чтобы совершать действия и быть связанным ими, но стремиться к пустоте. Только общий ход вещей в мире обладает конкретной волей, заполняя собой пустую волю Неба и опустошая человеческое безволие, способствуя становлению мудреца, который скитается и мыслит при-вольно, избегая положения господина или слуги: «Путь Неба приличествует господину, путь человека – слуге… Сделай единой свою волю. Пусть жизненный дух пребудет пуст и будет непроизвольно откликаться внешним вещам… Я слышал о том, что поднебесному миру нужно позволить быть таким, каков он есть, но не слышал о том, что миром нужно управлять… Любить долг? Это разрушит всеобщий порядок в мире».[189]
Концепция самого-по-себе социального действия предполагает равновесие Силы и Судьбы, когда обе невластны над общим ходом событий в стране, – или тождество свободы и предопределенности воли, как «нашей» воли, а не пожелания. В формировании общего мира совокупное влечение отстает от самого себя во времени, позволяя воле к обоюдному представлению опережать волю к согласованному действию, отчего и происходит разделение «нашей» воли на силу и судьбу. «Кажется, что жизнь повинуется нашим желаниям, а на самом деле это не так. Польза и вред существуют сами по себе… Быть самими собой, как они есть, – вот что влечет их вперед… Купец гонится за барышом, а служилые люди рвутся к власти – к этому их вынуждают обстоятельства. Но у купцов бывают доходы и убытки, а у служилых людей – поражения и победы. Таково действие судьбы».[190]
В индийской концепции мира, взятого как самосущий, тоже выделяется разложение «нашей» воли на подобные составляющие, производящие взаимопредставление и взаимодействие: шакти и тапасью. Более диференцированное проявление шакти и тапасьи в различные эпохи соотносимо со сменами правящего класса,[191] или касты – жрецов, воинов, торговцев и рабочих. «Каждая нация есть шакти, или мощь развертывающегося духа в человечестве, и живет тем принципом, который она воплощает… Принцип борьбы управляет международными отношениями… Но именно духовная воля, или тапасья, придает обстоятельствам их ценность».[192] «Народная сила стремится выразить себя косвенным образом. В зависимости от веления времени состав каст и их власть менялись… Будет ли лидерство в обществе в руках тех, кто монополизировал знания, богатство или оружие, источник их могущества всегда заключается в подчиненных массах. Насколько класс, находящийся у власти, порывает с этим источником, настолько он становится слабее».[193]
Зарождение греко-индийского «Мы» в древности
Индию как источник и цель западной истории, начиная с древнегреческой, можно попытаться представить на основании утверждений Гегеля: «Индия является исходным пунктом для всего западного мира» и «Индия как искомая страна составляет существенный момент всей истории».[194] Во внутреннем отношении к истории двух стран взаимодополнительное различение отмечает Ясперс: «Греки воспринимали великие культуры древности как нечто далекое и чуждое; они знали о них и сохраняли память… Индийцы более позднего времени ничего не знали о древних культурах, они полностью забыли о них». Он также приводит следующую точку зрения, достойную усилий к опровержению: «К востоку от Инда царит не знающая исторического развития стабильность, к западу же – динамическое движение истории».[195] Здесь кроме временной, точнее, причинно-следственной связи выделяется пространственная или, в логическом аспекте, граничная составляющая, существенная скорее для восстановления восточной истории, страдающей недостатком не столько событий, сколько их описаний.
Аристотель приводит труды Геродота как пример того, что историю невозможно превратить в поэзию, даже переложив в стихи, но «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном».[196] При подобном отношении к истории мыслителя, который ответственен за историческое самосознание народа постольку, поскольку среди своих соотечественников обладал в принципе наиболее развитой способностью к рефлексии, сложно оценивать само стремление к исторической реконструкции непредвзято. Анализируя достижения современных европейских ученых в исследовании Вед, индийский мыслитель Шри Ауробиндо определил их как «создание эллинистов, истолковывающих неэллинские данные с той точки зрения, которая сама зиждется на неправильном понимании греческого мышления».[197] Это высказывание вполне характеризует также и работу древнегреческих историков в том смысле, что сами они не слишком понимали собственное мышление для того, чтобы осуществлять адекватную внешнюю рефлексию.
Приводя перечень античных свидетельств об Индии, исследователи подчеркивают, что «в ряде случаев они являются единственным источником знаний о тех или иных явлениях общественной, государственной и культурной жизни Древней Индии».[198] Они выделяют три периода межкультурных контактов. Первый период охватывает время с IV в. до н. э. до похода Александра Македонского в 327–325 гг. до н. э., когда сведения были случайны и отрывочны. В трактатах Гекатея, Геродота и Ксетия впервые намечаются две темы: «страна сокровищ и чудес» и «индийские мудрецы». Второй период был ознаменован походом Александра, положившим начало во многом достоверной исторической традиции об Индии. Фрагменты сочинений Онесикрита, Неарха, Аристобула и Птолемея сохранились в трудах Страбона, Диодора и Арриана. Популярным сюжетом становится «диспут Александра с индийскими мудрецами». Третий период, захватывающий конец IV – начало III в. до н. э., условно назван «периодом посольств», будучи связан с именами Мегасфена (посла Селевка I к Чандрагупте Маурья) и Деймаха (посла Антиоха I к Биндусаре). От труда Мегасфена сохранились фрагменты у Арриана, а от Деймаха до нас практически ничего не дошло.
На основе карты Анаксимандра его младший современник и соотечественник Гекатей Милетский (около 546–480 гг. до н. э.) составил чертеж, где впервые на крайнем востоке появилось обозначение Индии с текущим в юго-восточном направлении Индом. Такое представление о реке Инд восходит к плаванию карийца Скилака, который по приказу персидского царя Дария около 518–516 гг. до н. э. спустился по Инду в Индийский океан. Карта Гекатея была одним из важных географических источников «Истории» Геродота, для которого «из всех народов у восхода солнца индийцы – первый народ, о котором есть по крайней мере определенные сведения. Ибо восточнее Индии простираются пески и пустыня».[199] Дитмар не выделяет новых георгафических данных об Индии в трудах историков вплоть до недостоверного «Описания Индии» Ктесия родом из Книда, вернувшегося на родину из Персии приблизительно в 398 г. до н. э., который преувеличивает размеры Индии до половины всей Азии.
Дальнейшее развитие представлений об обитаемой земле в эпоху эллинизма было связано с походами Александра на Восток. После его смерти ученик Аристотеля – Дикеарх из Мессены (345–285 гг. до н. э.) составил дошедшую до нас лишь по фрагментам других античных авторов карту ойкумены, где он провел северную границу Индии вдоль горного пояса, так что вся страна сместилась от крайних восточных рубежей ойкумены в ее юго-восточные районы. Также в Индии побывали греческие послы Мегасфен (около 300 г.), Деимах (297–272 гг.) и Патрокл (282–261 гг.), которые попытались выразить широтную и долготную протяженность Индии в стадиях. Данные Патрокла считались самыми достоверными. Наконец, на карте александрийского ученого Эратосфена из Кирены (276–194 гг. до н. э.) появилась южная граница «умеренного обитаемого пояса», пересекавшая остров Тапробан (современная Шри-Ланка).
Наиболее функциональная, западная граница, проводилась греками по Инду (Страбон) весьма условно, поскольку в «Индике» Арриана сообщается, что индийские племена, жившие к западу от Инда, находились под властью персов и платили им дань. Также он упоминает о сражавшихся на стороне персов в битве при Гавгамелах индийцах, «живущих по западную сторону Инда», а Геродот рассказывает, что индийские войны участвовали в походе Ксеркса на Элладу. С другой стороны, персам принадлежали лишь территории к западу от реки, поскольку Страбон и Ариан, опираясь на Мегасфена, считали Инд западной границей Индии. Однако на протяжении всего периода древности языковая и культурная близость между народами, населявшими территории к северо-западу и юго-востоку от реки, оставалась более значительной, чем между населением Северной и Южной Индии. Возможно, именно последний факт выражен расположением на карте Эратосфена полуострова Индостан в юго-восточном направлении, т. е. максимально удаленным пространственно по сравнению с его реальным местонахождением.
Наиболее отчетливое представление об индийской территории сложилось у греков в пределах проникновения греческой колонизации вглубь Индии. Завоевание Индии связывалось у Александра Македонского с замыслом мирового господства, осуществимого после достижения Внешнего Океана, где проходила граница Земли. Подчинение обширных территорий по Инду прервалось отказом войска идти дальше после победы над царством Пор. Всего выделяется 22 города, относительно основания или разрушения которых Александром существуют письменные свидетельства.[200] Но на основании археологических данных ученые приходят к выводу, что греческая колонизация имела значительно более широкие масштабы и продолжительность. Раскопки Чардасы свидетельствуют, что военная акция сопровождалась попытками колонизации путем создания греческих полисов, в состав населения которых включались греки.
Безусловно, уже тогда возникла проблема идентификации свидетельств с событиями. Настоящие трудности истолкования сообщений о древнеиндийских феноменах, не имевших аналогов в парадигмах древнегреческого мышления и претерпевших искажение уже в источниках, усугубляются сложностью понимания современными исследователями образа мыслей самих авторов свидетельств. Можно привести несколько примеров попытки установления фактов, касающихся по крайней мере четырех различных сфер деятельности: философские учения; право и экономика; религиозные культы; социальное устройство.
Геродот пишет об индийских племенах, которые «не убивают ни одного живого существа, не трудятся на нивах, нет у них жилищ, а питаются они травой. Если кого-нибудь поражает недуг, то он уходит в пустыню и там ложится».[201] Бонгард-Левин считает это первым упоминанием о жизни брахманов, ибо термин «этнос», которым Геродот обозначает людей с особыми обычаями, имел не только этническое, но и социальное содержание. Также Мегасфен сообщает о мудрецах-аскетах, которые ходили обнаженными, «упражнялись в выносливости», не ели мяса животных, рассматривали самоубийство как естественное продолжение земного существования. Бонгард-Левин предполагает, что под ними скрывались джайны, хотя вопрос об отождествлении индийских софистов остро дискутируется в научной литературе.
Наличие разных форм земельной собственности осталось непонятным Мегасфену, считавшему, что если земледельцы платят налоги царю, то вся Индия является царской собственностью и никакому частному лицу не разрешается владеть землей. Хотя точка зрения о монопольной собственности государства в Древней Индии неприемлема, верховный правитель постоянно стремился к строгому контролю над земельным фондом. Исследователи по-разному интерпретировали данные селевкидского посла относительно «города, не имеющего царской власти». Одни считали, что под «автономными индийцами» Мегасфен подразумевал лесные племена, которые сохраняли известную самостоятельность; другие склонны были видеть здесь указание на существование внутри империи полунезависимых городов, наподобие селевкидских; иногда автономные полисы отождествлялись с индийской деревенской общиной. Бонгард-Левин утверждает, что имеются в виду сангхи и ганы, пользовавшиеся определенной самостоятельностью.
Мегасфен упоминает о поклонении Гераклу. Большинство исследователей считали, что описание относится к Кришне. Но главная черта божества – сверхъестественная сила и безграничная воинственность, что мало соответствует традиционному образу Кришны. Вероятнее всего, здесь отражен этап формирования вишнуизма, когда одним из центральных его божеств на Северо-западе Индии был Васудэва, наделенный чертами воинственного и бесстрашного кшатрия. К Мегасфену также восходит традиция о том, что индийцы, жившие в горах, поклонялись Дионису. Это сообщение может указывать на распространение шиваитских культов. Экстатические обряды шиваитов могут быть истолкованы как параллели с дионисийским культом: Арриан и Страбон описывают процессии «дионисийцев», а также атрибуты Шивы-Диониса. В целом, селевкидский посол отделяет народные культы от брахманизированной религии.
Существенные разночтения вызвало хорошо известное утверждение Мегасфена: «Достопримечательностью земли индийцев является то, что все индийцы свободны и ни один индиец не является рабом. В этом – сходство лакедемонян и индийцев». Даже современники Мегасфена не соглашались с ним (Страбон). На него обычно ссылаются те, кто считает рабство явлением, нехарактерным для древней Индии, тогда как оно было закономерной формой общественных отношений. Причем Диодор и Страбон утверждали, ссылаясь на свидетельства Мегасфена, что вся Индия – собственность царя. Последнее свидетельство представляет особый интерес в контексте нашего исследования отношений господина и раба, однако не поддается удовлетворительной трактовке в силу указанных разночтений.
Следует учитывать также возможные неточности, связанные с наименованиями. Под «Индией» даже более поздние римские авторы понимали земли, лежащие на побережье Красного моря, Персидского залива и далее на восток, вплоть до Китая. В свою очередь, в Южной Индии «яванами» называли не только греков, но и римлян. Иначе выглядит дело с «западной» стороны: в то время как на древнегреческих картах Южная Индия попросту отсутствует, между нею и Римом существовала развитая морская торговля. А приблизительно со II в. н. э. начинается новый этап в истории античной традиции, отмеченный сосуществованием двух различных тенденций в описании Индии, – языческой и раннехристианской. Из перечисленных нестыковок в описаниях очевидно, представление этих народов друг о друге носило тогда еще характер смутного узнавания.[202]
3. Психология: продолжение и прекращение воления
Групповое влияние и коллективная ответственность. Взаимность воления как момент сопряженного времени. Простое отношение самосознаний в поле чистого сознания времени. Профанация избранности (в неволе или поневоле): «мы» есть, а «Мы» существует исподволь – конфронтация и конформизм в выборе. Жертва не «мной», но «нашим» бытием-вместе. «Не-наша» воля и «ступор» воли. Воздействие на массы и их пропускная способность.
Идентификация контактов в устойчивых связях
Мир людей в целом составляет более или менее «твердая» воля к взаимопредставлению и взаимодействию.[203] Направленная деятельность по подавлению или продлению воли ближнего сказывается на постоянстве и изменении мира, то есть приемлемости и недолжности его образа, удержание которого зависит от образованности самосознающего «Мы» в смысле последовательного образования «нашей» воли. Практическая философия «мы» обращала внимание на волевой характер воображения в отличие его от мышления, но не связывала это со степенью тварности (или материальности) объектов обеих функций – воображения и мышления.
Если принимать во внимание непрерывность процесса творения, то образ представляет собой определенную стадию воплощения идеи, которая возникает сама собой, проект же требует работы. Соответствующее разделение происходит и на уровне субъекта восприятия сотворенного: философия по существу асоциальна, тогда как социальная философия занята социальной адаптацией мышления о мышлении, и для нее важно заполнить понятийный промежуток между идеей и образом, найдя соответствующее «наше» усилие.
Оставаясь людьми, мы ничего не знаем и не можем знать, кроме мира людей, или человеческого общежития. Отсюда все старания вообразить нечто сверхчеловеческое, неизбежно одинокое. Однако духовная интуиция всегда говорила о том, что лишь образ Бога есть «я», подобие же суть «Мы»-соборность, отрефлектированный образ «нашего» мира, удерживаемый обращенным к Богу «мы» и тем самым возвращающим Ему мир. Воля Божья относительно отдельного человека открывается лишь ему самому, воля Божья относительно человеческих взаимодействий и связей, – а она несводима даже к полностью осознанной отдельными людьми воле Бога относительно их предназначения в мире, – открывается лишь самому (гипотетическому) субъекту в основании этих связей, поскольку оно достигло самосознания в «Мы». Но до тех пор «наша» воля остается чем-то воображаемым. Поэтому образ мира понимается двояко – в отрицательном и положительном смысле – как пустыня и как плерома.
Даже в соотношении мира, как такового, с самим собой работает принцип построения образа – выделение чего-то одного на фоне чего-то другого – и самосознание «Мы» есть прежде всего самосознание образное, постепенно образующееся в сплошном потоке общего сознания времени. Но иерархия «я – мы – Мы» держится на понятийном уровне. При попытке феноменологического обследования предполагаемой или утраченной телесности, – зарождающейся организации «мы» или разлагающегося в среде государственности узаконенного организма «Мы», – мы сталкиваемся с замыканием герменевтического круга, где «Мы» возникает парадоксальным образом не столько в момент произнесения «Ты», сколько в момент волевого произнесения «Я». Эти два момента задают временные параметры для объективного прохождения иерархии. В контексте порождения определенной воли и соответствующей реальности событийность сохраняет, как последние черты раскола, временные параметры.
В материалах психологических исследований влияния людей друг на друга, мы находим разрыв в структуре социального доказательства, где снимается противоречие двух тезисов: «истина – это мы» и «многие могут помочь, но избрать следует лишь одного».[204] Первое утверждение выражает господство «мы» над «я», а второе подчеркивает приоритет «Мы» перед «мы», преимущество обращения на «Ты» перед предъявлением себя на «их» рассмотрение. Значит, «мы» – лишь возможность (например, помощи), «Мы» – действительность, а «наша» воля – деятельность, осуществляющая эту действительность. Проведенные социальные эксперименты показали, что пострадавший с меньшей вероятностью получает помощь, если свидетелем становится не один человек, а несколько. Из внутреннего замкнутого круга «мы», где каждый отсылает призыв к «ним» к другому, необходим волевой выход – создание точечного акта «нашей» воли посреди относительно равномерно распределенного «нашего» сознания. Контакт должен быть не абстрактным, но конкретным, предоставляя образ желаемого взаимодействия, не допускающий трактовок или домыслов.
Моментальность, быстрорастворимость влияния отражает не только возврат к примитивному согласию в век автоматизации, но и несогласие с прилюдным проявлением интимности «Мы», затрудняющее решимость вырваться в качестве «Ты» из всех «они», особенно если никакое «Ты» не прозвучало со стороны другого «Я». Ради состоятельности «Мы» приходится преодолевать страх обнаженности избирательного отношения, поэтому поверхностность влияния людей друг на друга в современном мире вызвана не столько непривычно все большими объемами информации (образования), сколько все более привычными узкими рамками трансформации (преобразования). Воля находится в условиях нарастающего кризиса, представляясь паутиной рационализации и самообмана.
Реализовать «Мы» удается лишь при включении преодоленной структуры «мы» в функциональную связь ответственной несамодостаточности «я» с беспечным единством «Мы». «Наша» воля со-зиждется на любви, «нашей» по самому определению: «Взаимосвязь любви и воли демонстрируется тем фактом, что обе теряют силу, если не удерживаются в правильном соотношении; каждая может блокировать другую… Интенциональность дает основу, которая делает возможными цель и волюнтаризм; представляет структуру, в рамках которой происходит подавление сознательных намерений… Именно в этот век, когда так выросла наша сила, и выбор решения становится судьбоносным, мы не находим новых оснований для нашей воли».[205]
Интенциональность по существу связана с временем и образом, поэтому основа волюнтаризма в многомерном времени при несогласованной картине мира оказывается весьма шаткой: все характеристики (модальные и онтические) подлежат расщеплению на импрессию и воображение; точно так же желание и воля.[206] Преодоление этого расщепления осуществляется в единстве самосознаний. Феноменология социальных устремлений должна послужить дескриптивным мостом при переходе от субъективной логики к социальной – сперва психологии, потом логике. До сих пор феномен «нашей» воли остается лишь временно воображаемой, но не временной структурой.
Конфронтация и конформизм в выборе представляют собой выдаваемое строением слов одинаковое преобразование таких структур, как фронт и форма, – согласованность в противостоянии или обстоятельности. Виртуальность феноменологического подхода затруднена, по меньшей мере, двумя факторами: визуализацией базового пространства-времени в пределе общего намерения; и уклоном от нормального (если таковое вообще возможно) группового самосознания.
Оставим попытки связать разумные действия силы как ничьей воли с назревшим противоречием на грани перехода от инволюционного к эволюционному времени. Был ли поступок благим, мы не можем узнать по его последствиям, кроме отрешенности от любого итога, – единственного последования по существу. Иначе каждый поступок в чем-то будет провокацией возмездия или поощрения для «себя»-прошлого-будущего. Необходимость предварительной определенности во взаимности в неизбежных действиях переносит схему тела, минуя настоящее, в котором могли бы произойти радикальные изменения к лучшему.
Для развития чувственного восприятия установлено, что произвольные движения приостанавливают необратимость дез-адаптации в условиях сенсорной депривации.[207] Но всякое развитие – духовное. Эволюция неотделима от соответствующей инволюции, то есть волевой процесс рефлексивен по определению и спирален во времени. Выделяя особую точку трансформации времени и волевого оформления общественных связей, приходится постоянно удерживать в памяти: отсюда разворачивается лишь вариант феноменологии, исходящий из тенденции к усугублению сходства, и вынуждает применять сложившееся понятие нормы: «Феномен групповой поляризации – окно, через которое исследователи могут наблюдать за влиянием группы. Эксперименты подтверждают наличие двух видов группового влияния: информационного и нормативного… При втором объяснении учитывается процесс сравнения себя с другими».[208]
Присутствие других как таковое служит предпосылкой не только для утверждения «нашей» истины, но и для подчинения плюралистическому неведению, причем это противоречие сказывается в рамках определенной феноменологии и снимается при переходе к сравнительной феноменологии, когда относительность теряет всякий смысл, кроме собственно методологического. При поляризации единство сказывается не на содержании воли, а на форме: не ограничивая себя ложно понятой групповой нормой, люди дают себе волю выражать свои предпочтения более определенно. Влияние исходит от структуры власти, поэтому социальная власть определяется как потенциальное влияние.
В современной социальной психологии сложилась типология власти, основанная на различении производящих ее источников: принуждающая, вознаграждающая, легитимная, экспертная, информационная и референтная. При таком подходе важен не характер различия типов власти, а тот факт, что оно вообще проводится, равно как и отличие власти от влияния. Следующий фактор раскрепощает нормативность в самом ее определении: «Группа рассматривается как отношение индивид-индивид. Продолжив эту логику, надо было бы перейти к анализу межгрупповых отношений. Однако этого не происходит. Причина обрыва цепи индивид-группа-общество состоит в методологическом подходе с позиций индивидуализма».[209]
Социология отличается от социальной философии тем, что имеет дело с фактическими отношениями, а не мыслимыми. Следовательно, она не способна принимать во внимание еще не вполне воплотившиеся идеи, к которым относятся «Мы» и «наша» воля, находящиеся в проекте осуществления и понимания этого осуществления. Но поскольку понимание корректирует самое осуществление, постольку социальная философия практичнее социологии, и связующая их феноменология пребывает в рабочем состоянии, то есть не обладает завершенностью.
В нормативности влияния как сравнения себя с другими примечательна незастрахованность от ненормальности такого влияния, пока само сравнение не приобретает характер субъективности. Имеются две крайности: толпа и мистическое единство; а в проявлениях воли, соответственно: внушаемость и харизма. И здесь можно согласиться с предположением Сигеле, что воля имеет своих идиотов и своих гениев со всевозможными оттенками. В первом случае наблюдается ускоренное проявление феноменов. Сжатие и уплотнение времени коррелирует с умалением личной воли, но согласие на внушение вменяется в ответственность личности с целостной способностью воления: «В толпе, благодаря революции, происходит то же, что в частной жизни, благодаря эволюции... Нормальное я всегда переживает я ненормальное. Внушение может изменить индивидуальность, уменьшить волю до того, что нельзя будет сказать, существуют ли они, или нет; но что они не умерли совершенно, доказывает то, что они впоследствии реагируют так, что поневоле является представление о раскаянии организма в совершении действий, противоречащих его нормальной природе».[210]
Законы древней Руси предупреждали личное раскаяние общей расплатой: за скрывшегося убийцу платили всей округой, – закон побуждал всякого быть миротворцем. Решая, возможна ли в наше время коллективная ответственность, также требуют рассмотрения мотивов преступления, то есть принимать во внимание целостное воление индивида кроме целостного воления толпы. В положительную совокупность воления органично могут входить проявления совершенно патологические, например, истерия – как посмертный протест организма, совершившего против своей воли поступок, которым он возмущен. В этом акте выхлестывает энергия медленно подавленной внушением воли или врасплох сдавленной воли в толпе. Сэкономленное время компенсируется своеобразным безвременьем напрасной уже манифестации личной силы воли.
Сравнительно разумными – сознательными предпосылками самосознания – оказываются первобытные продукты общей воли: в силу незаметности индивидуальных влияний, каждое может быть продолжительным в том случае, если идет навстречу стремлениям, действующим в общем духе народа. Таков естественноисторический, или «нормальный», процесс нормализации влияний. Но в нем есть свои отклонения. Дополнительным умалением личной воли оказывается культ воли как таковой. Если же обращение к самостоятельности самой воли носит не личный, а общий характер, тогда проявляется противоположная аномалия воления – харизма, объединяющая вне власти иерархии.
«Прагматическая философия хочет не только исключить познание из области воли и действия, но и подчинить его себе… Волюнтаристический принцип лежит в прагматической философии в понятии самой воли как способности свободного выбора между любыми мотивами… Прагматизм переходит в неограниченный индивидуализм».[211] – «Харизма является идеей, пронизывающей нас. Ее воображаемая и сложная природа мешает нам отреагировать на нее логически, и мы вынуждены испытывать ее влияние наподобие физической реальности. Власть является результатом харизмы. Теория харизмы постулирует силу, которая направлена изнутри вовне, от мира идей к миру реалий. Ей общества обязаны движением и стабильностью».[212]
Общества делятся на революционные и нормальные, что позволяет обратиться к поиску третьего пути между индивидом и коллективом, исключающего принуждение к соответствию в форме консенсуса, где «Я» индивидов в то же самое время выражает «Мы», которое является их деятельной основой. Что касается человеческой личности, как она упрочивается в безликом и лицемерном обществе и далее наличествует в функции современности в межличностном безвременном общении, то ее понятие находится в становлении, заданном рефлексией воли соответствующего типа.
Приведенному субстанциальному источнику межличностной вариативности вторит развитие теории личности в социальной психологии, хотя бы оно и не было явно обращено к целям саморазвития и даже почитало их за производные ве-личины. Наблюдается тенденция к расширению спектра социальной рефлексии личности – от стремления к превосходству нашего общества над самим собой (Адлер) через саморегулируемое изменение «власть – человеку» (Бандура) до признания потребности в самоактуализации (Маслоу) и феноменологической тенденции к актуализации (Роджерс).[213]
Дистанцирование волевой рефлексии от самой себя обретает в каждой примеренной модели новую глубину мысли о воле. Так, для Адлера стремление к власти представляется в три этапа: быть агрессивным, могущественным, недосягаемым; для Маслоу самоактуализация есть желание человека стать тем, кем он может стать, и встречается довольно редко; для Роджерса она подразумевает повышение напряжения и не является конечным состоянием совершенства, – ни один человек не становится самоактуализированным настолько, чтобы отбросить все мотивы.
Снисходя до рассмотрения самого безблагодатного межличностного отношения – агрессии, мы обнаруживаем некое волевое состояние как обязательную составляющую поступка с преобладанием в ней действительности.[214] Статус конкретного социального факта придается скорее воле к поступку, чем самому поступку, – воле к общению, чем самому общению, – «нашей» воле к взаимодействию, чем общей воле к обустройству мира (ибо первое всегда определяет последнее); тогда как статус социального факта вообще – наоборот, происшествию. Понятие мира внутреннего раскрывается полнее представлений о мире внешнем.
Критическая точка сдержанности воли
Мы продолжаем сканировать понятийное пространство отсутствия безволия или его преодоления, расположенное собственно между постоянством воли и ее прекращением, равносильными активному и пассивному состоянию безволия соответственно или наоборот – в зависимости от самоопределения. Волевой акт, определяемый чаще как намерение, – поскольку действие существенно далеко не во всех формах наличной воли к чему бы то ни было, – подобно всякому движению ума не описывается в терминах возникновения и уничтожения, но при всем том состоит в переходе от отсутствия в структуре сознания образа чего-то желанного к его ясному и отчетливому предположению в объективном мире.
Когда мы учитываем необходимость реального действия, тем более воздействия друг на друга, весь вопрос смещается к завершенности стремления в адекватном воплощении, – при этом игнорируется изменение сознания в процессе приобретения вещей или даже навыков, информации и умения самостоятельно мыслить, – то есть все, что находится ниже уровня любви к ближнему. Мы совершаем настойчивые изыскания по всему понятийному пространству, где воля проявляется как нарушение ее постоянства в ту или иную сторону, что и означает собственно ее возникновение, ибо постоянство воли есть безволие; она являет собой рефлективное стремление к своему снятию, прекращению в интуиции более высокого порядка, каковой будет «наша» воля. Задержка воли оказывается более намеренным процессом, чем удерживание постоянства в воспроизведении избранного волевого акта.
В обоюдоострой крайности воли к выбору самого себя непременно в отношении с другими наблюдается своеобразный ступор воли. Патология служит необходимым ограничением и определением нормы, и в смысле границы она совершенно нормальна, равно как и внутренняя граница нормы общительности – уединенность, или (для «Мы») интимность, и полная безоговорочная жертвенность. Касательно воли, даже патология затрагивает скорее рефлексию данных внутренних границ мотивации намерения, чем собственно внешние (фактические, внешне определенные средой «мы») границы общения – неконтактность, или (для «Мы») сектантство, и раскованность.
Одно из проявлений подобного ступора воли (бывают другие, поскольку существуют иные системы координат, в которых зайти слишком далеко в области притязаний можно иначе) – экстравагантность: «Только там, где отсутствуют communio любви и communicatio дружбы, где простое общение с “другими” и со своим “я” взяло на себя исключительное управление существованием, только там человеческое существование может зайти слишком далеко, достичь края и сейчас, из которого нет ни отступления, ни движения вперед. Мы говорим о превращении в экстравагантность (Verstiegenheit). Поднятие вверх подразумевает выбор самого себя в смысле самореализации. Мы должны не путать его с простой волей в смысле психологического различения разума, чувства и воли».[215]
Последнее предупреждение отвечает стремлению не путать «нашу» волю с общей волей, просто «воля-по-вертикали» остается метафоричной и возведена в форму понятия (или стерта до абстрактности) не более чем «большая-воля» Бубера. Такова до сих пор новизна самоопределения «Мы», сдержанная его самообладанием, в силу которой понятийные схемы явно или неявно заимствуются из сферы практического самосознания «мы». Узнаваемо картезианское определение ошибки как исхода дисгармонии между волей и разумом: «Клинический пример – концепция слабоумия как несоразмерности между усилием и пониманием… О несоразмерности, проявляющейся в маниакальном паттерне жизни, с точки зрения Daseinsanalyse говорят как о скачкообразности [идей]. Экстравагантность шизоидной психопатической личности и формы шизофренического бытия-в-мире иные. Антропологическая несоразмерность не коренится в избытке ширины “прыгания” и высот простого vol imaginaire, которые превосходят подлинные высоты решения. Она коренится в чрезмерных высотах решения, которые превосходят ширину опыта… Экстравагантность означает “абсолютизиро-вание” отдельного решения».[216]
Открытый смысл кавычек заключает в себе сознание абсолюта, одно из необходимых толкований которого состоит в четкой констатации подтасовки в осуществлении избранности. Профанация действия происходит либо в неволе (внешнее принуждение), либо поневоле, где вершится имитация принуждения, или ложь самому себе как «Мы» во спасение самого себя как «я», неизбежная в силу растождествления с «мы» вообще, ибо именно в безвыходной ситуации в среде «мы» как осознанного «мы» происходит выбор между мученичеством (жертва «мной») и предательством (жертва «нами»).
Решимость, означающая постоянство воли человека, завравшегося до самозабвения, тождественна прекращению воли в полной-не-воле или по полной-не-воле. Единственная способность вакуума воли – властное притяжение волевых импульсов извне к обращению: «Невротик может быть “спасен” от экстравагантности только при помощи извне в смысле общения. Экстравагантность основана на отсутствии осмотрительности в отношении особого смыслового контекста или региона мира, в котором Dasein превосходит самого себя. Человек заходит слишком далеко в умственном или психическом смысле только тогда, когда ему не хватает понимания общей “иерархической структуры” человеческих онтологических возможностей».[217]
Мы не изыскиваем конкретные способы идентификации отдельных контактов в устойчивых интерсубъективных связях – в зависимости от предполагаемых вариантов совместного бытия, – но обращаем внимание на форму самотождества «нашей» воли-быть-вместе. Основной тактический (не лишенный тактичности) ход выработался во внедрении осмысления в волю «Мы» к бытию сущим вместе со всяким сущим в бытии «нами». Устойчивость обретается только в прекращении воли во вполне определившемся смысле.
«Отказ от определенных возможностей наделяет Dasein властью над миром… Свобода Dasein заключается в выборе ответственности по отношению к своей заброшенности… Бессилие Dasein проявляется в том, что некоторые из его возможностей бытия-в-мире изъяты из-за обязательств перед сущими и со стороны сущих. Но это изъятие придает Dasein его силу, ибо ставит перед Dasein доступные возможности проекта мира. В ограничивании трансцендентность приобретает власть “над миром”… В случае шизофрении Dasein не может свободно позволять миру быть, но предается одному проекту мира, подавляется им. Технический термин для этого состояния: заброшенность».[218]
Крайности в реализации «не-нашей» воли выражаются через патологическое понятие «мы». Примеры несбалансированных микрокосмов позволяют вводить новую область науки, называемой психиатрия народов.[219] Суть невозможности ее осуществления состоит в том, что терапевтом общей воли, сколь бы изуродована тиранством или стадностью она ни была, может быть лишь «наша» воля, а не воля «я», ибо она структурно является проекцией, которой не хватает множества измерений, не говоря уже о сравнительно полном ее бессилии. Вопрос же о социальной власти «Мы» в среде «мы» по-прежнему остается для нас открытым, – что означает не столько затянувшуюся незавершенность исследования, сколько правильную постановку вопроса.
Нежелательность неконтролируемой окружающей среды служит к распространению социопаталогии. В процессе сосредоточения и рассредоточения отдельных актов воли, – носителей частных интерпретаций субъективного намерения самой ситуации, – воздействие договора на волю народа происходит только при нарочитом акцентировании такого неотъемлемого свойства народа, рассеивающего его собственные наговоры, как массовость. Средний человек подвержен многим соблазнам, – прежде всего вещным, а не вещим, – но те и другие скрепляют власть. Диалог господина и раба вводит господство и рабство в саму структуру диалога: «Наиболее простое разделение языков в современных обществах обусловлено их отношением к Власти… Между дискурсивными системами существуют отношения, построенные на силе».[220]
Исследуя обусловленность воли к господству, присущей дискурсивной системе, Барт относит психоанализ, где господин – слушает, к фигурам системности, представляющим только один из типов дискурсивного оружия. Другой вариант предусматривает господство говорящего, где быть сильным – значит, прежде всего, до конца договаривать свои фразы. Смешение различных типов речи открывает возможность смещения войны языков в тексте, развертывающемся без исходной точки. Диалог не редуцируется к монологу, хотя бы и полифоническому, но приобретает качество свободного из-ложения, обращаются к которому, впрочем, немногие. Излагаемое предвосхищает такую практику чтения и письма, когда предметом обращения в них станет не господство, а желание. Очевиден возврат: господство и рабство возникли в гегелевской феноменологии как перераспределение желания, его укомплектованность, что и привлекало в движении фигур господина и раба Лакана. Неочевиден прогресс: образуется так называемая гетерологичность знания, языку сообщается карнавальное измерение, усложняющее движение подобных фигур их маскарадом.
Некорректно судить о мощи того или иного сословия, не понимая его именно как «наше» слово. В отношении к языку субъект уточняется как социальный. Не бывает просто слова, но сразу со-словие, или социолект. Диалог понимается не как общение субъектов посредством слов, но как взаимодействие дискурсов посредством субъектов. Принадлежность к тому или иному идеальному сословию по признаку формообразования дискурса важнее реального положения в обществе.[221] Герменевтика сохраняет трансцендентность всякой договоренности и вступает в диалог с позиции асоциального субъекта. Идейное порабощение не совпадает по форме с внушаемым предпочтением тех или иных продуктов потребления, чем снова подчеркивается несовпадение дискурса о самой власти с непосредственным спором о вещи, с самого начала определившим для нас отношение подчинения.
Классическая схема отношений господина и раба превратилась во взаимодополнительность безработных и их потенциальных вождей: «Современный безработный отличается тем, что его контакты со сферой производства спорадические, если вообще существуют… Он не имеет экономических корней и необычайно подвержен любой пропаганде. Другим источником бунтовщиков на противоположном полюсе общества является группа, принадлежащая к опасным профессиям. Они рождены лидерами предыдущей группы».[222]
При повсеместном распространении авторитарного синдрома можно утверждать, что «мы» есть, но «Мы» существует лишь исподволь. Ассоциация, преодолевшая внутренний диссоциативный процесс, подходит к критической точке сдержанности воли.
Заключение
В процессе рассмотрения различных проблем, скрепленных общей идеей, мы обращались за аргументацией к самым разным источникам и полемизировали с множеством представителей большого числа направлений. Собственно, подобное соотношение и базировалось на некотором «Мы», означающем в данном случае всех исследователей, тем или иным образом занятых решением выделенного нами спектра фундаментальных задач. Однако в силу обилия цитат, сопоставлений, примеров, а также при переходах от одного предмета к другому и смене точек зрения, высказываемых субъектами их рассмотрения, последовательность логического построения неизбежно прерывалась и тем самым терялась основная нить данного исследования. Поэтому мы вынуждены повторить в заключение основные тезисы данного труда, чтобы продемонстрировать связность понятий, отчасти действующих и поддающихся выявлению, а отчасти сконструированных в целях намеренного воздействия на «существующую реальность» – коль скоро она «не разумна» и не соответствует «подлинной действительности».
Конкретизация понятия «они», входящего в структуру безнадежного «мы», не имеющего в перспективе никакого «Мы», теряет актуальность – поскольку означенная им реальность становится уже чем-то нереальным по отношению к тем духовным фактам, с которыми хотела бы иметь дело «наша» воля. Самосознательное «мы» всегда производно, будет ли оно рассмотрено с точки зрения самосознательного «я», превосходящего собственную определенность, или с точки зрения бессознательного «мы», впервые обретающего способность самоопределения. На самом деле это один и тот же процесс: обособляется «Мы» общения, как форма исконного отношения «Я – Ты», от «мы» познания, как формы вторичной связи «Я – оно».
Предполагается разрыв в причинно-следственной связи воления, или промежуточная волевая интенция, носящая характер контраста между двумя противоположными волями. Пусть «мы» переходит к другому самоопределению, к другому способу самоопределения и даже к другому пониманию самоопределения вообще. Но оно сохраняет непрерывность самосознания и должно отвечать за последовательность воления и его своевременность. Если «Мы» (уже «Мы») признается другими «мы» (все еще «мы»), оно несет ответственность за обоснование принятого решения. Различимы два характера целостности «мы» и «Мы»: «еще мы» и «уже Мы» – смена позиции субъекта воления, разорвавшего круг завершенности познания; «уже мы» и «еще Мы» – смена перспективы объекта познания, разорвавшего круг завершенности воления.
Противостояние господина и раба представляет собой элементарное волевое отношение, или волевое противоречие в чистом виде. «Я», которое есть «Мы», и «Мы», которое есть «Я», распадается на крайности: «я» и «мы», а не «Я» и «Мы», сохранявшиеся в тождестве, – господин и раб. Рабу в большей степени присуще сознание «Мы», что дает ему превосходство над самим собой, которым не обладает «я» господина, более склонное к «мы». Власть над самим собой: сознание подчинено самосознанию, как раб – господину, ибо раб только станет «Мы», господин является «мы». Самозамкнутость духа, смежающая господина и раба до рефлективного поиска выхода в безвыходной ситуации, способна породить самоинициацию более высокой формы развития. После освобождения от двойного гнета, налагаемого господином и вожделенной вещью, раб реабилитирует для себя свое представление о воле. Тогда он снова обнаруживает себя в положении зависимости, ведь воля снова определена и тем самым реально ограничена.
Границей в отношении подчинения выступает дискурс: раб говорит, а господин слушает. Гештальт господства-рабства помещается в поле деятельности, промежуточном между самостоятельностью и несамостоятельностью самосознания. Подавляется дискурс, обрамляющий желание, поскольку он характеризуется властностью. Как достоверность себя самого, достигаемая практическим образованием, так и отчуждение от самого себя, следующее из теоретической образованности, описываются в терминах волевых взаимодействий. Параметры, адекватно которым способна резонировать хорошо настроенная практическая интуиция: превосходство феноменологического раба состоит в проблесках его «Мы», он сам сознает власть «Мы» над «мы» и готов воспользоваться ею, дискредитируя замысел предустановленной гармонии в социологическом проекте.
Какое бы применение ни отводилось воле в практической философии, ее существенная связь с разумом не прерывалась. Независимость воли от разума для самоопределения появляется в проекте после дискредитации разума. Самосознание объявляется иллюзией, а бессознательное – реальностью; понятие воли лишается прежней области применения, требуя переосмысления в способе существования, обнаруженном переходным человеческим существом. Период отсутствия устойчивости философии в себе и ее внешнего безволия позволил обрести самостоятельность вольным движениям социологической мысли, возникающей в силу воли «по договоренности» как общественный логос, но не «Наше» Слово. Заблуждение относительно народной воли состоит в отделении ее от «нашей» воли, образованной в единстве с неповторимостью «Ты», и стремлении уравновесить «их» воления, где «моя» воля выступает столько же, сколько «его» воля.
Подражание и принуждение – два названия одного и того же процесса в «мы» с разными субъект-объектными отношениями между двумя «я», ибо не находя подступов к «Мы» нельзя говорить о взаимодействии «я» и «Ты». Но в сравнении «мы» с самим собой нет разницы – начинать с анализа и диссоциации господина (до разных самосознаний одного «мы», ибо господин одинок) или синтеза и ассоциации рабов (до единого сознания разных «Мы», то есть снова «мы», если раб подчиняется самосознанию господина и принимает его «мы» вместо улавливаемого им своего «Мы»). Такие «я» обратимы внешним образом. Вариации воления, заключенного в связи господина и раба, поскольку оно социально целостно, имеет структуру, замкнутую на самих себя. Даны социологические рамки определения «нашей» воли: «мы», как довлеющее над «я»; и это же «мы», как игнорирующее всякое «Мы» и всю совокупность «Мы».
Современные философы, поддерживающие «мы» познания, но впавшие в экзистенциальное противоречие, вступают в круг «Мы» общения. Иррациональность воли вновь осознается как проблема, но возврат к построению философской системы закрыт ее принципиальной завершенностью. Потребность в новом единстве разума и воли сказывается на продолжении философствования вообще. Искажается механизм власти, поскольку в рассмотрение входит не простое подавление воли, – или приоритет самосознания над сознанием, в пределах одной чисто феноменологической личности или двух экзистенциальных субъектов, – но сдавленность воления, оказавшегося затертым между волей и произволом, обыкновенно кореллирующими в практическом применении разум и рассудок.
Для современной веры характерно запросто произносить «мы с Богом» – и это констатация реального положения дел: Бог и человек необыкновенно и небывало сблизились в наше время. Этот факт духовного опыта обостряет проблему различения «Нашей с Богом» воли от просто воли Бога, выраженной условиями мирской жизни. К ним относятся техничность существования и беспомощность отдельного человеческого существа, – тем надежнее ему приходится полагаться на проявление воли Бога в нем самом как «нашей», присущей не только ему одному, но и всем людям. И это показатель несравнимого ни с каким прежним доверия Бога к Человеку Судящему, быть или не быть Богу и Его воле. Человек решается принять на себя ту долю ответственности, которая раньше возлагалась на Бога, сущего вне «нас». Переименование Бога в человека – свидетельство завершения «Наших» отношений, но как таковое оно осознано лишь в Нем.
Предположительное разделение между «Нашей» волей и «нашей» волей, соответствующее терминологически «Мы» и «мы», не может оставаться долго удерживаемым. Совместное воление осуществимо лишь как воля «Мы», ибо «мы» обладает только желанием и мышлением. Оно выражает осознание субъектом «мы», самой деятельностью обобществления, конфликта гармонизации с гармонией в пред-социальном предположении. Явное отличие структуры «нашей» воли выступает при определении полного пространства послушания: не только удерживаться от несообразного, но без воли «Мы» не делать и похвального, – чем подчеркивается формообразующий характер отсечения своеволия для структурирования «нашей» воли. Важно не содержание веления, а его положение в общей иерархии. Вот почему существенно рефлективное владение хотением вообще.
Мир людей составляет «твердая» воля к взаимопредставлению и взаимодействию. Направленная деятельность по подавлению воли ближнего сказывается на изменении мира, удержание образа которого зависит от образованности самосознающего «Мы» в смысле последовательного образования «нашей» воли. Практическая философия «мы» отмечала волевой характер воображения в отличие от мышления, но не связывала это со степенью материальности объектов обеих функций. Образ представляет собой определенную стадию воплощения идеи, которая возникает сама собой, проект же требует работы. Соответствующее разделение происходит и на уровне субъекта восприятия сотворенного: философия по существу асоциальна, тогда как социальная философия занята социальной адаптацией мышления о мышлении, и для нее важно заполнить понятийный промежуток между идеей и образом, найдя соответствующее «наше» усилие.
Оставаясь людьми, мы ничего не знаем, кроме человеческого общежития. Отсюда старания вообразить нечто сверхчеловеческое, неизбежно одинокое. Образ Бога есть «я», а подобие Его суть «Мы»-соборность, отрефлексированный образ «нашего» мира, удерживаемый обращенным к Богу «мы» и возвращающим Ему мир. Воля Божья относительно отдельного человека открывается лишь ему самому, воля Божья относительно человеческих взаимодействий, – а она несводима даже к полностью осознанной отдельными людьми воле Бога относительно их совместного предназначения в мире, – открывается лишь самому основанию этих связей, поскольку оно достигло самосознания в «Мы». Но до тех пор «наша» воля есть нечто воображаемое.
Что для воли человека есть тело, то для со-воления людей есть мир, не наделенный изначально самоопределением в качестве «нашей» воли. Стеснение во внутреннем пространстве чистого сознания времени определенных отношений самосознаний приводит к воображению «нашего» устремления к свободе. Но иерархия «я – мы – Мы» держится исключительно на понятийном уровне. При попытке феноменологического обследования предполагаемой или утраченной телесности, мы сталкиваемся с замыканием герменевтического круга, где «Мы» возникает не в момент произнесения «Ты», а в момент волевого произнесения «Я». Они задают временные параметры для объективного прохождения духовной иерархии.
Быстрорастворимость влияния отражает несогласие с выявлением интимности «Мы», затрудняющее решимость вырваться в качестве «Ты» из всех «они», особенно если никакое «Ты» не прозвучало со стороны другого «Я», – и вызвана не столько непривычно возросшими объемами информации, сколько привычно зауженными рамками трансформации. Реализовать «Мы» удается при включении преодоленной структуры «мы» в функциональную связь ответственной несамодостаточности «я» с беспечным единством «Мы». «Наша» воля созиждется на любви, «нашей» по определению. Конфронтация и конформизм в выборе выдают согласованность в противостоянии или обстоятельности. Виртуальность феноменологического подхода затруднена визуализацией базового пространства-времени в пределе общего намерения и уклоном от стандартов самосознания.
Произвольные движения приостанавливают необратимость дез-адаптации в условиях сенсорной депривации. Эволюция неотделима от соответствующей инволюции: волевой процесс рефлективен по определению и спирален во времени. На основе трансформации времени и волевого оформления общественных связей разворачивается вариант феноменологии, исходящей из тенденции к усугублению сходства. Социология отличается от социальной философии тем, что имеет дело с фактическими отношениями, а не с мыслимыми, и не способна принимать во внимание не вполне воплотившиеся идеи, к которым относятся «Мы» и «наша» воля. Но, поскольку понимание корректирует осуществление, социальная философия практичнее социологии, и связующая их феноменология пребывает в рабочем состоянии, не обладая завершенностью.
Статус конкретного социального факта придается скорее «нашей» воле к взаимодействию, чем общей воле к обустройству мира; а статус социального факта вообще – наоборот, происшествию. Безответная любовь вносит разлад в осуществление «нашей» воли, сохранившейся в функции свидетеля, для которого стоит дилемма соотнесения с верной волей, – а для втянутых в событие лиц существует определенность, создавшая равновесие взаимодействия. «Наша» воля неделима на форму воления вообще и содержание или цель конкретного акта воли. Она рефлективна в «нашем» разуме и есть воля к тому, чтобы быть всецело «нашей» волей. Всенародное предание воле Божьей, составляющее «нашу» волю народа-богоносца, возникает очагами инаковости «Мы» среди «мы».
Понятийное пространство отсутствия безволия и его преодоления расположено между постоянством воли и ее прекращением, равносильными активному и пассивному состоянию безволия соответственно или наоборот, – что зависит от самоопределения. Волевой акт состоит в переходе от отсутствия в структуре сознания образа чего-то желанного к его предположению в объективном мире. В реальном воздействии вопрос смещается к завершенности стремления в адекватном воплощении. Воля проявляется как нарушение ее постоянства, что и означает ее возникновение, ибо постоянство воли есть безволие; а также как рефлективное стремление к своему снятию в интуиции «нашей» воли. Прекращение воли оказывается более намеренным процессом, чем постоянство в поддержании прежнего намерения.
В воле к выбору самого себя в отношении с другими наблюдается ступор воли. Патология служит определением нормы, равно как и внутренняя, желанная граница общительности – уединенность и жертвенность. В волении патология затрагивает рефлексию внутренних границ мотивации намерения, а не внешних, определенных средой «мы» границ общения – неконтактность и раскованность. Профанация священнодействия осуществляется либо в неволе (внешнее принуждение), либо поневоле, где вершится имитация принуждения, или ложь самому себе как «Мы» во спасение самого себя как «я», неизбежная в силу растождествления с «мы», ибо в среде «мы» как осознанного «мы» происходит выбор между жертвой «мной» и жертвой «Нами». Решимость, означающая постоянство воли человека, завравшегося до самозабвения, тождественна прекращению воли в полной-не-воле или по полной-не-воле. Единственная способность вакуума воли – властное притяжение волевых импульсов извне к обращению.
Диссоциативный характер политической ассоциации выражается в том, что правительство считает себя ведомым волей народа и призванным управлять массами. Расслоение социального факта на народ и массы выявляет существование люфта между ассоциацией и диссоциацией волений. Масса способна растворить целостность устремлений народа. Отношения подчинения получают массовое наполнение. Воздействие договора на волю народа происходит при нарочитом акцентировании такого неотъемлемого свойства народа, рассеивающего его собственные наговоры, как массовость. Средний человек подвержен соблазнам, – вещным и вещим, – которые скрепляют власть. Диалог господина и раба вводит господство и рабство в структуру диалога. В обусловленности воли к господству парадигма «господин слушает» представляет один из типов дискурсивного оружия. Другой вариант предусматривает господство говорящего, где быть сильным – значит, до конца договаривать свои фразы.
Смешение типов речи открывает возможность смещения войны языков в тексте, развертывающемся без исходной точки. Диалог приобретает качество свободного изложения. Излагаемое предвосхищает такое общение, когда предметом обращения станет не господство, а желание. Очевиден возврат: господство и рабство возникли в феноменологии как перераспределение желания, его укомплектованность. Неочевиден прогресс: образуется гетерологичность знания, усложняющая движение фигур их знаковостью. В отношении к языку субъект уточняется как социальный. Не бывает просто слова, но сразу социолект. Принадлежность к идеальному со-словию по признаку формообразования дискурса важнее реального положения в обществе. Идейное порабощение не совпадает по форме с внушаемым предпочтением товаров, чем подчеркивается отличие дискурса о самой власти от спора за вещь, определившего отношение подчинения.
При повсеместном распространении авторитарного синдрома «мы» есть, но «Мы» существует лишь исподволь. Материальный мир – это место, куда воля Бога поступает с непредсказуемой задержкой. Для переусердствовавшего в исполнительности последствия поспешности формально сказываются в необходимости заполнить образовавшиеся временные вакуумы действиями по ликвидации созданных помех дальнейшему продвижению. Кроме закономерного нарастания и убывания «нашей» воли в процессе ассоциации и диссоциации волений, существует возможность прорыва воли. Ассоциация, преодолевшая внутренний диссоциативный процесс, подходит к критической точке сдержанности воли.
Литература
(((((((((((.((((((((((((((((((. ОXONII e Clarendoniana. MCMLVII.
(((((((((((((((((((((. (((((((((((((((((. СПб., 1994.
((((((((((((((((((((((((((((// (((((((((((((. London, 1994.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((// (((((((((((((. London, 1994.
Bonaventura. Itenerarium mentis in Deum. М., 1993.
Descartes R. Meditationes de prima philosophia. СПб., 1995.
Spinoza В. Ethica. Leipzig, 1875.
Aurobindo, Sri. The Foundations of Indian Culture. Pondicherry, 1995.
Aurobindo, Sri. Social Reform // Aurobindo, Sri. Essays Divine and Human. Pondicherry, 1996.
Heidegger М. Being and Time. Basil Blackwell, 1988.
The Brhadaranyaka Upanisad. Advaita Ashrama, 1993.
The Taittiriya Upanisad. New-Delhi, 1994.
Hegel G. W. F. Phanomenologie des Geistes. Frankfurt am Main, 1970.
Hegel G. W. F. Philosophie des Rechts. Berlin, 1956.
Scheler М. Die Stellung des Menschen im Kosmos // Шелер М. Избр. пр. М., 1994.
Адорно Т. Авторитарная личность // Психология и психоанализ власти. Т. 2. Самара, 1999.
Аристотель. Большая этика // Соч. В 4 т. Т. 4. М., 1983.
Аристотель. Политика. // Соч. В 4 т. Т. 4. М., 1983.
Ауробиндо, Шри. Идеал человеческого единства. СПб., 1998.
Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.
Бердяев Н. А. Философия неравенства // Русское зарубежье. Л., 1991.
Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Бинсвангер Л. Экстравагантность // Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М., 1999.
Болл Т. Власть // Психология и психоанализ власти. Т. 1. Самара, 1999.
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. СПб., 2001.
Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1999.
Василий Великий. Правила для общежительников // Древние иноческие уставы. М., 1994.
Васубандху. Учение о мире // Абхидхармакоша. Т. 3. СПб., 1994.
Вебер М. Харизматическое господство // Психология и психоанализ власти. Самара, 1999.
Вивекананда, Свами. Современная Индия // Вивекананда, Свами. Практическая веданта. М., 1993.
Витгенштейн Л. Культура и ценность // Философские работы. М., 1994.
Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. М., 1998.
Вышеславцев Б. П. Вольность Пушкина. (Индивидуальная свобода) // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Вюрпилло Э. Восприятие пространства // Экспериментальная психология. М., 1978.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.
Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб., 1993.
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992.
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1970.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1997.
Геродот. История: Избранные страницы. СПб., 1999.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук // Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1999.
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.
Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Избр. пр. М., 1950.
Декарт Р. Начала философии // Декарт Р. Избр. пр. М., 1950.
Декарт Р. Метафизические размышления // Декарт Р. Избр. пр. М., 1950.
Делёз Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. М., 1990.
Денни Ф. М. Ислам и мусульманская община // Религиозные традиции мира. В 2 т. Т. 2. М., 1996.
Дитмар А. Б. География в античное время. М., 1980.
Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.
Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.
Дюркгейм Э. Курс социальной науки. // Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.
Зеньковский В. В. История русской философии // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Зиммель Г. Личность Бога // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1. М., 1996.
Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 2. М., 1996.
Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии. // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 2. М., 1996.
Зиммель Г. Социальная дифференциация // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 2. М., 1996.
Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1. М., 1996.
Зиммель Г. К социологии религии // Зиммель Г. Избр. В 2 т. Т. 1. М., 1996.
Ильин Е. П. Психология воли. СПб., 2000.
Иоанн Кассиан, пр. Устав иноческого общежития // Древние иноческие уставы. М., 1994.
Канетти Э. Элементы власти // Психология и психоанализ власти. Т. 1. Самара, 1999.
Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.
Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.
Кант И. Метафизика нравов. // Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.
Кант И. К вечному миру // Соч. Т. 1. М., 1994.
Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979.
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лебон Г. Вожаки толпы // Психология и психоанализ власти. Т. 2. Самара, 1999.
Лейбниц Г. В. Теодицея // Лейбниц Г. В. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1989.
Лейбниц Г. В. Замечания на книгу о начале зла // Лейбниц Г. В. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1989.
Ле-цзы // Дао: гармония мира. М., 2000.
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991.
Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1999.
Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранное. В 3 т. Т. 1. М., 1980.
Маркузе Г. Разум и революция. СПб., 2000.
Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб., 1999.
Массинг О. Господство // Психология и психоанализ власти. Т. 1. Самара, 1999.
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.
Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997.
Нидлман Д. Критическое введение в экзистенциальный психоанализ Людвига Бинсвангера // Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. М., 1999.
Николаева М. В. Сила совместного воображения // Социальное воображение. СПб., 2000.
Николаева М. В. Сверх-бог и материализация сознания // Дарвин и Ницше: сквозь призму ХХ века. СПб., 2000.
Николаева М. В. Общее житие в безответной любви // Восточная Европа: диалог в христианстве. СПб., 2000.
Николаева М. В. Сословие по договоренности // Диалог: проблемы междисциплинарных исследований. СПб., 2000.
Николаева М. В. «Русский онтологизм» // Россия и мир. Гуманитарные проблемы. Вып. 1. СПб., 2001.
Николаева М. В. «Русско-индийский материализм» // Россия и мир. Гуманитарные проблемы. Вып. 2. СПб., 2001.
Николаева М. В. Древнегреческие и древнеримские свидетельства об Индии // Путь Востока: Межкультурные коммуникации. СПб., 2003.
Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Избр. пр. Т. 2. М., 1990.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Избр. пр. Т. 2. М., 1990.
Ориген. О свободе воли // Ориген. О началах. Самара, 1993.
Павлов И. П. Рефлекс свободы // Павлов И. П. Двадцатилетний опыт. М., 1973.
Павлов И.П. Чувства овладения и ультрапарадоксальная фаза. // Пав-лов И. П. Двадцатилетний опыт. М., 1973.
Парибок А. В. Вопросы Милинды и их место в истории буддийской мысли // Вопросы Милинды. М., 1989.
Пахомий, пр. Устав Тавеннисиотского общежития // Древние иноческие уставы. М., 1994.
Пек М. С. Непроторенная дорога. Новая психология… Киев, 1999.
Пианка Э. Эволюционная экология. М., 1981.
Платон. Филеб // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. З. М., 1994.
Платон. Государство // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. З. М., 1994.
Платон. Пир // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М., 1994.
Плотин. О воле и свободе Первоединого // Плотин. Эннеады. Киев, 1995.
Почепцов Г. Г. Коммуникационные технологии ХХ века. М., 1999.
Радхакришнан С. Индийская философия. В 2 т. М., 1993.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
Салливан Г. С. Интерперсональная теория в психиатрии. М., 1999.
Сартр Ж. П. Проблема метода. М., 1993.
Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2000.
Сатья Саи, Шри. Дхарма вахини. М., 1997.
Сигеле С. Преступная толпа // Преступная толпа. М., 1998.
Силуан, ст. О Воле Божией и о свободе // Старец Силуан. М., 1994.
Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996.
Соловьев В. С. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1990.
Соловьев В. С. Идея сверхчеловека // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1990.
Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1990.
Соловьев В. С. Смысл любви // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1990.
Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ столетии // О Рос-сии и русской философской культуре. М., 1990.
Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
Тард Г. Социальная логика. СПб., 1996.
Торчинов Е. А. Недеяние и самоестественность… // Торчинов Е. А. Даосизм. СПб., 1999.
Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Федотов Г. П. Будет ли существовать Россия? // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Фихте И. Г. Назначение человека // Фихте И. Г. Соч. В 2 т. Т. 2. СПб., 1993.
Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. // Фихте И. Г. Соч. В 2 т. Т. 2. СПб., 1993.
Фихте И. Г. Факты сознания. // Фихте И. Г. Соч. В 2 т. Т. 2. СПб., 1993.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 3 т. Т. 1. М., 1990.
Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 3 т. Т. 2. М., 1990.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия // О России и русской философской культуре. М., 1990.
Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. М., 1992.
Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992.
Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992.
Франк С. Л. Русское мировоззрение // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992.
Франк С. Л. Смысл жизни // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992.
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Фрейд З. Я и «Оно». Тбилиси, 1991.
Фрейд З. Я и «Оно». Тбилиси, 1991.
Фромм Э. Революция надежды. СПб., 1999.
Фрэнкель С. С. Христианство: путь к спасению // Религиозные традиции мира. В 2 т. М., 1996.
Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине. М., 1996.
Фуко М. Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине. М., 1996.
Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998.
Хайдеггер М. Бытие и время // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Гегель и греки // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайнд Р. Агрессия // Поведение животных. М., 1975.
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. М.; СПб., 1997.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1999.
Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 1999.
Чжуан-цзы // Дао: гармония мира. М., 2000.
Шарден П. Т. Д. Феномен человека. М., 1987.
Шеллинг Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма // Шел-линг Ф. В. Й. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1987.
Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. пр. М., 1994.
Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей. // Ше-лер М. Избр. пр. М., 1994.
Шелер М. Человек в эпоху уравнивания. // Шелер М. Избр. пр. М., 1994.
Шихирев П. Современная социальная психология. М., 1999.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2 т. М., 1993.
Шопенгауэр А. О воле в природе // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. В 2 т. Т. 2. М., 1993.
Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. В 2 т. СПб., 1995.
Экман П. Психология лжи. СПб., 1999.
Энгельс Ф. О социальном вопросе в России // Маркс К., Энгельс Ф. Избранное. В 3 т. Т. 2. М., 1980.
Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской церкви / Сост. св. И. Ковалевский. М., 1996.
Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
Примечания
1
Зеньковский В. В. История русской философии. Введение.
(обратно)2
Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение. П. 3.
(обратно)3
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 221, 148.
(обратно)4
См.: Фрейд З. Я и «Оно».
(обратно)5
Бубер М. Я и Ты. Ч. 3.
(обратно)6
Там же.
(обратно)7
Бубер М. Я и Ты. Ч. 2.
(обратно)8
Там же.
(обратно)9
Бубер М. Проблема человека. Ч. 1. Р. 1.
(обратно)10
Франк С. Л. Русское мировоззрение. 2.
(обратно)11
Декарт Р. Метафизические размышления. 4, 2.
(обратно)12
Декарт Р. Страсти души. 155.
(обратно)13
Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение. 3.
(обратно)14
Гегель Г. В. Ф. Философия права. Предисловие.
(обратно)15
Франк С. Л. Смысл жизни. О духовном и мирском делании.
(обратно)16
Франк С. Л. Духовные основы общества. Ч. 2. Гл. 4. П. 4.
(обратно)17
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 6. 12.
(обратно)18
Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии.
(обратно)19
Подробнее см.: Николаева М. В. «Русский онтологизм» // Россия и мир. Гуманитарные проблемы. Вып. 1. С. 90–96.
(обратно)20
См.: Федотов Г. П. Будет ли существовать Россия?
(обратно)21
См.: Экман П. Психология лжи.
(обратно)22
См.: Почепцов Г. Г. Коммуникационные технологии ХХ века.
(обратно)23
См.: Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления.
(обратно)24
Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии.
(обратно)25
Зиммель Г. Как возможно общество?
(обратно)26
Зиммель Г. Социальная дифференциация. Гл. 2.
(обратно)27
Зиммель Г. Социальная дифференциация. Гл. 6.
(обратно)28
Зиммель Г. Личность Бога.
(обратно)29
Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд. Гл. 5.
(обратно)30
Зиммель Г. К социологии религии.
(обратно)31
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 4. А.
(обратно)32
См.: Болл Т. Власть.
(обратно)33
См.: Ильин Е. П. Психология воли. Гл. 4.
(обратно)34
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 4. А. Господство и рабство.
(обратно)35
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 2. Восприятие или вещь и иллюзия.
(обратно)36
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 3. Сила и рассудок.
(обратно)37
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 7. С. Религия откровения.
(обратно)38
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 4. А.
(обратно)39
Оbsessus (лат.) – активное причастие от obsideo – населять, притеснять, блокировать, задерживаться. Оbsess (англ.) – завладевать, преследовать, мучить (о навязчивой идее); овладевать, обуять (о страхе).
(обратно)40
См.: Лебон Г. Вожаки толпы.
(обратно)41
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. 3.
(обратно)42
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 4. А.
(обратно)43
Там же.
(обратно)44
Там же.
(обратно)45
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. С. 233.
(обратно)46
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. 2.
(обратно)47
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. 2. 1. 3.
(обратно)48
Там же.
(обратно)49
Ср.: Массинг О. Господство.
(обратно)50
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. 3.
(обратно)51
Фуко М. Порядок дискурса.
(обратно)52
Фуко М. Воля к знанию. 1.
(обратно)53
Ср.: Канетти Э. Элементы власти.
(обратно)54
Фуко М. Порядок дискурса.
(обратно)55
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. 1. 1. 1. b. (.
(обратно)56
Там же. 2. 2. 3. b.
(обратно)57
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Ч. 2. С. 90.
(обратно)58
Подробнее см.: Николаева М. В. Сверх-бог и материализация сознания // Дарвин и Ницше: сквозь призму ХХ века. С. 72–75.
(обратно)59
См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Р. 1.
(обратно)60
Гадамер Г.-Х. Истина и метод. 2. 2. 3. b.
(обратно)61
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Ч. 2. С. 112.
(обратно)62
Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. Гл. 2. С. 36.
(обратно)63
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Эк. 1. С. 62.
(обратно)64
См.: Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Ч. 3. Гл. 3. П. 1.
(обратно)65
См.: Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Ч. 1. Гл. 2. П. 2.
(обратно)66
См.: Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Ч. 1. П. 5.
(обратно)67
См.: Маркузе Г. Разум и революция. Ч. 1. Гл. 4.
(обратно)68
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. 1. 4. А.
(обратно)69
Платон. Пир. 200b.
(обратно)70
Платон. Филеб. 35с.
(обратно)71
Платон. Государство. 606d.
(обратно)72
См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. 1. С.
(обратно)73
Платон. Государство. 431d, 576а, 561b—c.
(обратно)74
Аристотель. Большая этика. 1187b9–19, 1181b26.
(обратно)75
Там же. 1187b33–38; 1188а32, 1188а8.
(обратно)76
Аристотель. Политика. 1254b21; 1155a33, 1155b9; 1260a35, 1260b4.
(обратно)77
Аристотель. Большая этика. 1188b32–38.
(обратно)78
Плотин. Эннеады. 6. 8.
(обратно)79
Декарт Р. Начала философии. Ч. 1. 32–42.
(обратно)80
Там же. Ч. 1. 38.
(обратно)81
См.: Хайдеггер М. Гегель и греки.
(обратно)82
Декарт Р. Метафизические размышления. 6.
(обратно)83
Декарт Р. Страсти души. 1. 20.
(обратно)84
Там же. 1. 18.
(обратно)85
Спиноза Б. Этика. Ч. 2. Т. 48–49.
(обратно)86
Там же. Т. 49. Схолия.
(обратно)87
Лейбниц Г. В. Теодицея. 310, 206, 241, 209.
(обратно)88
Там же. 301, 327–328.
(обратно)89
Лейбниц Г. В. Замечания на книгу о начале зла. 13.
(обратно)90
Кант И. Основы метафизики нравственности. Р. 2.
(обратно)91
Кант И. Критика практического разума. Кн. 2. Гл. 2. 4.
(обратно)92
Там же. Кн. 1. Гл. 1. 1.
(обратно)93
Кант И. Метафизика нравов. Ч. 1. Введение. 4.
(обратно)94
Кант И. Основы метафизики нравственности. Р. 2; 3.
(обратно)95
Кант И. К вечному миру. Прил. 1.
(обратно)96
Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. Кн. 1. Гл. 1.
(обратно)97
Фихте И. Г. Назначение человека. Кн. 3.
(обратно)98
Там же.
(обратно)99
Фихте И. Г. Факты сознания. Ч. 3. Гл. 3.
(обратно)100
Шеллинг Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма. Р. 4.
(обратно)101
Там же.
(обратно)102
Гегель Г. В. Ф. Философия права. 26.
(обратно)103
Там же. 4, 13, 6, 15.
(обратно)104
См.: Хайнд Р. Поведение животных. Ч. 2. Гл. 15. П. 5.
(обратно)105
Гегель Г. В. Ф. Философия права. 21, 57, 66.
(обратно)106
Там же. 48.
(обратно)107
Кьеркегор С. Страх и трепет. Пр. 1.
(обратно)108
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я». 1.
(обратно)109
Пианка Э. Эволюционная экология. Гл. 1.
(обратно)110
Маслоу А. Г. Мотивация и личность. С. 166.
(обратно)111
Павлов И. П. Двадцатилетний опыт. 30, 56.
(обратно)112
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. П. 25, 19; 70, 66.
(обратно)113
Шопенгауэр А. О воле в природе. Гл. «Животный магнетизм».
(обратно)114
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Гл. 1.
(обратно)115
Ницше Ф. Воля к власти. П. 422, 495, 315.
(обратно)116
Соловьев Вл. Идея сверхчеловека.
(обратно)117
См.: Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.
(обратно)118
См.: Энгельс Ф. О социальном вопросе в России.
(обратно)119
Бердяев Н. А. Русская идея. Гл. 5.
(обратно)120
Бердяев Н. А. Философия неравенства. 8.
(обратно)121
Вышеславцев Б. П. Вольность Пушкина. Индивидуальная свобода.
(обратно)122
Федотов Г. П. Национальное и вселенское.
(обратно)123
Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ веке.
(обратно)124
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. 2. 2. 2. 2.
(обратно)125
Сартр Ж. П. Проблемы метода. 1. Заключение.
(обратно)126
Соловьев Вл. Идея человечества у Августа Конта.
(обратно)127
Тард Г. Социальная логика. Предисловие.
(обратно)128
Дюркгейм Э. Метод социологии. Предисловие к 2 изд. 3.
(обратно)129
Там же. Гл. 2. 1.
(обратно)130
Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные. 4.
(обратно)131
Дюркгейм Э. Курс социальной науки. 5.
(обратно)132
Тард Г. Социальная логика. Гл. 1. 3, 5. Гл. 2. 1.
(обратно)133
Дюркгейм Э. Метод социологии. Гл. 5. 1, 2.
(обратно)134
Тард Г. Социальная логика. Гл. 1. 6.
(обратно)135
Гуссерль Э. Картезианские размышления. П. 49, 51, 50.
(обратно)136
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. Р. 3. П. 96.
(обратно)137
Гуссерль Э. Кризис европейских наук. П. 6, 7.
(обратно)138
Шелер М. Положение человека в космосе. Ч. 3, 4.
(обратно)139
Шелер М. Человек в эпоху уравнивания.
(обратно)140
См.: Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей.
(обратно)141
Де Шарден П. Т. Феномен человека. Пролог. Ч. 4.
(обратно)142
Ясперс К. Духовная ситуация времени. Ч. 1. 2. 2.
(обратно)143
Там же. Ч. 2. 3.
(обратно)144
Там же. Ч. 2. 1; 3; 3. 2.
(обратно)145
Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Ч. 2. 1. 1. б)
(обратно)146
Хайдеггер М. Бытие и время. П. 43.
(обратно)147
Там же. П. 31–38.
(обратно)148
Хайдеггер М. Время картины мира.
(обратно)149
См.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм.
(обратно)150
Хайдеггер М. Преодоление метафизики.
(обратно)151
См.: Хайдеггер М. Время картины мира.
(обратно)152
Св. Ап. Павел. Послание к Филиппийцам. 2. 13.
(обратно)153
Св. Ап. Иоанн Богослов. Первое соборное послание. 5. 14.
(обратно)154
Подробнее см.: Николаева М. В. Общее житие в безответной любви // Восточная Европа: диалог в христианстве. С. 54–59.
(обратно)155
Пр. Пахомий. Устав Тавеннисиотского общежития. 17. 193.
(обратно)156
Св. Василий Великий. Правила для общежительников. 11. б) 212.
(обратно)157
Пр. Иоанн Кассиан. Устав иноческого общежития. 4.8.
(обратно)158
Денни Ф. М. Ислам и мусульманская община. 4.
(обратно)159
См.: Фрэнкель С. С. Христианство: путь к спасению. Ч. 1.
(обратно)160
Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. 1. Гл. 7.
(обратно)161
Витгенштейн Л. Культура и ценность. 342, 434, 400.
(обратно)162
См.: Фрэнкель С. С. Христианство: путь к спасению. Ч. 1.
(обратно)163
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Гл. 1, 3.
(обратно)164
Св. Бонавентура. Путеводитель души к Богу. 1.8; 3.4; 4.4; 7.
(обратно)165
Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. Гл. 8.
(обратно)166
Соловьев Вл. Смысл любви.
(обратно)167
Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории.
(обратно)168
См.: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 6.
(обратно)169
Ср.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. 1. 1.
(обратно)170
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Ч. 1. 4. 7.
(обратно)171
Ориген. О началах. Кн. 3. Гл. 1. 19.
(обратно)172
Старец Силуан. Писания. 6, 9, 16.
(обратно)173
См.: Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви / Сост. св. А. Ковалевский.
(обратно)174
Ср.: Вебер М. Харизматическое господство.
(обратно)175
Фромм Э. Революция надежды. Гл. 3, 2.
(обратно)176
Пек М. С. Непроторенная дорога. Гл. 4.
(обратно)177
Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 2. С. 24–25.
(обратно)178
Тайттирия упанишада. Гл. 3.
(обратно)179
Парибок А. В. «Вопросы Милинды» и их место в истории буддийской мысли.
(обратно)180
См.: Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Т. 1. С. 209.
(обратно)181
См.: Шри Ауробиндо. Социальная реформа.
(обратно)182
Шри Ауробиндо. Идеал человеческого единства. Гл. 4.
(обратно)183
Васубандху. Абхидхармакоша. Т. 3. П. 7.
(обратно)184
Брихадараньяка упанишада. 4. 4. 5.
(обратно)185
Радхакришнан С. Индийская философия. Гл. 4. П. 18.
(обратно)186
Шри Сатья Саи. Дхарма вахини. Гл. 2.
(обратно)187
Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. Гл. 2, 1.
(обратно)188
Торчинов Е. А. Даосизм. Ч. 3. С. 202.
(обратно)189
Чжуан-цзы. Гл. 11, 4.
(обратно)190
Ле-цзы. Гл. 6.
(обратно)191
Подробнее см.: Николаева М. В. «Русско-индийский материализм» // Россия и мир. Гуманитарные проблемы. Вып. 2. С. 99–102.
(обратно)192
Шри Ауробиндо. Основы индийской культуры. Гл. 1. П. 1, 3.
(обратно)193
Свами Вивекананда. Современная Индия.
(обратно)194
Гегель Г. В. Ф. Философия истории. С. 181–182.
(обратно)195
Ясперс К. Истоки истории и ее цель. С. 75–77.
(обратно)196
Аристотель. Политика. 1451b1–7.
(обратно)197
Sri Aurobindo. The Secret of the Veda. Ch. 2.
(обратно)198
Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. Введение.
(обратно)199
Геродот. История: Избранные страницы. С. 162.
(обратно)200
Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. С. 160–172.
(обратно)201
Геродот. История: Избранные страницы. С. 162.
(обратно)202
Подробнее см.: Николаева М. В. Древнегреческие и древнеримские свидетельства об Индии // Путь Востока: Межкультурные коммуникации. С. 33–37.
(обратно)203
Подробнее см.: Николаева М. В. Сила совместного воображения // Социальное воображение. С. 90–94.
(обратно)204
Чалдини Р. Психология влияния. Гл. 4, 8.
(обратно)205
Мэй Р. Любовь и воля. С. 300, 253, 194.
(обратно)206
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Прил. 2.
(обратно)207
Ср.: Вюрпилло Э. Восприятие пространства. VIII. 8.
(обратно)208
Майерс Д. Социальная психология. С. 381–383.
(обратно)209
Шихирев П. Современная социальная психология. 6. 4–5.
(обратно)210
Сигеле С. Преступная толпа. С. 99, 101, 74, 93–96.
(обратно)211
Вундт В. Проблемы психологии народов. С. 226–227, 279–283.
(обратно)212
Московичи С. Машина, творящая богов. С. 176.
(обратно)213
См.: Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. С. 170, 405, 494, 534.
(обратно)214
Ср.: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. С. 27–29.
(обратно)215
Бинсвангер Л. Экстравагантность.
(обратно)216
Там же.
(обратно)217
Там же.
(обратно)218
Нидлман Д. Критическое введение в экзистенциальный психоанализ Людвига Бинсвангера.
(обратно)219
См.: Салливан Г. С. Интерперсональная теория в психиатрии. 4. 22.
(обратно)220
Барт Р. Война языков.
(обратно)221
Подробнее см.: Николаева М. В. Сословие по договоренности // Диалог: проблемы междисциплинарных исследований. С. 66–70.
(обратно)222
Адорно Т. Авторитарная личность.
(обратно)

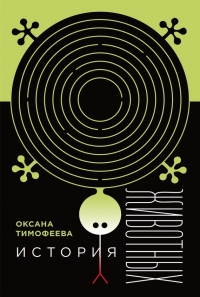
Комментарии к книге «Понятие «Мы» и суждение «Нашей» воли», Мария Владимировна Николаева (Атма Ананда, Шанти Натхини)
Всего 0 комментариев