Философские произведения
А. И. Абрамов. Памфил Данилович Юркевич
Памфил Данилович Юркевич (1827—1874) принадлежит к тем отечественным философам, судьба которых — почти полное забвение. Это тем более удивительно, что мыслитель стоял у основания оригинальной русской философии, его работы вводили русского читателя в современную ему проблематику европейской философской мысли, велика его заслуга и в формировании русской философской лексики. Особо следует отметить его влияние на формирование миросозерцания В. С. Соловьева, считавшего а своим учителем.
Родился в Полтавской губернии (село Липлявое Золотоношского уезда) в семье священника, получил образование в Полтавской семинарии и намеревался поступать в медико–хирургическую академию, но по настоянию отца в 1847 г. поступил в Киевскую духовную академию, курс которой окончил в 1851 г. Выдающиеся способности позволили будущему философу завершить курс с причислением к первому разряду воспитанников и продолжить научную деятельность в стенах академии. Решением академической конференции выпускник был назначен на должность «наставник по Классу философических наук». В 1852 г. Юркевич получил степень магистра с переименованием в бакалавры академии, через год ему было объявлено благоволение Св. Синода «за отлично усердные и весьма полезные труды», а уже в 1854 г. он был назначен на должность помощника инспектора академии. Однако административная работа не понравилась молодому философу, и через два года он подает прошение об увольнении с этой должности. Юркевич начинает вести философский курс, преподает он также и немецкий язык. Па преподавательском поприще карьера его стремительна: уже в 1858 г. он — экстраординарный профессор. К этому времени относятся и первые публикации (в «Журнале Министерства народного просвещення» и в «Трудах Киевской духовной академии»).
После десятилетнего перерыва в 1861 г. в Московском университете II и- была открыта кафедра философии, и именно Юркевич, по словам Г, Г. Шпета, оказался в России единственным «достаточно философски подготовленным, чтобы занять без предварительной заграничной командировки университетскую кафедру»[1]. В октябре 1861 г. назначение было утверждено императорским указом, и Юркевич переехал в Москву, где и оставался до конца своих дней. Кроме истории философии, он читал в университете курсы по логике, психологии, педагогике, работал также в учительской семинарии военного ведомства. Характеристику лекционной деятельности Юркевича оставил в своей переписке В. О. Ключевский Группа студентов под руководством профессора занималась и переводом различных философских сочинений (в частности под редакцией Юркевича была издана «История философии» Шпенглера)[2]. Высшей ступенью университетской карьеры а было назначение его в 1869 г. исполняющим обязанности декана историко–филологического факультета. В 1873 г., после смерти жены, тяжело заболел и 4 октября 1874 г. скончался. Похоронен он был на кладбище Данилова монастыря в Москве.
К сожалению, широкую известность у принесли не его собственные философские сочинения, а журнальная полемика по поводу работы Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Немалая часть тогдашней публики, мало вникавшей в тонкости философского спора, была заранее настроена против духовно–академического философа, который пользовался к тому же поддержкой Μ. Н. Каткова. Статья Юркевича «» с критикой «Антропологического принципа…», опубликованная в специальном богословском журнале[3], может быть, и вовсе осталась бы незамеченной, если бы «Русский вестник» не перепечатал ее в сопровождении статьи Каткова «Старые и новые боги» (см. «Русский вестник», 1861, февраль). Дискуссия эта была затем продолжена Юркевичем в статье «Язык физиологов и психологов».
В последние годы жизни Юркевич сосредоточил усилия на разработке педагогических проблем[4]. В таких книгах, как «Чтения о воспитании» и «Курс общей педагогики», основы педагогики, впрочем, выводились им из психологических, логических и философских оснований, что обусловило, с одной стороны, последовательную цельность его концепции, а с другой — критическое отношение к ней противников философской позиции Юркевича. П. Н. Ткачев, например, «Курс общей педагогики» охарактеризовал как гнусную попытку под личиной идеалистической фразеологии и туманной мистики оправдать все дикое и безобразное, что только освящает предание и поддерживает рутину Особенное возмущение критика вызвал раздел о видах наказания как особых воспитательных мерах[5]. При этом, как правило, на другие разделы, например, на главу о трех видах любви: к истине, ученикам и добру, — внимания уже не обращалось.
По воспоминаниям известного пропагандиста спиритических теорий А. Н. Аксакова[6], в последние годы жизни у Юркевича возник интерес к спиритизму и органологической философии Э. Сведенборга. Об этом вспоминает и В. С. Соловьев в статье, посвященной памяти учителя[7].
Двусмысленное положение «официального» философа, приглашенного из Киевской духовной академии в Москву якобы специально для критики и разгрома наступавшего материализма, враждебное отношение к нему ряда ведущих журналистов, в том числе М. А. Антоновича[8], обусловили негативное отношение к Юркевичу не только со стороны многих его современников, но и создали своего рода «отрицательную традицию» во многих исследованиях по истории русской философской мысли. В результате этой сложившейся более чем столетней традиции одиозность имени Юркевича в нашей литературе стала почти баснословной[9].
С другой стороны, в ряде работ русской философской эмиграции сочинения Юркевича оцениваются достаточно высоко. Так, ъ. В. Зеньковский называет его «самым крупным представителем Киевской школы» (наряду с Ф. А. Голубинским, В. Д. Кудрявцевым–Платоновым, В. Н. Карповым, архимандритом Феофаном (Авсеневым), С. С. Гогоцким). «Критика материализма у Юркевича… вызвала резкие и грубые статьи и заметки в русских журналах; имя Юркевича в русских радикальных кругах долгое время поэтому было связано — без всяких оснований—с представлением о «мракобесии» и мешало усвоению замечательных построений Юркевича»[10]. Краткая характеристика Н. О. Лосского не оставляет, впрочем, сомнений в высокой оценке последним критики материализма Юркевичем; полемику в «прогрессивной печати» он называет «кампанией травли». Таким же образом оценивает эту дискуссию и Г. В. Флоровский, считая Юркевича «мыслителем строгим, соединявшим логическую точность с мистической пытливостью, —его слушал Влад. Соловьев…»[11].
Подробная оценка философского наследия а содержится в работах Г. Г. Шпета и В. С. Соловьева, помещенных в качестве приложения к настоящему изданию. Думается, впрочем, что глубокий анализ творчества мыслителя впереди. Свод трудов Юркевича неполон, в изучении биографии его есть досадные пробелы, наконец, совершенно недостаточно исследовано его влияние на дальнейшее развитие русской философии. Во всяком случае, на фоне философской жизни России 60–х гг. XIX в. его лучшие работы, «Идея» и «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта», выделяются слишком резко, чтобы не повлиять на появившиеся впоследствии идеи мыслителей следующего поколения (в частности Н. Я- Грота и С. Н. Трубецкого). Анализ философских систем Платона и Канта, выполненный Юркевичем, можно считать одним из самых глубоких в русской философии.
Из выдающихся предшествеников а необходимо назвать, разумеется, Г. С. Сковороду, развивавшего столь близкую русской культуре тему «метафизики любви и философии сердца». Гуманизм творчества Юркевича выражен в его основной идее: «Человек начинает свое нравственное развитие из движений сердца, которое везде хотело бы встречать существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви, связанные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме осуществленного всеобщего счастия мир представляется ему как нечто достойное существовать»[12].
В свое время В. В. Зеньковский писал: «Юркевич, конечно, был далеко выше своего времени, и недаром он имел влияние на Соловьева. Можно только пожалеть, что замечательные работы Юркевича почти совершенно недоступны для читателя — они никогда не пере–печатывались. Если придет когда‑нибудь время, когда философские работы Юркевича будут собраны и перепечатаны, его глубокие воззрения вновь оживут для русской мысли».
Будем же надеяться, что идеи и произведения Памфила Даниловича Юркевича действительно оживут — и не только для русской, но и для всей мировой философской мысли и, впервые открывающей эти бесценные страницы русской культуры.
Идея
Слово идея — греч. Ιδέα (от ιόβΐν), или βίδος (от εΐδέω), — означает образ, вид, форму. В этом буквальном значении оно встречается у греческого философа Анаксагора, который домирным частицам материи приписывал некоторую организацию, вид, форму, или идею. Если Платон употребляет это слово в значении переносном и разумеет под ним понятие с особенными, высшими качествами, которые мы постараемся указать ниже, то в этом слововыражении мы можем видеть как некоторые особенности греческого духа и греческого миросозерцания, так и, в частности, характеристическую черту платонического мышления. Пластический или вообще художественный дух греков не отделял мысли от того образа, которым она сопровождается в нашем сознании. Как мышление есть непосредственно разговаривающее, или диалектическое, так спокойная мысль, заключенная в законченном понятии, есть вместе образ, предлежащий созерцанию духа. Вследствие этого настроения греческий дух рассматривал гармонический строй вещей, соразмерность их элементов, следовательно, вид и форму вещей как сторону, выдающуюся в явлениях и более существенную в сравнении с теми элементами, которые служат общею матернею космоса. И когда Платон возвысился от созерцания мира чувственного к признанию и познанию мира сверхчувственного, то и этот мир открывался сознанию философа как царство форм, образов и первообразов, в которых господствуют правильность, гармония и един ство. Поэтому идея, в которой был дан для мышления этот высший мир или некоторая часть его, была созерцаема умом так точно, как глазами созерцается явление идеи, или чувственный предмет. Мышление есть воспоминание духа о том, что он созерцал некогда в своем домирном существовании; посему понятие, возникающее в мышлении, есть предмет, созерцаемый умом, как духовным взором. Психические события мышления и понимания грек делал наглядными и осязательными в представлениях разговора и видения.
Нелегко схватить в одном общем определении те особенности и оттенки, с которыми употребляется слово идея в системах философии. Если оставим те выражения, в которых глубокое значение идеи измельчало до простого эмпирического представления, —выражения, которые мы встречаем в английской и французской философии прошлого столетия, то идея, в отличие от понятия и в значении самостоятельном, употребляется вообще там, где мысль возвышается над механическою стороною предмета и прозревает в его разумную и единичную сущность. Так, мы говорим об идее художественного произведения, разумея под идеей ту единичную, нераздельную и целостную мысль художника, из которой, как живой силы и творящей сущности, родилось, развилось и организовалось в прекрасное целое его произведение и которая мысль уже поэтому проходит по всем частям этого произведения, светит и дышит в них, связует их и оживляет. Если, однако, мы будем изучать художественную поэму филологически, исследывая корни слов, грамматическое строение и связь предложений и т. д., то здесь мы можем не говорить об идее произведения, потому что грамматические формы языка предлежали деятельности поэта как готовый механизм, в котором может быть выражаема и всякая другая идея, хотя, с другой стороны, и самый механизм подчиняется силе и влиянию идеи и выражает ее особенности с большею или меньшею определенностию. Далее, мы говорим, что имеем понятие о линии, круге, параллелях и т. п., но не идею, потому что линии, круги, параллели, как и все предметы геометрического познания, таковы, что к ним вовсе неприменимо логическое и метафизическое различие между внутренним и внешним, сущностию и явлением, действительным единством и феноменальным множеством. Поэтому мы не говорим об идее в природе, поколику природа входит в математическое созерцание, потому что для этого созерцания она открывается как безусловная внешность, в которой пункты не выдаются друг пред другом сравнительно высшим достоинством или большею существенно–стию. Напротив, мы говорим об идее там, где предмет, подлежащий нашему изучению, находится в развитии из внутреннего во внешнее, потому что развитие предмета предполагает закон и тип, которые мы сознаем в идее.
Мы говорим, что развитие предмета нормально или ненормально, смотря по тому, соответствует ли оно идее или нет. В показанных случаях идея, как очевидно, принимается не в качестве психического образа, который имел бы действительность только в нас, а в значении и достоинстве объективного деятеля, который заведывает происхождением и образованием явлений наблюдаемой нами действительности. Поэтому мы говорим наконец об идее, где мышление хотя выступает за пределы опыта, однако, по внутренней необходимости, полагает себя объективным, т. е. совпадающим с теми предметами, которые отчасти или всецело не подлежат нашему чувственному воззрению. Отсюда — идея верховного существа, идея человечества как одного целого, идея мира как замкнутой полноты явлений внутреннего и внешнего опыта, идея нравственной деятельности, которая в своей духовной чистоте не подлежит нашему опыту, и т. д. Для ясности мы можем различить резко выдающиеся формы нашего познания: представление, понятие и идею. Представление, так как оно образуется по субъективной ассоциации, имеет характер совершенно случайного образа, в котором отображается не столько вещь, сколько видевший и ощутивший эту вещь человек или, по меньшей мере, случайное отношение человека к вещи. Если оно и имеет свою необходимость, то эта необходимость есть психическая, субъективно–условленная. В понятии мы имеем объективное сознание предлежащего нам явления; субъективный произвол исключается в нем, и на его место выступает сознание необходимой связи и необходимого соотношения в элементах, образующих явление. В представлении мы признаем существенным то, что значительно для воззрения, в понятии — то, что значительно для бытия вещи. Когда от явления, познанного в его необходимости, мы возвышаемся к познанию сущности его или когда, исследывая далее общую необходимость явления, мы находим в ней и под ней необходимость разумную, которая дает явлению внутреннее единство, жизнь и душу, то мы переходим от понятия к идее. В представлении мышление и бытие встречаются как бы случайно; представление обозначает самое крайнее несовпадение мысли и предмета. В понятии мышление и бытие хотя связуются необходимо, однако движутся, так сказать, параллельно друг к другу: здесь мышление есть спокойный и беспристрастный зритель или наблю–датель явления, оно познает и сознает событие, которое есть для него нечто чуждое, нечто внешнее по содержанию и форме. В идее мышление и бытие совпадают друг с другом: мысль, или разум, признается объективною сущностию вещей; идея познается как основа, закон и норма явления, словом, разум полагается действительным и действительность разумною. В представлении мы еще не выступаем из психических ограничений в область опыта; в понятии мы движемся строго и определенно в области опыта; в идее мы выступаем за пределы опыта. Если представление говорит, что такое вещь по отношению к нам или говорит о вещи как нашем собственном психическом состоянии, если понятие выражает вещь по ее действительной, наличной натуре, то идея показывает, что такое вещь в ее отношении к безусловной основе явлений. Посему предположение идеи обозначает по преимуществу точку зрения на предметы философскую, так как философия хочет понять явления внешнего и внутреннего опыта в их зависимости от безусловной основы всякой действительности. В идее разум созерцает внутренний склад и строй тех явлений, наличная, наблюдаемая сторона которых сознается посредством понятия; в ней он постигает явления — которые в понятиях рассудка распадаются на множество разнородных областей знания — в целостном образе, в гармонии и полноте, как выражение одного начала, как виды и ступени одной бесконечной жизни.
Таким образом, в признании идеи философия поднимается на высоту, к которой, по–видимому, непривычно наше обычное сознание и которая может показаться для науки положительной, каково в особенности естествознание, скорее областью человеческих желаний и неопределенных стремлений духа, чем действительных познаний. Это подает нам повод спросить: на чем основывается право философии как науки полагать или предполагать идею как начало, изъясняющее ход явлений для нашего сознания и вместе обосновывающее и развивающее их в действительности?
Отвечая на этот вопрос, мы могли бы сослаться на то же общечеловеческое сознание, которое нередко противопоставляют высшим движениям философии. Это сознание не так решительно заключено в пределы опыта, не так сильно привязано к изъяснению явлений из их эмпирических условий, чтобы в нем вовсе не было места идеальному миросозерцанию и сообразной с ним практической деятельности. Конечно, человек большею частик» определяется в своей деятельности и в своем познании свойством и характером окружающих его явлений. Большею частию духовное начало выступает в нем как (Несамостоятельное, зависимое, получающее свои определения совне. И когда нам советуют соразмерять наши нужды и желания с действительностиго как правилом воли, поверять наши понятия и познания предметом как критерием истины, то эти советы не только имеют достаточное основание в свойствах нашего духа, не только оправдываются жизненными интересами, но и не стоят а необходимом противоречии с высшими духовными стремлениями, как это можно бы вообразить с платонической точки зрения, потому что едва ли должен человеческий дух изменять указанным требованиям эмпирического знания и соответствующей ему деятельности, чтобы выступить в качестве деятеля свободного, который в себе находит высшее духовное законодательство знания и деятельности. Как зерно в постепенном развитии дает плод, который в свою очередь дает зерно, так, может быть, человеческий дух в явлении и силою явления воспитывается до того духовного самосознания, которое носит в себе семена или основы всякой феноменальной жизни, которое износит из себя нефеноменальные, неизменяемые законы, чтобы по ним определять предлежащую его пониманию и деятельности область явлений. Когда мы говорим: наши действительные душевные состояния, наши наклонности, влечения и желания, как и внешние явления, которые вызвали их, несообразны с чистейшими требованиями нравственного закона, которого сознание мы носим в глубине нашего духа; когда мы говорим: это явление, это событие не соответствует своей идее, его развитие совершилось неправильно и ненормально, то в этих ходячих выражениях идея полагается как объективное понятие, которое не само определяется предметом, но, напротив, определяет предмет, мыслится как его закон и условие его правильного развития Психология могла бы доказать, что то, что мы называем миром явлений, открывается первоначально нашему сознанию как наше психическое состояние, как испытываемое нами удовольствие или скорбь, как приятное или неприятное ощущение. Если, однако ж, при однообразном действии на нас со стороны мира мы сознаем этот мир, как нечто противолежащее нашему духу, как систему существ, подчиненных порядку и закону, то это, вероятно, доказывает, что этот мир подчиняется духовному законодательству самосознания раньше и прежде, чем мы отвлеченным мышлением пытаемся указать в нем присутствие духовных или идеальных связей[13], — так что изъяснение мира явлений из идеи есть простое продолжение той работы, которую совершает дух непрерывно в течение своего временного развития. Во всяком случае, идея есть факт общечеловеческого сознания, — факт, которого необходимость так же понятна, как понятно неотразимое стремление человеческого духа возвышаться от чувственного произвола до нравственной свободы, от случайных представлений до необходимых познаний, от эмпирически–определенного сознания до духовного, наполненного не случайным содержанием самосознания. Два рассматриваемые нами состояния человеческого духа— определяемость совне и самоопределение — так же предполагают друг друга, как приемлемость и самодеятельность, как движение от явления к сущности и от сущности к явлению, как переход от частного случая к общему правилу, и наоборот. Тщетно мы пытались бы, во имя ученой строгости и последовательности, разделить эти члены одного целостного человеческого миросозерцания: в живом и деятельном духе они так же нераздельны, как душа и тело; идея открывается в плоти и крови, в жизненном взаимодействии с тою средою, в которой воспитывается человеческий дух до ее сознания. Если в этом положении идея теряет некоторую часть своего света, то зато она выступает в деятельном духе с тою жизненностию и энергией, каких недостает отвлеченному сознанию идеи в науке вообще и в философии в частности.
Итак, если философия усиливается изъяснить явления предлежащего нам или открывающегося в нас мира из идеи и посредством идеи, если она рассматривает явления мира как откровения или воплощения мысли, если для нее идея есть источник, основа, закон и тип являющейся действительности, то в этом направлении она пытается уяснить и обосновать то миросозерцание, которого зачатки находятся во всякой человеческой душе и которое необходимо предполагается религиозною и нравственною жизнию человечества. Вопросы об основе и цели мира, об отношении мира и человека к Богу, — вопросы, решение которых требует предположения идеи, волнуют с неподавимою энергией общечеловеческое сознание прежде и ранее всякой науки; они возникают в сознании с необходимостию не временного интереса, а как задача собственно духовная, касающаяся вечных потребностей человечества. Прежде чем мы сознательно направляем нашу мысль на решение этих вопросов, они уже решены в нашем духе как‑нибудь, если не строго логически, то всегда в соответствии с теми интересами, которые волнуют наше сердце, — и свет, выходящий из одного решения, как бы ни был он возмущен невежеством и страстями человека, неприметно для нас самих озаряет и окрашивает предлежащую нам действительность. Этим направлением общечеловеческого сознания доказывается право философии на идеальное миросозерцание, равно как отсюда же видно, что отрицание идеи как действительной силы мира поставило бы науку в тяжелый и бесполезный для нее разлад со всеобщими и непреложными требованиями человеческого духа.
Конечно, философия должна быть прежде всего наукою; а как трудно совместить полноту общечеловеческого сознания со строгостию и основательностию ученых выводов, это достаточно доказывает как история философии, которая в своих высших стремлениях обнаруживает колебание, неопределенность и ученую несостоятельность, так и история наук положительных, которые развиваются тем равномернее, чем менее желают они проникать в существо вещей и чем охотнее ограничиваются областию опыта. Это удобство, с которым движется мысль в области опыта, нередко приводило к предположению, что наука, в строгом значении этого слова, не имеет никакого отношения к идее, что ее сила и достоинство зависят от исключения идеального момента в понимании явлений. Так человек, которого привычки, наклонности и влечения, вследствие прекрасного душевного образования, непосредственно гармонируют с нравственным законом, который для других представляется как отдаленный, недействительный идеал, мог бы уверять нас, что он не имеет никакого отношения к этому идеальному закону. Мы хотим сказать, что уже простая возможность и действительность науки предполагает идею, что по меньшей мере этот продукт, называемый наукою, не может родиться от столкновения механических деятелей.
Пока естествознание не исследывает, чем началась и чем кончается разбираемая им ткань явлений, до тех пор оно может отклонять от себя представление идеи, дабы изучать натуру в ее феноменальном потоке. Но уже в этой строго ограниченной сфере между неизвестным началом и неизвестным концом явлений идея предпола гается как начало изъясняющее, дающее свет действительности, по силе которого она может быть видима и доступна нашему пониманию; и когда мы решаемся Двигаться знанием строго в области опыта, то этою решимостию мы отрицаем не свет идеи, который всегда необходим для познающего духа, а тот мрак, который известен под именем абстракций, фантастических вымыслов и мечтаний. Так как в познании явлений мы не в си лах обойтись без нашего духа, без его форм и законов, без тех начал мышления, которые истолковывают явление, то мы вовсе не могли бы понять и сделать предметом науки явление вполне безыдеальное, во всех отношениях чуждое нашей мысли, или такое явление, которое подавало бы нам свои откровения на языке нам несродном и непонятном. Платон имел основание думать, что то, что не проникнуто идеей — как бытие вечно–расходящееся, не сомкнутое, не сосредоточенное — не мыслимо и не познаваемо, не поддается ни слову, ни изъяснению, ни определению. Каждое явление мы разбираем и истолковываем, как незнакомую нам книгу. Если бы внешние формы явления, как буквы и слова книги, не содержали в себе никакого смысла, т. е. не располагались в порядке, сообразном с идеей, то такое явление осталось бы во всех отношениях чуждо нашему сознанию и знанию: мы не имеем никакого представления о том, каково могло бы быть откровение, посылаемое нам подобным явлением. Древние были последовательны, если они необходимость, не определенную мыслию и разумом, называли слепою, т. е. такою, в которой мышление не сумеет найтись, к которой Оно не имеет доступа и которую не может оно вовлечь в свой светлый круг понимания. Если же, напротив, необходимость, заведывающая строением и ходом явлений природы, так легко и удобно переводится в свет мысли, если она поддается пониманию духа, то это доказывает, что в ней лежит начало не стороннее для духа, — начало, к которому он так же близок, как к своему собственному идеальному содержанию. Идея, как основа гармонии между мышлением и бытием, служит необходимым предположением всякой науки. Конечно, можно заниматься наукою, не спрашивая об условиях ее возможности; для того, чтобы знать, нет нужды иметь знание о самом знании: в таком определенном направлении к положительному знанию мы можем не замечать тех последних условий, которые делают возможным, самое явление знания и которые лежат в идее как единстве познаваемого и познающего. Тем не менее в истине как зрителю необходимо предлежит мир видимый, так существу разумному необходимо открывается мир разума: всякий другой мир не был бы откровением для нас, не был бы познан нами.
Мы можем познавать этот мир, который предлежит нашему сознанию как система явлений, не зависящая от нашего духа, созданная и сложенная не нами. Мы воспроизводим реальные определения бытия в идеальных определениях мышления. Эта деятельность познающего духа была бы иллюзией или, по меньшей мере, заключала бы в себе неизъяснимое противоречие, если бы идея, идеальные связи, идеальный порядок не входили в систему мира как условия его жизни и развития. Всякая наука утверждается на предположении, что идеальное движение понимающего мышления и реальный ход понимаемых вещей совпадают друг с другом. Без этого предположения мы не имели бы права сделать в области опыта никакого необходимого вывода, мы не могли, бы изъяснить, почему следствие, выведенное из посылок идеально, совпадает с событием, которое вытекает в действительности из явлений, сознанных в посылках. Между тем сила знания, как и возможность технических изобретений, лежит в этой способности человеческого духа делать из опытов и наблюдений необходимые мысленные выводы. Только в школах возникают разнородные теории о мышлении как субъективном или психическом процессе. В действительном познании природы и в деятельности творчества и изобретения человек с жизненною необходимостию полагает и обнаруживает мышление как силу или деятельность предметную, имеющую значимость не для нас, но для объективной натуры вещей, и ежедневные успехи науки и искусства достаточно оправдывают это поведение познающего и изобретающего человека.
Сообразно с этим мы встречаем в истории науки факт, что когда естествознание пытается разрешить метафизическую задачу о начале и основе явлений мира и думает при этом решении ограничиться представлением так называемого механического процесса, то ему никогда не удается избежать тех категорий, которыми предполагается объективное значение идеи: сознательно или бессознательно естествознание подчиняется в этом случае руководящему свету идеи. Для возможности познания вообще мы должны быть в состоянии различать истину и ложь в наших представлениях, нормальное и ненормальное в явлениях природы, закономерность, определенные направления и постоянные привычки в ее деятельностях. Основа всех этих категорий, без которых наука не имела бы содержания, лежит в представлении идеи, а не механического процесса. Если, например, некоторые психологи пытаются изъяснять все формы, начала и основы человеческого мышления из психических процессов, из взаимного притяжения и смешения снизу идущих представлений, не допуская в мышлении основ или идей первоначальных, самобытных, не происходящих феноменально в качестве страдательного продукта, то такое строго механическое изъяснение явлений мышления уничтожает всякое различие между истиною и заблуждением, не дает возможности что‑либо утверждать или отрицать, исключает всякое представление об истине, — потому что формы мышления и самые мысли, поколику они зависят от необходимого психического процесса, не суть ни истинны, ни ложны; все они имеют, так сказать, одинаковое право, потому что все они имеют достаточную причину в предшествовавших им условиях механического сочетания и взаимного притяжения представлений. Кто назовет магнитное притяжение, электрический ток в одном случае истинным, а в другом ложным? Спиноза, самый последовательный представитель механического миросозерцания, имел полное основание утверждать, что душа человека есть мысленный автомат, в котором как таком было бы нелепо допускать различия истинного и ложного, доброго и злого. Итак, если нам говорят, если нам выдают как истину, что механический процесс, совершающийся в области первоначальных элементов натуры, есть первая и последняя основа всех явлений познаваемого нами мира, то уже этим положением, этим простым признанием истины, сознанием ее отличия от противополагаемого ей заблуждения изъясняется этот механический процесс, как деятель, не подчиненный идее. С отрицанием идеи происходит в этом случае то же, что произошло бы с человеком, который говорил бы нам, что он не может говорить.
Что сказано о природе души, то должно быть применено и вообще к природе, потому что предшествующие замечания относились непосредственно к предположению технического процесса как единственного и основного двигателя явлений, в какую бы частную область ни падали эти явления. Согласимся, что природа не запутывается в противоречия, как представленный нами человек} положим, что и в самом деле она не говорит (не являет идеи); но если мы, зрители природы, можем замечать в ней этот недостаток, то этим уже предполагается, что где‑то, однако ж, было замечено нами явление говора (явление идеи), которого мы не замечаем в природе, и что природа, не представляющая этого явления, есть нечто неполное и несовершенное, т. е. мы имеем лучший образ действительности, с которым, как с идеей, сравниваем феноменальную натуру, чтобы понять, изучить и оценить достоинство ее явлений. Скажем, без образов: если мы допускаем различие явлений нормальных и ненормальных, если мы замечаем в природе общую закономерность явлений и познаем уклонения от этой законо мерности в частных случаях, то все эти выражения, как и то объективное содержание, которое мы познаем в них, предполагают подчиненное значение механизма в познаваемой нами действительности: механический процесс как такой безразличен к явлениям нормальным и ненормальным, закономерным и незакономерным; он не мо жет обосновать в природе направлений и привычек к постоянному определенному и предпочтительно избираемому ею образу действования.
Когда врач восстановляет здоровье и надлежащее отправление в поврежденном телесном органе, то в его деятельности встречаются два вида познаний: познание механического процесса, которым условливается здоровое и болезненное состояние органа, и познание отправления, назначения или идеи, которой не соответствует орган в его настоящем положении. Физиолог знает составные части, химические и физические сочетания в строении селезенки так же достаточно, как и состав всякого другого телесного органа. Однако ж пока для него не определено назначение селезенки в целой экономии животного организма, пока не решен вопрос об идее и цели этого органа, до тех пор физиолог сознается в недостаточности своих исследований и познаний. Как мы не можем утверждать, что свет понимания разливается на явление только разъединенными лучами анализа, познающего части явления, и не делается ярче от единичной идеи, которая изъясняет части явления синтетически из его целостного и нераздельного образа, так мы не думаем, чтобы наука в строгом смысле не имела никакого отношения к идее или чтобы интересы науки требовали исключения или отрицания идеи при изъяснении явлений, Конечно, чтобы понять идею поэтического произведения, мы должны прежде всего изучить язык, на котором оно написано и который представляет в этом случае механическую сторону изучаемого явления. Но когда после такого изучения мы читаем это произведение, то уже мы не можем сказать, чтобы каждая отдельная часть его была для нас всецело понятна сама по себе; это понимание частностей возрастает по мере того, как мы постигаем их в целостном составе поэмы. Когда наконец наш ум озаряется сознанием целостной идеи произведения, то с этой высоты исходит последний свет на познанные частности: только теперь мы постигаем окончательный смысл частей поэмы, только теперь проясняются для нас прежде не сознанные особенности в языке и слово–выражении поэта и, таким образом, самый механизм явления озаряется светом идеи. Неточность этого образа, с которым мы хотели бы сравнивать предлежащий наш мир и способы его изучения, состоит в том, что наше познание мира всегда отрывочно и неполно, что мы не в состоянии прочитать эту поэму от начала до конца и таким образом фактически изучить мир как целое, как единство. Но этим обстоятельством устраняются только мнимые притязания философии изъяснить всю совокупность явлений из положенной или предположенной идеи, и притом простым диалектическим или априорным разоблачением ее содержания; однако этим не отрицается общая возможность полагать идею как достаточную основу явлений вследствие опытов и наблюдений в области доступной нам действительности. Наши познания о мире навсегда останутся ограниченными; миросозерцания механическое и идеальное утверждаются одинаково на ограниченном числе опытов, доступных человеку. Мы только спрашиваем, нет ли в области доступного нам опыта таких явлений, которых достаточная основа должна быть положена в идее, а не механическом процессе, и нет ли таким образом возможности и необходимости видеть в мышлении, в разуме нечто большее, чем психические, субъективные формы человеческого духа, видеть в нем начало действующее и открывающееся в обыкновенном мире. Когда мы знаем механическое устройство музыкального инструмента, то этим не доказывается ли, что мы имеем отчетливое и полное представление о Каждом атоме и о всех тех физических деятелях, которые условливают это устройство; однако ж это не мешает нам изъяснять это устройство из назначения и идеи инструмента; мы уверены, что выбор и размещение частей инструмента определяются его идеей. В свою очередь, эта идея есть ограниченный свет, который озаряет для нас только этот частный факт, а не центральное светило, которым бы освещалась вся ведомая и неведомая нам вселенная. В этом значении — повторяем — признание идеи есть дело факта, дело анализа явлений, а не пред положение так называемой априорной мысли. Выше мы пытались указать на некоторые явления, которые делают необходимым признание идеи как обыкновенного деятеля. Понятие механического процесса остается при этом в своей истине, только оно не признается понятием основным и первоначальным. Как в Боге, Говорит Лейбниц, сила определяется мудростию, так в природе механической поток явлений условливается первоначально целию или разумными предопределениями.
Без признания идеи мы получили бы такой образ мира, к которому нелегко приучать живое и деятельное сознание человека, потому что для деятельного усвоения этого образа человеческий дух должен бы расстаться с тем, с чем он в истине никогда не может расстаться: мы разумеем эстетические, нравственные и религиозные влечения человеческого духа. Мир, который противоречил бы этим влечениям, не имел бы для человека никакого интереса; и мы думаем, что таким представился бы нашему сознанию окружающий нас мир, если бы в нем не было других деятелей, кроме механических. Поколику явление условливается действующими причинами, или образуется механически, оно не есть нечто из себя а от себя, оно есть нечто безусловно страдательное, произведенное деятелями, которые не принадлежат к существу его, не составляют его жизни, его души, потому что сами эти деятели суть в свою очередь несамостоятельные, страдательные произведения других действующих причин. Весь мир подлежит при этом нашему представлению, как вечнотекущая река; части мира, выдающиеся и поражающие нас своею жизненностию и красотою, обладают в истине призрачным существованием волн, которые не имеют ничего самобытного, ничего внутреннего, ничего живого и которые суть ничто пред равнодушной силой поднимающего их и уничтожающего потока. Вся вселенная есть безусловная внешность, в которой мы напрасно искали бы средоточных пунктов как источников ее жизни и развития, — есть действительность всецело страдательная, в которой нет места тому, что мы называем действовать, жить, наслаждаться жизнию, как нашим благом, как нашим сокровищем. Высокое создание, которое поражает нас богатством сил, игрою жизни, изяществом форм и глубиною мысли, происходит от мертвых элементов (атомов), которые совершенно чужды своей собственной работе, совершенно равнодушны к ней, потому что они так же охотно и легко входят в образование явлений, оскорбительных для нашего чувства, болезненных для сердца и несообразных с требованиями разума. Закономерное единство и пластическая деятельность в натуре, жизненные влечения и целесообразные инстинкты, душа и разум суть феномены, которые существуют только в нашем субъективном воображении. Природа не рассчитывает ни на что подобное; в ней нет ни возможности, ни влечения к деятельности извнутрь, к живому развитию, к рождению существ прекрасных или разумных. Не предопределенная мыслию, она сама не знает, что родится из ее невольных и незадуманных движений. Все существа имеют для нее одинаковое значение, как события одинаково необходимые или, правильнее, неизбежные, — как события, одинаково условленные предшествующими механическими процессами. Вечные деятели природы стоят к своим созданиям в отрицательном отношении безразличия…
И этот мир, в котором нет дыхания жизни и в котором не отражаются лучи разума, воспитывает нас до чувства жизни, до совершенства существ разумных, — воспитывает нас до нравственных и эстетических влечений, то есть до того, что так чуждо и не существенно миру. Чтобы вступить в область неподдельной, существенной действительности, нам остается одно из двух: или признать все богатство нашей духовной жизни призрачным, в истине не существующим, или же согласиться, что мир, который развивает нашу духовную жизнь с ее богатством, не так материален, не так безжизнен и бездушен, как он изображается в механическом миросозерцании. Первое предположение останется ничего не значащим словом, пока нам не удастся свести к простым физиологическим феноменам или — еще ниже — к общим законам механики все разнообразные формы и явления мышления, воли и чувствований в человеке и все дело цивилизации в человечестве. И кто не питает мечтательной надежды, что эта задача когда‑либо может быть решена, тот уже этим самым выражает убеждение, что мир, который служит необходимым условием и предположением духовного развития человека и человечества, не есть в своей последней основе слепой механизм, которому было бы несвойственно это духовное и разумное назначение.
Впрочем, мир, независимо от его отношения к нашему духовному развитию, представляет такую закономерность в своих явлениях, что защитники механического миросозерцания большею частию говорят о вечных и неизменных законах, которые заведывают встречею, связью и расторжением вечных элементов природы. Только при этом они допускают идею, которую хотели бы отвергать. Откуда, в самом деле, эти законы природы, и притом вечные? Откуда эти постоянные образы деятельности первоначальных атомов? Откуда это предание, которое соблюдает природа в своем течении?
Когда атом проходит или испытывает различные состояния в соединении с другими атомами, то по окончании этого процесса он остается тем, чем был в начале; из своей истории он не выносит никаких предрасположенностей или навыков к определенному образу действования, в его существе не остается никаких впечатлений от того, что им прижито или испытано, поэтому он равнодушен к тому продукту, в состав которого ему придется вступить впоследствии; он не знает ни выбора, ни предпочтения. А между тем ежедневный опыт удостоверяет нас, что природа следует правилам, что она являет нам свою сущность в однообразных и неизменных формах. Можно ли понять эту закономерность природы без идеи, которая понуждает равнодушные к своим будущим состояниям элементы мира вступать в эти определенные, а не другие сочетания, то есть — помимо собственной ограниченности— быть неравнодушными и небезразличными к воспроизведению этих постоянных и правильных явлений? «Если бы небо не имело рассчитывающего ума, то могло бы случиться, что корова родила бы лошадь и персиковое дерево принесло бы грушевые цветы». Так рассуждал один древнейший мудрец, и, конечно, это рассуждение может служить и ныне достаточным опровержением исключительно механического миросозерцания. Те, которые развивали это миросозерцание беспристрастно, допускали в природе не вечные законы, а случай, который, действуя наудачу, первоначально рождал уродливые явления, людей с лошадиными телами, сирен и других чудовищ, пока наконец не завязались, также случайно и слепо, та<необходимость, которую мы с нашей призрачной человеческой точки зрения считаем законом, порядком и гармонией. Этот вывод наш кажется последовательным. Внутреннее противоречие, которое лежит в основе механического миросозерцания, оканчивается в категории случая погашением и всецелым исчезновением всякой мысли и всякого понимания, потому что случай и есть собственно то, что не поддается никакой мысли, что бежит от нее, как тень от света, и что всецело исчезает там, где возникает мысль и понимание. Так, если можно отрицать идею, то уже в истине нельзя найти того положительного принципа, во имя которого совершилось бы отрицание.
Мы хотели показать, как нелегко перевести в мысль бытие, чуждое мысли, найти смысл в произведении, не имеющем смысла, понять явление, которое сложилось несообразно с понятием. Может быть, подобное сознание было причиною того, что философия рано поняла свою истинную задачу, решение которой невозможно без предположения и признания идеи. После того как первые греческие философы, спрашивая об основных элементах космоса, признали в этих элементах нечто божественное и разумное или видели основу гармонии явлений в нравственных мотивах любви и вражды; после того как Эмпедокл основу чувственного космоса полагал в нечувственном сферосе, где царствует любовь, единство, бессмертие и блаженство; после того как Анаксагор признал, что ум есть источник если не элементов, то гармонии космоса, — Платон, как бы высказывая в ясном слове то, что не могли высказать его предшественники, как бы уловляя их же задушевную мысль и износя ее во свете самосознания, учит, что божественное и разумное не может быть несамостоятельно, что оно не есть качество одного из элементов, что оно не нуждается в физических носителях и что полнота бытия не разделяется между ним и его противоположностию. Божественное и разумное самодовольно и безусловно, оно открывается нашему самосознанию как первоначальная и вечная сущность всякой феноменальной действительности. То, что делает космос чувственным и механическим, есть нечто несущественное, несуществующее (μη оѵ). Истинная, неподдельная действительность принадлежит божественному и разумному как такой духовной сущности, которая служит источником бытия и его познания. Как солнце есть причина того, что мы видим, и того, что вещи делаются видимыми, так Благо подает познаваемому истину, а познающему — силу знания. И если подобное познается подобным, то божественное и разумное— эта вечная сущность и форма всякой действительности— должно быть однородно, однокачественно с теми понятиями, в которых и посредством которых мы познаем предлежащую нам действительность; или, божественное и разумное в космосе есть идея. В идее мы видим вещи по их неподдельной натуре. Идея есть, так сказать, подлинное место вещей и подлинная вещь. Истинная сущность предмета познается не в воззрении на предмет, а в идее предмета, а отсюда следует, что и сама она идеальна. Софокл — духовнейший из поэтов древности — открывает в сердце человека высшие чаяния, которые не находят удовлетворения<в формах классической древности. Платон указывает в божественной идее ту действительность, куда, собственно, направлены эти высшие чаяния. Там и здесь человек отторгается от непосредственной связи с окружающею его средою и возвышается у поэта до ощущения, у философа — до сознания мира и порядка божественного, в котором человек находит всецелое, умственное, нравственное и эстетическое, удовлетворение.
Может быть, небесполезно будет проследить исторически, каким образом философия двигалась на этой идеальной высоте и как воспроизводила она в разные вре: мена образ мира при свете идеи. Мы ограничимся при этом самыми замечательными явлениями в истории философии.
121
В философии Платона идеальное миросозерцание выступает со всей энергией первоначального, юного и доверчивого понимания. Идея есть для Платона вся действительность; истинное, нефеноменальное бытие содержится в идее. Что лежит вне идеи, есть нечто не существующее, совершенно немощное, стоящее в отрицательном отношении к истинному бытию и истинному пониманию. Феноменальная, или механическая, сторона космоса имеет свою основу в этом отрицательном, не обладающем сосредоточенностию бытия начале. Безусловная внешность этого начала, его равнодушие ко всякой определенности, его текучесть, не сдержанная законом, не знающая правила, порядка и гармонии, образуют прямую противоположность с спокойным, сосредоточенным и внутренним бытием идеи, как и с ее откровениями в пропорции, мере, порядке и гармоническом строе явлений. Если космос подлежит нашему созерцанию как явление, обладающее жизнию, правильностию, красотою и добром, то все эти совершенства он получает от идеи. От соединения бедного и немощного бытия с богатством и плодовитостию идеи рождается любовь, как дух, связующий земное с небесным, смертное с бессмертным, конечное с бесконечным, — любовь, которая вечно влечет бедную натуру к добру и красоте, к бессмертию и богоподобию. Все связи мира, все его движения сходятся в истине в эту связь любви, в это движение к доброму, прекрасному и божественному. Как смертное не обладает бессмертием сразу и непосредственно, то оно стремится достигать бессмертия вечно повторяющимся, вечно обновляющимся рождением: «Рождение есть дело Божие; зачатие и рождение есть вечное и бессмертное, доступное смертному». Так понимает Платон один из самых общих процессов натуры Когда человек проникается в своей мысли и деятельности идеей, то он вносит в свое бедное существование божественный свет и божественную жизнь; он получает способность рождать бессмертное и вечное; несмотря на свою ограниченность, он возвышается на степень помощника Божия в украшении и усовершенствовании мира, в образовании его по идее истины, добра и красоты. Посему то, к чему стремится мир в своем бессознательном процессе вечно повторяющегося рождения, а человек в своей сознательной деятельности, есть опять идея, как вечный и спокойный образец всякого истинного существования, всего совершенного, доброго и прекрасного. Идея есть начало и конец, основа и цель всех явлений в мире и человечестве. Поэтому ее полнота далеко не исчерпывается теми явлениями, которые окружают нас; в ней — в идее — лежит бесконечно больше совершенств, чем в целости этого мира, или идея обладает самобытностию, составляет самостоятельный мир, наполненный бесконечным содержанием, — мир, в котором безусловное единство идеи, не распадаясь, открывается в бесконечном множестве идей. Как в человеческом мышлении множество понятий и мыслей сходятся в одну высшую мысль, как эта высшая мысль проходит в разнообразии подчиненных понятий, не теряя своего единства, так мир идеальный существует нераздельно в безусловном единстве и бесконечном множестве. Идея есть не только единство, но и целость. Она не есть отвлеченное бытне, которое только в постепеном Процессе достигало бы полноты своего содержания; первоначально и непосредственно она носит в себе все свои определения в безусловном единстве совершеннейшей мысли. Это безусловное единство идеального мира есть идея Блага, или Благо как последняя цель бытия и мышления, как та сущность, в которой непосредственно все действительное разумно и все разумное действительно. Мир идеальный есть поле истины, которая питает богов и человеков; здесь в премирном месте, или в пространстве, которое есть ум (τόπος νοητός), боги и чистые души созерцают сущность бесцветную, безвидную, возвышенную над всяким изменением. Первоначальная красота существует здесь не на ином живом существе, на земле, на небе или где–инде, но безусловно, сама по себе, пребывая вечно в одном виде и не участвуя в изменениях того, что ей причастно. Таким образом, мир находится как бы между двумя полюсами, отрицательным и положительным, чистым небытием материи и безусловным бытием идеи. Всякая вещь, подлежащая нашим чувствам, имеет две стороны — идеальную сущность и ее ограничение небытием; посему идея в явлениях связана, не свободна; ее феноменальный образ бытия есть не первоначальный, не существеннейший. Только Бог, по благости своей, или потому, что Он есть благо, которому не свойственно замыкаться в себе и которое стремится сообщить блаженство жизни и ума тому, что не обладает ими само по себе, образовал немощную сущность материи по идеям, сделал ее причастною совершенству идеи. Эту деятельность мирообразования Бог совершил не произвольно, не без плана, но взирая на образец, или на идею, которая составляет вечное содержание Его бесконечного ума. Идея есть сущность и первообраз космоса. И так как идея, лежащая в основе космоса, содержится в божественном уме, то Бог, обладающий самосознанием, обладает вместе и миросоз–нанием, или относится к миру как его свободный правитель и промыслитель. В мире царствует не слепой механизм, но разумная необходимость идеи и свободная деятельность божественного провидения.
Достоинство Платонова миросозерцания понятно как для философствующего ума, так в особенности для духа, проникнутого нравственными и эстетическими стремлениями. Идея не есть отвлеченная или теоретическая мысль; в идее лежит основа не только истины, но также добра и красоты. Человеческий дух в сознании идей находит живое единство для своих умственных, нравственных и эстетических стремлений. Знание есть добродетель, и добродетель — красота; философствовать — значит искать истины, делать добро и наслаждаться созерцанием красоты. Красота есть форма истинного и доброго, и такое значение имеет она не только в делах человека, но и в явлениях мира, которого рождение совпадает с днем рождения красоты (Венеры). Мир имеет цену не только для разума, но также для воли и сердца; он не чужд ни одного из тех высоких мотивов, которые так дороги для человеческого духа.
Впрочем, историки философии справедливо замечают, что Платон занимается больше изъяснением идеи, чем изъяснением явлений из идеи, или что у Платона истолкование феноменальной действительности из идеи недостаточно. Так, когда требовалось указать в вещи ту выдающуюся сторону, которая служит откровением идей, то Платон видел присутствие идеи только в общих родовых свойствах вещи. В этом отношении он определяет идею как сущность, общую одноименному множеству или множеству однородному. Если против этого определения заметил впоследствии Платон, что идея, как общая сущность, не изъясняет возможности божественного промысла о частных вещах и лицах, то односторонность его ярко обнаружилась уже у самого Платона — в его идеальном обществе, где человек с его частными интересами, семейство с его внутренними и жизненными отношениями изчезает в общем, соответствующем идее, как несамобытные страдательные выражения общего, как материя, не имеющая самостоятельности пред идеей. Индивидуальное, личное, частное должно бьіть подавлено общим, потому что только общее соответствует идее. Сообразно с этим Платон видит явление идеи только в общих отношениях вещей и частей мира между собою, а не во внутреннем строе каждой вещи, каждой части мира в ее личном существовании; отсюда происходит у него поверхностная темология, признание внешней целесообразности мира, по силе которой вещи соответствуют идее, поколику они относятся между собою как средства и цели, так что значение вещи самой в себе остается неопределенным. Наконец, если Платон учит, что вещи причастны идее, то это неясное отношение, давая самобытность вещам вне идеи, превращает самобытный мир идей в мир, отрешенный от мира явлений и отделенный от последнего резкою чертою; отсюда возникает дуалистическое представление двух миров, из коих чувственный по своей основе так же самобытен, как и мир идеальный. Отсюда же возникает мистическое требование самоотречения и отрицательного отношения к предлежащему нам миру как условие для перехода в мир другой, идеальный.
Ученик и противник Платона, Аристотель обличает эти именно недостатки в философии своего наставника. Что только общее составляет истинное содержание знания — в этом Аристотель согласен с Платоном. Но отсюда не следует, что идея есть родовая сущность вещей. Когда в логическом определении мы приводим к сознанию понятие о вещи, то при этом мы различаем родовое, или общее, и видовые особенности вещи. Когда мы определяем опять это общее, это родовое, то оно, в свою очередь, выступает в видовых особенностях; следовательно, оно перестает быть общим, как только оно понято; общее теряет свою общность, как только мы постигаем его; поэтому сущность вещи, идею вещи нужно искать в ее видовых особенностях, которые не дают ей исчезать в общем, которые делают из нее действительную и деятельную часть мира и которые составляют основу ее самобытности и совершенства. Круг соответствует своей идее не поколику он есть плоскость, а поколику он имеет такие, а не другие свойства, которые составляют его необходимую принадлежность и совершенство. Не общее бытие, а совершеннейшее бытие в каждой сфере явлений служит откровением идеи. Общее. есть простая, неопределенная возможность, а не сущность вещи; оно есть материя, а не идея. Мышление и бытие не расходятся при этом, потому что первоначальная сущность есть не индивидуум чувственно данный и наделенный случайными и преходящими эмпирическими особенностями, а индивидуум, понятый с необходимо–стию в логическом определении, который поэтому относится к феноменальным индивидуумам, как общее к частному, необходимое к случайному, совершенное к несовершенному. Не родовое общее, а общее как необходимая основа совершенств данной вещи есть истинная сущность вещи. Но таким же образом истинный предмет знания есть не общее само по себе, но общее, определенное н необходимостию. Мы могли бы сказать, что все отличие Аристотеля от Платона в этом важном пункте заключается в том, что Аристотель сознал глубокое значение для науки категории необходимости, вследствие чего он искал в явлениях не просто общего, но того, что служит необходимым условием определенных совершенств данной вещи. Идея вещи есть необходимая форма вещи, то, что дает вещи этот, а не иной образ существования, то, что наделяет ее отличительною и определенною действительностию. С этой точки зрения мы не можем отделять сущность вещей от самих вещей, не можем говорить о передвижении или переходе сущности из идеального состояния в феноменальное. В этом предположении сама сущность была бы изменчива, могла бы принимать противоположные виды существования и не имела бы необходимого отношения к тому, что она есть сущность. Итак, сущность неотделима от вещи, которой она есть сущность; ее истинное и первоначальное бытие есть в этой самой феноменальной вещи: идея имманентна явлению. Как форма составляет первоначальную действительность вещи, так материя — первоначальную возможность ее; общее в вещи, или то, почему вещь только может быть, а не есть, составляет ее материю — начало, способное к принятию различных форм до противоположности. В человеческой художественной деятельности материя переходит в форму посредством постороннего третьего движителя; в природе это движение, переводящее материю в форму, есть внутреннее и первоначальное; форма, или идея, находится в необходимом отношении к материи: мир не имеет ни начала, ни конца; он подлежит нашему пониманию как бесконечный процесс имманентного самодвижения, в котором материя переходит в форму, возможное в действительное и который таким образом производит существа природы не по их родовой общности, а по их конкретной действительности. Форма составляет энергию натуры, или ту силу, которая влечет материю к развитию и определенности. Не из семени, не из зародыша развивается органическое, живое существо; истинная основа его развития лежит в форме, потому что само семя и зародыш предполагают уже существо живое, обладающее полнотою существования и, следовательно, энергией формы; только человек рождает человека. Форма есть действительность вещи; но сама эта действительность, как не безусловно определенная, есть возможность по отношению к другой высшей форме. Так, медь есть форма по отношению к элементам, которые составляют ее, но материя или возможность — по отношению к статуе, которая из нее сделана. Итак, идея есть не только основа всякого развития в природе, но и сама она в области природы подлежит процессу развития. Она не обладает спокойным бытием первообраза, которому свойственно сразу и непосредственно состояние развитое. Вследствие этого природа подлежит внутреннему, непрерывному и постепенному развитию, в котором то, что выступает последним по времени, есть первое по сущности: каждая последующая форма, утверждаясь на предшествующей как на своей материи, выступает все в большем и большем совершенстве, природа приближается постепенно к чистой действительности, к совершеннейшему акту.
Движение натуры, как определенное идеей, совершается не без плана. Как форма есть действительность, то в ней стремление натуры достигает своей цели; форма есть вместе с тем и цель натуры. Вещь соответствует своей идее, когда она обнаруживает внутреннюю целесообразную деятельность. Так, видение есть форма и цель глаза. Без этой деятельности глаз не есть глаз, а простая масса материи. «Природа ничего не делает даром; однако она творит, не созерцая первообраза, но увлекаясь целию»; ее развитие есть внутренний целесообразный процесс, есть деятельность, определенная понятием. Вещь, поколику есть в акте, соответствует своей идее: следовательно, все, поколику есть действительно, есть разумно. Механический процесс в природе подчинен понятию и не есть явление слепой необходимости. В цели лежит совершенство вещи, но в ней же и истинная деятельность и истинная энергия ее. Идея не рассчитывает в своем развитии ни на порядок нравственный, ни на формы эстетические, а единственно на действительность, на акт: итак, она есть идея теоретическая или мысль, себя полагающая, себя одействляющая; она имеет значение только для постигающего ума, а не для деятельной воли и Чувствующего сердца.
Каждая ступень в целесообразном процессе натуры есть основа и предположение ступени высшей; она входит а последнюю по своему существенному содержанию посредством снятия или отрицания своей непосредственности. Отрицание есть необходимый момент в развитии природы: Идея бессильна для того, чтобы прямо из себя положить явление, или должна препобеждать или отрицать ту неопределенность, которая первоначально свойственна Материи.
Так как движение есть переход от возможного к действительному, то оно всегда обличает несовершенство акта, присутствие в нем чего‑то неразвитого, чего‑то пока возможного. Безусловный акт исключает движение как направление к недостигнутой еще цели. Поэтому мышление, на себя обращенное, не выступающее вовне, мышление, в котором мысль и предмет тожественны, есть акт безусловный, есть безусловная действительность и безусловная форма. Бог есть чистая мысль в ее внутреннем имманентном самодвижении, мысль себя мыслящая, чистый ум, в вечном, простом и неизменном акте которого субъект, мыслящее и мыслимое тожественны. Бог есть безусловная действительность и деятельность, форма форм и цель мира, и посему он есть Благо, источник всего действительного и всего целесообразного в мире явлений.
Божественное мышление не подлежит процессу развития, потому что оно обладает сразу и первоначально безусловною полнотою содержания. Уже человеческая мысль, поколику в ней познающее и познаваемое тожественны, не происходит в процессе психологического развития. Если нельзя сказать с Платоном, что душа возвышается до ума и мышления, когда она воспоминает идеи, которые созерцала некогда в домирном существовании, то, с другой стороны, нет сомнения, что ум обладает спокойным объективным существованием: он стоит выше натуральной и индивидуальной жизни души, есть первенец во всем существующем; непроходящий, вечный, он входит в человека, совне, как самостоятельное божественное начало. Только в спокойном, созерцающем мышлении человек вкушает блаженство божественной жизни, только в мышлении человек достигает последней цели своего развития — жить в идее и идеей, — тогда как воля человека определяется не идеальными стремлениями, а благоразумной оценкой феноменальной действительности и уменьем находить между крайностями безопасную средину.
Бог есть недвижимый движитель мира. В своей деятельности Он относится к себе самому как к лучшему и превосходнейшему. Итак, Богу свойственно самосознание, но не миросознание, или Бог не относится к миру как его свободный правитель и промыслитель. В мире явлений идея находится а процессе развития. Ум безусловный изъят из этого процесса, поэтому он не знает ни процесса, пи того мира, который подлежит развитию. Бесконечный ум знает только бесконечное; в нем нет представители конечного мира. Бог приводит в движение мир простым бытием, потому что он есть форма и цель мира: так картина приводит в движение зрителя, так благо влечет волю, так красота рождает любовь. Всякое совершенство производит движение, оставаясь само недвижимым. Бог дает миру движение, жизнь, форму и целесообразное строение не по свободной воле, но по необходимости своего бесконечного совершенства, Это необходимое отношение Бога к миру есть первоначальное и печное.
Противоречие между Платоном и Аристотелем и определении идеи и и изъяснении из нее мира пилений имеет свою основу внутри самой же идеи. Идея постигается, и, вероятно, по необходимости мышления, с одной стороны, как спокойный образец, как неизменный тип волнующейся чувственной действительности, с другой — как деятель, элемент и живая сила мира. При всяком развивающемся явлении мы мыслим то и другое: с Платоном — спокойную норму развития, с Аристотелем — разумный ход и целесообразное движение его. Таким же образом, если по Платону идее соответствует общее в явлениях, а по Аристотелю—особенное, то мы с равною легкостию сознаем присутствие Божественной мысли как в общем, равномерном и однообразном движении частей мира, так и в жизненной, смешанной и беспокойной игре индивидуальной жизни. Конечно, Аристотель начинает и окончивает философию простым, теоретическим пониманием действительности, ие удовлетворяя других столь же существенных требований человеческого духа в этом мы видим. общую судьбу строго ученой методы, которая хочет давать ответ на беспокойные вопросы духа не столько полный, сколько отчетливый. Если, напротив, в платоническом миросозерцании познание и чаяние, требования умственные, нравственные и эстетические приходят в гармонию в единстве идеи, то это развитие философии, сообразное с требованиями не одной ученой методы, но и всечеловеческого сознания, основано на глубоко верном предположении, что наши вечные нужды, наши духовные требования и стремления должны быть составною и деятельною частию в миросозерцании. Холодный истолкователь натуры, Аристотель упрекал Платона в том, что его идеи суть поэтические; мыслитель, воодушевленный высшими стремлениями, мог бы сказать противное: именно это обстоятельство, что платоническая идея есть между прочим идея поэтическая, составляет неотъемлемое достоинство философии Платона.
Такими представляются эти две великие системы философии не пред ученой критикой, но пред непосредственными умственными или духовными привычками, которые не всегда, конечно, совпадают с свежим голосом науки. Мы предоставляем истории философии показать, как дух человечества, в течение столетий и тысячелетий оплодотворяясь этими идеальными созерцаниями, принимал их и видоизменял, смотря по требованиям науки, нравственности и религии, и переходил к тому периоду философии, когда она стала развиваться из фактов и идей, которые частию или всецело были неведомы древности. Разумеем период картезианской философии. Христианское учение о различии двух начал в человеческом существе выразилось в картезианской философии убеждением, что дух и тело человека не находятся в непосредственном и живом взаимодействии друг с другом и, следовательно, впечатления, происходящие на телесные органы чувств со стороны внешнего мира, не суть причина наших представлений, понятий и идей. Это воззрение господствует в картезианской школе от Декарта, который все познания о внешнем мире нашел сосредоточенными в предопытном представлении протяжения, до Лейбница, которого монада не имеет окон, чтобы принимать в себя что‑либо извне, и которая всецело замкнута для внешнего мира. В этих предположениях заключается необходимость учения о врожденности идей и предопытности наших познаний о мире действительном. Идеи врождены человеческому духу, они не воспоминаются, как забытые опыты, не входят и совне, как отличное от человеческого духа начало. В конечном человеческом самосознании лежит необходимая и достоверная мысль о бытии конечного духа, Бога и мира. Предопытные идеи делают возможным познание действительности, потому что они стоят с ней в гармоническом отношении: чем больше представляемой реальности в идее, тем больше существующей реальности в бытии, и наоборот; что лежит в понятии предмета, то есть в существующем предмете; что следует из понятия о предмете в мышлении, то следует из натуры предмета в действительности. Так, идея субстанции содержит больше представляемой реальности, чем идея модуса; следовательно, существующая субстанция заключает в себе больше существенности, чем действительно существующий модус. Отсюда следует, что мышление, если только оно ясно и раздельно, всегда движется в области необходимого и действительного. Спиноза только углубляет и развивает эти положения Декарта, когда учит, что порядок вещей есть один и тот же, что совершенство идеи зависит от совершенства ее предмета, и, следовательно, мир идеальный простирается не дальше и содержит в себе не больше, как сколько есть в мире реальном. Это положение, неизвестное древним, раскрылось в своеобразном и необычайном миросозерцании. Если идеи движутся в таком же необходимом порядке, как и самые вещи, то они подлежат г голь же неизменяемому механизму, как соответствующие им явления. Душа есть мысленный автомат, мышление движется в силлогизме механически–необходимом, который определяется схемою: или невозможно, или необходимо; что не есть невозможно, то есть необходимо. Представление возможного, следовательно, вообще бытия конечного, которое только возможно и которое не содержит в себе безусловной необходимости, не свойственно мышлению; оно всегда обходит эту категорию конечного мира и постигает все явления под образом вечности, т. е. в их безусловной необходимости. Из опыта известны нам два вида или порядка явлений или вещей: вещи мыслящие и вещи протяженные. Так как мышление должно понять эти явления в их безусловной необходимости, то оно сводит оба порядка вещей мыслящих и протяженных к бытию одной бесконечной субстанции, которая хотя обладает бесконечным множеством атрибутов, однако нашим умом постигается под двумя вечными атрибутами бесконечного мышления. — Представление конечного как такого принадлежит воображению, а не мышлению. Из бесконечной божественной субстанции следует только то, что ей существенно, то есть бесконечное, как из натуры треугольника вытекает вековечно имманентное ему свойство, что сумма его углов равна двум прямым. Вог есть имманентная причина мира, т. е., собственно, не причина, а субстанция мира. Мир имеет основу не в другой, а в божественной субстанции, которой свойственно полагать только бесконечное. Поэтому мы не можем спрашивать о начале мира как совокупности конечных модусов, как мы не говорим о происхождении того, что не имеет действительного существования. Так как мышление и протяжение суть бесконечные атрибуты одной, неделимой, безусловной субстанции, то в явлениях мира каждая вещь есть нераздельно то и другое, модус мышления и модус протяжения, душа и тело, идея и предмет, смотря по тому, мыслим ли мы эту вещь под тем или другим божественным атрибутом; определенному модусу протяжения соответствует на данной стадии определенный модус мышления, телу — душа, явлению— идея. Действительного взаимодействия между этими членами не существует: ни идея не определяет предмета, ни предмет не определяет идеи; идеализм и материализм равно неосновательны. Только единство безусловной субстанции, которая в этих членах полагает свою неделимую сущность, определяет с необходимостию их взаимное отношение в мире явлений.
Это учение об идее, о котором также не знали древние, замечательно для нас в том отношении, что в нем натуральный механизм, который должна бы препобедить идея, переносится на существо самой идеи: идея представляет другую сторону того же механизма, который господствует в мире чувственных явлений. Мышлению отказывается в способности выступать за пределы действительности, выдвигаться вперед, чтобьГ отсюда, сообразно с познанною целию, предотвращать или видоизменять механический поток событий. Стремление к идеалу, деятельность мышления по цели есть чисто человеческое обольщение. В безусловном мышлении, так как оно тожественно с бытием, мы не можем признать этого передового движения идеи, которая определяла бы действительность по свободно начертанному плану. Ни платоническая идея художественного или творческого отношения божества к миру, ни аристотелевское представление о божестве как безусловной цели мира не изъясняют истинной зависимости мира от божества. Мы не имеем логического перехода от бытия к инобытию, от бесконечного к конечному. И если идея божества врож–дена нам, то выступать за ее пределы, чтобы признать бытие конечного мира как такого, было бы так же нелепо, как если бы математик допускал существование радиусов вне содержащего их круга. В мире не заключается ничего другого, кроме того, что заключается в идее бесконечной субстанции.
Миросозерцание Спинозы условлено его стремлением построить философию по методе математической. Когда математик построяет круг из вращения линии около неподвижного пункта, то здесь причина круга имманентна самому кругу: поэтому здесь невозможно различие между сущностию и явлением; здесь определения всегда падают в то, чего они суть определения. У Спинозы мир, подобным образом, не есть нечто вне божественной субстанции; в истине существует только эта субстанция и ее вечные определения, которые, впрочем, как такие, а не иные снимаются в ее безусловном единстве. В созерцании Спинозы мир есть как бы спокойная геометрическая величина, без движения, без развития, без жизни; все в этом мире тихо, мертвенно, жизнь всего мира, какую мы знаем, принесена здесь в жертву Богу. Всемогущая сила субстанции все охватывает, все смыкает, не дни а и существам природы дохнуть собственною жизнию и испытать радости и скорби самобытного развития. Если материализм мыслит действительность как безусловный поток, не сдерживаемый и не управляемый идеей, то для Спинозы эта действительность есть безусловный покой, который уже поэтому не нуждается в сдерживающей и управляющей идее. Кто станет говорить об идее круга? Круг в своем покойном существовании заключает все, что принадлежит к его понятию; он не может ни развиваться, ни усовершаться, он не нуждается в идее, которая определяла бы его развитие. Таким образом, в истине Спиноза отрицает самое понятие идеи. Вместо вечного бытия атомов, о котором говорит материализм, он изъясняет явления из физической силы бесконечной субстанции. Но для изъяснения действительности все равно, будет ли эта физическая сила принадлежать одной нераздельной субстанции, или же она будет разделена между множеством вечных субстанций: то и другое предположение ведет к строго механическому миросозерцанию/ Этот отрицательный исход философии идеализма есть не единственное явление в истории философии; нам придется еще раз встретить мыслителя, который, выступая из идеи, приходит в невольном диалектическом движении к ее отрицанию. Будем, однако, следить за определениями идеи внутри картезианской школы.
Мальбранш уклоняется от решительных выводов Спинозы, прибегая к христианскому учению о благодати, которым изъясняется для него совместность мира и конечного духа с беспредельностию и неограниченностию божественного существа. Затем он уже не боится мыслить все тела существующими в божественной беспредельности, всех духов содержащимися в божественном духе. Бог есть место мира: Его дух — место духов; Его беспредельность — место тел; Его вечность—место времен: в Боге живем, движемся и есмы. Посему в то время как нам кажется, что мы видим чувственными глазами вещи вне нас существующие, солнце и звезды на небе, растения и животных на земле, в действительности мы видим все это, все вещи в Боге как их подлинном месте. Наше отношение к Богу есть первоначальное и непосредственное. Что бы мы ни познавали и к чему бы мы ни стремились, мы познаем всегда только Бога, мы стремимся всегда только к Богу; наша свобода есть блаженная необходимость искать и любить только Бога. В этом миросозерцании идея признается как созерцаемый, противолежащий взору ума предмет, как самая вещь в ее неподдельном виде, существующая в ее истинном месте, в Боге. Как у Спинозы исчезает представление идеи, изъясняющей бытие, так у Мальбранша — представление бытия, изъясняемого идеей. Идея не назначена к тому, чтобы проливать свет на другие сущности; она сама есть сущность, есть прямой и ближайший предмет нашего познания: вещам, как вещам, свойственно идеальное существование в Боге и никакое более. Ум, как способность созерцательная, минует явление; он относится прямо и непосредственно к сущности, к идее. Сообразно с этим Мальбранш отрицает всякую натуральную деятельность в вещах и натуральную или конечную причинность. Бог есть непосредственный деятель и непосредственная причина всех явлений, движений и перемен в конечном мире; понятие природы нужно отнести к вымыслам язычества, которые не имеют места в христианской философии. Так Спиноза, отрицая идею, и Мальбранш, полагая идею, приходят к одному и тому же заключению касательно отношения конечного мира к бесконечной божественной субстанции. Французы имеют, конечно, основание, если они называют Мальбранша христианским Спинозою.
Действительным противником Спинозы был Лейбниц, которого учение о бесконечном множестве субстанций прямо направлено против учения Спинозы об одной бесконечной субстанции. Опровергая локкову теорию эмпирического происхождения идей, Лейбниц сам подчиняется ее влиянию и видоизменяет понятие о врожденности идей сообразно ς началами внутреннего самонаблюдения и внешнего опыта. Идеи врождены духу человеческому не как готовые формы и определения, из которых действительно мог бы образоваться мысленный автомат, но как предрасположения и неразвитые основы мышления, которое, по всей справедливости, не входит в человеческую душу от внешних предметов. Так как имманентное развитие идей определяется двумя законами— противоречия и достаточного основания, из коих первый обнимает область возможного, а последний — действительного, то посему область возможного так же есть предмет мышления (а не воображения, как утверждал Спиноза), как и область действительного; или, категория возможного имеет объективное значение, какое вообще свойственно мышлению. Итак, по необходимости мышлении мы не можем рассматривать действительность. кик сплошную, крепко сомкнутую массу бытия, которой некуда лишаться, некуда развиваться: есть область возможности, есть место движению, жизни и развитию. По указанным законам мышление развивается в живом взаимнодействии с опытом; разлагая сложное на простое и сводя простое к разумному единству, мышление достигает до сознания идей вечных, т. е. таких, которые, имея основу в уме Божием, сами служат основою всех вещей в мире. Идеи, которые мы сознаем не во всей их чистоте и полноте, составляют содержание ума божественного. Наши идеи потому совпадают с действительностию, что они однородны с вечными идеями, по которым божественный ум создал мир и все в мире. Человеческий ум отличается от божественного не качеством, а степенью и достоинством, как капля от океана, как свет возмущенный от света чистого и полного. Таким образом признается первенство мышления над бытием, идеи над явлением, и для науки происходит требование поверять явление идеей или разлагать чувственно данный предмет до тех пор, пока он не совпадет с неизменяемыми законами мышления.
Сообразно с этим требованием, мы не можем признать протяжение сущностию материального мира, потому что протяжение, безразличное ко всем видам явлений, не содержит достаточной основы для разнообразных форм и существ этого мира, и притом, как сложное и делимое, оно по необходимости отсылает мысль к простому и неделимому. Не протяженные субстанции, но простые и неделимые суть основы телесного мира. Эти субстанции не могут обладать спокойным, пассивным существованием; в них должна лежать раскрытая действительность и неразвитая возможность как начало движения, жизни и развития, которое предполагает правящую им и предопределяющую его идею. Схоластики мыслили действительность как нечто прибавляемое к возможности, без внутреннего перехода от последней к первой. Таким же образом и субстанция в философии Спинозы есть нечто существующее непосредственно, без внутреннего напряжения и влечения к существованию. В таком качестве они не могли обнаруживать себя как субстанция, для этого требуются два условия: во–первых, она должна иметь против себя бытие, которое она могла бы отрицать и против которого могла бы поддерживать и обнаруживать свою самостоятельность, а это предполагает множество субстанций; во–вторых, она не должна быть ни простая возможность, ни готовая действительность, но деятельная сила (vis activa), которой свойственно внутреннее стремление к самоположению, к переходу из возможности в действительность. Субстанция есть величина не экстенсивная, но интенсивная; все ее существо напряженно, состоит в стремлениях и порывах. Эти свойства предполагают в субстанциях два деятельные направления: положение и отрицание, действительность и возможность, бытие развитое и неразвитое; или — субстанции свойственна сила расширяющая и сжимающая, движущая и сдерживающая, бесконечность и граница, деятельность и страдание. Субстанция есть сила действовать и страдать; а так как страдание есть в истине деятельность, только идущая в обратном направлении, то самая материальность вещей, которою обозначается для наших чувств страдательное состояние субстанций, есть производный феномен, условленный деятельностию и состоянием в себе нематериальной субстанции. Бесконечное и конечное, положение и отрицание, действительность и возможность, беспредельность и предел не суть такие определения, которые были бы несовместны между собою, как это утверждал Спиноза; напротив, эти определения составляют необходимые моменты всякой субстанции.
Два вида деятельности субстанций суть в истине то же, что в душе представления и стремления. Каждая субстанция есть простой духовный индивидуум, обладающий представлениями и стремлениями. К этой мысли о духовности субстанций можно прийти удобнее, рассматривая картезианское положение: cogito ergo sum. В этом положении мышление и бытие, понятие и воззрение совпадают в один нераздельный акт. Но бытие, совпадающее здесь с мыслию, есть духовный индивидуум, имеющий способность представления и воли. Отсюда вообще только духовный индивидуум, наделенный представлениями и стремлениями, есть действительность неподдельная, довлеющая неизменяемым требованиям мышления. Все другие виды действительности, поколику они не тожественны с мышлением, не суть первоначальные; они обладают бытием феноменальным. Что значит существовать? Что значит обладать жизнию? — Об этом мы знаем только по нашему внутреннему опыту: мы испытываем, мы ощущаем существование и жизнь; мы дознаем, мы проживаем внутри нас то, что называется бытием, действитльностию, существованием. Итак, здесь, внутри нас, мы находим и познаем подлинное бытие: это бытие есть дух. Для духа всякое существо должно быть духовно; другой субстанциальности, кроме духовной, мы не можем сделать предметом нашего знания и мышления; дух, как дух, не может, так сказать, войти в положение недуховной, например протяженной, субстанции, он не может испытать и дознать, что в ней собственно действительного и жизненного. Итак, будем ли мы познавать существа конечного мира или существо бесконечное, везде по необходимости мышления мы должны признать первоначальную сущность как духовный индивидуум, обладающий представлениями и стремлениями.
В таком виде представляется действительность, если понимать ее во свете идеи и если отрешить от нее то, что сознается нами в смешанных и темных представлениях. Вселенная не есть одинокая сущность: она есть согласное общество духов или душ; каждое существо живет в ней своими собственными силами; каждый атом насла–ждается в ней ощущением самостоятельной, энергической, внутренней жизни. Как субстанция проста, или есть монада, то внешний мир не может проникать в нее и стеснять ее развитие. Но как при этом она есть сущность представляющая, то весь мир содержится в ней идеальным образом. Каждая монада есть живое зеркало вселенной; как она отображается во всем, так все отображается в ней: в состояниях этого малейшего атома можно бы прочитать все прошедшее и будущее мира. Так как монада есть, наконец, индивидуум, имеющий особенности, которых нельзя найти в целом окружающем его мире, то в каждой монаде отражается весь мир под особенным углом зрения; в другой монаде тот же мир делается другим миром: один мир есть вместе бесконечное множество миров. Это присутствие монады во всем мире и всего мира в монаде, это бесконечное разнообразие при совершеннейшем единстве дает идею безусловной гармонии мира и его безусловной цели. Не механические толчки, не притяжения и отторжения управляют судьбами мира, а связи и отношения всецело идеальные, которые предполагают совершеннейшую целесообразность, существующую в мире.
Природа представляет восходящую лестницу живых и одушевленных существ; каждая новая ступень в этой лестнице есть высшее развитие положительной силы монады и большее ограничение силы отрицательной, или каждая новая ступень есть выражение большей энергии, более развитого состояния и большей духовности монады. От мнимо мертвого царства неорганического, где духовная монада как бы погружена в глубокий сон, который не прерывается грезами, до бодрственного состояния монады в человеческом духе мы видим постепенное препобеждение страдательности, ограниченности и материальности в монаде, постепенный переход неразвитого, связанного бытия в развитое и свободное, возможного в акт, конечного в бесконечное. Человеческий дух отличается от низших существ тем, что он сознает необходимые и вечные истины; следовательно, на этой ступени монада приходит к своему истинному содержанию; здесь она обладает в развитом виде тем, что составляет ее существо, как и существо всего мира; здесь само феноменальное бытие есть непосредственно бытие идеальное. Но таким образом целая система монад и постепенное развитие их до акта и идеального образа существования предполагает монаду как акт безусловный, акт чистый, с которого снята всякая ограниченность, всякая страдательность. Такая монада есть Бог, который поэтому мыслится нами как чистый дух. В существе Его мы напрасно искали бы представителя материальности и протяженности телесного мира. Переход от конечного к бесконечному есть логическое движение мысли от несовершенного к совершенному, так что мысль движется при этом внутри одного и того же содержания — духовной, деятельной монады. Субстанция первоначальная содержит эминентно совершенства, заключающиеся в субстанциях производных. Бог есть достаточная основа мира, основа его гармонии и целесообразности. Божественное творчество не противоречит самобытности монад; оно не предполагает перелома или превращения духовной идеи в материальное бытие; оно не требует, чтобы идея изменилась или стала инобытием, чтобы она от–чуждалась от своей собственной духовной сущности, потому что всякое бытие в истине духовно и идеально. Идея, как сущность вещи, не подлежит произволу или неограниченной воле Божией; метафизическая сущность вещи вечна, как вечен содержащий ее божественный ум. Божественная воля ограничивается в акте творчества вечными идеями: а идея, чем она совершеннее, тем более стремится к действительному самоположению в бытии, гем энергичнее полагает она свою метафизическую сущность и действительность физическую. Посему Бог хочет творить и творит мир наилучший из возможных. Свобода божественной воли и ее необходимое определение чрез идею совпадают в акте творчества.
Мы не станем входить в некоторые неопределенности и колебания, которые встречаются в учении Лейбница об отношении Бога к миру. Для нас замечательно решительное значение, какое дает Лейбниц идее и, идеальному элементу в составе и истории мира. Идея есть метафизическая сущность вещи; вещь в своей истинной натуре идеальна; она действует по идеальному началу представления; она относится к целому миру идеально. Чтобы изъяснить историю мира, нет нужды полагать вне идеи иной элемент, μη δν Платона или δυναμις Аристотеля, нет нужды отрицать самую эту историю и ее возможность, как это сделал Спиноза, наконец, нет нужды допускать внутри самой идеи непонятное превращение ее духовного бытия в инобытие. Разности возможного и действительного, которыми условливается движение, развитие и жизнь мира, лежат внутри идеи. Идея, как мыслимая, метафизическая сущность вещи, полагает себя в бытии по мере своей целесообразности, или она есть действительное бытие, по мере того как она входит в конечную цель мира. Все целесообразное действительно, и все действительное целесообразно. Мир подчинен не одному логическому началу мыслимости, но и метафизическому началу целесообразности. Законы природы имеют в законах нравственных свой конец и завершение. В развитии мира из его вечных основ не общее обособляет себя посредством ограничений и отрицаний, но первоначальная, индивидуальная жизнь выступает рее с большей и большей духовной энергией: самое начало ограничения и отрицания, свойственное конечной монаде, не лежит вне идеи как что‑то нерациональное; напротив, оно определено вечными истинами, оно требуется целесообразным положением монады в системе мира. Посему монада во всех отношениях есть нечто совершенно положительное. Каждая монада имеет против себя монаду же, и так в самых противоположениях совершается в истине положение одной и той же духовной сущности; ограничение и отрицание, присущее монаде, таким образом снимается и становится положительной стороной в целостной системе мира. Так неотрешимо, так глубоко каждое существо носит в себе зачатки бесконечной жизни! Монада носит в своем лоне весь мир, всю бесконечную действительность; несмотря на свою индивидуальность, она есть сущность общая, определяемая общею целию мира. Индивидуальная деятельность монады есть вместе выражение мировой целесообразности. Примирение общего с частным не требует уничтожения личности и особенности отдельных существ. Все в мире наслаждается чувством удельной и самостоятельной жизни, и это чувство не есть, однако ж, эгоистическое, противное общему благу мира; именно в нем, в этом живом чувстве самобытности лежит основа для содействия общему благу, лежит влечение к осуществлению общей цели. Служение и повиновение раба было бы разрушительно для общего дела.
Картезианская философия утверждалась на предположении, что если внешний опыт рождает в нас представления, то зато во внутреннем опыте, внутри самосознания мышление и бытие встречаются друг с другом. Из этого твердого пункта мысль могла, посредством прирожденных идей, выступить в мир объективный и вступить в мир божественный. Но тверд ли сам этот пункт? и достаточно ли посредничество прирожденных идей, чтобы выступить мышлению из тесного психического круга в мир объективный? Отвечать на эти вопросы есть задача критики чистого разума. Кант решил эту задачу так, что определение и понятие идеи встретило затруднения, о коих доселе не знало человеческое мышление. Древние признавали первоначальную объективность мышления. Так, Платон в своем предположении о вспоминаемых идеях выражает ту же мысль, какую определенно высказывает Аристотель в учении об–уме, входящем со–вне. И это учение имело столь решительный смысл, что у Платона ум существует по силе идеи, у Аристотеля мышление существует по силе мыслимого. Картезианцы признавали мышление деятельностию человеческого духа; однако эта первоначально субъективная деятельность, встречаясь внутри самосознания с подлинным бытием и определяясь прирожденными идеями, могла выступать в мир объективный, могла уловлять в свои формы чистую, неподдельную действительность. Переход от первоначального психического достоинства мышления к его метафизическому значению был довольно легок: требовалось только иметь понятия ясные и раздельные, чтобы сознать в них и чрез них вещь, как она есть в истине. Кант приходит к убеждению, что мышление не имеет никаких средств выступать из своей психической ограниченности и мир объективный: на конце своей работы оно имеет тот же недостаток субъективности, с каким оно начинает работу. Напрасно картезианцы думали, что во внутреннем самовоззрении мысль встречается лицом к лицу с бытием. Ни во внешнем, ни во внутреннем опыте, в целом мире нет такого пункта, где бы мысль застала предмет в его подлинной, объективной натуре. В момент встречи с предметом мысль налагает на него свои собственные формы; предмет, как только встречается с мыслию, перестает быть предметом и делается представлением. Когда мы говорим, что наше позвание соответствует предмету, то здесь предмет не есть нечто лежащее вне познания, с чем могли бы мы сравнивать это познание: ибо то, что лежит вне познания — как это понятно само собою — неизвестно нам и, следовательно, не может быть таким предметом, с которым мы могли бы сравнивать наше познание. Итак, самый предмет, которому должно соответствовать наше познание, есть не что иное, как наше же познание; так что этим выражением обозначается только необходимость, лежащая в мышлении, — признать нечто как предмет. Таким образом, вещь, предмет есть феномен познания, вне которого эта вещь, этот предмет есть нечто для нас совершенно неизвестное. Вместо истинного, действительно существующего мира мы везде встречаем мир как представление. Таков истинный смысл выражения, что мы можем познавать только явления. Прежние философы имели самое смешанное понятие о явлении. Они противопоставляли явление сущности, которая рождает это явление, и забывали, что для возможности явления необходимо предположить другое существо, в котором находится истинное место этого явления. Им казалось, что из глубины неведомой сущности возникает явление, например, блеск, который существует прежде, чем существует глаз, в котором этот блеск собственно мог бы произойти. В истине все являющееся, все кажущееся существует только в том субъекте, которому оно является или кажется. Мир как явление имеет свое подлинное место в замечающем субъекте, и нигде более. Вне этого субъекта он был бы вещь в cede, обладал бы бытием не поддельным, а действительным. Из предыдущего, однако ж, видно, что эта вещь в себе навсегда останется для нас неизвестною.
То, что называется матернею познания или его предметом, суть наши субъективные ощущения, например, света, звука, тепла, холода и т. п., следовательно, наши внутренние состояния и видоизменения. То, что называют формою познания, суть определенные и закономерные способы действования субъекта по поводу его собственных состояний и видоизменений. По мере того как показанные психические состояния и видоизменения субъекта сводятся к определенному существу в его же формах или по его же внутренним законам, происходит вместе и нераздельно познание предмета и предмет; так что не бытием предмета, наперед данного, условливается происхождение познания, но происхождением познания из показанных субъективных элементов условливается для нашего сознания бытие предмета. Формы или способы деятельности субъекта по поводу ощущений прежние философы называли объективными идеями, в которых будто открывались нам непосредственно и внутренно та или другая часть мира и в которых мышление будто познавало вещи в себе. Но это предположение столь же неосновательно, как если бы кто сказал, что законы пищеварения имеют объективное существование вне желудка, переваривающего пищу, или что самым предметам свойственны углы зрения, под которыми глаз видит эти предметы. Категории мышления суть субъективные формы или деятельности, в которых сравниваются и соединяются многоразличные субъективные ощущения. Так, например, причинность, субстанциональность всегда предполагают некоторые данные, которые мы могли бы сравнивать и поставлять во взаимное отношение. Сами в себе, как категории, они не содержат никакого знания.
Отсюда следует, что если внутри опыта возможно субъективное знание, т. е. знание явлений, то вне опыта или там, где нет данных для мышления, знание вовсе невозможно. Человек может двигаться с своим знанием в миро явлений, который отделен резкою чертою субъективности от мира подлинных вещей, а для познания этого мира подлинных вещей, мира сверхчувственного, он не имеет никаких условий.
Если картезианцы предполагали, что мышление может выступить до объективных определений, свойственных предмету, то Кант утверждает, наоборот, что предмет не может выступить из субъективных определений, свойственных мышлению. Поколику мы познаем мир, он есть явление, основа которого лежит в нем. Поколику мир обладает истинным бытием, есть вещь в себе, он остается и навсегда останется недоступным для нашего познания. Мышление и бытие так расходятся, что там, где есть знание, нет бытия, а где есть бытие — нет знания.
После этого Фихте хочет быть только последовательным, если он утверждает, что мир полагается и существует чрез я, в я а для я. Кантово предположение вещи в себе не имеет никаких оснований. Справедливо, что мы имеем представление о бытии или о том, что нечто существует. Но так как наша мысль не встречается с бытием ни в одном пункте, то это представление есть продукт мышления, а не бытия: по необходимой, закономерной деятельности мышления мы полагаем ничто как предмет, как бытие, следовательно, это представление предмета, бытия, мира как чего‑то объективного есть представление субъективное. Признавать вещь в себе как объективную основу наших ощущений —значит вносить в теорию знания неразрешимое противоречие: во–первых, этим мы предположили бы в нашем духе некоторое знание о вещи в себе, которая, как доказано, безусловно неизвестна; во–вторых, как вещь в себе есть нечто вне мышления, то этим мы допустили бы представление о вещи, о которой, собственно, нельзя иметь никакого представления.
Когда наша рука движется и в своем движении встречает препятствие, то мы из этого заключаем о присутствии внешнего предмета. Однако ж это препятствие, испытываемое рукою, есть состояние самой руки, оно существует и заключается в руке; это препятствие есть, в свою очередь, движение руки, только совершающееся в ином направлении. Так точно, если мышление встречает в своем движении препятствие, чувствует себя задержанным и связанным, то отсюда нельзя заключать о присутствии чего‑то постороннего для мышления, о существовании независимого от мысли, объективного бытия, потому что это препятствие есть опять состояние самого мышления, существует и замечается в мышлении; оно есть движение мышления, только совершающееся в обратном направлении. Так неосновательно, так непо нятно обычное предположение предмета, противолежащего мышлению. Мир полагается и существует в я, чрез я и для я.
Мы не входим в ближайшее рассмотрение философии Фихте и оканчиваем замечанием, что из его начал возникает для философии задача неизмеримой тяжести, — задача, которая не представлялась сознанию прежних философов даже и в полусвете. Философия не должна относиться к готовому данному содержанию: мышление не имеет пред собою никакого предмета, о котором бы оно мыслило; из себя, из собственной деятельности оно должно развить, положить и построить содержание знания, весь мир с его бесконечным разнообразием и в его отношениях к человеку и Богу. Гегель — и он один — понял и принял как исходную точку философии это учение о мышлении, которое не знает никакого предмета, кроме собственной деятельности.
Итак, мы имеем основание перейти непосредственно от Фихте к Гегелю. Если Шеллинг избирает для изъяснения действительности поочередно два исходные пункта‑то мышление, полагающее себя в бытии, то бытие, развивающееся до мышления; если для него основа бытия и знания лежит в нераздельном единстве или тоже–стзе идеального и реального; если, наконец, этот мыслитель говорит об умственном созерцании, которое помогает мышлению признать объективное бытие, то в этом направлении Шеллинг примиряет две метафизические точки зрения, из коих одна — первоначальное признание бытия — принадлежит прежнему, докантовскому развитию философии. Этим определяются вообще как достоинства, так и недостатки шеллинговой философии: достоинства — потому что мы должны наперед надеяться, как и действительно находим, что она есть самый обширный философский синтез, какой только возможен для мыслителя, обладающего двумя борющимися в истории человечества воззрениями —идеальным и реальным; недостатки — потому что эти два воззрения, как показал вековой опыт, не поддаются такому аналитическому единству, которое определяло бы стройный ход системы с логическою необходимостию. Этой необходимости развития мы не находим в философии Шеллинга; его идеи рождаются то как продукт творческого гения! которому тесно на узкой логической дороге, то как следствие религиозно воодушевленного сознания, которое знает больше, чем обычная человеческая наука. Мы не говорим, чтобы Шеллинг не внес некоторых особенностей в определение идеи; мы только утверждаем, что эти особенности не проходят резкою и неизменяемою чертою в его миросозерцании, что они часто уступают место таким определениям, которые входят в систему чисто синтетически, без ясной связи с предшествующими положениями.
Для Гегеля философия тем отличается от других наук, что она не имеет готового, наперед данного содержания: она выводит или построяет a priori, из чистого мышления как бытие предмета, так и его определения. Только дух феноменальный, не развитый до своей истинной натуры знает об этой мнимой противоположности между мышлением и бытием, полагает против себя мир как данное вне и прежде мысли. В безусловной мысли противоположность между представлением и предметом, знанием и познаваемым бытием снимается в тожестве или единстве, и притом так, что вещь, предмет, бытие выводится из мысли как ее момент, как ее определение. Философия есть наука о мышлении, поколику оно есть все бытие в идее (в истине). Если эти положения указывают на зависимость воззрений Гегеля от теории Фихте, который разрешил предмет знания в процесс знания, то, с другой стороны, в них тожество мысли и бытия определено несколько иначе в сравнении с понятиями об этом предмете прежнего идеализма. У картезианцев это тожество было изъясняемо так, что движение чистой априорной мысли идет в такт с движением бытия, или что процесс логический покрывал собою процесс реальный. Так, например, Спиноза говорит, что следствия, которые вытекают логически из понятия треугольника, существуют как свойства в действительном треугольнике. Поэтому всегда оставалось различие между идеей (idea) и ее предметом (ideatutn), между мышлением и бытием. У Гегеля это различие невозможно. Идея, чистая мысль, есть абсолютное: бытие и все его определения суть моменты, содержащиеся в идее и выступающие из идеи с логическою необходимостию. Отсюда получаем первое характеристическое определение, что абсолютное есть логическая идея, т. е. такая общность, которая содержит в своем единстве как логические моменты все разности, особенности и определения мышления и бытия. Абсолютное есть тожественная с собою мысль, которая, заключая в себе все определения мышления, с этим самым непосредственно содержит в себе все определения бытия: потому что бытие есть мышление. Вместо обыкновенного различия между сущностью и явлением мы должны говорить о различии между мышлением и явлением, потому что мышление наполняет ту область истинного бытия, которая прежде была наполняема сущностями, субстанциями, монадами и т. д. Эти последние замечания показывают, что общая логическая идея не есть общность отвлеченная, бессодержательная; она есть общность конкретная, которая содержит в себе примиренными все разности и противоположности мышления и бытия. На первый раз можно бы подумать, что такова была и платоническая идея, потому что и эта идея не была отвлеченная, и она обладала всею полнотою содержания, и она носила в себе подчиненные разности и определения всего существующего. Однако определение гегелево имеет ту особенность, что разности и противоположности бытия и мышления содержатся в общей идее снятыми и примиренными; а это предполагает внутри идеи движение и развитие, в котором эти разности, снимаясь, примиряясь, входят в идею как ее конкретное содержание. Итак, мы не должны мыслить общую логическую идею как спокойную сущность, которая сразу и непосредственно обладает развитым содержанием. Идея есть логический или, правильнее, диалектический процесс; только в этом процессе абсолютное имеет свою подлинную жизнь, свое истинное бытие и свою существенную, неизменяемую форму; все другие виды его откровения суть изменчивые, несамостоятель ные моменты в этом процессе. В то время как другие определения абсолютного полагаются, отрицаются и примиряются, чтобы отсюда опять начать новую жизнь и встретить новую смерть, один этот диалектический процесс идеи остается неизменным и постоянным среди перемен рождения и смерти, и поэтому он есть собственно абсолютное, или абсолютное в его подлинном, первоначальном и самом существенном виде.
Эти определения идеи так новы и так важны для нашей цели, что мы постараемся еще раз обозреть их.
Для Гегеля, как и для многих философов прошедшего времени, абсолютное есть общая сущность явлений, т. е. всего того, что мы знаем во внешнем и внутреннем опыте. Эта общая сущность явлений есть не бытие, не субстанция, не монада, не дух, а мышление с собою тожественное. Однако самое тожество мышления не есть покой, не есть форма бытия неподвижная, всегда себе равная: тожественное с собою мышление, которое составляет общую сущность явлений, есть диалектический процесс. Как, однако ж, возможно мышлению быть тожественным с собою и вместе находиться в беспокойном диалектическом процессе? Спиноза сказал: omnis deter‑minatio est negatio и, сообразно с этим началом, заключил, что тожественная с собою бесконечная субстанция не может выступать в явление, что ей не свойственно движение, развитие и откровение в конечном и посредством конечного, потому что все эти определения были бы отрицаниями первоначального тожества бесконечной субстанции. Но если определение и неразлучное с ним отрицание полагается и отрицается, то субстанция в этих двух актах не теряет своего тожества, потому что если положение конечного определения нарушает ее тожество, то снятие того же определения восстановляет его. Только очевидно, что эта субстанция не есть уже по–коющая ее сущность, а деятельное мышление, которое, то полагая, то снимая частные, конечные определения, вечно восстановляет и удерживает свое тожество среди беспокойств диалектического процесса. Отсюда же делаются понятными законы этого диалектического процесса, который составляет подлинную жизнь абсолютной идеи. Из чистого мышления выступает с необходимостию логическою определение или категория, которая в своей отдельности есть необходимо мысль о конечном или мысль конечная, приводящая к нашему сознанию сущность того или другого частного явления; как мышление есть общая сущность явлений, так частные определения мышления суть частные сущности явлений или, что то же, всякое определение, выступающее из частного явления, есть, как сказано, категория конечная. Но такая категория, уже потому, что она есть конечная, имеет против себя другую конечную категорию, имеет свою противоположность, которая и сознается нами в этом качестве. Собственно диалектический процесс состоит в том, что эти противоположности не стоят равнодушно одна к другой; они переходят одна в другую, так что только третья категория, как их единство, в котором две первые существуют не по своей непосредственной натуре, но снятыми и примиренными, обладает истиною и высшим достоинством в судьбах абсолютной идеи. Этот закон положения, отрицания и отрицания отрицания есть неизменяемый закон диалектического процесса, которым живет абсолютное. Спиноза учил, что из бесконечного следует или происходит только бесконечное в бесконечных видах. По Гегелю, напротив, бесконечное полагает только конечное, и уже поэтому оно в тот же нераздельный момент снимает или отрицает свое собственное положение. Этим слишком достаточно изъясняется изменчивость и текучесть вещей и явлений этого конечного мира; но также отсюда видим, что абсолютное есть не что иное, как форма или закон, который заведывает и управляет этою текучестию и изменчивостию. Мы не можем представлять это абсолютное под мистическим образом бездны, из которой возникают и в которую возвращаются явления мира; не можем также сознавать его под логическим образом носителя явлений, который обладал бы некоторою независимостию или некоторым особенным содержанием, не входящим в поток явлений. Жизнь абсолютного более проста, более прозрачна, чем это казалось прежним философам. Абсолютное обращено всецело к миру явлений: оно обладает существованием формальным, как логическое понятие, как логическая закономерность, как ритмическое движение происходящих, сменяющихся и исчезающих явлений. Тем не менее в истине существует только идея как диалектический процесс положения и снятия всех конечных определений мышления и бытия. То, что субстанциально в вещах, есть не спокойный образ вещей, но эта вечная их перемена, эта нужда, происхождения, изменения и исчезновения. Вещь в своей непосредственности не есть нечто существенное; она обладает истинным бытием потолику, поколику ее непосредственность снимается, поколику она входит в беспокойный процесс идеи как ее момент, как одно из ее несамостоятельных и текучих определений. Если по Лейбницу индивидуальность есть существенная форма вещей, то для Гегеля общее есть то, что суть собственно вещи, индивидуальное есть нечто не разумное в вещах, не мыслимое, существующее только для феноменального духа. Здесь уже видим, какою тяжестию должна пасть эта идея на феноменальную действительность. Сама в себе, в своей внутренней жизни идея так бедна, что без постоянных приношений и жертв со стороны феноменального мира она не обладала бы внутренним богатством. Субстанция Спинозы вовсе не выступает в область конечного. Идея в философии Гегеля всегда по лагает конечное, но не с тем, чтобы она желала ему жизни и добра, а с тем, чтобы сделать его несамостоятельным моментом своего внутреннего диалектического процесса. Этот внутренний (имманентный) диалектический процесс сосредоточивает на себе все интересы, все стремления идеи, и никакая другая жизнь не входит в ее расчеты. Если по Платону Благо дает бытие миру, сообразное с идеей, вследствие богатства и переполнения своего внутреннего содержания, то по Гегелю это событие дается миру не для мира, а для идеи; оно возникает не из полноты, которая лежит в бесконечном, а из нужды, которая влечет бесконечное полагать конечные определения, чтобы чрез снятие их восполнять свою собственную внутреннюю жизнь.
Чтобы изъяснить эту немощь бесконечной идеи, которая не может наделить существа конечного мира самостоятельною жизнию, не может дать им пожить для себя, иметь и преследовать свои частные интересы и цели, мы должны еще раз всмотреться в эти замечательные положения, что абсолютное как общая сущность вещей есть логическая идея и что оно есть диалектический процесс.
Выражением логическая идея отрицается представление об идее, которая, будет ли врождена человеческому духу или созерцаема им в. уме божественном, носила бы в себе гораздо обильнейшее содержание, чем сколько можно познать и добыть логическим анализом явлений.
121
Хотя абсолютная идея не образуется из отвлечений опыта, однако как логическая она всецело и кругом открыта для человеческого сознания, в ней нет пунктов непостижимых, недоступных нашему сознанию; и как наше сознание обращено к миру явлений, то в абсолютной идее, которая всецело доступна этому сознанию, нет ничего не являющегося. Сущность не содержит таких сторон, которые всегда оставались бы на дне ее и не выступали бы в явление. Конечно, и у Платона идея есть общая сущность явлений, но при этом она есть нечто и для себя, в ней содержится много таких сокровищ, которых она не показывает, не выставляет в явлениях, поэтому она относится к явлению как тип, как идеал. Этого последнего качества не имеет идея в философии Гегеля. Она есть общая сущность явлений, и ничто более. Как идея логическая, она содержит в логическом единстве и логической общности все то и только то, что в мире явлений разбросано по пространству и времени в виде отдельных вещей и их определений. Так как, однако ж, мышление есть общая сущность явлений, то это логическое единство, эта логическая общность идеи и есть то, что существенно вещам, или определения и качества вещей обладают истинным бытием не в своей непосредственности, а как логические моменты одной общей идеи. И если логически невозможно, чтобы момент идеи существовал самостоятельно и независимо от самой идеи, был нечто для себя, а не для идеи, то абсолютная идея не может наделять вещи самостоятельною или индивидуальною жизнию с ее частными стремлениями и целями. Вещи обладают истинным бытием потоли–ку, поколику они входят в идею как ее текучие моменты.
Если Гегель говорит, что общая идея есть конкретная, то в истине это значит, что она в диалектическом процессе положения и снятия конечных определений непрестанно пополняет себя: в противном случае она, как идея платоническая, обладала бы непосредственно и сразу бытием развитым, и диалектический процесс не был бы необходим для нее как ее существеннейший образ жизни. Быть конкретною непосредственно и первоначально абсолютная идея не может уже и потому, что она есть логическая; она не может носить в себе своих определений натурально и непосредственно; как мысль, она обладает содержанием, только выработанным и добытым в диалектическом процессе. Если бы нам позволено было мыслить первый, начальный или исходный пункт диалектического процесса идеи, то в этом пункте мы не застали бы никакого конкретного определения внутри идеи, мы нашли бы, может быть, некоторые определения, самые отвлеченные, абстрактные и ничего не содержащие в себе. В полном соответствии с этим выводом мы находим, что первое определение, каким наделяет себя идея, вступив в диалектический процесс, есть чистое бытие, т. е. такое, которое есть вместе небытие или ничто. Чистое бытие или ничто — вот первое богатство, какое может изнести из себя идея в первый момент своего внутреннего саморазвития. Сообразно с этим качеством идеи Гегель основательно учит, что начало науки, которая сознает внутреннюю жизнь идеи, должно быть самое бедное и бессодержательное. На основании этих изъяснений не имеем ли мы права сказать, что абсолютная идея есть в своем первоначальном образе идея общая, логическая, и притом абстрактная? Последнее выражение будет при этом означать не то, что идея отвлечена от опыта, а напротив, что те мысленные определения идеи, в которых меньше всего содержится элементов, взятых с опыта, или которые найдальше отстоят от богатого содержания явлений, — эти определения остаются существенным и первоначальным богатством идей, которое не увеличивается от определений, взятых с опыта. Гегель говорит, что истинное начало науки дается на конце, истинный принцип — в результате, а этим дает повод думать, что позднейшие, отдаленнейшие определения идеи более сообразны с ее существом, более выражают ее подлинную жизнь, чем определения начальные. Эти выражения не должны, однако, затруднять нас. Во–первых, они имеют свое полное применение к феноменологии духа: начало науки, по всей справедливости, открывается только на конце феноменального развития духа, истинный принцип знания дается в результате этого развития или там, где дух раз навсегда препобеждает свою феноменальность и приходит к сознанию абсолютной идеи, которая отныне есть нераздельно начало знания и бытия. Говорить о другом начале, которое опять открылось бы только на конце диалектического процесса идеи, мы уже не можем. Началом, срединой и концом науки должен быть диалектический процесс идеи и ничто более, потому что наука не имеет другого содержания, кроме знания об этом процессе и его различных ступенях. Справедливо, что последующие ступени в развитии идеи имеют обильнейшее содержание, чем ее начальные определения. Но все же как бы ни богаты были все дальнейшие определения идеи, они суть моменты ее процесса, а не самый этот процесс, и. потому, не, имеют значения начала. Будут ли эти определения беднее или богаче, теснее или шире, абстрактнее или конкретнее, они не имеют никакого влияния на диалектический процесс идеи, который рождает их и снимает с одинаковым могуществом. Так море, рождает ли оно легкую зыбь или громадные волны, остается одною и тою же силою, пред которой равно несамостоятельны и легкая зыбь, и громадные волны. Нам кажется, что эти аристотелевские понятия в начале, которое выступает на конце диалектического развития идеи, не имеют надлежащего места в системе Гегеля и составляют только некоторую уступку со стороны философии общечеловеческому сознанию, потому что если для этого созцания нелегко начать знание чистым бытием или небытием, которое есть момент поистине самый текучий и неуловимый, то уже оно вовсе не хотело бы двигаться внутри науки без надежды найти в будущем спокойный и твердый пункт или сумму таких определений, с которыми оно не было бы вынуждено расстаться вследствие дальнейшего движения мысли. Из предыдущего, однако ж, видно, что эта привычка общечеловеческого сознания не может найти удовлетворения в системе Гегеля, для которой диалектический процесс идеи есть единственная существенность во всех феноменах.
Абсолютное есть идея логическая, общая и абстрактная. Гегель признает истину последнего определения, когда учит, что метода философии есть метода самой вещи, и, таким образом, бедные и абстрактные определения, которыми начинает логика свои изъяснения, суть начальные и первичные силы, которыми абсолютное начинает свой миросозидающий и мироснимающий процесс. Во всех явлениях природы и духа, как бы ни были они полновесны, мы должны находить только абстрактные категории логики; философия природы и философия духа не могут дать нам в истине ни одной новой категории, которой не содержала бы логика как наука о сущности Вещей и которая в каком‑нибудь отношении пополняла бы жизнь абсолютного: природа й дух суть изъясняемые явления, а не изъясняющие начала. Логика есть наука об абсолютном в себе самом, в его чистой, нефеноменальной натуре; можно сказать, что ее содержание есть представление Бога; как Он есть в своей вечпости, прежде создания природы и конечного духа. Но логика есть при этом наука об идее в отвлеченном элементе мышления. Итак, когда мы изучаем идею в отвлеченном элементе мышления или идею отвлеченную, то мы познаем абсолютное в себе самом, мы познаем Бога по Его вечному существу, как Он есть прежде создания природы и конечного духа. Что говорят все эти выражения, если не то, что абсолютная идея в своом подлинном, первичном и непроизводном образе есть идея отвлеченная? Конкретность принадлежит не идее в себе самой, а тем феноменальным ее стадиям, которые обла дают существованием зависимым и производным. И когда мы определяем абсолютную идею по ее различным отдаленным стадиям, то этим мы уже изъясняем не существо самой идеи, которое для нас при этом должно быть из вестно, — этим мы изъясняем из идеи существо тех явлений, которые соответствуют рассматриваемым стадиям, Следовательно, здесь метафизическая точка зрения сменяется человекообразною. Переход от одной из этих точек зрения к другой, примирение истины абсолютной с истиною общею человеческого смысла составляет собственную тайну гегелевой диалектики и делает его положения, в себе абстрактные, столь полновесными, глубокими, многообъемлющими и многоизъясняющими.
Истинную жизнь имеет абсолютная идея в диалектическом процессе положения и отрицания своих собственных определений. Чтобы изъяснить возможность этого процесса, Гегель приписывает абсолютному мышлению. самодвижение, саморазвитие. Без всякого возбуждения совне, без всякого расчета на свои будущие положения и состояния идея движет себя, идея находится в развитии. Впрочем, истинная причина этого самодвижения и саморазвития идеи заключается, как это сказано было выше, в том, что идея может полагать только конечные определения, которые не соответствуют ее бесконечности и которые поэтому должны быть снимаемы в диалектическом процессе, потому что и всякая вещь на свете приходит в движение, если только ее положение несообразно с ее натурою или заключает в себе внутреннее противоречие; для возможности такого движения вещь, как очевидно, не нуждается ни s свободной воле, ни в рассчитывающем разуме.
Логика, сообщает нам познание об абсолютном в себе самом, развивая в положениях и отрицаниях ряд категорий, в которых мы мыслим конечные явления. Безконеч–ное как такое не имеет прямого выражения ни в бытии, ни в познании. Мы должны сказать, что самый этот диалектический процесс положения и снятия конечного есть собственно бесконечное. Таким образом Виновник мира не имеет покоя в сердце своем, потому что его создание несообразны с его творческою натурою; по той же причине он не дает покоя и своим созданиям, для которых день творения и день последнего суда совпадают в один момент, для которых радость бытия есть вместе и нераздельно предсмертная мука. Субстанция Спинозы прямо и открыто отказывает всему конечному в дарах жизни. Идея Гегеля дает конечному такую жизнь, которая в тот же нераздельный момент есть смерть. Мы не решаем, кто из них действует лучше — субстанция или идея.
Творчество абсолютной идеи определяется не расчетом на прекрасные, полные жизни и мысли создания, а необходимостию. На низшей ступени развития идея находится в противоречии с своею чистою сущностию; она испытывает здесь, так сказать, давление или неудобство. Это стесненное и неудобное положение идеи влечет се на высшую ступень развития. С каждым наступательным движением идея творит образы прекраснейшие и совершеннейшие не из любви к нам, а из нерасполо женности к своему настоящему недостаточному положению. Она творит добро, потому что убегает от зла. Отрицательное чувство неполноты, недостатка и стесненности есть непосредственный источник творчества идеи, и, конечно, мир, который рождается из этого отрицательного чувства или состояния идеи, не может иметь положительных основ жизни: оно есть весь и всецело нечто отрицательное. Так, иной атомист может рассуждать, что атомы не стремятся прямо и нарочито создать этот органический продукт; только их стесненное положение в настоящем, неполное соответствие их настоящего образа существования с их собственными законами есть прямая причина их движения и сочетания в высшие продукты. В идее Гегеля, как в этом атомизме, прогресс входит в процесс; мир остается в истине под управлением деятеля, который не имеет радушного или идеального отношения к своей работе. Что, однако ж, выигрывает человеческое сознание, меняя механический процесс атомов на логический процесс идеи? Там и здесь самосознание и личный дух суть произведения позднейшего и отдаленнейшего развития основного начала, которое не есть в себе ни самосознание, ни личный дух. Там и здесь сознающая мысль есть феномен такого принципа, который в себе не есть сознающая мысль. Там и здесь поток событий предопределяется натуральною необходимостию, а не передовою мыслию. У Гегеля, как у Спинозы, слепой механизм не препобежден идеей; напротив, идея, что бы там она ни была в себе, открывается в мире, как деятель механический, она не озаряет своих будущих путей светом предваряющего разума, она не избирает этих путей по любви и свободному влечению к созданиям добрым, совершенным и разумным. Если материализм развился исторически из философии Гегеля, то, вероятно, в этом случае историческое явление было вместе и логическое.
Тщетно мы пытались бы, следуя за Гегелем, вступить наконец в мир духовный; мы можем войти только в мир мысли. Но кто хотел бы в этом митре мысли найти отдохновение от тревог мира чувственного, тот скоро пришел бы к разочарованию: потому что и этот мир есть не спокойный процесс, и его жизнь полна изменений и тревог. Философия ищет неизменяемого начала, чтобы снять противоречие, которое заключается в понятии изменяемости, свойственной чувственному миру. К этой же цели стремится и Гегель; и он начинает с указания противоречий в понятии бываемости или изменения; и он ищет начала, в котором бы снимались эти противоречия. Однако самое это начало подлежит у него вечному изменению. Итак, говорит один критик, вместо того чтобы уврачевать недуг мира чувственного посредством здоровости мира сверхчувственного, который лежит в его основе, Гегель нарочито сообщает последнему болезненный характер первого. Если при этом вспомним, что диалектический процесс идеи не имеет ни субстрата, ни субъекта тогда как в механическом миросозерцании субстрат и субъект служат необходимым пред положением натурального процесса, то едва ли мы поймем необходимость выступать из мира чувственного в мир абсолютной идеи, едва ли первый не представится нам в образе более благоприятном, чем последний.
В диалектическом развитии категорий Гегель не дает никакого значения ни субъекту суждения, ни субстрату определения. Мысль, вещь содержится только в предмете, который не предполагает готового и сравнительно спокойного субъекта. Эту особенность нужно иметь в виду, чтобы войти в дух и смысл гегелевой диалектики.
121
Абсолютная идея находится в таком внутреннем отношении с наблюдаемою нами действительности]», что все действительное разумно и все разумное действительно. Школа Гегеля пользовалась этими выражениями,; давая им то значение, какое они имели бы в общем человеческом смысле. В этом отношении она Значительно содействовала к разъяснению понятий о прогрессе, развитии и историческом движении человечества. Но уже в этом общем значении первое положение, что все действительное разумно, привело бы нас к отожествлению необходимости исторической и разумной —что противоречит истинному понятию о прогрессе и развитии. Из этого же положения, между прочим, следует, что наш разум должен только понимать эту разумную действительность, а не входить в нее в качестве деятельной, образующей и преобразующей силы. Между тем мы имеем достаточное основание сблизить поименно важные выражения Гегеля с учением Спинозы, что мир идеальный простирается не дальше и содержит в себе не больше, как сколько есть действительного в мире реальном. Нам кажется, что оба философа говорят одно и то же. Все действительное разумно. Так как абсолютная идея есть логическая, то это выражение говорит: все действительное определяется в своем движении и развитии логическою необходимости но действительное есть необходимый логический поток, который не управляется наперед сознанною целию и предначертанным планом, ибо для этого требовалось бы, чтобы разумное выступало за пределы действительного, было больше и обширнее, чем действительное; а это противоречит положению, что все разумное действительно. Что касается, в частности, этого второго положения, то оно, если принять его в общечеловеческом смысле, отрицает самую идею развития, ибо эта идея предполагает, что разумное еще не воплотилось в действительности или что явление еще стремится стать тем, чем оно должно быть по своей идее. Между тем в пределах системы, для которой развитие есть форма самой идеи, это отрицание невозможно; и так как абсолютное есть идея логическая, то рассматриваемое положение означает, что в этой идее не может быть больше содержания, чем в действительности, что она — как логическая — не может относиться к тому, что не есть, а что еще должно быть: идея не может предопределить и предначертать движение явлений, которые пока недействительны; для этого требовалось бы, чтобы не все разумное было действительным. Повторяем, хотя школа успела сделать эти выражения полновесными и многозначительными, принимая разум и разумное в обыкновенном, общеупотребительном смысле, однако эти выражения в истине указывают на бедность, а не на богатства действительности и идеи: первое выражение говорит, что в действительности царствует логическая необходимость, второе — что эта необходимость не есть идеал, который предварял бы и предопределял бы зависящую от него действительность. Здесь не мешает вспомнить, что по Гегелю прогресс есть в истине процесс и сущность не имеет такой глубины, которая не исчерпывалась бы явлением.
В полном соответствии с этими изъяснениями Гегель говорит, что философия есть наука о мире» поколику он закончен, поколику процесс его образования завершен. Мыслящая натура абсолютного духа состоит в том, чтобы приводить в свое сознание[14] то, что он есть в бытии. В философии ничто не может быть сознано, что еще не получило спокойного наличного существования; мысль есть простое и недеятельное зеркало остановившейся и переставшей развиваться действительности. Если Платон желал, чтобы идея предопределяла судьбы мира, имела деятельное влияние на его развитие и управляла этим развитием по определенному плану, то по Гегелю идея не имеет силы выполнять это назначение. Явления, не получившие бытия, не могут быть моментами идеи; посему идея ничего не знает о том, что должно быть и, следовательно, не есть. Напрасно мы ожидали бы от философии наставления, как вести себя среди изменчивых явлений мира: философия ничего более не делает, как понимает уже происшедшую действительность, которая, всегда предполагается разумною. Абсолютный дух читает только то, что он написал, а что вперед может или должно быть написано, об этом он не знает, пока не на-, пишет. Таким образом, философия, эта наука наук, это сознание абсолютного духа о себе самом есть не деятельная сила исторического мира, а спокойное зеркало, в котором отражается этот мир и его перемены. История человечества разделяется резкою чертою на две области, из коих в одной кипит живая работа, а в другой совершается недеятельное понимание этой работы, в одной— жизнь без света, в другой — свет без жизни. Понимание дела всегда возникает после дела, которое, таким образом, не определяется сознательной идеей. Таково правило всемирного духа, говорит Эрдман, чтобы сперва сделать, а потом обдумать. Эти положения противоречат самым простым опытам. Что великие дела и великие идеи падают нераздельно в одну историческую эпоху, что философия и ее идеи суть живые двигатели исторического мира, в этом историк не может усомниться ни на минуту. Однако эти положения определяются с необходимостию общим понятием об абсолютном как идее логической, потому что логическая идея в сознательном мышлении есть необходимо идея рефлексивная, происходящая из вникания в готовое, данное содержание. Философия может только понимать ту логическую необходимость, которая неотрешимо присуща действительности, потому что все действительное разумно; но она не может воздействовать на ход этой действительности, потому что идея не имеет лишнего содержания в сравнении с действительностию или потому что все разумное действительно.
Абсолютная идея есть диалектический процесс положения и отрицания конечных определений; поэтому историческое событие существует в истине, т. е. в действительности, только тогда, когда оно снимается и становится моментом высшего исторического развития. Так, например, философия Платона имеет высшее и совершеннейшее существование не в своей непосредственности, не тогда, когда она обладает плотию и кровию, действует как новое, явившееся в мире начало; нет, непосредственность феноменальной жизни есть нечто несообразное с идеей; только когда эта непосредственность снимается, когда эта широкая система сокращается до отвлеченного момента в высшей стадии философского развития, она достигает своего истинного существования. Все существует в истине как момент чего‑то другого, последующего. Отсюда распространились ложные понятия о прогрессе, которого все существо состоит в том, чтобы не стоять на одном месте, как бы ни было оно удобно. Между тем если историку не легко управиться с рассматриваемым нами воззрением, если он всю энергию, жизненность события полагает в непосредственной и конкретной натуре его, если он видит во всяком событии, как в монаде, нечто ему одному свойственное, нечто не переходящее в другое, видит глубину и бесконечность, которые уже не снимаются в последующем историческом движении, то вместе с этим оказывается, что диалектическая идея есть не что иное, как идея критическая: она относится к явлению всегда критически, она имеет постоянную потребность снимать и отрицать живую натуру явления как нечто нелогическое. История философии в небольшой промежуток времени показала, как могущественно действует эта идея в области критики и отрицания. Это сближает нас с результатом, к которому пришла и школа Гегеля, что философия, определяемая диалектической идеей, есть не что иное, как метода, как определенный способ исследования и понимания явлений. Философия, которая в начале не имеет готового содержания, есть только философская метода, которая нуждается в готовом содержании. %
Мы должны изъясниться пред читателем, что нам пришлось выставлять в философии Гегеля одну, и притом темную, сторону. Этим мы не хотели отрицать достоинство великого мыслителя нашего времени. Сообразно с нашею целию, мы должны были отрешать основное начало его философии от тех глубоких идей, которые составляют ее содержание: мы преследовали простую и отвлеченную схему, не указывая, как и чем она наполнена. Зная односторонность основного начала философии Гегеля, мы тем более удивляемся гениальной наблюдательности и глубокому пониманию философа, который бросил в науку столько светлых и истинных идей. Всякая философия обязана своим лучшим содержанием тем данным, которые она находит в глубине общечеловеческого сознания. То же самое должно сказать и о философии Гегеля. Лучше других Гегель умел наблюдать и истолковывать феноменальную действительность как такую, глубже других он проникал в сознание человечества—этот неисчерпаемый источник начал, идей и воззрений. Особенность его ученого приема, которую мало ценили, состоит в том, что абсолютная идея, прежде чем изъяснит она известный круг явлений, сама принимает натуру этих явлений, сама является с плотию и кровию тех существ, которым она должна дать бытие и все богатство жизни. Таким образом, спекулятивная мысль не заслоняла от философа феноменальной действительности; он наблюдал, сравнивал, истолковывал явления по общей ученой методе, а основная идея была для него только формальным началом изъяснения. Если Кант доказывал, что идея имеет значение для знания только регулятивное, т. е. направительное, а знания действительного не дает, то мы думаем, что это значение удержала идея и в философии Гегеля, а частные явления были изъясняемы им из начал частных, заимствованных из опыта и наблюдения. Долго философия пыталась решить свою задачу a priori. Опытное познание изъясняла она как процесс феноменологический, который начинался в области общего смысла и оканчивался у преддверия истинного знания. Как эмпиризм поставлял мышление в первоначальное отношение к явлениям, не давая ему силы выступить в мир сущностей и возвыситься до идеи, так идеализм поставлял мышление в первоначальное отношение к идее, к абсолютному и надеялся решить задачу знания, двигаясь внутри этой идеи и не сходя в область опыта. Там мысль находилась в бесконечном отдалении от истины, здесь — в бесконечной близости к ней. Стремление идеализма было бы осуществимо, если бы мы стояли в центре вселенной, где могли бы наблюдать, как, в каком порядке, по какому частному движению идеи, по какой определенной воле абсолютного возникают события и выступают е мир многообразные и многознаменательные явления. Тогда философия имела бы право изъяснять явления непосредственно из абсолютной идеи; тогда она могла бы (как это часто она пыталась делать) рассказывать нам со всеми подробностями внутреннюю историю абсолютного и его откровений в мире, который мы знаем из опыта, могла бы представить нам отчетливую и полную таблицу его моментов и определений, как это делает Гегель в своей логике. Вероятно, однако ж, что мы находимся не в центре вселенной; вероятно, что свет, идущий с высшего міира, действует на нас, как говорит Бакон, лучом преломленным: посему мы должны уловлять его, замечать и определять его движения и оттенки в той среде явлений, которая преломила его. Идея должна быть познаваема, как опять желал Бакон, чрез истолкование явления или, по Гегелю, ум самосознанный должен со» держать в себе только то, что есть в уме существующем. При современном выяснении ученых метод кажется совершенно произвольным стремление философии идеализма выступить за пределы всякого бытия, чтобы потом спросить, как началось бытие вообще. Еще произвольнее и бесплоднее оказывается это усилие, когда философия спрашивает, в частности, об абсолютном, как оно начинает быть (wird). Все эти вопросы приличны не философии, а теософии, которая в мистических порывах к безусловному и безразностному единству приходит к такому же отрицанию всего живого и духовного, как и материализм. Как в нашем духе нет потребности, так в человеческой науке нет средств выступить за пределы всех форм, очертаний, видов и определений существующего и являющегося нам мира, сосредоточиться на бесформенном единстве и отсюда, с этой высоты, до которой мы в истине и не поднимались, следить чистым или априорным мышлением за возникновением бытия, форм, частей и определений мира. Нашему знанию предлежит мир как данный предмет, которого мы вымыслить или сочинить не можем. Если наша воля не повторяет творче ских актов абсолютного, то и мышление не повторяет сознания этих актов. Бытие вообще останется для нас чудом; мы никогда не можем решить, из чего, из каких элементов, которые не суть бытие, сложилось бы это бытие. Посему теософия, как и материализм, говорят нам о мире вовсе не том, какой впечатлевает на нас из многообразных явлений внутреннего и внешнего опыта. Этим изъясняется, почему идеализм, который надеется дать нам познание о существе мира из начал и идей чистого априорного мышления, не соответствует потребностям и нуждам живого и деятельного сознания человечества: он не может в истине достигнуть ни до какого действительного явлении, ни до какой живой сущности, потому что он наперед отрешился в мнимо априорных формах от всего живого и существенного.
Философия нашего времени приходит к убеждению, что схоластическое различие знания опытного и предопытного—α posteriori и a priori — несущественно, что эти противоположности суть члены одного неделимого единства. Самые отвлеченные понятия нашего мышления заключают в себе представления, взятые из опыта, и обратно — непосредственное воззрение имеет единство, форму и необходимость, которые составляют идеальный момент в понимании. Это убеждение современной философии не есть благоразумный выбор златой средины между крайностями; оно сообразно со всеми дознанными фактами внешнего и внутреннего опыта. Мы не приходим в мир с готовым знанием о мире или какой‑либо части его. В этом смысле говорить о первоначальных или врожденных идеях, было бы несообразно с ежедневным и достоверным опытом. В этом смысле опыт, наблюдение и индукция должны быть. признаны<за источник всякого знания. Но как всякая вещь на свете, так и наша душа имеет определенные законы и нормы, по которым обнаруживается ее деятельность и которые, по всей справедливости, не входят в душу совне, суть ее априорные принципы. Эти априорные принципы принадлежат первоначально душе существующей, душе как действительной вещи, следовательно, они ни в каком смысле не суть идеи или познания. Чтобы сознать и познать эти априорные законы и нормы души познающей й еолящей, мы опять нуждаемся в опыте, наблюдении и индукции. Словом, прирожденность форм, законов и правил душевной деятельности принадлежит бытию души, а не ее позднейшему сознанию. Идеализм в законной борьбе против эмпиризма, который надеялся сложить самое существо души из внешних толчков и впечатлений, сглаживал различие между сознанием, в котором душа познает действительность, данную ей во внешнем и внутреннем опыте, и субстанциальною душою, которой бесспорно, как и всякой вещи в мире, принадлежат ей одной свойственные законы и образы деятельности.
Подобным же образом различие между явлением и вещию в себе современная философия признает не метафизическим, как это полагал Кант, а гносеологическим, то есть понятиями явление и сущность обозначаются различные степени и совершенства нашего знания и понимания; познание явления становится по мере своего совершенства познанием сущности. Как в жизни нравственной, так и в знании человек начинает с движений и состояний субъективных. Если, однако ж, эти субъективные движения и состояния немыслимы без объективного, хотя бы и самого незначительного, содержания, то дальнейшее развитие духовной жизни постепенно снимает с них первоначальную их ограниченность. Эти движения и состояния делаются мало–помалу носителями существеннейшего содержания: в знании мы, наконец, знаем не себя, а истину; в желании мы, наконец, желаем не себя, а добра; наши поступки и познания получают, наконец, общечеловеческое значение, имеют, наконец, достоинство для всякого духа, для духа вообще. Этим мы не говорим, чтобы наша человеческая мысль могла стать когда‑либо полным и во всех отношениях светлым образом сущности вещей или чтобы она достигла в каком‑либо направлении безусловного тожества с бытием: на этой ступени она перестала бы быть мыслик) человеческою и сделалась бы мыслию божественною. Для нашего человеческого сознания всегда останется нечто непостижимое, всегда будет существовать для пас мир потусторонний. Но из предыдущего следует, что если идеи понимается нами как разумная и единичная сущность вещи, то, с другой стороны, она должна имен, и значение феноменальное. Не вдали где‑то, за пределами всякого внешнего и внутреннего опыта, лежит эта идея, в пользу которой не было бы свидетельства в предлежащем нам мире. Идеальные связи и идеальные отношения между вещами и событиями должны быть явлением и фактом. Идея, положенная и определенная не ни основании своего явления, а только и priori, есті, произвольная гипотеза. Таким образом, идею мы должны находить в действительности как нечто данное, положительное, открытое и познаваемое. Прежде опыта мы не можем иметь знания об идее; мы не можем, например, сказать с Гегелем, что эта идея должна быть логическая. Может быть, в явлениях мира будут впечатлевать на нас моменты нравственные и эстетические. Во всяком случае несомненно, что идеализм человеческого духа есть нечто более жизненное и более существенное, чем простая логическая мысль, которая составляет только момент в нем; а отсюда делается порошним, что и дух, проникающий и определяющий явлении мири, обнаруживает себя многообразнее и богаче, чем логическая идея, которая замыкается в скудном и монотонном процессе положения и снятия своих определений. Поэтому уже мы не надеемся, чтобы на основании опытов можно было вслед за Кантом рассматривать природу как сумму чувственных предметов, и ничего более, пли видеть вместе с Гегелем в этой жизненной и одушевленной природе неразрешимое противоречие с uOvrii. lice чти априорные определения изгоняют жизнь π дух πι их подлинного места и поневоле заставляют мысль искать жизни и духа в тех отвлечениях, которых прямое достоинство в том и состоит, чтобы они оставались мертвыми.
Эти простые убеждения, которые коренятся в современной философии, не устраняют, однако ж, затруднений, которые предлежат этой науке, а только открывают их. По мере того как философия сводит идеальные моменты, познанные в явлениях мира, к единству начала, она оставляет ту прочную область частных исследований, где лишь на каждом шагу поддерживается воззрением, знание — привычкою, она поднимается на высоту целостного миросозерцания, куда воззрения и опыты доходят только в целом и общем, только в неопределенных и общих очертаниях. Тщетно подавали бы философии добрый совет не подниматься на эту метафизическую высоту безусловной Божественной идеи. Как ни охотно она выслушивает подобные советы, как ни тщательно ищет она опоры в области опытов посредственных или непосредственных, ближайших или отдаленнейших, во всяком случае она не может заключиться в границах частичного исследования и изъяснения определенного круга явлений, потому что только на высоте общего и целостного миросозерцания философия становится в уровень с обыкновенным человеческим сознанием, которое так неотразимо направлено к вечному и Божественному. Если на этой высоте недоступна для философии достоверность знания математического, которою, впрочем, не обладает и самая положительная наука, как только она говорит о живой действительности, то взамен этого знание поддерживается здесь уверенностию, которая рождается непосредственно из нравственных, эстетических и религиозных стремлений и потребностей человеческого духа, или знание встречается здесь с верою, которая в истории науки есть деятель более сильный, более энергический и более существенный, нежели сколько воображает себе исключительная эмпирия. Из последних замечаний, однако ж, можно заключить, что философия, как целостное миросозерцание, есть дело не человека, а человечества, которое никогда не живет отвлеченным или чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь во всей полноте и целостности ее моментов.
Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия
Кто читает с надлежащим вниманием слово Божие, тот легко может заметить, что во всех священных книгах и у всех богодухновенных писателей сердце человеческое рассматривается как средоточие всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их: направлениями и оттенками. Прежде всего, мы соберем некоторые места из Священного писания, из которых будет видно, что это воззрение священных писателей на существо и значение человеческого сердца во всех областях человеческой жизни отличается определенностию, ясностию и всеми признаками сознательного убеждения, а потом сопоставим это библейское учение с воззрениями на этот предмет, которые господствуют в современной нам науке.
Сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил человека. Так, Давид выражает истощаниё телесных сил от тяжких страданий словами: сердце мое остави мя (Пс. 39, 13); сердце мое смятеся, остави мя сила моя (37, 11). Утомленный странник укрепляет сердце свое укрухомъ хлеба (Суд. 19, 5), и вообще вино веселитъ сердце чоловека, и хлебъ сердце человека укрепитъ (Пс. 103, ІГ). Посему сердце иссыхает, когда человек забывает снести хлебъ свой (Пс. 101, 5). Невоздержные отягчают сердца свои объяденіемъ и піянствомъ (Лк. 21, 34), упитывають сердца свои, аки въ день заколенія (Иак. 5, 5). Милосердый Бог исполняетъ пищею и веселіемъ сердца пішш (Деип. 14, 17).
Сердце есть средоточие душевной и духовной жизни челонекп Тик,» сердце зачинается и рождается решимость чслокски на такие или другие поступки; в нем возникают многообразные преднамерения и желания; оно есть седалище ноли и ее хотений. Эти действия преднамерения, хотения и решимости обозначаются выражениями: и вдахъ сердце мое (Ёккл. 1, 13); и положи Даніилъ на сердцы своемъ. (Дан. 1, 8); и бысть на сердцы отцу моему Давиду (3 Цар. 8, 17). То же самое говорят выражения: благоволеніе сердца (Рим. 10, 2), изволеніе сердца (2 Кор. 9, 7. Деян. 11, 23). Древний Израиль должен был приносить дары на построение скинии, всякъ по воле сердца своего (Исх. 35, 5), и принесоша кійждо, яже возлюби сердце ихъ (ст. 21). Кто высказывал свои желания, тот говорил вся, елика имъ на сердцъ своемъ (3 Цар. 10, 2). Когда мы делаем что‑нибудь охотно, то наш поступок происходит отъ сердца (Рим. 6, 17). Кого мы любим, тому отдаем наше сердце и обратно, того имеем в нашем сердце: даждь ми сыне твое сердце (Притч. 23, 26); въ сердцахъ нашихъ есте (2 Кор. 7, 3); за еже иміти ми въ сердці васъ (Флп. 1,7).
Сердце есть седалище всех познавательных действий души. Размышление есть предложеніе сердца (Притч. 16, 1), усоветование сердца: и усовътова сердце мое во мнъ {Неем. 5, 7). Уразуметь сердцемъ — значит понять (Втор. 8, 5); познать всЪмъ сердцемъ — понять всецело (Иис. Нав. 23, 14). Кто не имеет сердца разуміти, у того нет очесъ видіти и ушесъ слышат (Втор. 29. 4). Когда сердце одебелевает, то человек теряет способность замечать и понимать самые очевидные явления Божия промысла: тяжко слышит он ушима своима и смежает очи свои (Ис. 6, 10). Вообще всякъ помышляетъ въ сердці своемъ (Быт. 6, 5). Человек недобрый имеет сердце, кующее мысли злы (Притч. 6, 18). Лживые пророки прорицаютъ произволы сердца своего (Иер. 14, 14), видъніе отъ сердца своего глаголютъ, а не отъ устъ Господнихъ (Иер. 23, 16). Мысли суть советы сердечныя (1 Кор. 4, 5). Слово Божие судительно помышленіямъ и мыслемъ сердечнымъ (Евр. 4, 12). Что мы твердо помним, напечатлеваем в душе и усвояем, то влагаем, полагаем, слагаем и записываем в сердце своем: вложите словеса сія въ сердца ваша (Втор. 11, 18); положи мя яко печать на сердцы твоемъ (Песн. 8, 6); Маріамъ соблюдшие вся глаголы сія, слагающи въ сердцы своемъ (Лк. 2, 19); напиши я (словеса премудрости) на скрижали сердца твоего (Притч. 3, 3). Все, что приходит нам на ум или на память, —всходит на сердце. В царстве славы подвижники, страдавшие за правду и веру, не помянутъ прежнихъ, ниже взыдутъ на сердце ихъ (Ис. 65, 17); и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ его (1 Кор. 2, 9).
Как слово есть явление или выражение мысли, то и оно износится изъ сердца (Иов. 8, 10); отъ избытка бо сердца уста глаголютъ (Мф. 12, 34). И как мышление есть разговор души с собою, то размышляющий ведет этот внутренний разговор в сердці своем: глаголахъ азъ въ сердцъ моемъ (Еккл. 1, 16); рекохъ азъ въ сердца моемъ (Еккл. 2, 1); речетъ злый рабъ той въ сердцы своемъ (Мф. 24, 48).
Сердце есть средоточие многообразных душевных чувствований, волнений и страстей. Сердцу усвояются все степени радости, от благодушия (Ис. 65, 14) до восторга и ликования пред лицом Бога (Пс. 83, 3. Деян. 2, 46); все степени скорбей, от печального настроения — когда припадшая страсть въ тілеси сердце оскорбляетъ и когда печаль мужу вредитъ сердце (Притч. 25, 20— 21), — до сокрушающего горя, когда человек вопіет въ болізни сердца своего (Ис. 65, 14) и когда он чувствует, что возмятеся сердце его и отторжеся отъ мъста своего (Иов. 37, 1); все степени вражды, от ревнювания и горькой зависти (Притч. 23, 17. Иак. 3, 14) до ярости, в которой человек скрежещет зубами своими (Деян. 7, 54) и от которой сердце его разгорается местию (Втор. 19, 6); пастепени недовольства, от беспокойства, когда сердце смущапъ человека (Притч. 12, 25), до отчаяния, когда оно отрекается от всяких стремлений (Еккл. 2, 20); наконец, все виды страха, от благоговейного трепета (Иер. 32, 40) до подавляющего ужаса и смятения (Втор. 28, 28. Пс. 142, 4). Сердце истаивает и терзается от тоски (Иис. Нав. 5, 1. Иер. 4, 19), по различию страданий оно делается яко воскъ таяй (Пс. 21, 16), или иссыхает (Пс. 101, 5), согревается и разжигается (Пс. 38, 4. 72, 21), или делается сокрушенным и сотренным (Иер. 23, 9. Пс. 146, 3). В унынии человек бывает страшливъ и слабъ сердцемъ (Втор. 20, 8). От сострадания сердце превращается (Ос. 11, 8). Благодатное слово Божие действует в сердце яко огнь горящъ (Иер. 20, 9); сердце воспламеняется и горит, когда к нему прикасается луч божественного слова (Лк. 24, 32).
Наконец, сердце есть средоточие нравственной жизни человека. В сердце соединяются все нравственные состояния человека, от высочайшей таинственной любви к Богу, которая взывает: Боже сердца моего и часть моя Боже во вікъ (Пс. 72, 26), до того высокомерия, которое, обожая себя, полагает сердце свое яко сердце Божіе и говорит: азъ есмь Богъ (Иез. 28, 2). По различию нравственных недугов, сердце омрачается (Рим. 1, 21), оде–белевает (Ис. 6, 10), делается жестким (Ис. 63, 17), каменным (Иез. 11, 19), нечеловеческим, звериным (Дан. 4, 13). Есть сердце лукавое (Иер. 16, 12), сердце суетное (Пс. 5, 10), сердце неразумное (Рим. 1, 21). Сердце есть исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях и поступках человека, есть доброе или злое сокровище человека: благій человікъ отъ благаго сокровища сердца своего износитъ благое: и злый человікъ отъ злаго сокровища сердца своего износитъ злое (Лк. 6, 45). Сердце есть скрижаль, на которой написан естественный нравственный закон; посему язычники являют діло законное написано в сердцахъ своихъ (Рим. 2, 15). На этой, же скрижали пишется и закон благодатный: людіе мои, взывает Господь, имже законъ мой в сердцъ вашемъ (Пс. 51, 7); и на сердцахъ ихъ напишу я— (законы благодати) (Иер. 31, 33). Посему слово Божие посевается на ниве сердца (Мф. 13, 19); совесть имеет свое седалище въ сердці (Евр. 10, 22); Христос вселяется вірою въ сердца наша (Еф. 3, 17), также дарует обрученіе Духа въ сердца наша (2 Кор. 1, 22). И миръ Божій да водворяется въ сердцахъ вашихъ (Кол. 3, 15); яко любы Божія изліяся въ сердца наша Духомъ Святымъ (Рим. 5, 5). Благодатный свет Бог возсія въ сердцахъ нашихъ (2 Кор. 4, 6). — Но, с другой стороны, грешнику диавол влагает в сердце злые начинания (Ин. 13, 2), исполняет его сердце злыми помыслами (Деян. 5, 3). К невнимательным слышателям слова Божия абіе приходитъ сатана, и отъемлетъ слово сіянное въ сердцахъ ихъ (Мк. 4, 15).
Как средоточие всей телесной и многообразной духовной жизни человека, сердце называется исходищами живота или истоками жизни: всяцъмъ храненіемъ блюди твое сердце: отъ сихъ бо исходища живота (Притч. 4,23); оно есть коло рожденія нашего (Иак. 3, 6), то есть круг или колесо, во вращении коего заключается вся наша жизнь. Посему оно составляет глубочайшую часть нашего существа: глубоко сердце человеку паче всіхъ, и кто познаетъ его (Иер. 17, 9). Никогда внешние обнаружения слова, мысли и дел не исчерпывают этого источника; потаенный сердца человъкъ (1 Пет. 3, 4) открыт только для Бога: Той бо весть тайная сердца (Пс. 43, 23). Состоянием сердца выражается все душевное состояние (Пс. 50, 12; 83, 3). Человек должен отдать Богу одно свое сердце, чтобы сделаться Ему верным в мыслях, словах и делах: даждь ми сыне твое сердце, взывает к человеку Божия премудрость (Притч. 23, 25).
Сообразно с этим воззрением на достоинство и значение сердца в человеческом существе священные писатели говорят в переносном смысле о сердці неба (Втор. 4, 11), сердці земли (Мф. 12, 40), сердцъ моря (Иона. 2, 4). Таким же образом духовную перемену в сердце они обозначают иногда в переносном смысле, как перемену телесную. Так, читаем н одном из замечательнейших мест пророка Иезекииля: и исторгну каменное сердце отъ плоти ихъ и дамъ имъ сердце плотяно, яко да в заповъ–дехъ моихъ ходятъ и оправданій моя сохранять (<Иез. 11, 19<—20). Апостол Павел пишет к коринфянам: посланіе наше есте вы, написанное в сердцахъ нашихъ, знаемое и прочитаемое отъ всъхъ человъкъ: являеми яко есте послание Христово служенное нами, написано не черниломъ, но Духомъ Бога жива, не, на скрижалъхъ каменныхъ, но на скрижалъхъ сердца плотяныхъ (2 Кор. 3, 2—3). Эти выражения показывают совершенно определенно, что священные писатели признают средоточием всей телесной и органом всей духовной жизни то самое плотяное сердце, которого биение мы чувствуем в нашей груди. Когда человек страждет духовно, то это плотяное сердце отторгается от места своего (Иов. 37, 1). Эти замечания мы направляем против тех толкователей слова Божия, которые видят в приведенных нами текстах случайный образ словрвыражения, которым будто не управляла определенная мысль и в котором поэтому мы напрасно стали бы искать целостного воззрения священных писателей на существо рассматриваемого нами предмета. Простое чтение священных текстов, если только мы не будем их перетолковывать по предзанятым идеям, убеждает нас непосредственно, что священные писатели определенно и с полным сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений человеческой телесной и духовной жизни.
Возвышая, таким образом, значение сердца для человеческой жизни, священные писатели знали при этом ясно и определенно, что голова человека, которую наука признает по преимуществу седалищем души, имеет действительно близкую й тесную связь с явлениями душевной жизни и служит важнейшим их органом. Так, поелику человеческое тело завершается головою и поелику, в отношении к целям жизни и их достижению, не тело носит голову, а голова тело, которым она управляет, то Иисус Христос называется главою Церкви как своего тела (Евр. 5, 23. Кол. 2, 19). Многочленное тело Церкви связуется и завершается в единстве Главы, которая управляет им. Благословляющий возлагает руки на главу благословляемого (Быт. 48, 14; 49, 26), и благословеніе Господне на главі праведнаго (Притч. 10, 6); также посвящающий возлагает руки на главу посвящаемого (Лев. 8, 10). Благословение и посвящение, как елей помазания (Пс. 132, 2. Лев. 8, 12), должны простираться с головы по всему человеческому существу и проникать его во всех направлениях. Святый Дух сошел в виде огненных языков на главы апостолов и этим чудодейственным рукоположением возродил и просветил все духовное существо их (Деян. 2, 3—4). Подобным же образом врачующий возлагает свою руку на главу врачуемого (Мф. 9, 18). Правительственное достоинство первосвященника в Церкви знаменуется украшением его головы (Лев. 8, 9). Как царь есть глава общественного тела, то в знамение этого возлагается на его главу вінецъ отъ камене честна (Пс. 20, 3).
Лице главы служит выражением и как бы живым зеркалом душевных состояний человека, так что вообще отъ зрака поэнанъ будетъ мужъ и срътеніемъ лица Познань будетъ умный (Сир. 19, 26). Мудрость человека просвітитъ лице его, а безстудный возненавидЪнъ будетъ лицемъ своимъ (Еккл. 8, 1). Богообщение, которого сподобился Моисей на Синае, обнаружилось в особенном просветлении лица его: прославися зракъ плоти лица его (Исх. 34, 29). В преславном преображении нашего Господа просвітися лице Его яко солнце (Мф. 17, 2). Радость и торжество ангела, ниспосланного ко гробу Господню, чтобы свидетельствовать людям о воскресении Спасителя, отразились в его светоносном лице: бі же зракъ его яко молнія (Мф. 28, 3). Посему лице Божіе означает полное откровение Божией славы, к принятию которого человек неспособен в настоящей жизни: невозможеши видіти лица моего, — говорил Господь Моисею, — не бо узритъ человікъ лице мое и живъ будетъ (Йсх. 33, 20).
Итак, священные писатели знали о высоком значении головы в духовной жизни человека; тем не менее, повторяем, средоточие этой жизни они видели в сердце. Голова была для. них как бы видимою вершиною той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце. «Голова, — говорит один истолкователь Священного писания, — есть для внешнего явления то же, что сердце для внутренней душевной деятельности, и только в этом отношении ей приписывается господствующее значение с библейской точки зрения». Впрочем, вышеприведенные места Священного писания дают совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа, посредствующего между целостным существом души и теми влияниями, какие она испытывает совне или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в целостной системе душевных действий. С этими общими определениями не может не согласиться психология, каковы бы, впрочем, ни были ее особенные понятия об этом предмете. Но также можно наперед предположить, что показанные явления душевной деятельности в голове еще не исчерпывают всего существа души; по необходимости мышления мы должны допустить некоторую первоначальную духовную сущность, которая нуждается в поименованном посредничестве и правительственном действии головы. Эта первоначальная духовная сущность имеет, по учению слова Божия, своим ближайшим органом сердце. В последующих изъяснениях мы увидим определеннее смысл и основы этих положений, а теперь л л мстим, как следствие ил предыдущего, что если Иисус Христос называется главою Церкви, то этим еще не вполне и не всецело обозначается Его отношение к Церкви. Он есть глава (Еф. 8, 23) и основаніе (1 Кор. 3, 11), свътъ и животъ Церкви (Ин. 1, 4). Он есть Создатель Церкви (Мф. 16, 18) и посему такая необычайная Глава ее, изъ нея же все тіло составы и соузы подаємо и снемлемо, раститъ возвращение Ёожіе (Кол. 2, 19). Эти замечания показывают, как стройно и согласно библейское учение о человеческой ду*ше не только само в себе, но и во своих применениях к изъяснению высших догматов. Очевидно, что мы имеем здесь определенное психологическое воззрение, которое несогласно со многими положениями современной нам науки о душе. Считаем небесполезным войти в рассмотрение тех оснований, по которым наука не соглашается с библейским учением о сердце как седалище и средоточии душевной жизни человека. Может быть, при этом откроется, что библейское воззрение не так безразлично для интересов нашего знания, чтобы мы могли при изучении души оставлять его без внимания. Может быть также, мы найдем внутреннее соотношение между этим воззрением и нашими нравственными и религиозными требованиями, которые в таком случае доставят ему особенную значимость если не в тесных границах наук, то в области неограниченных стремлений человеческого духа к совершенному, к благу, к Богу.
На основании несомненных физиологических фактов, которые мы укажем ниже, психология учит, что голова, или головной мозг с идущими к нему нервами, служит необходимым и непосредственным телесным органом души для образования представлений и мыслей из впечатлений внешнего мира или что только этот орган есть непосредственный проводник и носитель душевных явлений. G этим бесспорно истинным учением о телесном органе душевных явлений долго было соединяемо в психологии особенное воззрение на существо человеческой души, — воззрение, которое, впрочем, могло иметь до известной степени и самостоятельное, независимое развитие. Когда нервы, сосредоточенные в голове, приходят в движение от влияний и впечатлений внешнего мира, то непосредственное и ближайшее следствие этого движения есть происхождение в душе представлений, понятий или познаний о внешнем мире. Отсюда легко было прийти к предположению, что существенная способность человеческой души есть именно эта способность рождать или образовать представления о мире по поводу движения нервов, возбужденных внешним предметом. То, что существует в нервах как движение, открывается, является и существует в душе как представление. Сообразно с этим в философии долго господствовал и доселе еще отчасти господствует взгляд, что душа человеческая есть первоначально существо представляющее, что мышление есть самая сущность души или что мышление составляет всего духовного человека. Воля и чувствования сердца были понимаемы как явления, видоизменения и случайные состояния мышления, В правильном развитии человеческой духовной жизни эти две подчиненные способности души должны совпадать; с мышлением, исчезать в нем и терять таким образом всякий вид самобытности и существенности. В этих определениях существо души делается так же открытым: и легко обозреваемым, как те формы мышления, которые среди других явлений душевной жизни отличаются особенною прозрачностию и ясностиюі С этими определениями была бы совершенно несообразна мысль, что в самой душе есть нечто задушевное, есть такая, глубокая существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления. Итак, на первый раз мы можем видеть здесь по меньшей мере наклонность к такому изъяснению явлений, в котором не дается сущности большего и значительнейшего содержания в сравнении с ее явлениями, доступными нашему наблюдению; и кто, напротив, думает, что в человеческой душе, как и во всяком создании Божием, есть стороны, недоступные для ограниченных средств нашего знания, тот наперед уже может видеть многозначительность библейского учения о глубоком сердце, которого тайны знает только ум божественный.
Между тем понятно, что рассматриваемое нами психологическое учение не легко может изъяснить возможность и действительность свободной воли в человеке, не легко также может оно признать нравственное достоинство и значение человеческого поступка, который вытекает из непосредственных влечений и чувствований сердца, а не определяется отвлеченною мыслию о долге и обязанностях. Поэтому философия так часто отрицала в человеке свободу, так часто утверждала, что в человеке и человечестве царствует такая же непреодолимая необходимость, как в логических выводах мышления, в которых заключение определяется не свободно, а необходимо, по качеству и значению посылок. Таким же образом теплую и жизненную заповедь любви — заповедь, которая так многозначительна для сердца, — философия заменяла отвлеченным и холодным сознанием долга, — сознанием, которое предполагает не воодушевление, не пламенное влечение сердца к добру, а простое, безучастное понимание явлений. Наконец, поколику наши познания о Боге человекообразны, эта философия пришла С необходимостию к отвлеченному понятию о существе Божием, определяя все неисчерпаемое богатство жизни Божией как идею, как мышление, всегда неизменяемое, себе равное, — мышление, которое творит мир без воли, без любви, по одной логической необходимости.
Эти односторонние теории, на которые мы здесь только слегка указываем, делаются понятными из положения, что сущность души есть мышление, и ничто более; посему они служат для нас косвенным опровержением самого этого положения, которое лежит в их основании. Мышление не исчерпывает всей полноты духовной человеческой жизни, так точно, как совершенство мышления еще не обозначает всех совершенств человеческого духа. Кто утверждает, что «мышление есть весь человек», и надеется изъяснить все многообразие душевных явлений из мышления, тот успеет не больше того физиолога, который стал бы изъяснять явления слуха — звуки, тоны и слова — из явлений зрения, каковы протяжение, фигура, цвет и т. д. Сообразно с этим мы можем уже предположить, что деятельность человеческого духа имеет своим непосредственным органом в теле не одну голову или головной мозг с нервами к нему идущими, но простира ется гораздо дальше и глубже внутрь телесного организма. Как существо души, так и ее связь с телом должна быть гораздо богаче и многообразнее, чем обыкновенно думают. Эта, конечно, общая и пока еще неопределенная мысль о многосторонней, а не односторонней связи души с телом содержится в библейском учении о сердце как непосредственном и ближайшем органе душевных деятельностей и состояний. Телесным органом души может быть не иное что, как человеческое тело. Посему как сердце соединяет в себе псе силы этого тела, то оно же служит ближайшим органом жизни душевной. Тело есть целесообразный орган души не по одной своей части, но по всецелому своему составу и устроению.
Мы сказали выше, что физиологические факты, которыми доказывается, что головной мозг есть место душевных действий, не подлежат сомнению. Одна из самых достоверных истин физиологии есть та, что сознательная деятельность души имеет свой непосредственный орган в головном мозге. Так, после продолжительного и напряженного размышления мы чувствуем в голове тяжесть и боль, и наоборот, тяжесть и боль делают человека неспособным к мышлению. Сильный удар в голову нередко причиняет потерю памяти или одного какого‑либо ряда представлений. Когда зрительный нерв разобщается с головным мозгом, то, хотя бы глаз и отражал в своем зеркале предметы, однако же ощущение, видение и представление этих предметов или сознание об них произойти не может. То же должно сказать и о всех других органах чувств, на основании точных физиологических опытов Сколько бы эти органы ни были возбуждаемы внешними предметами, все эти возбуждения не обращаются душою в ощущения и представления, если они не доходят до головного мозга. Однако же из этих несомненных опытов физиологии следует очень немного для психологического учения о пребывании души в теле. Мы только можем сказать: деятельность или, точнее, движение головного мозга есть необходимое условие для того, чтобы душа могла рождать ощущения и представления о мире. Или, чтобы движение, сообщенное какому‑либо органу, стало душевным ощущением и представлением, оно должно распространиться до головного мозга. Если же отсюда заключают далее, что душа существом своим должна пребывать в головном мозге, то в основе такого предположения лежит постороннее наблюдение, взятое из чувственного мира. В этом мире, где два члена взаимодействия, какие только подлежат нашему наблюдению, равно чувственны, движение переходит от одного из них на другой посредством давления или толчка; тело движущее должно произвести давление или толчок на пространственную сторону тела движимого, которое по этому поводу развивает в себе такие или другие виды движения. Но это давление, этот толчок невозможны во взаимодействии между душою и телом, где один член есть непространственное существо души. Душа не имеет пространственной стороны, на которую она могла бы принимать толчки от пространственных движений головного мозга. Поэтому хотя деятельность головного мозга есть необходимое условие для того, чтобы душа могла рождать ощущения и представления, однако мы не видим необходимости, по силе которой душа должна бы для этой цели пребывать в головном мозге как своем месте. Связь между движением известной части головного мозга и представлением, которое по этому поводу образует душа, есть не механическая связь давлений и толчков, которые бесспорно предполагали бы пространственную совместность связующихся членов, но связь целесообразная, идеальная, духовная; душа испытывает впечатления не от пространственных движений мозговой массы, а от целесообразной ее деятельности, которая, как очевидно, не требует пространственной совместности действующих друг на друга членов.
Эти замечания, которых ближайшее изъяснение повело бы нас слишком далеко, доказывают, что самые достоверные факты физиологии, которыми подтверждается тесная связь сознательной жизни души с деятельностию головного мозга, не находятся в необходимом противоречии с библейским учением о сердце как подлинном средоточии душевной жизни. Очень возможно, что душа как основа известных нам сознательных психических явлений имеет своим ближайшим органом сердце, хотя ее сознательная жизнь обнаруживает себя под условием деятельности головного мозга.
На этом пункте мы могли бы оставить специальную область физиологии и перейти непосредственно к явлениям душевной жизни, которые каждый может поверить собственным внутренним самовоззрением. Однако же нам кажется, что сама физиология представляет факты, посредствующие между явлениями, которые известны нам из внешнего опыта или изучения нашего тела, и явлениями, которые составляют содержание опыта внутреннего. В настоящее время физиология знает, что сердце не есть простой мускул, не есть нечувствительный механизм, который только заведывает движением крови в теле посредством механического на нее давления. В сердце соединяются оба замечательнейшие порядка нервов: так называемые нервы симпатические, которые заведывают всеми растительными отправлениями человеческого организма, химическим претворением материалов, питанием и обновлением тела, образованием его составных частей, наконец, целесообразным согласием между величиною и формою его отдельных действий, и нервы, служащие необходимыми органами ощущения или представления и воли. Хотя физиологи сознаются, что их исследования о составе, строении и отправлениях сердца далеко еще не приведены к концу, однако из предыдущего делается вероятным, что в сердце, которое есть колодезь крови, обе нервные системы —это подлинное тело существ, имеющих душу, — сходятся и сопрони–каются в таком единстве и взаимодействии, какого, может быть, не представляет никакой другой орган человеческого тела. Кто не надеется изъяснить все явления человеческой телесной жизни из слепого и мертвого механизма, для того, по крайней мере, будет теперь понятно, каким образом в библейском воззрении сердце рассматривается как исходите или средоточие всех сил человеческого тела. Не можем ли мы сказать, не противореча фактам физиологии, что в сердце все значительнейшие системы человеческого организма имеют своего представителя, который с этого средоточия заботится об их сохранении и жизни? Но по меньшей мере отсюда делается ясным; почему общее чувство души или чувство, которое мы имеем о нашем собственном духовно–телесном бытии, дает замечать себя в сердце, так что самые неприметные перемены в этом чувстве сопровождаются переменами в биениях сердца. А это общее чув ство души, как нам кажется, есть одно из самых важных явлений для изъяснения библейского учения о сердце как средоточии душевной жизни. Состояния и настроения души далеко еще не определяются во всей своей полноте деятельностью тех пяти органов чувств, которые проводит полученное ими совне впечатление до головного мозга. Бели нашему телу недостает надлежащих материалов для питания или если какие‑либо части его выведены из нормального своего положения и отношения к другим частям, то эти механические изменения в теле ощущаются душою как голод и болезнь. Эти ощущения, как и все те состояния и настроения души, которыми условливается так называемое душерасположение, имеют свою основу в общем чувстве, для которого «все тело, каждая часть его должна служить в большей или мень–шей степени органом». В этом общем чувстве «содержатся первоначально, еще прежде всякого внешнего воззрения, нераздельными все прочие видоизменения чувств; посему его рассматривают как корень всех прочих чувств». Между тем настроения и расположения души, определяемые ее общим чувством, служат последнею, глубочайшею основою наших мыслей, желаний и дел: «Как не поддающиеся определению, едва сознаваемые верхние посылки, они лежат в основе всех наших взглядов в жизни, как и всех преднамерений и поступков». Эти самые истины открывает нам библейское учение о сердце как месте рождения мыслей, желаний, слов и дел человека. В то время как физиология указывает в головном мозге физические условия, от которых зависит деятельность души, священные писатели указывают нам непосредственный, нравственно–духовный источник этой деятельности в целостном и нераздельном настроении и расположении душевного существа. Наши мысли, слова и дела суть первоначально не образы внешних вещей, а образы или выражения общего чувства души, порождения нашего сердечного настроения. Конечно, в обыденной жизни, наполняемой заботами о текущей действительности, мы слишком мало обращаем внимание на эту задушевную сторону в наших мыслях и поступках. Тем не менее остается справедливым, что все, входящее в душу совне, при посредстве органов чувств и головного мозга перерабатывается, изменяется и получает свое последнее и постоянное качество по особенному, частно–определенному сердечному- наетроению души, и наоборот, никакие действиями возбуждения, идущие от–внеш него мира, не могут вызвать в душе представлений или чувствований, если последние несовместны с сердечным настроением человека. В сердце человека лежит основа того, что его представления, чувствования и поступки получают особенность, в которой выражается его душа, а не другая, или получают такое личное, частно–определенное направление, по силе которого они суть выражения не общего духовного существа, а отдельного живого действительно существующего человека.
Во внутреннем опыте мы вовсе не замечаем, как изменяется головной мозг от изменения наших мыслей, желаний и чувствований; на основании непосредственного самовоззрения мы даже не знали бы, что он есть орган сознающей и мыслящей души. Если это отношение между мышлением и его органом имеет разумные основания в назначении мышления, которое само по себе должно быть спокойным и безучастным сознанием окружающей нас действительности, то отсюда, однако же, следует, что как в мышлении, так и в его телесном органе душа не являет себя во всей неделимости и полноте своего богатого существа. Если бы человек обнаруживал себя одним мышлением, которое в таком случае было бы, по всей вероятности, самым подлинным образом внешних предметов, то многообразный, богатый жизнию и красотою мир открывался бы его сознанию как правильная, но вместе и безжизненная математическая величина. Он мог бы прозревать в эту величину насквозь и всецело, но зато уже нигде не встретил бы бытия истинного, живого, которое поражало бы его красотою форм, таинственностию влечений и бесконечною полнотою содержания. Нам кажется, что в действительной душе нет такого одностороннего мышления. И что было бы с человеком, если бы его мысль не имела другого назначения, кроме того, чтобы повторять в своих движениях события действительности или отражать в себе посторонние для духа явления? Может статься, что в этом случае наши мысли отличались бы такою же определенностию, как математические величины; но зато мы могли бы в нашем знании вещей двигаться только в широту, а не глубину. Мир, как система явлений жизненных, полных красоты и знаменательности, существует и открывается первее всего для глубокого сердца и отсюда уже для понимающего мышления. Задачи, которые решает мышление, происходят в своем последнем основании не из влияний внешнего мира, из влечений и неотразимых требований сердца. Кто знает, как мало дает нам для знания чувственный мир, как бедно и бессодержательно то ощущение, которое происходит от встречи сознания с внешними предметами, тот поймет все значение библейского учения, по коему основа, жизненность и глубина нашего мышления и сознания лежит в том душевном существе, которого явление мы знаем непосредственным внутренним опытом только в наших сердечных влечениях, то есть в тех влечениях, к коим так чувствительно и так восприимчиво наше сердце. Сообразно с этим лучшие философы и великие поэты сознавали, что сердце их было истинным местом рождения тех глубоких идей, которые они передали человечеству в своих творениях, а сознание, которого деятельность соединена с отправлениями органов чувств и головного мозга, давало этим идеям только ясность и определенность, свойственные мышлению.
По причинам, которые изъяснять здесь было бы неуместно, мы привыкаем рассматривать душу как машину, которая заводится и настроивается в точном соответствии с теми толчками и впечатлениями, какие падают на нее со стороны внешнего мира. Мы хотели бы определить необозримое для нашего взора существо души, которая назначена к развитию не только во времени, но и в вечности, единственно по тем ее состояниям, какие вызываются в ней впечатлениями внешнего мира. С этой точки зрения один психолог высказал надежду, что при дальнейшем развитии наших познаний о душе мы будем в состоянии определять ее движения и изменения с такою же математическою точностию, с какою ныне определяем движения паровой машины, так что управление состояниями и движениями души сделается для нас столь же легким и верно рассчитанным, как управление паровой машиною. Мы думаем, однако же, что эта надежда навсегда останется несбыточною мечтою, что в человеческой душе всегда останется ряд состояний и движений, к которым никогда не может быть применен физический закон равенства между действием и противодействием. В библейском воззрении на значение человеческого сердца для духовной жизни человека высказывается с глубокою истинностию эта исключительная особенность человеческой души, в прямой противоположности с тем механическим воззрением, которое не дает никакого значения этой особенности. Уже в простом представлении, какое только образуется нашим мышлением на основании впечатлений, идущих совне, мы должны различать две стороны: 1) знание внешних предметов, которое заключается в этом представлении, и 2) то душевное состояние, которое условливается этим представлением и знанием. Эта последняя сторона представления не подлежит никакому математическому расчету: она выражает непосредственно и своеобразно качество и достоинство нашего душевного настроения. В одностороннем стремлении к знанию мы часто забываем, что всякое понятие входит в нашу душу как ее внутреннее состояние, и оцениваем наши понятия только по тому, в какой мере они служат для нас образами вещей. Между тем эта сторона в понятии, которою определяется состояние и настроение души, имеет для целостной жизни духа больше цены, чем представление, поколику оно есть образ вещи. Если с теоретической точки зрения можно сказать, что все, достойное быть, достойно и нашего знания, то в интересах высшего нравственно–духовного образования совершенно Справедливо было бы положение, что мы должны знать только то, что достойно нашего нравственного и богоподобного существа. Древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь представляется чем‑то более драгоценным, чем его знание. Но эта особенная, своеобразная, не поддающаяся математическим определениям жизнь духа имеет самое близкое отношение к сердцу человека: всяцімъ храненіемъ блюди твое сердце; отъ сихъ бо исходища живота (Притч. 4, 23). Здесь отражаются приметным образом те тонкие и неуловимые движения и состояния нашей души, о коих мы не можем образовать никакого ясного представления. Нам никогда не удается перевести в отчетливое знание того движения радости и скорби, страха и надежды, те ощущения добра и любви, которые так непосредственно изменяют биения нашего сердца. Когда мы наслаждаемся созерцанием красоты в природе или искусстве, когда нас трогают задушевные звуки музыки, когда мы удивляемся величию подвига, то все эти состояния большего или меньшего воодушевления мгновенно отражаются в нашем сердце, и притом с такою самобытностию и независимостию от нашего обычного потока душевных состояний, что человеческое искусство, может быть, вечно будет повторять справедливые жалобы на недостаточность средств для выражения и изображения этих сердечных состояний.
Здесь приходит нам на мысль евангельское повествование о двух учениках Христовых, которые шли в день (іініцс и его значение в духовной жизни человека Господня воскресения в Эммаус и боролись с недоумениями и сомнениями касательно вести о воскресении. Спасителя (Лк. 24, 13—32). На пути сам Господь предстал путникам: очи же ею держастъся, да Его не познаета (Лк. 24, 16). Господь, таким образом неузнанный, раскрывает ученикам тайну своего воскресениями Его беседа не дает, однако же, познать им, кто беседует с ними. Только после таинственного преломления хлеба, оніма отверзостъся очи, и познаста Его (Лк. 24, 31). Теперь ученики с удивлением признаются друг другу: не сердце ли наше горя 6ъ въ насъ, егда глаголаще нама на пути и егда сказоваше нама писанія? (Лк. 24, 32). В рассматриваемом случае сердце предварило разум в познании истины. Ученики имели уже прежде мысли сердечные, которые, однако, не скоро и не легко были сознаны их разумом. Подобные состояния переживает и всякий человек, особенно в минуты великих затруднений, когда нет времени дождаться ясного силлогизма и когда необходимо предоставить себя непосредственному влечению, сердца как некоторому нравственно–духовному такту. Христианские аскеты часто жаловались на медлительность разума в признании того, что непосредственно и прямо известно сердцу, и нередко называли ум человеческий чувственным и плотяным; и конечно, он может показаться таковым, если сравнить его посредственную деятельность с теми непосредственными и внезапно возникающими откровениями истины, которые имеют место в нашем сердце. Этим, впрочем, не отрицается, что медлительное движение разума, как медленная походка, отличается определенностию, правильности и рассчитанностию, каких недостает слишком энергическим движениям сердца. Как жизнь без порядка так: и порядок без жизни равно несообразны с назначением человеческого духа. Тем не менее если свет знания должен сделаться, теплотою и жизнию духа, он должен проникнуть до сердца, где бы он мог войти в целостное настроение души, Так, если истина падает нам на сердце, то она становится нашим благом, нашим внутренним. сокровищем. Только за это сокровище, а не за отвлеченную «мысль человек может вступать в борьбу с обстоятельствами и людьми; только для сердца возможен подвиг и самоотвержение.
Из этих замечаний мы извлекаем два положения I) сердце может выражать, обнаруживать и понимать, совершенно своеобразно такие душевные состояния, которые по своей · нежности» г преимущественной духовности и жизненности не поддаются отвлеченному знанию разума; 2) понятие и отчетливое знание разума, поколику оно делается нашим душевным состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних предметов, открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в сердце; в эту глубину оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною силою и двигателем нашей духовной жизни.
В живой оценке людей и их достоинств мы не ограничиваемся указанием на их знания и понятия. Истина, поколику она существует только в отвлеченной мысли человека, не относится нами при этой оценке прямо и непосредственно к его духовному существу. Нам хотелось бы, скорее всего, знать, волнует ли эта истина его сердце, каковы его духовные влечения и стремления, чем вызываются его симпатии, что его радует и печалит и, вообще, в чем состоит сокровище его сердца (Лк. 6, 45). Когда мы говорим о притворстве и лицемерии человека, то при этом ясно выражаем, что его мысли и слова не принадлежат к его существу, что на сердце лежит у него нечто совершенно другое, чем в мыслях и словах, или что кроме этих обнаруживаемых им мыслей есть у него еще мысли задушевные или сердечные. Мы различаем здесь личность человека поддельную, которая выступает перед нами, и личность действительную, которая с своим разнообразным содержанием сокрыта в сердце человека. Явление двоедушия показывает, какое огромное может быть расстояние между деятельностию душевною в представлениях и понятиях и теми собственными состояниями души, которые отзываются в движениях сердца. Поэтому в случаях, имеющих для нас особенную важность, мы просим человека сказать свое мнение от сердца. Жизненные отношения, в которых препобеждается формальность и внешность человеческих союзов, суть отношения сердечные: таковы отношения дружбы, братства, любви и под. В этих отношениях проявляет себя и живет весь человек, без притворства и стеснения, во всей широте и полноте своих разнообразных духовных состояний.
Мы должны коснуться здесь двух теорий, которые особенно мешают правильному пониманию библейского учения о сердце как средоточии душевных деятельностей человека.
С некоторого времени философия распространяет учение о самозаконии (автономии) человеческого разума, или учение, что этот разум сам по себе, из собственных сил и средств дает или полагает законы для всей душевной деятельности. С этой точки зрения было бы необходимо согласиться, что все достоинство человека, или весь духовный человек, заключается в мышлении. Конечно, апостол Павел говорит о язычниках: сіи закона не имуще, сами себъ суть законъ (Рим. 2, 14). Но в этих словах не заключается понятие о самозаконии человеческого разума. Язычники суть сами себе закон, потому что разумное Божіе яѳі есть въ нихъ (Рим. 1, 19). Невидимая бо Его (Божия) отъ созданія міра твореньми помышляема видцма суть, и присносущная сила Его и Божество (Рим. 1, 20). Итак, начало и источник того закона, которым руководствовались язычники, лежит, по апостолу, в откровениях о невидимом Боге, подаваемых человеку чрез видимое творение Божие: размышляя о творениях Божи–их (твореньми помышляема), ум человеческий познает в них Божию волю и Божественный закон. Закон для душевных деятельностей не полагается силою ума как его изобретение, а предлежит человеку как готовый, неизменяемый, Богом учрежденный порядок нравственно–духовной жизни человека и человечества, и притом предлежит он, по апостолу, в сердце как глубочайшей стороне человеческого духа: язычники являють діло законное написано въ сердцахъ своихъ (Рим. 2, 15). Бог есть Творец как человеческой души, так и ее законов. Что имаши, егоже неси пріялъ; аще же и пріялъ ecu, что хвалишися яко не пріемъ? (1 Кор. 4, 7). Самозаконие не свойственно человеческому разуму ни в каком смысле. Между явлениями и действиями души разум имеет значение света, которым озаряется не им положенная, но Богом созданная жизнь человеческого духа с ее Богом данными законами. Душа существует не только как этот свет, но также как освещаемое им существо с многоразличными духовными способностями, для которых законы положены творческою волею Бога. Жизнь духовная зарождается прежде и раньше этого света разума — во мраке и темноте, то есть в глубинах, недоступных для нашего ограниченного взора. Если из основ этой жизни возникает свет знания и разумения как последующее ее явление, то этим вполне оправдывается библейское воззрение на значение человеческого ума, который есть вершина, а не корень духовной жизни человека.
Но кроме этого неосновательного учения о самозаконии ума, нередко встречается в психологии неопределенное учение о существе человеческой души. Очень часто ограничивается психология в этом учении указанием только на общие и родовые свойства души, то есть на те душевные явления, которые общи человеческой душе со всякою другою душою. Человеческую душу определяет она в этом случае как существо ощущающее, представляющее, чувствующее и желающее и превосходство этих явлений в человеке, сравнительно с соответствующими явлениями в других чувственно наблюдаемых существах, старается изъяснить из многих причин, которые, во всяком случае, не лежат в первоначальном существе человеческой души и только видоизменяют ее общий родовой характер. Между тем нужно представлять дело совершенно наоборот: человеческая душа имеет первоначальное и особенное содержание, которое обнаруживается или является, бесспорно, в общих и родовых формах душевной жизни, каковы представление, чувствование, желание и т. д. Только из этого предположения можно изъяснить, почему эти родовые формы принимают в человеке особенный и совершеннейший характер, почему в этих родовых формах открывается нравственная личность человека, для выражения которой тщетно мы искали бы в душе человека определенного, действующего по общим законам механизма, почему, наконец, в этих конечных родовых формах носится чувство и сознание бесконечного, для которого опять нет определенного и частного носителя или представителя в явлениях душевной жизни. Но мы должны сделать еще шаг далее и положить, что каждая частная человеческая душа имеет свои особенности и обладает своеобразным развитием, которое выражается, в свою очередь, в общих и родовых формах человеческой душевной, жизни. В истории творения мира повествуется, что Бог сотворил бессловесные одушевленные существа по роду ихъ (Быт. 1, 25), а человека по его частной неделимой природе, как единичную и особенную личность (Быт. 1, 26 и дал.). Этот образ творения совершенно соответствует назначению человека, который, как существо бессмертное, не исчезает в роде, а обладает собственным личным существованием во времени и в вечности. Поэтому человек никогда не может быть страдательным выражением или органом общей родовой жизни души. Наши слова, мысли й дела рождаются не из общей родовой сущности человеческой души, а из нашей частно–развитой, своеобразно–обособленной душевной жизни; только по этой причине они составляют нашу личную вину иди нашу личную заслугу, которой мы ни с кем не разделяем. В то время как наука указывает общие и родовые условия для явлений душевной жизни вообще, священные писатели имеют в виду тот частный и особенный источник этих явлений в сердце человека, исходя из которого они, при своей общности, делаются нашим. личным состоянием и достоянием.
Предыдущие изъяснения, кажется, дают понять нам, что различие между психологическим и библейским воззрением на существо человеческой души сводится к общему и простому различию между изъяснением явлений из начал физических и начал нравственных. При исследовании явлений душевной жизни наука, сообразно с своею общею методою, спрашивает: по каким Общим условиям и законам совершаются эти явления? И как только найдены требуемые общие условия и законы Душевных явлений, наука о душе может так же легко рассчитывать и определять их будущее возникновение и образование, как астрономия рассчитывает и определяет будущие движения и положения светил небесных. Но эта плодотворная метода науки, как очевидно, имеет применение только ко вторичным и производным явлениям душевной жизни. Всякая простая основа явлений, в которой еще не выступили определенные направления и формы, в которой еще не выдались некоторые пункты, недоступна анализу науки, потому что этот анализ всегда предполагает сложность и многоразличие явления,. он нуждается в опорных пунктах изъяснения, которых недостает во всякой простой основе явлений. Если это справедливо вообще, то тем более нужно согласиться, что в человеческой душе есть нечто первоначальное и простое, есть потаенный сердца человек, есть глубина сердца, которого будущие движения не могут быть рассчитаны по общим и необходимым условиям и законам душевной жизни. Для этой особеннейшей стороны человеческого духа наука не может найти общих и навсегда определенных форм, которые были бы привязаны к той Или другой паре нервов и возникали бы с необходимостию по поводу их движения.
Когда мистицизм пытался указать формы, которые вполне соответствовали бы духовному содержанию человеческого сердца, то он мог только отрицать все доступные для нас формы и выражения как конечного мира, так и конечного духа. Ему казалось, что не только низшие душевные способности не соответствуют полноте *и достоинству сердечной жизни, но и самый разум, поко–лику он мыслит в частных формах, поколику он рождает одну мысль за другою во времени, есть слабое, неточное и, следовательно, ложное выражение этой жизни. В таких предположениях мистик мог только погружаться в темное чувство единства и бесконечности — в ту глубину сердца, где, наконец, погасает всякий свет сознания. Это болезненное явление мистицизма — который хочет миновать все конечные условия нашего духовного развития, который хочет стать у последней цели сразу и непосредственно, не достигая ее многотрудным и постепенным совершенствованием во времени, — есть, во всяком случае, замечательный факт для изъяснения душевной жизни человека. В его основании лежит истинное убеждение, что полнота духовной жизни, которую мы ощущаем в сердце, не исчерпывается теми душевными формами, которые образуются под условиями этого конечного мира, или что наше развитие не может быть замкнуто теми определенными явлениями духа, которые возникают под временными условиями. Вместо того чтобы веровать и надеяться и сообразно с этим подвизаться во временном мире, мистик относится враждебно и отрицательно к настоящему, Богом установленному порядку нашего временного воспитания. Но мы думаем, что противоположную крайность образует то психологическое воззрение, которое надеется перечислить и определить все явления душевной жизни как конечные и раз навсегда определенные ее формы, так что ни в них, ни под ними нельзя уже найти жизни своеобразной, простой, непосредственной, которая бы проторгалась неожиданно и нерассчитанно. Нам кажется, что такое воззрение, которое хотело бы каждую частную деятельность души привязать к частному нерву как ее условию, может дать нам образ духа как существа, назначенного только для временной и конечной жизни. Если это воззрение вообще не может указать в душе человека глубочайших основ ее личности и зачатков ее будущей жизни, то, с другой стороны, для него остаются и навсегда останутся неразгаданными многие душевные явления, о которых свидетельствует опыт, таковы, например, знаменательное значение снов, явления предчувствия, состояния ясновидения, в особенности различные таинственные формы религиозного сознания в человеке и человечестве. Истину между показанными крайностями мистицизма и эмпиризма мы имеем в библейском учении о сердце как средоточии душевной жизни человека. Сердце рождает все те формы душевной жизни, которые подлежат общим условиям и законам; итак, оно не может относиться к ним отрицательно, не может своими непосредственными порывами расторгать их. Однако же сердце не переносит раз навсегда всего своего духовного содержания в эти душевные формы; в его глубине, недоступной анализу, всегда остается источник новой жизни, новых движений и стремлений, которые переходят за пределы конечных форм души и делают ее способною для вечности. Поэтому и во временных, но особенных условиях всегда остается возможность для таких необычайных явлений в области душевной жизни, которые выступают за пределы ее обычного образа действования.
Практические применения, которые можно сделать из предыдущих замечаний, даются так непосредственно, что мы можем ограничиться в этом случае краткими указаниями.
. Если сердце есть такое средоточие духовной жизни человека, из которого возникают стремления, желания и помыслы непосредственно или тою стороною, которая не вытекает с математическим равенством из внешних действующих причин, то самая верная теория душевных явлений не может определить особенностей и отличий, с какими они обнаружатся в этой частной душе при известных обстоятельствах. Как мы уже сказали, человек не есть такой экземпляр рода, в котором только повторялось бы общее содержание других экземпляров. Он, и в этом отношении он один в известном нам мире, есть особь, или, как говорят, индивидуум. Таким особенным, не исчезающим в роде существом знает себя человек в непосредственном самосознании, которое поэтому открывает ему не душу вообще, не всякую душу, а эту особенную, с особенными настроениями, стремлениями и помыслами; общая же теория душевной жизни получается, как и всякая теория, посредством сравнений, обобщений и отвлечений от частных опытов. Отсюда мы можем заключить, что, хотя бы в истории природы все было подчинено строгому механизму, не позволяющему изъятия, в истории человечества возможны факты, события и явления, которые будут свидетельствовать о себе своим простым существованием и возможности которых нельзя ни допускать, ни отрицать на основании общих законов, известных нам из науки о душе. Когда наука выяснит себе настоящее значение и пределы этого положения, тогда, может быть, она сумеет поставить себя в правильное отношение к божественному откровению. Доселе она рассуждала почти таким образом. Известное историческое событие, судя по сильным свидетельствам, должно бы быть признано действительным, но явление его противоречит общим законам, по которым изъясняем мы душевную жизнь всякого человека; следовательно, нет основания принимать его за действительность. Мы противопоставляем этому рассуждению следующий порядок мыслей. В сердце человека заключается источник для таких явлений, которые запечатлены особенностями, не вытекающими ни из какого общего понятия или закона. По общим законам душевной жизни мы можем обсуживать только ежедневные, обыкновенные, условленные обычным течением вещей явления человеческого духа, потому что эти законы сняты или отвлечены от этих одинаковых или однообразных явлений. Поэтому там, где мы встречаем явления, выступающие из этого обыкновенного ряда, мы должны исследовать первее всего их простую действительность, не заслоняя ее общими законами, потому что еще никто не доказал, чтобы душа повиновалась этим общим законам с механическою необходимостью, как мертвая и недеятельная масса. Притом, если нельзя допустить, чтобы здесь, как в области физики, действия и противодействия были равны, то, с другой стороны, необыкновенные события, как доказывают опыты, всегда происходили среди каких‑либо особенных обстоятельств. С нашей точки зрения весь остальной мир представляется нам, как река, которой широту и глубину легко измерять по общим правилам; но, плывя вверх по этой реке, вы, может быть, неожиданно встречаете такой водоворот, такое быстрое и запутанное движение волн, то раскидающихся в широту, то низвергающихся в глубину, что общие правила измерения могут быть прилагаемы здесь очень неточно. Может быть, подобная аналогия руководила мыслию того великого психолога, который сказал: «Источник природы в сердце человека», потому что и в самом деле мы здесь стоим у истоков, которых направление внутрь и в глубину неизвестно для нас: явления могут быть замечаемы здесь только после того, как они возникли, а из какой определенной глубины, в каком направлении и порядке и в каких особенных видоизменениях возникнут они, этого нельзя определить ни по каким общим законам.
. Положим, что все наблюдаемые нами события будут по своей сущности таковы, что мы можем как бы становиться за ними и подсматривать те причины, которые произвели их; потом также можем поставить себя за этими причинами и наблюдать условия и причины, произведшие их, — и так при всяком наблюдаемом случае. Действительно, материальные вещи обладают этим подлинным и решительным качеством конечного. Но очевидно, что если бы все существующее имело такую производную и слагаемую из сторонних причин сущность, то человеку не пришло бы и на мысль говорить о причине безусловной. Если, однако же, человечество единогласно заканчивает все свои изъяснения в религиозной вере, если оно умеет концы или начала всех нитей жизни, знания и деятельности сводить к Богу, то это религиозное сознание наиболее оправдывается натурою человеческого сердца, за которую мы уже не можем стать, чтобы подсматривать еще другие, слагающие ее причины, и которая поэтому обладает всею непосредственностию бытия, положенного Богом; и наоборот, новейший рационализм, признающий религиозное сознание человечества чем‑то несущественным или даже обольщением невежественного ума, находит соответствующие основания в учении о душе как такой хотя бы‑то и духовной сущности, которую все еще можно изъяснять из других составляющих ее деятелей. Употребляя неточный образ, можно сказать, что в сердце мы имеем такие истоки вод, которые не могут, в свою очередь, образоваться из совокупления мелких и отдельных ручьев, но могут происходить только и единственно из общего и безграничного океана вод. Откровение выражает эту мысль с глубочайшею истиною, когда говорит, что Бог непосредственно или самолично вдунул в человека дыханіе жизней (Быт. 2, 7). Положение блаженного Августина, что душа человека, откуда бы там ни происходила она, есть от Бога, известно и общему чувству человечества, которое, во всяком случае, не хочет видеть между душою человека и Богом союза, условленного рядом посторонних, чуждых для души и внешних членов, и которое так охотно рассматривает этот союз как что‑то близкое и непосредственное: здесь, в этой надежде человечества быть в живом союзе с Богом, лежит естественное предрасположение к молитве, к вере. Основа религиозного сознания человеческого рода заключается в сердце человека: религия не есть нечто постороннее для его духовной природы, она утвер–ждается на естественной почве. Справедливо, что откровение сообщает человеку истины, недоступные для его разума, но также справедливо, что человек не есть животное, только научаемое Богом; сама душа носит в себе зачатки и предрасположения к этому необыкновенному научению. Что, впрочем, этих зачатков и предрасположений мы не можем найти в области представлений и понятий, что они открываются нам, как нечто неподдающееся описанию и определению, как подлинное чувство бесконечного, только в сердце, — это можно допустить уже без всякого доказательства. И если блаженный Августин, исследывая различные основания веры, сказал наконец: nemo credit, nisi volens, то источник веры обозначен в этих словах с бесспорною истиною, потому что хотение и воля определяются непосредственно влечениями и потребностями сердца или, как выражаются философы, его стремлениями к безусловному благу. «Трудно тебе идти против рожна», — говорил Иисус Христос одному из своих ожесточенных противников (Деян. 9, 5). Не более и не другое что нужно отвечать в существе дела и всем противникам религии и откровения, потому что они идут против настоятельнейших и существеннейших побуждений своего сердца. А чтобы сердца человеческие мечтали о лучшем мире и лучшем порядке вещей вследствие какой‑то роковой и универсальной ошибки, эта мысль не может быть открыто высказана самыми усердными почитателями материи и ее механических законов.
. Впрочем, мы не отрицаем, что религия, утверждаясь главным образом в сердце человека, находит более или менее твердые опоры и на других пунктах мира. Гораздо решительнее выступает значение сердца в области человеческой деятельности, потому что мы различно судим о человеческих поступках смотря по тому, определяются ли они внешними обстоятельствами и соответствующими соображениями или же возникают из непосредственных и свободных движений сердца. Только последним, по–настоящему, мы можем приписать нравственное достоинство, тогда как первые имеют в большей или меньшей мере характер физических действий. Христианское откровение говорит нам, что любовь есть источник всех истинно и неподдельно нравственных поступков. Как это учение о коренном нравственном явлении, из которого, как из источника, возникают все другие нравственные явления, стоит в ясной причинной связи с библейским учением о сердце, то мы надеемся, что и оно, в свою очередь, может быть оправдано из начал нравственной философии так точно, как учение о сердце нашло добрые основания в психологии.
«Мы призваны делать добро свободно». Это общее и неопределенное начало, с которым уже поэтому может согласиться всякая научная теория нравственности, получает сразу свой определенный смысл, когда мы спросим: почему добро не представляется сознанию даже дикаря, как работа поденщика, за которую можно взяться поневоле, несвободно, по нужде и в расчете на плату? Что за охота поступать человеку справедливо там, где он не имеет в виду ни стороннего зрителя, который бы ценил его, ни личной пользы, которая награждала бы его за дела справедливости? Сердце человека любит добро и влечется к нему, как глаз любит созерцать прекрасную картину и охотно останавливается на ней. Этим не отрицается, что как глаз грубого человека не может оценить изящного образа, так сердце может охладеть к добру и погасить в себе свои лучшие стремления. Но уже древние говорили об огне Прометеевом, который, как похищенный с неба, возжигал в сердце человека не земные, не эгоистические, а нравственные стремления. Многие психологи говорили, что сердце человека находится под непрестанными влияниями и как бы впечатлениями высшего мира и высшего порядка вещей. Определенно и с полною истиною открывает нам слово Божие это метафизическое начало любви сердца к добру как основного нравственного акта, когда оно учит, что человек создан по образу Божию. Как всякая деятельность в мире условливается определенною натурою вещи, так и богоподобной натуре человеческого духа свойственны дела богоподобные. Богъ любы есть (1 Ин. 4, 16); Бог возлюбил нас первъе (<1 Ин. 4, 19) и этим влиянием любви, даровавшей нам существование в необыкновенной форме духа богоподобного и потолику не подходящего под общее понятие твари, соделал наш дух способным не к простому физическому или тварному возрастанию и укреплению в силах, но и к свободному подвигу правды и любви и к торжеству над тварными влечениями чувственности и самолюбия; в этом лежит последнее условие нравственной свободы человека. Справедливо, что факты говорят большею частию против этой нравственной свободы, как и против свободной любви человека к добру: люди, естественно стремящиеся к самосохранению, скорее и чаще всего действуют по побуждениям самолюбия и имеют в виду свои личные интересы, свои личные выгоды, которыми не хотят жертвовать для высших целей. Поэтому многие даже добросовестные наблюдатели человеческого сердца приходили к печальной мысли, что вся нравственность человеческая есть в существе своем утонченный и образованный эгоизм, и таким образом отвергали самую возможность нравственных поступков и весь нравственный порядок в мире. Но откровение знает об этих фактах, об этой радикальной порче человеческого сердца. Потому‑то Иисус Христос и дает человечеству новую заповедь любви, потому‑то и необходимо обновление человека, если он должен быть в силах исполнять эту новую заповедь. Впрочем, здесь мы встречаемся с таким пунктом христианского учения о необходимости благодати для человеческой свободы и нравственности, который надолго еще останется непонятным для современной рационалистической науки.
Нравственные поступки возможны для человека, потому что он свободен. Эта свобода обнаруживается в явленнях души самоопределением ее к деятельности. Например, дела правды может человек совершать и по необходимости; в таком случае они имеют значение только юридическое, а не нравственное. Представьте теперь, что те же самые дела правды этот человек совершает свободно, охотно, из любви или от сердца, по усердию; тогда эти дела, как истекающие из любви, из сердца, получат высокую нравственную цену. Вы говорите об этом человеке: «Он делает добро не по принуждению, не по расчету, не по приказанию, а свободно или охотно, по любви к добру; итак, на его нравственный характер всегда можно положиться; его образ деятельности есть бескорыстный и чистый; он не обманет вас, в случае вы были бы неосторожны, не похитит ваших прав, в случае вы были бы слабы. Он не боится предстать с тайными движениями своего сердца пред лицо всеведущего Бога: он чистая и нравственная личность». Так мы судим ежедневно о людях, не слушаясь науки, говорящей часто о каких‑то других источниках нравственности. Подобным же образом легко наблюдать, что человек, окончательно заключенный в свои личные интересы и действующий только по влечению самолюбия, тем не менее всячески скрывает от взоров зрителей эти действительные побуждения как нечто недостойное. Кто из нас в жизни не притворялся и не принимал на себя роли человека, поступающего по чувствам великодушия, по свободной привязанности сердца к добру? Кто из нас не замечал, как иногда мы невольно, инстинктивно закрываем свои эгоистические расчеты видимостью любви, жертвующей, совершающей добро ради самого добра? Так, во всем человечестве господствует убеждение, что нравственное достоинство поступка определяется единственно степенью свободной любви сердца к добру, ради которого он совершается, а все остальное, чем условливается еще сверх этого таковой поступок, как‑то: искусство или уменье, предполагающее зрелость и опытность, глубокое и верное соображение, доказывающее развитой ум, —все это ценится в поступке как физическая сила духа, которая, без благодати любви, способна воплощаться в самых недостойных действиях. Спросите, наконец, злодея, почему он попирает священные законы справедливости, почему он не уважает собственности, свободы и личности ближних? Вероятно, он будет отвечать вам известным софистическим положением, что законы справедливости произошли от человеческого произвола, что они имеют значение условное или договорное, что люди для сохранения собственных же выгод, для удобнейшего достижения своих эгоистических целей изобрели эта законы, как изобрели они пароходы, железные дороги, телеграфы, книгопечатание и т. д. Что означают эти выражения, которые с разными изменениями повторяются на всех углах земного шара людьми нравственно испорченными и которыми ниспровергается нравственность в ее последнем основании? Представленный злодей хочет сказать: «Законы справедливости суть изобретение человеческого разума, который, соображая внешние обстоятельства и человеческие нужды, постановил эти правила касательно собственности, свободы и личности; следовательно, эти законы существуют только для разума, я сердце не заинтересовано в них; как оно не обязывает меня внутренно пользоваться другими изобретениями этого разума, так оно не знает никакого внутреннего и свободного требования уважать эти законы помимо всяких соображений выгоды и своекорыстия».
Λ между тем — и это странно — в настоящее время Τιΐк чисто отождествляют разумность поступка и его нравственное достоинство, так безусловно смешивают эти два понятия — разумный и нравственно–добрый, что христианское учение о любви, об этом охотном и усердном стремлении к деланию добра, почти не имеет места в наших нравоучительных системах. Каждый день мы удостоверяемся, что поступок самый недостойный, злодеяние самое оскорбительное для человечества может быть совершено очень умно, по самому основательному и расчетливому плану и по самым глубоким соображениям, и тем не менее правило «поступай разумно» принимается в большинстве как источник чистейшей нравственности. Что означает это? Мы не будем искать причин, почему эти разнородные понятия смешиваются, а только скажем, что в этом мнимо нравственном начале выражается вся односторонность современного образования. Как мы умеем быть умными без убеждения, так хотим мы быть нравственными без подвига: действительно, то и другое происходит по мере того, как мы основные начала духовной жизни переносим из глубины сердца в светлую область спокойного, бесстрастного и безучастного разума. Поступок, совершаемый по самым точным, математически верным соображениям разума, доставляет то холодное довольство, которое хочет стоять на средине между чистым нравственным подвигом и грубостью чувственных оргий. На это нейтральное состояние, когда человек ни студенъ ни теплъ, когда он имеет имя, яко живъ, а мертвъ есть (Откр. 3, 1, 15), когда он обходится без жертв в пользу добра, но, с другой стороны, не поддается с полным бездушием страстям, порокам и открытым злодействам, — на это состояние многие готовы смотреть ныне как на нравственный идеал; и отсюда понятно, отчего слышатся ныне жалобы, что христианское нравоучение требует от человека слишком много жертв и подвигов.
Недавно некоторые ученые предлагали нам правило «уважай себя, или свою личность» и думали в этом правиле открыть начало нравственно–добрых поступков человека. Нам кажется, что из этого правила так же могут происходить или не происходить нравственные поступки, как и из правил, аналитически вытекающих из него, каковы: корми себя, сохраняй, согревай, поддерживай свое тело, упражняй свою память, развивай свой ум, свои музыкальные таланты и т. д. Мы не хотим сказать, чтобы это правило «уважай себя» противоречило нравственному назначению человека, но мы думаем, что оно может получить нравственный смысл только после того, как мы уже действуем и живем сообразно с этим назначением. Так, например, если вы имеете метафизическую идею, которая открывает вам, что поддерживать жизнь нужно не для того одного, чтобы жить, или развивать память, ум и способности эстетические не для того одного, чтобы из этих совершенств, как из нажитого капитала, получать впоследствии барыши покоя и удовольствия, то ваше самоуважение, даже ваша ежедневная забота о теле и его здоровье получат относительное достоинство в системе нравственно–добрых поступков. А без этого наперед данного нравственного начала ваше самоуважение может иметь такую же нравственную цену, как и стремление всякого животного к самоподдержанию: не станут же люди видеть в вас нравственно–добрую личность за одно то, что вы заботитесь о здоровье и красоте тела, о развитии талантов остроумия, верного соображения и т. д. Вы можете говорить языками человеческими и ангельскими, можете відать тайны вся и весь разумъ, можете обладать такою силою и несокрушимостью характера, что не задумаетесь, в случае потребует этого ваша честь или ваш другой интерес, предать тело свое, ου еже сжещи е (1 Кор. 13, 12), —и все же, при этом необыкновенном развитии личности, не иметь еще нравственного достоинства.
Бесспорное научное значение имеет принятое в нравственной философии понятие нравственного закона и учение о долге или обязанности исполнять его. Как совесть, так и все религии рассматривают нравственные поступки как предписанные высшим законодательством и потому совершение их признают долгом и обязанностью. Так, и и откровении дела правды и любви называются заповедями или повелениями Бога. Так, Иисус Христос дал человечеству новую заповедь. Вообще, человечество верует, что совершение всякого доброго поступка есть исполнение воли Божией или что в этом случае ниши ноля согласна с волею Бога. Но с этим совершенно истинным учением соединяется в философии ничем не оправданное предположение, будто начальный источник истинного законодательства есть разум. Выше мы уже говорили о мнимом самозаконии ума и о мнимом единстве поступков разумных и нравственно–добрых. Так как мы имеем ідееіі дело с одним из самых трудных вопросов нравственной философии, то для изъяснения нашей мысли и устранения недоразумений сделаем еще следующие замечания.
а) Закон, по которому совершается нравственная деятельность, не есть уже поэтому причина этой деятельности, как, например, закон падения тел не есть причина их падения. Итак, с рационалистической точки зрения навсегда останется неизъяснимым, откуда, из какого источника истекают те дела, которые оказываются сообразными с нравственным законом как с предписанием разума. Всякое нравственное предписание разума, всякое наставление разума о том, что я должен делать, открывает мне перспективу дел только еще ожидаемых, пока еще не осуществленных; а могу ли я совершить эти дела, имею ли я нравственные силы как источники этих дел, —· это совершенно другой вопрос, о котором нравственное законодательство разума ничего не скажет. Точно, ум может предписывать, повелевать и — скажем так— командовать, но только тогда, когда он имеет пред собою не мертвый труп, а живого и воодушевленного человека и; когда его предписания и повеления сняты с натуры этого человека, а не навязываются ей, как что‑то чуждое, несродное; потому что ни одно существо на свете не приходит к законообразной деятельности из побуждений посторонних для него. Наша русская пословица говорит: ум есть царь в голове, и говорит совершенно справедливой если понять ее смысл настоящим образом: потому что царь не полагает от себя народной жизни с начала, с ее языком, религией и особенным гением; его законодательство священно для народа как выражение его внутренних потребностей, как образ его духа. Ум есть способность понятий, мыслей, правил, начал и законов, но все это, как общее, он образует из частных случаев и из частных деятельноетей, все равно, в области ли физической или нравственной. Нам врождены не правила, не мысли о нравственной деятельности, но самые влечения и стремления к ней. Разум, сознавая нравственные деятельности, сравнивая их, обобщая, поставляет общие нравственные законы о том, что человек должен делать, общие нравственные правила и предписания и общие идеи, в которых мы сознаем существующий нравственный порядок в мире и человеке. Понятно, как необходимы и дороги для нас эти общие идеи: они дают возможность как во всех других случаях, так и в отношении нравственном поступать по определенному, ясно сознанному плану, по ясно сознанным началам с спокойным обозрением целей и средств и всей среды нашей нравственной деятельности; они открывают нашему сознанию нравственную область даже и тогда, когда в нашем сердце иссяк источник нравственности и когда поэтому мы бываем не в силах вступить в эту область, несмотря на то, что имеем самые светлые идеи об ней. Определительно говорит апостол Павел об этом ясном сознании нравственного закона или закона ума и вместе об отсутствии действительного источника нравственности в послании к Римлянам (7, 14—23). Ум, как говорили древние, есть правительственная или владычественная часть души, и мистицизм, который погружается в непосредственные влечения сердца, не переводя их в отвлеченные, спокойные и твердые идеи или начала ума, противоречит свойствам человеческого духа. Но правительственная и владычественная сила не есть сила рождательная; она есть правило, простирающееся на такое содержание нравст венного мира, которое рождается из глубочайшего существа духа ив своем непосредственном виде или в первом и основном явлении есть любовь к добру. Бывают для человека времена так называемого искушения, когда внешние обстоятельства своими неожиданными и непредвиденными сплетениями сбивают все соображения, все расчеты и: правила разума; тогда, в эти критические минуты; человек и & самом деле предоставляется водитель*-ству своего сердца, и здесь‑то, собственно, лежит пробный камень для его нравственного характера: или он выступит во всем благородстве своего настроения, с доблестями нравственного героизма, или же разоблачит пред нами все недостоинство своей личности, которое до этой минуты закрывалось для нас в поведении благоразумном, управляемом рассчитывающим и осторожным разумом. Выразим окончательно нашу мысль о значении начал и общих привил разума в области нравственной посредством евангельского образа, который по своей точности всегда будет возбуждать удивление в беспристрастном наблюдателе: для живой —а не только представляемой ι— нравственности требуется светильник и елей (Мф. 25, 1—10). По мере того как в сердце человека иссякает елей любви, светильник гаснет: нравственные начала и идеи потемняются и наконец исчезают из сознания. Это отношение между светильником и елеем — между головою и сердцем — есть самое обыкновенное явление в нравственной истории человечества. Итак, это двойство между нравственным законодательством, в форме которого мы представляем себе наши нравственные поступки, и источником нравственной деятельности примиряется с библейской точки зрения. Точно, нравственность есть заповедь, есть закон, но как о благодатном законе сказано, что он будет написан на сердцах обновленных людей, так и люДй, предоставленные самим себе, являють діло законное написано въ сердцахъ своихъ (Иер. 31, 31. Рим. 2, 15).
b) Когда совесть упрекает человека в несправедливости или жестокости, она не говорит ему: «Ты сделал своим законодательным разумом ошибку, ты руководствовался в деятельности неправильными понятиями и неточными соображениями», также не говорит ему: «Ты не послушался предписаний своего разума». Все эти упреки, которые мы так часто делаем другим и принимаем от других с полным равнодушием, как упреки за ошибку в математическом счислении, слишком легки и слишком ничтожны в сравнении с грозным и потрясающим словом, которое совесть говорит преступнику: «Ты сделал неправду, ты сделал зло: что ты сделал, недостойный своего имени человек, посмотри теперь на себя, каков ты и каковы плоды твоего злого сердца!» Здесь мы Слышим совсем другие тоны, которые понятны только для сердца, а не для безучастно соображающего разума.
c) Откровение дает нам заповедь: возлюбиши искренняго твоего яко самъ себе (Мф. 22, 39), и далее: больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положить за други своя (Ин. 15, 13). Ближнего мы должны любить, как любим самих себя. Христианин должен признавать в ближнем самого себя и принимать участие в его несчастиях и страданиях с тою внутренностлю, с какою он испытывает эти несчастия и страдания в себе самом. Понятно, какая душевная способность может переносить нас в это энергическое состояние чистой и действительной любви. Посему справедливо сказать, что во всяком действии любви христианин полагает душу свою за други своя: нужды ближнего, страдания и несчастия падают на любящее сердце с такою тяжестью, как если бы они касались непосредственно его самого, а не чужого сердца. Конечно, так кипит эта жизнь в своем источнике, а с дальнейшим движением в мир явлений она принимает определенные формы, каковы: справедливость, честность, свободная верность слову и договору, великодушие и благородство, решимость на пожертвования, предпочтения блага общего счастью личному и т. под.
Мы слишком распространились о христианском начале нравственности, во–первых, потому, что оно связано тесно с библейским учением о сердце, а во–вторых, потому, что нужды современной практической философии слишком велики, и мы думаем, что ей необходимо выяснять дух и характер христианского нравоучения. Если в этом последнем отношении мы хотели обозначить только главное начало христианского нравоучения, то зато в первом отношении мы пришли к выводам, которые кажутся, по крайней мере для нас, значительными. Библейское учение о сердце как средоточии всей душевной и духовной жизни не стоит одиноко и отдельно среди всего остального учения. Мы хотели показать, какие великие практические интересы духа человеческого и христианского соединяются с ним; так что если бы, по ограниченности наших научных средств, оно и не оправдывалось пока научным образом, то все же мы не можем обходить его с равнодушием, если только для нас дорога религиозная и нравственная жизнь человечества. Мы высказали надежду, что с этой точки зрения может быть указано правильное, гармоническое отношение между знанием и верою; далее, могут быть указаны глубочайшие основания религиозного сознания человечества, наконец, и в особенности, что христианское нравоучение только с этой точки зрения может быть понятно в его глубочайшем духе и безмерном достоинстве. Если бы кто, имеющий больше сил и опытности, рассмотрел еще, как, сообразно с библейским учением о сердце, должно понимать задачу или цель воспитания, то мы получили бы значительный круг практических начал, которые сближали бы область веры с областью науки, потому что господствующее ныне разделение между верою и знанием, как требование знать так, а веровать иначе, кажется невыносимым для людей самих разнородных убеждений. Служение науке не есть служение маммоне, с которым было бы несообразно служение Богу: это чувствуют ныне, хотя касательно средств к достижению примирения между наукою и верою еще не многие имеют определенное убеждение. В настоящей статье мы руководствовались мыслию, что одно из таковых средств заключается в тщательном и беспристрастном изучении Библии во всех ее подробностях, во всех по–видимому самых незначительных понятиях. «Возьми и читай», — говорил неведомый голос Августину, который терялся среди сомнений и противоречий своего широкого знания.
Из науки о человеческом духе
Возможна ли эта наука и существует ли она? В своем историческом ходе она представляет необозримое множество противоречащих теорий, неосновательных гипотез и произвольных мнений о существе человеческого духа, его силах и свойствах и о способе его развития, — мнений, которые сменялись с каждым новым поколением, зависели от характера народов и лиц, развивавших их, и которые поэтому не представляют ничего похожего на стройное и равномерное развитие наук естественных. Уже одно то бросается на глаза, что наука о человеческом духе большею частию брала изъясняющие начала или методы из других наук, что она изъясняла свой предмет не из непосредственного наблюдения над ним самим и его изменениями, а из понятий и предположений, которые вырабатывал человеческий дух на других поприщах исследования. Без сомнения, это происходило оттого, что предмет этой науки предлежит человеческому наблюдению не в такой удобной и доступной форме, как предметы мира физического. Когда естествоиспытатель исследывает химический состав растения или следит за его развитием из семени рождающего до семени рождаемого, то здесь предмет исследования предстоит его взору в простом и ясно определенном образе вещи, которую можно видеть глазами, обнять руками, или здесь наука заботится только об определении предикатов, а субъект дан ей непосредственно и прежде исследования. Напротив, когда психолог спрашивает, что такое душа, то здесь самый субъект не представляется как вещь, на которую можно указать, душа не открывается его наблюдению в готовом и неподвижном Образе вещи, следовательно, там, где естественные науки отсылают нас к простому воззрению, не представляющему никаких научных затруднений, психолог уже вынужден свойствами своего предмета делать анализы, соображения и теоретические выводы, которые во всяком разе не могут равняться по степени своей достоверности с понудительною силою не сомненных для каждого опытов. Но так же и в другом отношении, при вопросе о предикатах этого субъекта, психолог встречает затруднения, о которых ничего не знает естествоиспытатель. Душевная жизнь в своих явлениях представляется величиной так изменчивой, так текучей, что почти нельзя указать в ней двух моментов совершенно сходных. При каждом новом самовоззрении мы чувствуем себя в другом состоянии. Растение, например, изменяется от причин, которых количество и качество можно определить с научною достоверностью. Но есть ли такое обстоятельство в безмерном, мире Божием, которое не могло бы сделаться причиною того или другого состояния человеческого духа? Точно, скажем с Лейбницем, если бы мы знали эту монаду вполне, мы могли бы прочитать в ней судьбу всего мира, — так она приимчива, так она чувствительна ко всякому внешнему событию. Следовательно, здесь мы не можем иметь определенного круга явлений, которые были бы вызываемы определенным числом причин., Тысячи чувствований, стремлений, представлений, понятий и идей, привычек, наклонностей и страстей выныряют на поверхность сознания неожиданно и без нашего ведома, сочетаются или пересекаются в различных отношениях, определяют нашу деятельность, наш взгляд на людей и обстоятельства, наши симпатии и антипатии, наше ежеминутное душенастроение, — и все это разнообразие явлений, из которых каждое хочет сказать нам, πο–своему, что такое душа, происходит от причин и условий, изменяющихся до бесконечности. Самое простое и плодотворное правило индуктивной методы, что одинаковые изменения указывают на одинаковые причины, должно быть применяемо в этой жизненной области с большою осторожностью: потому что кто докажет, что здесь вообще можно встретить одинаковые изменения, что в различные времена дух может пережинать одинаковые состояния, возвращаться на прежние пункты, подобно Солнечной системе? Далее, кто докажет, что причины, вызывающие такие‑то чувства и стремления в одном лице, необходимо произведут те же самые явлении и в другом? Начало индивидуальное так развито здесь, что почти всегда оно. дает душевным явлениям какое‑нибудь особенное направление, которого мы вовсе не ожидали на основании знания общих законов душевной жизни. Вот почему великие поэты, изображая только индивидуальную жизнь лица, всегда оказывались глубокими психологами, а великие философы, которые хотели указать нам общие законы душевной жизни, часто строили только гипотезы, в себе не основательные и не сообразные с действительностью.
Наука о человеческом духе долгое время была построиваема на началах и идеях метафизических. Очевидно, что достоинство ее зависело в таком случае от достоинства этих идей и начал. Так, если философ приходил к убеждению, что в основании мира явлений лежат вещественные атомы, то он должен был изъяснять и душевные явления из различных движений и различного способа сочетания этих же самых атомов. Теорию, которую принял он для изъяснения явлений внешнего опыта, он переносил и на явления опыта внутреннего, так что факты, данные в этом опыте, не были приняты в расчет при образовании самой теории и только должны были подчиниться ее безусловному приговору. Этот метафизический прием, как понятно само собою, основывался на предположении, что внутренний опыт как такой не может дать нам никакого откровения о бытии, не может содействовать образованию наших понятий о существе мира и что только опыт внешний может привести нас к мысли об истинно–сущем. Справедливо ли это предположение, увидим после.
В противоположность с этим направлением идеализм признавал научное значение внутреннего опыта: он принимал чувства, стремления и мысли так, как они есть для непосредственного самовоззрения, за чувства, стремления и мысли, а не за движения и сочетания атомов. От этого внутри метафизики идеализма психология могла принимать развитие отчасти самостоятельное, в некоторых отношениях независимое от общей метафизической мысли о мире. Но тем не менее идеализм мало интересовался частными законами и формами человеческой душевной жизни. Он решил одну, и притом самую отдаленную, задачу психологии. Он спрашивал: каким образом из общей идеи мира выходит разумность и необходимость тех явлений, совокупность которых мы называем душевною жизнью, как относятся эти явления к общему смыслу или к идеальному содержанию мира явлений?
Так поставленная задача психологии имеет для мыслящего духа особенное достоинство, потому что мыслящий дух никогда не перестанет спрашивать себя, как он относится к общему и целому, какую ступень занимает он на общей лестнице бытия и какой имеет смысл его появление именно на этой ступени. Для кометы, которая несется в беспредельных пространствах неба, все равно—ни радостно, ни скорбно, —где бы ни находилась она. Хотя она существует, однако об этом знает уже не она, а другой, мыслящий зритель; поэтому она не может, да и не имеет надобности спрашивать, откуда и куда стремится она и что означают ее движения в общей планетной системе. Если бы человеческий дух имел такое же бытие для другого, если бы он не знал о себе, о своем существовании, о своих состояниях и трудах, мы согласились бы признать психологическую задачу идеализма праздною и неестественною. Мы сказали бы об этой метафизике, что ее попытка — осмыслить положение человеческого духа н целостной системе мира — не отвечает ни на какую действительную потребность человека, что если ее психология хочет быть наукой, то она должна отказаться от изъяснения идеального смысла душевных явлений, что Она должна обращаться с духом, как физика с кометой, — исследовать только его феноменальные формы и способы изменений, не спрашивая, что означает все это разнообразие изменений, к чему оно и для чего оно. Другими словами, мы не надеемся, чтобы психология, если она должна обнять все явления душевной жизни и отвечать на все вопросы, возникающие в духе, могла всецело отрешиться от метафизических предположений о сущности мира, как отрешилось естествознание.
Этйм, однако же, мы не говорим, чтобы не было возможности разработывать психологию как частную и эмпирическую науку. Первее всего необходимо изучить феноменальные законы и формы душевной жизни, необходимо познать душевные явления в их фактической необходимости, то есть в их взаимном сплетении и сочетании, по их образованию и выходу одного из другого под влиянием опытно дознаваемых причин и условий. Идеализм, преследуя высшие задачи, не удовлетворял этому простому требованию эмпирической психологии. Только в наше время эмпирическая психология получила такое быстрое развитие, так обогатилась наблюдениями фактов душевной жизни и их законообразных сочетаний, что она все более и более получает достоинство точной науки. Хотя факты, открытые для внутреннего опыта, представляют несравненно больше разнообразия, сложности и изменчивости, чем факты опыта внешнего, однако как действительные события они могут быть рассматриваемы и изъясняемы по той же индуктивной методе, которая принесла и приносит такие богатые плоды в области еетествознания. Различные состояния и изменения душевной жизни — чувства, мысли, стремления, привычки, наклонности, страсти, душевные болезни, явления тупоумия и бездарности, также развитие таланта и гения —» все это предметы, которые можно наблюдать, сравнивать, которых причины и условия можно указывать фактически и которые поэтому так же можно подводить под общие законы и формулы, как это делает естествознание в своей области внешнего опыта. Метафизический вопрос о сущности этих феноменов может не иметь никакого влияния на этот способ эмпирического изъяснения душевной жизни, и, таким образом, все различие между естествознанием и психологией состояло бы только в том, что психология изучает предметы, данные для внутреннего опыта, а естествознание — предметы, открывающиеся в опыте внешнем; там и здесь, повторяем, наука ис–следывает мир явлений, в первом случае душевных, во втором — телесных, не касаясь трудной проблемы о подлинной сущности этого мира.
И в этом мы должны сознаться, что не все современные ученые понимают задачу эмпирической психологии в том простом виде, как мы сейчас изобразили ее. На основании общеизвестного опыта, что душевные явления происходят в телесном организме, и особенно на основании научного физиологического факта, что условия для изменения этих явлений даны первее всего в различных движениях и изменениях частей живого тела, некоторые ученые видят в душевных деятельностях и состояниях явления жизни органической, только более тонкие и более развитые. Представители этой теории, которая рассматривает душевную жизнь как непосредственное произведение телесного организма, сделали в последнее время замечательные попытки, чтобы оправдать свое начало и дать ему значение научной истины. Итак, ничего нет странного, если и в нашей литературе появляются от времени до времени психологические статьи этого направления: если мы не можем идти вперед, то мы не хотим и отставать, и все, что интересует ученых в Германии, легко находит в наших ученых сочувствие, которое уже само по себе говорит много в пользу двигателей образования и науки в нашем отечестве.
Мы прочитали две статьи этого направления, помещенные в №№ IV и V «Современника» за текущий год под заглавием «Антропологический принцип в философии». Неизвестный сочинитель дал форму этим статьям несколько свободную; он счел за лучшее говорить о душевных явлениях не в строгом систематическом порядке, а в связи с различными посторонними предметами, которые часто пресекают нить его анализов и для читателя, не привыкшего сводить к единству разнородные воззрения, могут затруднять самое понимание идей, в них изложенных. Сколько нам известно, статьи эти производят на читателей неодинаковое впечатление: одни видят в них неудачную попытку, покончить сразу с теми затруднениями, с которыми боролась философия до настоящего времени; другие находят в них правильное применение методы естествознания к решению вопросов философии и сочувствуют началам и идеям, в них раскрытым. Мы воспользуемся этими статьями как поводом для исследования, может ли теория, которая видит в душев–ныхявлениях простое видоизменение явлений органической жизни, удовлетворять научным требованиям, или изъясняет ли она то, что обещает изъяснить. Нам кажется, что такой разбор всегда будет уместен, к каким бы результатам ни привел он. Статьи «Антропологический принцип в философии» относятся к философии реализма, которая сделала в наше время так много открытий в области душевной жизни, одарила пас такими точными анализами явлении человеческого духа, что, по всей вероятности, это направление рано или поздно должно представить большие интересы для самого богословия. Мы уверены, что науки богословские особенно нуждаются в точных психологических наблюдениях и верных теориях душевной жизни. В этом отношении, повторяем, современный философский реализм есть явление, мимо которого богослов не может проходить равнодушно; он должен изучать эту философию опыта, если он хочет успеха своему собственному делу.
По мнению сочинителя названных статей, в настоящее время «психология и нравственные науки выходят из прежней своей научной нищеты». «Еще не так далеко от нас время, — говорит он, — когда нравственные науки в самом деле не могли иметь содержания, которым бы оправдывался титул науки… Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся нравственными науками, все передовые люди стали разработывать их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разработываются естественные науки…. Теоретические вопросы, остающиеся неразрешенными при нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже не приходят в голову почти никому, кроме специалистов…» Несколько выше сочинитель говорит, что и в области химии остаются неразрешенными точно такие же специальные вопросы, которые приходят в голову «только людям, уже порядочно знакомым с химией».
Итак, нравственные науки, следовательно, и психология, имеют ныне такое же совершенство, как, например, химия. И это произошло оттого, что 1) в нынешнем своем положении естественные науки «дают много материалов для точного решения нравственных вопросов», 2) «передовые люди стали разработывать нравственные науки при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разработываются естественные науки».
Справедливо ли судит сочинитель о современном состоянии нравственных наук, поставляя их на одну линию с самою точною из наук естественных, мы не будем разбирать здесь. Мы согласны вообще, что эти науки находятся теперь в таком сравнительно блестящем положении, какого они не имели прежде. Также нет никакого сомнения, что одной из. главных причин их быстрого успеха в настоящее время было применение к ним «точных приемов, по каким разработываются естественные науки». Но если эти успехи думают еще изъяснять из того, что ныне «естественные науки дают много материалов для точного решения нравственных вопросов», то это будет справедливо только под определенными условиями. Мы изъясним это в примере. Психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта. Ощущения или представления, чувствования и стремления суть такой материал, которого вы нигде не отыщете во внешнем опыте и, следовательно, ни в какой области естествознания. Правда, что психология не может решить своей задачи без пособия физиологии и даже механической физики, потому что условия для определенных изменений душевных явлений лежат первее всего в изменениях живого тела: в этом отношении она пользуется результатами физиологии, сравнивает явления физиологические с душевными и определяет таким образом их взаимную зависимость. Если это означает, что она получает свой материал из области физиологии, то справедливо сказать, что и физиология получает свой материал из психологии в таком же смысле: эти две науки взаимно влияют одна на другую, и успехи в одной из них поведут к успехам в другой. Тем не менее каждая из них имеет свой собственный материал и увеличивает этот материал из области, только ей доступной. Предмет психологии дан во внутреннем самовоззрении, естественные науки не могут дать ей этого предмета, не могут увеличивать этого материала. Так, например, оптика, развитая математически, изъясняет только положение рисунка в нашем глазе и различные направления глазных осей во время видения; но она ничего не знает об этом видении, для нее глаз есть зеркало, отражающее предметы, а не орган видения. Только психолог, наблюдающий внутренно, может сказать, что в то время, как оптик замечает на теле глаза изображения определенной величины и видит, что самое тело глаза получило определенное направление, душа представляет такой‑то предмет, в таком‑то цвете, на таком‑то расстоянии и т. д. Так же точно для акустики, которая развита математически, ухо есть только телесный снаряд, приходящий в правильные сотрясения, когда ударяют на него волны воздуха; но что душа слышит по поводу сотрясения этого снаряда, бой барабана или музыкальную мелодию, об этом акустика ничего не знает. Это ясное и понятное разделение между предметами, известными из опыта внутреннего, и предметами, известными из опыта внешнего, совершенно выпущено из виду сочинителем разбираемых нами статей, и вот почему он говорит так безусловно о материалах, которые представляют естественные науки для решения вопросов нравственных.
«Физиология, — говорит сочинитель, — разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение…» Кто никогда не был в анатомическом театре, тот на основании этих слов может вообразить, что там профессор анатомии показывает простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительных органов, кишок, нервов и систему ощущений, следовательно, систему представлений и мыслей, страданий и радостей, мечтаний и надежд. В приведенных словах сочинитель, кажется, ясно говорит, что ощущение есть решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся нравственными науками, все передовые люди стали разрабатывать их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разрабатываются естественные науки…. Теоретические вопросы, остающиеся неразрешенными при нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже не приходят в голову почти никому, кроме специалистов…» Несколько выше сочинитель говорит, что и в области химии остаются неразрешенными точно такие же специальные вопросы, которые приходят в голову «только людям, уже порядочно знакомым с химией».
Итак, нравственные науки, следовательно, и психология, имеют ныне такое же совершенство, как, например, химия. И это произошло оттого, что 1) в нынешнем своем положении естественные науки «дают много материалов для точного решения нравственных вопросов», 2) «передовые люди стали разрабатывать нравственные науки при помощи точных приемов, подобных тем, по каким разработываются естественные науки».
Справедливо ли судит сочинитель о современном состоянии нравственных наук, поставляя их на одну линию с самою точною из наук естественных, мы не будем разбирать здесь. Мы согласны вообще, что эти науки находятся теперь в таком сравнительно блестящем положении, какого они не имели прежде. Также нет никакого сомнения, что одной из. главных причин их быстрого успеха в настоящее время было применение к ним «точных приемов, по каким разрабатываются естественные науки». Но если эти успехи думают еще изъяснять из того, что ныне «естественные науки дают много материалов для точного решения нравственных вопросов», то это будет справедливо только под определенными условиями. Мы изъясним это в примере. Психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта. Ощущения или представления, чувствования и стремления суть такой материал, которого вы нигде не отыщете во внешнем опыте и, следовательно, ни в какой области естествознания. Правда, что психология не может решить своей задачи без пособия физиологии и даже механической физики, потому что условия для определенных изменений душевных явлений лежат первее всего в изменениях живого тела: в этом отношении она пользуется результатами физиологии, сравнивает явления физиологические с душевными и определяет таким образом их взаимную зависимость. Если это означает, что она получает свой материал из области физиологии, то справедливо сказать, что и физиология получает свой материал из психологии в таком же смысле: эти две науки взаимно влияют одна на другую, и успехи в одной из них поведут к успехам в другой. Тем не менее каждая из них имеет свой собственный материал и увеличивает этот материал из области, только ей доступной. Предмет психологии дан во внутреннем самовоззрении, естественные науки не могут дать ей этого предмета, не могут увеличивать этого материала. Так, например, оптика, развитая математически, изъясняет только положение рисунка в нашем глазе и различные направления глазных осей во время видения; но она ничего не знает об этом видении, для нее глаз есть зеркало, отражающее предметы, а не орган видения. Только психолог, наблюдающий внутренно, может сказать, что в то время, как оптик замечает на теле глаза изображения определенной величины и видит, что самое тело глаза получило определенное направление, душа представляет такой‑то предмет, в таком‑то цвете, на таком‑то расстоянии и т. д. Так же точно для акустики, которая развита математически, ухо есть только телесный снаряд, приходящий в правильные сотрясения, когда ударяют на него волны воздуха; но что душа слышит по поводу сотрясения этого снаряда, бой барабана или музыкальную мелодию, об этом акустика ничего не знает. Это ясное и понятное разделение между предметами, известными из опыта внутреннего, и предметами, известными из опыта внешнего, совершенно выпущено из виду сочинителем разбираемых нами статей, и вот почему он говорит так безусловно о материалах, которые представляют естественные науки для решения вопросов нравственных.
«Физиология, — Говорит сочинитель, — разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение…» Кто никогда не был в анатомическом театре, тот на основании этих слов может вообразить, что там профессор анатомии показывает простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительных органов, кишок, нервов и систему ощущений, следовательно, систему представлений и мыслей, страданий п радоетей, мечтаний и надежд. В приведенных словах сочинитель, кажется, ясно говорит, что ощущение есть предмет так же данный для внешнего физиологического опыта, как сжатие и растяжение мускулов, движение крови, химическая переработка пищи в желудке и т. д.
Таким образом, он разделяет основное заблуждение или обольщение всех физиологов, которые в последнее время думали заменить физиологией так называемую прежде психологию. Теперь мы видим, почему он признает за нравственными науками такое же достоинство точности и совершенства, какими отличается, например, химия: с его точки зрения, успехи этих наук находятся в руках естествознания или, определеннее, физиология своими средствами внешнего наблюдения изъясняет натуру тех предметов, которые, по мнению психологов, вовсе не существуют для внешнего наблюдения.
«Основанием для той части философии, —говорит сочинитель, —которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видит медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем‑нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет».
Этот текст очень определенно показывает, что для его сочинителя нравственные или философские науки суть только другое название для наук естественных, которые изъясняют все предметы, доселе входившие в область философии. В человеческом организме «философия видит то, что видят медицина, физиология, химия». Какая же надобность в этой науке, которая еще раз видит то, что уже прежде ее увидели другие науки? К доказательствам медицины, химии и физиологии, что «никакого дуализма в человеке не видно, философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем‑нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем… то другой натуры нет в нем». Итак, вот для чего нужна философия: она нужна, чтобы сделать прибавление к учению естествознания о единстве человеческого организма, — прибавление, которое может сделать и без нее даже самая пустая голова, как только ей удастся понять этот вывод естествознания, что в человеке не видно никакого дуализма. По всему заметно, что сочинитель не соединяет никакого определенного понятия с словами нравственные науки и философия; и этого надобно было ожидать после того, как он поставил ощущение, следовательно представление и системы человеческих мыслей, а с ними и все ряды чувствований и стремлений в круг физиологических предметов, данных для внешнего опыта, как будто представления и мысли существуют для глаза, который видит их в пространстве с фигурами и красками, для руки, которая берет и поднимает их, для носа, который обнюхивает их, и т. д. После этого ничего нет странного, если сочинитель выдает за научные истины психологии как точной науки такие положения, которые вовсе не суть произведения строгого анализа. Так, например, он пишет: «Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, т. е. вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего‑нибудь, чтобы не остаться самому без вещи для него нужной…. Психология прибавляет также, что человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени по своей силе; самая настоятельнейшая потребность каждого человеческого организма состоит в том, чтобы дышать… После потребности дышать (продолжает психология) самая настоятельная потребность человека—есть и пить». Спрашиваем, нужна ли тут психология, и притом как точная наука, чтобы повторять то, что известно всякому простому и не ученому смыслу? Что скажет естествоиспытатель, если он послышит об этих великих открытиях строгого психологического анализа, именно, что голод заставляет человека воровать, особенно же, что человек имеет потребность дышать, есть и пить?
Между тем главная мысль, которая служит для сочинителя основанием всех его исследований о человеке, имеет свой особенный интерес. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь, — говорит он, — со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека». Говорим, что эта мысль имеет свой особенный интерес, потому что она отделяет научное знание о человеке от представлений общего смысла.
Когда греческий философ Платон учил, что тело человека создано из вечной материи, которая не имеет ничего общего с духом, то он таким образом допускал дуализм метафизический как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское миросозерцание отстранило этот метафизический дуализм: материю признает оно произведением духа; следовательно, она должна носить на себе следы духовного начала, из которого произошла она. В явлениях материальных вы видите форму, законообразность, присутствие цели и идеи. Если человеческий дух развивается в материальном теле, если его совершенствование связано с состоянием телесных возрастов, то эта связь не есть насильственная, положенная беспредельным произволом божественной воли: она определяется смыслом человеческой жизни, ее назначением или идеей. Материя, как говорит Шеллинг, стремится, порывается родить дух; она не равнодушна к целям духа, она имеет первоначальное и внутреннее отношение к ним. Изучите хорошо телесный организм человека, и вы можете отгадать, какие формы внутренней, духовной жизни соответствуют ему. Изучите хорошо эту внутреннюю жизнь, и вы можете отгадать, какой телесный организм соответствует ей. Итак, если сочинитель говорит, что «наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека», то против этого нельзя возражать безусловно. Только мы хотели бы определенно знать, о каком дуализме говорится здесь.
Известно, что после устранения дуализма метафизического остается еще дуализм гносеологический, дуализм знания. Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого организма, всегда мы будем познавать человеческое существо двояко: внешними чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления. В первом случае мы будем иметь физиологическое познание о человеческом теле, а во втором — психологическое познание о человеческом духе. Или и этот дуализм устранен наблюдениями физиологов, зоологов и медиков? Наш сочинитель, по–видимому, отвечает на этот вопрос положительно. Как мы видели, он относит ощущение к предметам физиологии наравне с системою кишок, мускулов, нервов и т. д. Слово дуализм, как кажется, напугало его, и он уже не мог выяснить себе, как и откуда психология знает о своих предметах.
Кажется, ясно, что мысль не имеет пространственного протяжения, ни пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни тяжести, ни температуры; итак, физиолог не может наблюдать ее ни одним из своих телесных чувств. Только внутренно, только в непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся. Эти две величины, то есть предметы внешнего и внутреннего опыта, суть, как говорят психологи, несоизмеримые: научного, последовательного перехода от одной из них к другой вы не отыщете. Физиолог будет наблюдать самые сложные движения нервов; но все же эти движения, пока они существуют для внешнего опыта, то есть пока они суть пространственные движения, происходящие между материальными элементами, не превратятся в ощущение, представление и мысль. Сочинитель говорит: «…мы знаем, что ощущение принадлежит известным нервам, движение — другим». Разберите это выражение. Когда внешний толчок действует на нерв, то будет ли это нерв ощущения или нерв движения — все равно, он по поводу этого толчка придет в движение или сотрясение: это мы наблюдаем в физиологическом опыте. Итак, нужно сказать: мы знаем, что всякий нерв приходит в движение по поводу внешнего впечатления. Но что «известным нервам принадлежит ощущение», этого мы вовсе не знаем из физиологического опыта; потому что и эти «известные нервы» представляют для внешнего физиологического опыта только движение, которое никогда не превращается на глазах наблюдающего физиолога в ощущение, представление и мысль. Или, как мы сказали выше, здесь физиология получает свой материал от психологии. Только сравнивая опыты физиологические и психологические, мы убеждаемся, что видение таких‑то и таких цветов, слышание таких‑то и таких‑то тонов возможны для души только под условием определенных движений зрительного и слухового нервов.
Но кто утверждает, что самое это движение зрительного и слухового нервов есть уже ощущение определенной краски и определенного тона, тот не говорит ни одного ясного слова. Попытайтесь провести в мышлении и построить в воззрении, каким это образом пространственное движение нерва, которое при всех усложнениях должно бы, по–видимому, оставаться пространственным движением нерва, превращается в непространственное ощущение или в желание. Положим, что вы послышали учение физики о зависимости объема тела от его температуры и о том, что с изменением его температуры необходимоизменяется и его объем; что сказали бы об вас, если бы вы превратили это отношение необходимой связи в отношение тождества и стали рассуждать: температура тела превращается в объем тела, объем тела есть не что иное, как его температура? А между тем учение нынешних физиологов о том, что ощущение–души есть не что иное, как движение нервов, основано именно на этом превращении необходимой зависимости явлений в их тождество. — Если бы нас спросили, каким образом температура начинает быть объемом, то нам пришлось бы отвечать: она никак не начинает быть объемом; только, по необходимому физическому закону она производит изменения в теле, которое без объема немыслимо, Таким же образом и на вопрос: как движение нерва начинает быть ощущением, мы должны были бы отвечать, что движение нерва никак не начинает быть ощущением, что оно всегда остается Движением нерва; только по необходимому закону (физическому или метафизическому—об этом спорят еще) это движение нерва производит изменения в душе, которая немыслима без ощущений, чувств и стремлений. Итак, если говорят что движение нерва превращается в ощущение, то здесь всегда обходят того деятеля, который обладает этою чудною превращающею силою или который имеет способность и свойство рождать в себе ощущение по поводу движения нерва; а само это движение, как понятно, не имеет в себе ни возможности, ни потребности быть чем‑либо другим, кроме движения.
Странно и, однако же, справедливо, что сочинитель, так много говорящий в своих статьях о естественных науках, не имеет ясного представления о их методе и о их предмете. Если философии противопоставляются точные науки, то под этими последними разумеются в таком случае науки опытные, следовательно занимающиеся явлениями и не касающиеся вопроса о метафизической сущности вещей. Теперь, опытная психология и требует признать только это феноменальное, или гносеологическое, различие, по которому ее предмет, как данный во внутреннем опыте, не имеет ничего сходного и общего с предметами внешнего наблюдения. Только на этом предположении возможна точная наука о душе, т. е. о душе как определенном явлении, подлежащем нашему наблюдению. Всякий дальнейший вопрос о сущности, этого явления, вопросы о том, не сходятся ли разности материальных и душевных явлений в высшем единстве и не суть ли они простое последствие нашего ограниченного познания — поколику оно не постигает подлинной, однородной, тождественной с собою сущности вещей, —-все эти вопросы принадлежат метафизике и равно не могут быть разрешены никакою частною наукою. В настоящее время, однако же, химия и физиология нередко берутся за решение этих вопросов о сверхчувственной основе вещей, как будто эту сверхчувственную основу можно увидеть в химической лаборатории или в анатомическом театре. Так, если физиология говорит нам о единстве нервных процессов и душевных явлений, то этим она не выражает, что душевные явления должны представиться нам в научном опыте нервными процессами или что нервные процессы должны представиться нам в научном опыте душевными. явлениями: нет, разности, опытно данные, между представлениями и нервными процессами остаются такими же на конце науки, какими они были в начале ее. Итак, учением об этом единстве она только выражает метафизическую мысль о не–воззрительном, сверхчувственном тождестве явлений материального и духовного порядка; следовательно, она дает нам мысль, которую ни утверждать, ни отрицать она не имеет основания. Наш сочинитель также не различает вопросов метафизических от вопросов, решение которых принадлежит точным, или опытным, наукам. Он говорит: «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма…» Кто знаком с естествознанием и философиею, тому известно, что это понятие и это слово единство имеет чарующую прелесть для метафизики и почти не имеет никакого значения для естествоиспытателя. Успех естествознания основан на том, что оно разрешает всякое единство, всякую сущность, всякий субъект, всякий организм на отношения, потому что только в таком случае оно может подводить наблюдаемое явление под математические пропорции. Итак, несправедливо, что идея единства человеческого организма выработана естественными науками. Правда, что некоторые физиологи допускали особый принцип органической жизни под именем жизненной силы: с этой точки зрения можно говорить о единстве человеческого организма, потому что жизненная сила доставляла бы различным материям организма то внутреннее и действительное единство, какого они как материальные частицы не могут иметь сами по себе. Но известно, как надобно думать об этой жизненной силе, которую нельзя ни разложить никаким анализом, ни подвести под математические Пропорции: как простое, как абсолютное, оно не может идти в соображение при эмпирических наблюдениях, хотя бы метафизика и доказала, что предположение такой силы необходимо.
Замечательным образом сходятся при вопросе о единстве человеческого организма естествознание и философия в их современном положении. Физиология и химия разлагают это единство на множество материальных частей, которые в своих движениях подчинены общим физическим, а не частным органическим законам. Итак, единство человеческого организма есть для них феномен, есть нечто являющееся, кажущееся. Но откуда происходит этот феномен? Отчего множество представляется нам как единство? Отчего капли дождя представляются нам как радуга, а не как капли дождя? Отчего материальные частицы, не имеющие между собою внутреннего единства и сочетавающиеся по общим физическим законам, представляются нам как единство, как целость, как один в себе законченный образ? На эти вопросы отвечает философия, и притом с математическою достоверностию: это происходит от свойств зрителя, от свойств души, которая переводит каждое явление на свой язык и налагает на него синтетические формы, свойственные ее воззрению и пониманию. Когда говорят о явлении, то это слово или не имеет смысла, или оно означает, что предметное событие видоизменилось формами видящего и понимающего субъекта. Кто, например, изъясняет представление и мышление из нервного процесса, тот или не выясняет себе, что значит явление, или же признает нервы и их движения вещию в себе, бытием метафизическим и сверхчувственным; потому что в противном случае он согласился бы, что нервный процесс есть феномен, т. е. что его способ явления уже условлен формою представления, которое он еще только хочет произвести из него.
Наш сочинитель, по–видимому, не знаком с этими предварительными задачами критической философии и неясно представляет себе задачу естествознания. Обе науки признают данное для непосредственного воззрения явлением: из этого общего пункта они отправляются—одна в глубину внешнего мира, другая в глубину мира внутреннего. Первая разлагает мнимые единства и сущности на отношения, последняя показывает те формы воззрения и представления, но силе которых эти отношения делаются феноменальными единствами, феноменальными сущностями (substantia — phaenomenon, по Канту). Мы должны прибавить, что это критическое и скептическое направление философия принимает вначале, чтобы тем яснее определить характер не феноменального, подлинного бытия. Так, например, она действительно учит о единстве человеческого организма, но находит это единство только в идее цели, а не как нечто данное в физических элементах.
Вместо того чтобы уверять нас, что естественные науки выработали идею единства человеческого организма, сочинитель, по всей справедливости, должен бы сказать: метафизика материализма учит, что человеческое существо слагается единственно из частей материальных, по общим физическим законам и что его феноменальное единство, его целесообразное строение есть произведение не мысли, не идеи, а этих же материальных частиц. Таким образом он, по крайней мере, поставил бы себя в определенное отношение к философии, отрицая то внутреннее, идеальное единство организма, которое он хотел бы заменить каким‑то невозможным физическим единством. Между тем, действительно, между современным естествознанием и материализмом существует это глубокое различие, что естествознание изъясняет человеческий организм из материальных оснований, а материализм из этих оснований изъясняет все существо человека, всего человека. Мы не будем показывать здесь, насколько основательна эта метафизика, потому что прежние наши замечания о явлении и его условиях в формах понимающего субъекта возвращаются здесь еще с большим правом. Но мы проследим гносеологическую теорию сочинителя, потому что она и сама по себе имеет интерес и, по–видимому, служит основанием изложенного выше учения о всецелой материальности человеческого существа.
121
Сказавши, что кроме реальной натуры человек не имеет никакой другой натуры, сочинитель доказывает это положение таким образом: «Если бы человек имел кроме реальной своей натуры другую натуру, то… эта другая натура обнаруживалась бы непременно в чем‑нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке продсходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет. Убедительность этого доказательства равняется убедительности тех оснований, по которым, например, вы, читатель, уверены, что, например, в эту минуту, когда. вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете, во–первых, потому, что не видите его глазами, не слышите, его рыкания…,; Есть у вас и второе ручательство за то: ручательртвом служит тот самый факт, что вы живы… Дано обстоятельство, в котором существование известного элемента в известном предмете имело бы известный результат; этого результата нет, потому и нет этого элемента».
Сила этого доказательства основана на логическом начале: если нет следствия, то нет и причины; если, нет явления, то нет и основания. Но, теперь, точно ли нет таких явлений, которые указывают на другую натуру в человеке, этим вопросом сочинитель не занимается: он выдает за аксиому, что эта другая натура «не обнаруживается ни в чем». Итак, на этом пункте, который составляет сущность всей теории сочинителя, мы не можем ничего сказать против него: веровать можно во все, еще легче можно говорить обо всем по доброму произволу. Зато мы можем указать основание, почему он уверен непосредственно и не считает нужным доказывать, что эта другая натура «не обнаруживается ни в чем». Льва нет в вашей комнате; об этом вы знаете потому, что «не видите его глазами, не слышите его рыкания». Итак, главное это: вы не видите, вы не слышите; все, что является, все, что обнаруживается, должно являться, обнаруживаться для глаза, для уха, вообще для внешнего наблюдения.
Странно при этом то, что сочинитель не понимает тех передовых людей, которым он хочет следовать. Эти ученые не отвергают фактов, данных во внутреннем опыте, но они доказывают, что эти психические факты только в явлении, только как феномены имеют характер душевных явлений, а в сущности они суть отдаленное развитие материального начала; это — цветы, которые, на взгляд человека, не имеют никакого сходства с своим корнем. Такой ход мыслей имеет, по крайней мере, формальную правильность. Наш сочинитель заменяет этот научный прием уверением, что другая натура в человеке «не обнаруживается ни в чем», потому что этих обнаружений нельзя ни видеть, ни слышать! Повторяем, материализм не отвергает общечеловеческих опытов, а только дает им небольшое значение в системе науки: он представляется как критика содержания внутреннего чувства и поэтому не может оставаться без влияния на развитие и успехи психологии. Здесь мы можем, по крайней мере, спрашивать: справедлива ли эта критика, точно ли явления внутреннего опыта представляются духовными только в Субъективном нашем понимании, а сами в себе суть явления органической жизни? Если, как мы сказали, эти последние не даны для нас вне форм видящего их и понимающего их субъекта, то где же тот другой субъект, в воззрении и понимании которого са-; мые формы видящего и понимающего субъекта становятся субъективными? Если явления возможны только для другого зрителя, то где этот другой зритель в области самонаблюдения и самовоззрения? Наш сочинитель обошёл все эти затруднения простым предположением, что явление, или обнаружение, возможно только внешнее; а действительно, таким внешним образом другая натура в человеке не обнаруживает себя.
Другая часть этой гносеологической теории стоит в связи с убеждением сочинителя, что нравственные науки, вступившие ныне в область точных знаний, получили возможность различать то, что им известно, от того, что еще не известно им. Как астроном очень хорошо знает, что ему известно и что ему не известно, как химик очень ясно отличает вопросы решенные от нерешенных, так и психология, разрабатываемая ныне по методе точных наук, ясно обозначает круг своих познаний от всего непознанного и гипотетического. Мало этого, как астроном и химик, так и психолог на основании настоящих своих познаний может определять, чего он не встретит при своих будущих открытиях. «Мы, — говорит сочинитель, — не можем сказать, чем окажется неизвестное нам; но мы уже знаем, чем оно не оказывается». Сочинитель изъясняет этот метод отрицательных умозаключений в примерах. «При нынешнем развитии географии мы еще не имеем удовлетворительных сведений о странах около полюсов, о внутренности Африки, о внутренности Австралии… но можно уже и теперь с достоверностью сказать, каких вещей и каких явлений в них не будет найдено. Под полюсами, например, не найдется жаркого климата и роскошной растительности. Этот отрицательный вывод несомненен, потому что, если бы под полюсами средняя температура была высока или хотя умеренна, не таково было бы состояние северной Сибири, северной части английских владений в Америке, морей, соседних с полюсами. В Центральной Африке также не найдется полярного холода, потому что, если бы центральная часть африканского материка имела климат холодный, не таково было бы климатическое состояние южной полосы Алжирии, Верхнего Египта и других земель, окружающих центр Африки. Какие именно реки найдутся в Центральной Африке или Австралии, мы этого не знаем, но наверное можно сказать, что если найдутся там реки, то течение их будет сверху вниз, а не снизу вверх».
Последнее заключение есть положительное, а не отрицательное, как думает сочинитель; но также и первые заключения имеют совершенно положительный характер. Под полюсами климат холодный, потому что «иначе не таково было бы состояние северной Сибири» и проч. В Центральной Африке должен быть климат теплый, потому что иначе «не таково было бы климатическое состояние южной полосы Алжирии» и проч. Здесь мы имеем непрямое доказательство положительной мысли, которое основано на причинной связи явлений. Но тот положительный вывод, который говорит, что реки в Центральной Африке или Австралии, если они есть, текут вниз, а не вверх, основан на законе тождества. Если в Африке есть реки, то они текут вниз; это значит: если гам найдутся реки, то они будут реки. Мы продолжим эти примеры: если во внутренности Австралии есть люди, то они имеют желудки, — эти желудки не питаются никотином или стрихнином, эти желудки не сочиняют поэм, не говорят глупостей, но заняты единственнс пи щеварением. Другими словами, начало тождества не есть орган для приобретения познаний, как это должно быть известно всякому, кто знаком с логикой; а между тем в этом начале сочинитель видит методу открытий, на которую он так много полагается при разрешении психо логических вопросов. «Эти отрицательные выводы, — говорит он не шутя, — имеют большую важность во всех науках. Но в особенности они важны в нравственных науках и в метафизике, потому что уничтожаемые ими ошибки «мели особенную практическую гибельность».
Сочинитель попытался формулировать свою теорию знания так, чтобы она и в самом деле могла делать открытия или увеличивать наши познания; но он дал такую формулу этой теории, которой нельзя понять по началам обыкновенной логики. Вот эта формула: «А тесно связано с X; А есть В; из этого следует, что X не можеі быть ни С, ни D, ни Е». По этой‑то формуле мы должны делать «отрицательные выводы», которые «в особенности важны в нравственных науках». Попытайтесь же сделать эти выводы, кто может. А тесно связано с X, с неизвестным, с тем, о чем я ничего не знаю, что, следовательно, поставлять в связи с А было бы нелепо, потому что это значило бы, что X есть нечто известное и знакомое, а иначе само А, как субъект, имеющий предикатом нечто неизвестное, потеряло бы всякий смысл. Но если и допустим эту общую посылку, о которой ничего не знает логика от Аристотеля до Гегеля, все же из ее связи со второй посылкой, которая говорит, что А есть В, не следует, что X, с которым тесно связано А, не может быть ни С, ни D, ни Е. Его связь с А, которое есть В, не мешает ему быть в связи с другими субъектами, которые суть С, D, Е, и так в бесконечность.
И с такой логикой сочинитель взялся решать вопро сы величайшей важности! Именно, имея в виду эту бессмысленную формулу, он говорит: «Мы знаем, в чем со стоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение; питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого». Жаль, что сочинитель не попытался развить качества ощущения из рассмотрения качеств питания: это был бы новый источник психологических открытий, о котором ничего не знают обыкновенные психологи, каковы, например, Гербарт и Бенеке, заслужившие почему‑то удивление немцев. Эти психологи думают со всем миром, что качества ощущения мы познаем только вну~ ренно, и притом непосредственно, без силлогизмов, без выводов, а что последующие опыты жизни и особенно опыты физиологические открывают нам те состояния организма или, в частных случаях, состояния желудка и его питания, которыми условливаются эти непосредст венно и внутренне познаваемые качества ощущений или. по выражению сочинителя, характер их. Но и после такого познания условий качество ощущений остается т;і ким же, каким оно было прежде. Итак, мы сознаемся, что не понимаем, каким образом, зная, в чем состоит питание, мы из этого уже знаем приблизительно, в чем состоит ощущение.
Мы еще не кончили с учением сочинителя о единстве человеческого организма: «При единстве натуры, —говорит он, — мы замечаем в человеке два различные ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает)… Не противоречит ли их различие единству натуры человека, показываемому естественными науками? Естественные науки опять отвечают, что… нет предмета, который имел бы только одно качество, напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений… Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения…. Соединение разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей».
Кто утверждает, что между различными качествами предмета «нет никакого логического отношения*, то есть нет никакой мыслимой и постигаемой связи, тот не имеет уже основания изъяснять происхождение одного качества из другого, например, происхождение; ощуще ния из деятельности нерва. Природа должна предстать его взору как mysterium magnum мистиков, где нет ни причины, ни действия, ни основания, ни следствия, ни предыдущего, ни последующего, ни сходного, ни различного, ни единства, ни множества. Впрочем, мы увидим, что сочинитель говорит истину, только ясно не сознает, что это за истина и какое значение имеет она для есте ствознания. Он продолжает:
«Но в этом разнообразии естественные науки откры вают и связь… по способу происхождения разнородных явлений из одного и того же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его действовании…. Когда вода, по каким бы то ни было обстоятельствам, обнаруживает очень мало теплоты, она бывает твердым телом — льдом; обнаруживая несколько больше тепло ты, она бывает жидкостью; а когда в ней теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях од но и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трех разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие».
Философия освободила человеческое сознание от мифологического тумана, которым оно было окружено в начале своего развития, и поставила его лицом к лицу с подлинною закономерно развивающеюся действительностью. Теперь мы подвергаемся опасности, что в области естествознания или по крайней мере во имя его может образоваться новая мифология, которая будет тем пагубнее, что легко может принять форму факта или действительного события. В самом деле, не миф ли это, когда нам говорят, что в вещах количественное различие переходит в качественное? Это превращение количества в качество, величины в свойство так же непостижимо, как превращения, о которых говорит Овидий. Легко сказать: количественное различие переходит в качественное, как будто количество имеет само в себе возможность и потребность превращаться в качество. Спросите математика, который хорошо знаком с количественными отношениями и с количественными различиями: подмечал ли он это мистическое превращение количеств в качество, величины в свойство, количественных разностей в качественные? Когда он увеличивал число в пропорции геометрической в бесконечность, получили ли последнее члены этой пропорции другое качество, отличное от того, какое они имели вначале? А между тем лучшее основание материализма лежит в этом учении, что в вещах количественное различие превращается в качественное; потому что, как само собою видно, при этом предположении можно утверждать, что количественные разности в движениях нерва переходят в разности качественные, то есть в ощущения. Обратимся к истории философии, что она скажет об этом предмете, который имеет такие интересы для материализма.
Философы, которые впервые заметили факт всецелой несоизмеримости между различными качествами предмета, действительно признали, что между этими качествами «нет никакого логического отношения» или что одно из них не может быть достаточною причиною другого и, следовательно, логический переход между ними невозможен. Но поэтому попытка изъяснять ощущение, представление и мышление из деятельности нервов не могла и родиться в их последовательном мышлении. Они добросовестно признали, что отношение между деятельностью нерва и явлением ощущения, так же как и вообще отношение во внешней природе между качествами, из которых одно по видимому происходит из другого, неизъяснимо из закона причинности, потому что в этих случаях в действии, в результате получается нечто такое, чего вовсе нет в причине. Наш сочинитель говорит: «…из соединения в известной пропорции водорода и кислорода образуется вода, имеющая множество таких качеств, которых не было заметно ни в кислороде ни в водороде. Откуда же эти явления, которых не было в причине? Не есть ли это чудо или безусловное творчество, ί которое одно может полагать то, чего нет в причине?
Так и думали философы, о которых говорим мы, именно Декарт, Гейлинкс и Мальбранш. В действии может существовать только то, что дано в его причине: всякий излишек содержания, являющегося в действии, так как он не может произойти из ничего, есть чудо, которое нужно изъяснять из непрестанного творчества Божия. Вот почему Декарт отождествлял Божие промышление о мире с Божественным творчеством. Вот почему Гейлинкс и Мальбранш учили, что Бог есть единственная, ближайшая и непосредственная причина всех изменений в природе и духе и что так называемые физические причины I явлений суть вымысел языческой философии. Все эти теории, по крайней мере, объясняют хотя что‑нибудь. ОниI основаны на убеждении, совершенно верном, что выражения, каковы «количественное различие переходит в качественное» или «в химическом явлении есть то, чего нет в его причинах», не имеют никакого разумного смысла, что они понятны для привычек воображения, а не для логического рассудка, потому что для этого послед–і него правило «ех nihilo nihil fit не имеет никаких ограничений при изъяснении мира явлений. Но все эти теории только умозаключали о причине рассматриваемого здесь явления, а не указывали ее в области опыта. Давид Юм, противник теоретических предположений, посмотрел на это же самое явление с точки зрения строго эмпирической. Так называемая причинная связь между явлениями есть понятие, вымышленное воображением: ни в каком опыте мы не находим этой причинной связи; качества в вещах следуют одно после другого или существуют одно подле другого — это мы наблюдаем в наших опытах. Но мы нигде не наблюдаем, чтобы они следова ли одно из другого, мы не видим, чтобы одно явление имело с другим связь необходимую и поэтому логически определимую. Эти явления стоят пред нашим взором как особенные, в себе замкнутые миры, между которыми не находим мы «никакого логического отношения» и которых связь остается для нас немыслимою, непостижимою. Существует ли какая‑нибудь понятная связь между плотностью тела, его фигурою, цветом, запахом, его движением и т. д.? Существует ли какая‑нибудь понятная связь между блеском огня и его теплотою? Какой опыт укажет вам мост, по которому ваша мысль могла бы логически переходить от одного из этих качеств к другому? Все эти соединения качеств только кажутся нам понятными, потому что чувства наши во всякое время свидетельствуют нам о их присутствии в одном и том же предмете; но чувства и, следовательно, опыты и говорят только о связи пространственной и временной, а не о внутренней и необходимой. Что за деятельностью нерва следует ощущение, это так же для нас непонятно и немыслимо, как было бы непонятно и немыслимо, если бы природа по какому‑то капризу подставила в этом случае на место нервов шелковые снурки или шерстяные веревки; и в этом последнем случае мы наблюдали Оы, что за деятельностью, за движением снурков или веревок следует ощущение, но необходимость этой связи оставалась бы для нас так же непонятною, как она непонятна и при настоящем устройстве нашей организации.
Когда еы говорите, что огонь греет, вы выражаете причинную связь между явлениями, которые опыт представляет вам только в связи последовательной. Частые опыты этого рода родили в вашем воображении ассоциацию представлений, вследствие которой как только вы увидите огонь, в вашей голове само собою вынырнет представление теплоты, которое во всех ваших опытах следовало за представлением огня; вы привыкаете представлять одно из явлений невольно, как только какой‑нибудь случай вызвал в вас другое представление, которое в ваших опытах предшествовало первому. Вы привыкаете мыслить огонь не иначе как с теплотою, то есть в вашей субъективной привычке эти два представления соединяются необходимо: после этого вы и воображаете, будто и самый огонь необходимо связал с теплотою. Но об этом опыт не сказал вам ни слова, потому что в опыте вы наблюдали только постоянную, всегда повторяющуюся связь этих явлений во времени, которая вовсе не та, что связь их необходимая. Эта последняя говорит не только то, что огонь греет, но что это иначе и быть не может.
Итак, если причинная связь между явлениями есть вымысел нашего воображения, то мы не имеем никакого достоверного знания о мире явлений: науки опытные, науки точные не могут дать нам никаких всеобщих и необходимых положений; они никогда не откроют, что явление не только так есть, но так и должно быть и иначе быть не может.
Наш сочинитель не имеет такой счастливой последовательности, какою отличался Юм: он уверяет нас, что между качествами предмета «нет никакого логического отношения», следовательно, нет и отношения причинной зависимости, и, однако же, хотел бы изъяснять явления ощущения из деятельности нервов как действия из их причины, так же хотел бы из характера питания понять характер ощущения. С другой стороны, он подметил, что в явлениях «количественное различие переходит в качественное различие». Если мы спросим его, почему так поступает природа, то он последовательно должен бы отвечать: «Нипочему, ровно нипочему, а так просто, по капризу; количество, как количество, не имеет ни внутренней возможности, ни надобности переходить или превращаться в качество». От этого ответа он мог бы уклониться только тогда, если бы он солидно спросил: кто именно, какой деятель превращает количество в Качество? Только этот вопрос крайне разрушителен для материализма, который особенно нуждается в этом чуде, чтобы количественные различия так, сами по себе, превращались в различия качественные.
Этот мнимый закон природы, на котором, как мы сказали, по преимуществу опирается теория материализма, разъяснен с математическою отчетливостью философией Канта. Все дело в том, что вы при истолковании явлений забываете зрителя, на которого действуют явления, забываете этот дух, который принимает явления в формы ему одному свойственные. Природа не обладает такой волшебной силой, чтобы превращать количества в качества. Сотрясение струны не превращается в звуки струны: вы простым глазом можете видеть, что оно остается сотрясением. Когда экипаж движется по мостовой и издает стук, то, вероятно, его движение не переходит в этот стук, вероятно, экипаж движется все вперед и вперед. Если бы количество этих движений превращалось в качество звуков. то глухой, но имеющий здоровые глаза, не мог бы видеть движения скрипучих берез, стучащих экипажей и т. д.: он должен бы оказываться слепым на все эти случаи, в которых движение переходит в звук.
Физика отвыкла от выражений вроде следующих: звук есть волнообразное движение воздуха, производимое дрожанием упругих тел; свет есть вибрация эфира, приводимого телами природы в дрожательное движение. Только некоторые физиологи не перестают повторять, что ощущение есть деятельность нервов. Очевидно, чтобы волнообразное движение воздуха превратилось в звук, вибрация эфира — в свет, нужно ощущающее существо, в котором, собственно, совершается это превращение количественных движений в качества звука и света. Таким же образом, чтобы движение нерва превратилось в ощущение, опять нужен ощущающий субъект, которого натура рождает качество ощущений по поводу этих количественных движений. Кто говорит, что «некоторым нервам принадлежит ощущение», тот утверждает такую же нелепость, как если бы мы сказали: «Некоторым волнам воздуха принадлежит звук; некоторым вибрациям эфира принадлежит свет». Словом, количественное различие превращается в качественное не β самом предмете как вещи в себе, а в отношениях предмета к ощущающему субъекту. Явление потому и есть явление, что оно есть продукт сложный, именно: его факторы даны, с одной стороны, в предмете наблюдаемом, а с другой — в формах воззрения и представления наблюдающего духа. Поэтому крайне странно изъяснять качества этого духа из внешних явлений, которые сами, поколику они суть явления, условлены этими качествами. Превращение количественных разностей в качественные вовсе не изъясняет того, каким образом движение нерва превращается в ощущение; напротив, оно само изъясняется только из натуры и формы наших ощущений и представлений: вне этих форм воззрения и представления количество никаким образом не превратится в качество, оно только будет большее или меньшее количество, скорейшее или медленнейшее движение; чтобы перейти ему из этого математического элемента в качество теплоты, цвета, звука и т. д., необходим чувствующий и представляющий субъект, в среде которого совершается это превращение.
Мы занимались этим учением о переходе количественных разностей в качественные довольно долго потому, что оно часто повторялось в Нашей литературе как закон, которым будто бы легко изъясняется происхождение явлений психических из физиологических. Мы видим, что, наоборот, происхождение этого закона нужно изъяснять из первоначальных форм и условий ощущающего и представляющего духа и что только в таком разе этот закон перестает быть каким‑то чудом или капризом природы и входит в общий порядок естественных, удобопостигаемых явлений. Для полного изъяснения разбираемого здесь факта нужно бы обратить внимание еще на многие обстоятельства, которые относятся сюда. Так, например, понятно, что наши пять чувств вовсе не суть такое безусловное откровение, которое давало бы нам чувствовать или ощущать и представлять все силы, все деятельности, все события природы: многое в природе происходит, не производя на наши чувства впечатлений довольно сильных для того, чтобы мы могли замечать его. Поэтому явления в природе и кажутся нам бессвязными, не имеющими между собою логического отношения; между качествами предмета мы видим скачок, пробел, потому что событие, составляющее переход от одного из этих качеств к другому, не впечатлевает на нас. Но для правильной оценки сил и средств нашего духа нужно сделать и обратное предположение. Именно, очень возможно, что наше чувственно–духовное существо имеет органы или способности знания, о которых мы ничего не знаем только потому, что внешняя природа не умеет или не может подействовать на них надлежащим образом. В том и другом случае мир явлений неизъясним из самого себя; для его изъяснения нужно брать в расчет ощущающий, представляющий и познающий дух как одно из первоначальных условий, почему вещи являются нам такими, а не другими. Но мы окончим эти замечания общим обозрением достоинства и смысла рассмотренного здесь явления.
Мы видим теперь, как несправедливо говорит наш сочинитель, что между качествами или явлениями предмета «нет никакого логического отношения». Торжество естествознания состоит β том, что по данным явлениям в предмете оно определяет из начал логических его будущие состояния и будущие изменения. Это знание будущего было бы невозможно, если бы в предмете не было логического перехода от одного из его состояний к другому. Бездна, которая отделяет в предмете одно качество от другого, лежит не в самом предмете, а в вас, в формах вашего чувственного воззрения. Между светом и звуком, между краскою и тоном нет ничего сходного, расстояние между этими качествами бесконечное. Но причиною этого ваше ухо и ваш глаз, которые так оригинально отвечают на внешние впечатления, а не самые вещи, производящие эти впечатления. Количественные разности, происходящие β вещах, которые рождают в вашей душе эти ощущения, суть разности соизмеримые, подходящие под общий закон и стоящие между собою в логических отношениях сходства и противоположности, целого и частей, общего и частного, основания и следствия и т. д. Итак, вообще природа имеет логику, как и дух имеет ее, и именно в явлениях природы открывается ум математический: Бог создал ее мерою, числом и весом. С этой определенной стороны она и исследывается естественными науками. Но чтобы понять мир явлений в его полноте и его глубочайшей истине, вы должны взять еще в расчет ум самосознанный, который открывается уже не в материи, а в духе. Так вы получите философское знание о мире явлений, которое будет отлично от знания наук естественных. Если вообще, как мы видели, дух переводит явления природы на свой особенный язык, то, с другой стороны, самосознанный ум его выправляет и истолковывает чувственные воззрения сообразно с высшими интересами истины или, как говорят, сообразно с своими метафизическими предположениями о существе мира явлений. Кажущимся пробелам и перерывам в развитии явлений природы он противопоставляет начало непрерывности развития, и только от этого мы можем подчинять внешние явления законам математическим. Неспокойный и неудержимый поток явлений он задерживает и смыкает невоззрительными понятиями субстанции, вещи, причины, основания и т. д. Но также мы видели, что свет принадлежит не атомам как таким, а их отношению к духу; звук принадлежит не дрожащему телу как такому, а его взаимодействию с духом; все качества природы, которые дают ей прелесть и красоту живого гармонического создании, не составляют привилегии мертвой и не мыслящей материи, они существуют в точке встречи материи и духа. Итак, если некоторые философы учили, что человеческий дух есть смысл природы, то это предположение не имеет в себе ничего противного общеизвестным опытам. В химической лаборатории вы встретите такие материальные элементы, которые нигде не существуют отрешенно и сами по себе, без определенного сочетания с другими элементами. Когда вы говорите о материи как она есть сама в себе, то вы делаете такое же отвлечение, существующее только в абстрактной мысли. Уже древние философы приходили к убеждению, что такая чистая материя, отрешенная от идеальных определений, которых содержание мы знаем только из глубины нашего духа, есть ничто, небытие (μη ό"ν). Если Аристотель учил, что видение есть форма всего видимого, мышление есть форма всего мыслимого, то эти положения, которые всегда будут обозначать истинно философскую точку зрения на мир явлений, можно коротко выразить так: дух с своими формами воззрения и познания есть начало, из которого должно изъяснять внешнее, а не наоборот; смысл внешних явлений может быть разгадан только из откровений самосознания, а не наоборот. На этом начале во все времена стояла философия, и вот почему она не чувствовала нужды праздно повторять то, о чем и без нее знают «медицина, физиология и химия».
Конечно, метафизике предлежат на этом пути затруднения, которые дли многих кажутся непреодолимыми. Мы не будем касаться здесь этих затруднений. Мы только хотели показать на основании опытов, что изъяснять духовное начало из материального нельзя, потому что самое это материальное начало только во взаимодействии с духом есть таково, каким мы знаем его в наших опытах.
Мы не будем следить за сочинителем, как он доказывает, что явления царства неорганического и органического «состоят из одинаковых частей, соединившихся по одним и тем же законам, только соединившихся в разной пропорции» и что «все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение» и представляют «только особенную форму той же жизни, какая видна в растениях». В этом указании постепенности в развитии явлений природы состоит один из несомненных успехов естествознания. Но мы сделаем общие замечания об истинном значении этих открытий, которыми так злоупотребляет материалистическая теория.
) Что материя мира одна и та же во всем мире, на земле и на небе, в камнях, растениях и животных, это основное учение философии от Фалеса и до Гегеля. Что законы, которым повинуется эта материя на всех пунктах и во всех явлениях вселенной, одни и те же, это опять общефилософское убеждение. Кант доказывал — и, кажется, справедливо, — что эти убеждения даже не почерпаются из опыта, что они суть достояние априорного мышления. Итак, естествознание учением о единстве материи всех явлений и о единстве ее законов только проводит в действительности мысль, которая в отвлеченной форме всегда была известна философии. Но из этой бесспорно плодотворной работы естествознания ровно ничего не следует для целей материализма. Естествоиспытатель поступает, как филолог, который показывает, что многочисленные слова человеческого языка состоят из небольшого числа одних и тех же букв и образуются из этих последних по общим законам, что эти и только эти буквы с их законообразным сочетанием вы найдете во всех словесных произведениях. Но какие еще нужны условия для того, чтобы из этого материала по его общим законам произошли в одном случае роман, в другом поэма, в третьем система философии, об этом филолог ничего не знает. Напротив, для его научного анализа и гениальная поэма и нелепая сказка суть совершенно одинаковые примеры одних и тех же грамматических элементов и законов. Так и для естествоиспытателя животный организм, растение и камень суть совершенно одинаковые примеры одних и тех же элементов материи и ее законов. Какой гений нужен еще для того, чтобы из этих общих данных произошла поэма мира с се богатыми идеями и образами, вопрос этот он предоставляет философии, как филолог соответствующую задачу о происхождении романов и поэтических произведений относит к эстетике. Естествоиспытатель говорит, что материя всех чувственных явлений одна и та же и что способы или законы ее сочетания повсюду одни и те же. Что общего между этой истиной и учением материализма, что все состоит из материи и только из материи? Что общего между положением филолога, что гомерова «Илиада» состоит из букв, и тем мнением, которое утверждало бы, что кроме букв и их сочетания по общим законам ничего нет более в этой поэме? Что общего между фактом, что все явления вещественного мира состоят из одной и той же материй, и между учением, что одна и та же материя есть единственный творец всего открывающегося во внешнем и внутреннем опыте?
) Когда мы превратим таким образом простое содержание внешних явлений в творческую силу, которая дает бытие и жизнь как этим явлениям, так и вообще всему существующему, то уже всякое правильное изъяснение этих явлений делается невозможным для нас. Читая рассказы в разбираемых нами статьях о том, как из одних и тех же химических процессов рождается там камень, там растение, там другое явление, невольно приходишь к мысли, что все это и рождается так просто, под открытым небом, не растение из растения, не животное из животного, а растение из химического процесса и животное из химического процесса, — так и хочется верить; что где‑нибудь в пространствах мира произойдет животное от камня или дерева или произойдут члены организма вне этого организма. Все это должно быть вероятно, потому что материальный творец мира не имеет памяти о том, что он создал прежде, дабы поступать в своем творчестве систематически и со смыслом: химические процессы ничего не знают о том предании, которое так свято соблюдается природою и которое не позволяет вещам рождаться где ни попало, а подчиняет их страсть к жизни определенному закону, правилу, порядку. Как кажется, наш сочинитель надеется изъяснить этот чин природы запросто из того, что растение и камень состоят из одних и тех же элементов.
) О различии между неорганической и органической природой сочинитель говорит, что оно вводит «в природу подразделение, которого в природе вовсе нет». Может быть. Но что же из этого? Допустите ли вы, что метафизическое еѵ και παν есть предмет естествознания, предмет опыта? Допустите ли вы, что точные науки, во имя которых вы говорите, возможны без этих подразделений? «Геометрия, — говорит сочинитель, — разлагает круг на окружность, радиусы и центр, но, в сущности, радиуса нет без центра и окружности, центра нет без радиуса и окружности, да и окружности нет без радиуса и центра, — эти три понятия, эти три части геометрического исследования о круге составляют все вместе одно целое». Этим сочинитель думает изъяснить нам, каким образом в человеческом организме дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение «…разделяются только теориею, чтобы облегчить теоретический анализ, а в действительности составляют одно неразрывное целое». Если смысл этих выражений таков, что в идее человеческого существа лежит необходимо разнообразие названных явлений питания, дыхания, кровообращения, ощущения, как в идее круга необходимо даны его части, и что по силе этой идеи явления человеческого существа находятся во внутренней, неразделимой связи одно с другим, «составляют одно неразрывное целое», то в этом учении мы имеем истину, равно плодотворную для физиологии и психологии. Только сочинитель имеет в виду не эту светлую мысль. Он говорит, что «ощущение принадлежит некоторым нервам»; если этим выражается, что деятельность нервов переходит или превращается в ощущение, то это так же непонятно, как если бы он стал утверждать, что центр круга переходит в радиус его, а радиус превращается в окружность или обратно; он думает, что только субъективная теория, придуманная для облегчения наших анализов, полагает эти различные понятия: центр, радиус и окружность, а в сущности, центр есть уже радиус, радиус есть уже окружность. В этом нелепом виде геометрический пример, приведенный сочинителем, надеемся, выразил бы вполне и верно его мысль о единстве отправлений человеческого организма; потому что, как он уверяет нас, в этом организме мы различаем частные или отдельные отправления только по субъективной нужде, для облегчения наших научных анализов.
) Все эти теории, которых пример мы теперь рассматриваем, отличаются одною очень простою особенностью. Они говорят охотно о происхождении душевных явлений из органических или из химических только до тех пор, пока не приступают к изъяснению душевной жизни. Для самого изъяснения этой жизни с ее многосложными явлениями эти предварительные толкя остаются бесполезными. Так и наш сочинитель говорит о душевных явлениях, каковы: удовольствие, добро, зло, мышление, память, воображение, но ему и на мысль не приходит показывать, из каких химических солей или кислот происходят или образуются эти явления.
После этих общих замечаний мы займемся учением сочинителя о человеческом духе, которое легко разделить на учение о теоретической и практической стороне духа.
Сочинитель часто напоминает нам, что вопросы, сюда относящиеся, не представляют никаких затруднений, что они «перестали быть вопросами для нынешних мыслителей, потому что чрезвычайно легко разрешаются несомненным образом при первом прикосновении к ним… научного анализа». Он доказывает это примером, который должен интересовать нас по своей связи с учением сочинителя о нравственной деятельности человека. «Предлагается, например, — говорит он, — головоломный вопрос: доброе или злое существо человек? Множество людей потеют над разрешением этого вопроса… Но при первом приложении научного анализа вся штука оказывается простою до крайности. Человек любит приятное и не любит неприятного, — это, кажется, не подлежит сомнению, потому что в сказуемом тут просто повторяется подлежащее: А есть А, приятное для человека есть приятное для человека, неприятное для человека есть неприятное для человека. Добр тот, кто делает хорошее для других, зол — кто делает дурное для других, — кажется, это так же просто и ясно. Соединим теперь эти простые истины и в выводе получим: добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим. Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений…. Потому можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник; Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником, а при известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так при известных обстоятельствах человек становится добр, при других зол».
Мы уже прежде имели случай указывать на логические достоинства рассматриваемых здесь статей. Теперь мы опять встречаемся с примером логического достоинства. Что человек добр или зол, это «зависит от обстоятельств и отношений». Что Иван плотник, это «зависит от обстоятельств и отношений… но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник». Точно ли нельзя? Вспомните выражение Франклина: «Человек есть животное, делающее машину». Вспомните тысячу раз повторяемое выражение, что все человеческие машины суть только продолжение, развитие, разветвление одной первоначальной машины, которая есть руки человека. Действительно, от обстоятельств зависит, если Иван делается плотником, а Петр кузнецом. Но если никакие обстоятельства не могут произвести того, чтобы Иван, сложа руки, строил дома одним желанием их строить, если никакие обстоятельства не в силах сообщить Петру способности ковать железо простым поднятием и падением языка, повелевающего железу растягиваться, то вы легко уже можете понять, что всемогущие обстоятельства не сделают ни плотника, ни кузнеца из существа, не имеющего рук и естественной способности пользоваться ими. Итак, вы можете вообще сказать с Франклином: человек—а не Иван, не Петр — есть животное, делающее машину; отсюда в самом деле становится понятным, почему он при известных обстоятельствах делается плотником, а при других — кузнецом. Когда естествоиспытатель говорит о телах, падающих по наклонной плоскости, падающих вертикально, описывающих во время падения параболу, то он основательно изъясняет эти частные направления падающих тел из обстоятельств и отношений. Но будет ли он утверждать такую нелепость, что о теле вообще нельзя сказать, падает ли оно или нет, тяжело ли оно или нет? Он вам скажет, наоборот, что если частные обстоятельства условливают падение тел в различных направлениях, то они могут это только потому, что тело вообще тяжело, вообще тяготеет или падает к центру тяготения.
Второе алогическое явление в разбираемом здесь примере состоит в том, что сочинитель поставляет добро и зло в такие же взаимные отношения, в каких находятся между собою плотничество и кузнечество. Казалось бы, по началам логики, так должны относиться между собою частные виды добра, а не добро и зло. Мы рассуждаем: справедливость и великодушие суть виды одной нравственно–доброй деятельности, как плотничество и кузнечество — виды одной технической деятельности. Но так как частное никогда не вытекает из общего непосредственно, потому что в частном общее видоизменяется, принимает эту, а не другую форму из числа многих возможных форм, то необходимо брать в расчет обстоятельства, которые в одном случае воплощают нравственное стремление в форму справедливости, а в другом — в форму великодушия, подобно тому как частные же обстоятельства делают Ивана плотником, а Петра — кузнецом. Но если спрашивают об отношении между добром и злом, то его можно сравнить с отношением, какое находится между двумя деятельностями плотника Ивана, когда он своим топором рассекает дерево на части и когда<р тем же топором рассекает голову своему товарищу.. Последняя деятельность хотя вытекает из средств плотничьего искусства, но не из целей его, не из! идеи его. То есть зло хотя вытекает из -средств человеческой натуры, но не из целей ее, не из назначения этих средств. Плотник рассекает голову товарищу; это не лежит в идее плотничества: он делает то, чего не должен делать по «две своего искусства. Следовательно, и человек делает зло, когда он нарушает долг, когда делает то, чего не должен был делать, сообразуясь с своим назначением, насколько он знает об нем из различных источников.
Этими короткими замечаниями мы не воображаем изъяснить глубокую проблему зла,; но мы хотели показать, каким образом соблюдение простых правил элементарной логики содействует ясной постановке вопросов и определению их подлинного смысла.
Общее стремление сочинителя сливать и сглаживать разности явлений, данные в опытах, выразилось в его учении о теоретической стороне человеческого духа тем, что он не нашел ничего отличительного в духовной деятельности человека в сравнении с деятельностью животных: он приписывает животным способность к прогрессу, память, воображение, мышление, способность умозаключать, наконец, чувства, называемые «возвышенными, бескорыстными, идеальными». Так как в нашей литературе очень мало являлось исследований по этому предмету, то мы охотно пользуемся настоящим случаем, чтобы обозначить, по возможности, качества душевной жизни животных и определить, хотя бы приблизительно, их отличие от качеств и деятельностей человеческого духа.
Факт, что царство воодушевленных существ простирается далее царства человеческого, служил для философии во все времена основанием учения, что вообще в мире нет голой материальности, что в нем все воодушевлено, способно не только бьггь, но и наслаждаться бытием, что всякая величина экстенсивная есть вместе и интенсивная, открывающаяся в порывах и стремлениях, что все внешнее имеет свое внутреннее, свою идею. В живом историческом образовании человечество изъясняло жизнь животных таким же образом, из общего миросозерцания. Так, чтобы остановиться здесь на особенно ярких примеpax, в индийском учении о переселении душ царство животных слагалось из душ падших, недостойных человеческого образа жизни. За свое недостоинство душа при втором рождении воплощалась в животное тело, и здесь она находила действительный мрак и ад: ее терзали страсти и желания, не управляемые и не обуздываемые силою разума; ей недоставало света мысли; ей недоставало самообладания и свободы, которые дали бы ей счастье пожить для себя и не исчезать ежеминутно в слепых влечениях и вожделениях. Кажется, иначе смотрели на эту жизнь египтяне: они созерцали в животном не его слепые страсти, а правильное и однообразнее движение таинственных инстинктов. Народ, которого первое божество называлось «сокровенное» и которого мудрецы считали «молчание» лучшим откровением мудрости, чтил в этой молчаливой, закрытой, равномерной инстинктивной жизни животных присутствие божественной силы, которая, казалось ему, не имеет правильного и достойного выражения в человеческих мыслях, беспокойных, изменяющихся, переходящих в открытое слово, подвергающихся профанации…
В божественном откровении указаны основания, по которым легко можно образовать правильную идею о жизни и душе животных, поколику они отличаются от духовной жизни человека. Бог сотворил животных по роду их, сотворил не независимо от природы вещественной, но повелел воде и земле произвести живые души их (Быт. 1, 20—24). Отсюда следует, что животное не может проявить себя как дух личный, имеющий и сознающий в себе такие неделимые определения, которые не совпадали бы с тем, что оно есть по своей породе. Животное есть не личность, а экземпляр породы, и об этом оно знает. Замечательно, что самые хищные животные по неизвестному нам инстинкту не нападают на животных своей породы с тою целью, чтобы питаться их мясом. Так же мы должны ожидать, что развитие их будет одинаково и однообразно, как условленное только общими свойствами породы. Люди преследуют цели, различные до бесконечности, они находят удовлетворение в предметах и деятельностях, которые разнятся между собою, как порок и добродетель, зло и добро, земля и небо. Напротив, животные одной породы все доходят до одного пункта, до одной цели и путями одинаковыми; так и видите, что в них живет род, порода, что они суть пассивные носители идеи рода, а не духа личного. Beроятно, инстинкты животных нам пришлось бы изъяснять из этого слепого отношения частных душ животных к их роду или породе. Ими управляет родовая идея или цель, которую они не положили, не избрали самолично и сознательно, которой они повинуются безотчетно и тупо и которая от этого есть идея инстинктивная. Так как души животных произошли по повелению Божию из материальной природы, то и их назначение не есть нравственное; они ограничиваются преследованием материальных интересов и достижением материальных целей. Чувственные потребности и нужды являются для животной души как нечто безусловное, как инстинкты непреодолимые. В человеке же, утверждает доктор Гуфеланд, нет непреодолимых инстинктов. Из откровения мы видим, что человек создан не как экземпляр рода или породы, но как человек, — создан не из средств, которые были уже в материальной природе, но непосредственным могуществом Божиим и по образу Бога (Быт. 1, 27). Особенности, которыми отличается душа человеческая от души животной, вытекают отсюда сами собою. Назначение человека и его достоинство не исчерпываются его безотчетным служением целям рода; женщина, например, еще не соответствует своей идее только потому, что она рождает детей и таким образом поддерживает существование человеческого рода: в этом служении идее рода она должна осуществить идею человека, она должна обнаружить свое достоинство не как самка, а как человек. Человеческий дух есть не родовой, а личный, не связанный неотразимыми влечениями, а свободный; его действия не суть простые события, определенные идеей рода, а поступки, которые он вменяет себе, как личную вину и личную заслугу. Человеческий дух, как говорит один современный философ, есть своя собственная идея, а не идея рода; от этого он способен к индивидуальному развитию, к свободному избранию и к свободной постановке целей жизни и деятельности. Как богоподобный, он развивается под нравственными идеями, а не только под физическими влечениями: свой союз с родом он определяет, на основаниях физических, нравственными отношениями правды и любви. Эти общие качества, может быть, мы еще выясним себе в последующих рассуждениях о душах животных.
Наука пыталась истолковать душевную жизнь животных аналитическими средствами, но в этом случае она не могла наблюдать прямо и непосредственно. Что такое память, мышление, нравственное чувство и т. д., об этом мы знаем непосредственно только в нашем внутреннем самовоззрении; итак, ничего более не остается, как эти познания подлагать под деятельности животных. Само собою понятно, как трудно совершить это подложение в надлежащей мере— ни много, ни мало, — столько, сколько требуется для изъяснения наблюдаемых деятельностей животных. Наш сочинитель, по–видимому, не считает нужным определять эту меру, в какой нужно приписать животным душевные способности, известные нам из нашего внутреннего опыта.
Так, он не хочет отрицать в животных «ни памяти, ни воображения, ни мышления». Конечно, это было бы справедливо, если бы это было определенно; потому что под этими названиями известны в психологии очень сложные и запутанные явления или деятельности далеко не одинакового достоинства. Если психология говорит, например, о памяти, то она различает память и воспоминание, не считая других мельчайших подразделений. Что животные имеют память, в этом никто не сомневается. Но уже Аристотель, специально изучавший телесную организацию и душевную жизнь животных, отказывал им в способности воспоминания. Впрочем, мы приведем здесь одно место из Шопенгауэра, хотя наш сочинитель в чувстве своего превосходства над этим философом объявляет нам печатно, что не будет читать его сочинений. Он говорит о Шопенгауэре, Фихте–младшем и Фрауэнштедте: «Они, по всей вероятности, прекрасные люди, но в философии они то же самое, что в поэзии г–жа К. Павлова» и проч. Положим, что это и правда, но все же приведем здесь суждение Шопенгауэра о животных.
«Животные, — говорит этот философ, — имеют рассудок, но не имеют ума, следовательно, имеют познание воззрительное, но не имеют познания абстрактного: они наблюдают верно, даже понимают непосредственную причинную связь; высшие животные постигают эту связь даже между многими членами ее цепи; однако же они не мыслят в собственном значении этого слова, потому что им недостает понятий, т. е. отвлеченных представлений. Непосредственным следствием этого оказывается недостаток настоящей памяти, которому подвержены и самые умные животные, и этот‑то недостаток составляет главное различие между их сознанием и человеческим. Именно, полная разумность основывается на ясном сознании прошедшего и наступающего будущего как такого, а также на сознании их связи с настоящим. Посему память, которая, собственно, нужна для этого, есть стройное, систематическое, мыслящее воспоминание; а это последнее возможно только при общих понятиях, в помощи которых нуждается самое индивидуальное воз–зрение, если мы хотим воспроизвести его в памяти правильно и последовательно. Потому что при необозримом множестве однородных и подобных вещей и событий, которые встречаются нам в течение нашей жизни, мы не в силах воспроизводить в памяти каждое частное событие непосредственно, воззрительно и индивидуально; для этого недостало бы ни сил самой обширной памяти, ни нашего времени; все эти события мы можем удерживать в памяти, только подводя их под общие понятия и сводя при их помощи к сравнительно немногим положениям, благодаря которым мы всегда можем делать стройное и достаточное обозрение нашего прошедшего. Наглядно мы можем воспроизводить только частные сцепы из прошедшего, а время, протекшее с тех пор, и его содержание мы сознаем только in abstracto, посредством понятий о вещах и числах, которые служат представителями дней и годов с их содержанием. Напротив, память животных, как и весь запас их познаний, ограничивается воззрительными представлениями и состоит непосредственно только в том, что возвращающееся впечатление оказывается уже бывшим, так как настоящее воззрение освежает след прежнего воззрения; посему их воспоминание постоянно условливается теперь существующим настоящим. Но уже поэтому такое настоящее опять вызывает то ощущение и настроение, которое происходило от прежнего воззрения. Вот почему собака легко узнает знакомых, различает друзей и врагов, легко находит дорогу, по которой она прошла однажды, находит дома, которые она посещала, а при виде тарелки или палки приходит в соответствующее настроение. На управлении этим воззрительным воспоминанием и на силе привычки, которая особенно бывает велика у животных, основываются все виды дрессировки: поэтому она так же отличается от человеческого воспитания, как воззрение от мышления. Впрочем, и мы в частных случаях, когда нам отказывает в своих услугах настоящая память, нередко ограничиваемся воззрительным воспоминанием; например, когда мы встречаем лицо, которое оказывается знакомо нам, но не помним, когда и где мы видели его; также, когда мы приходим на место, на котором мы были в раннем детстве, следовательно, с умом еще не развитым: мы совсем забыли об этом месте, и, однако же, теперь мы ощущаем впечатление настоящего, как чего‑то уже бывшего. Все воспоминания животных принадлежат к этому разряду. Только нужно прибавить, что у животных умнейших эта чисто воззри–тельная память поднимается до некоторой степени фантазии, которая, в свою очередь, помогает памяти и вследствие которой собаке, например, предносится образ ее отсутствующего хозяина и вызывает в ней желание видеть его, отчего она везде будет- искать его, если он долго не приходит. На этой же фантазии основываются ее грезы. Итак, сознание животных есть простая смена настоящих моментов, из которых каждый не существует, как будущее, прежде своего появления, и не существует, как прошедшее, после своего исчезновения; а между тем все это есть прямое отличие человеческого сознания. От этого также животные должны страдать бесконечно меньше, нежели мы, потому что они не знают других страданий, кроме тех, которые непосредственно причиняет настоящее. А настоящее не имеет протяжения; напротив, будущее и прошедшее, в которых заключаются самые обильные причины наших страданий, тянутся далеко, да еще к их действительному содержанию присоединяется чисто возможное, а это открывает для желания и страха необозримое поле. Животные, не возмущаясь ничем подобным, наслаждаются спокойно и светло каждым сколько‑нибудь сносным настоящим. Очень ограниченные люди, может быть, близко подходят к ним в этом отношении. Далее, страдания, которые принадлежат одному настоящему, могут быть только физические. Даже смерти животные не ощущают в собственном смысле: они могли бы познать ее только при ее наступлении, но тогда они сами уже не существуют. Так жизнь животного есть одно продолжающееся настоящее… Другое следствие означенного здесь качества ума животных есть точная связь их сознания с их средою. Между животным и внешним миром не стоит ничто, но между нами и миром все еще стоят наши мысли о нем и часто заслоняют или нас от него или его от нас. Только у детей и очень грубых людей эта стена часто бывает так тонка, что, дабы знать, что происходит в них, стоит только посмотреть, что происходит вокруг них. От этого также животные не способны ни к умыслу, ни к притворству: они не имеют задних мыслей. В этом отношении собака относится к человеку, как стеклянный стакан к металлическому, и оттого‑то она так интересна для нас: потому что мы получаем большое удовольствие, когда видим, как она обнаруживает начисто и целиком все наши наклонности и страсти, которые мы так тщательно скрываем. Вообще животные как бы всегда играют на открытых картах».
Так Шопенгауэр. Если он говорит, что животные имеют рассудок, то нужно помнить, что для него рассудок есть способность чувственных воззрений, а не отвлеченного, чистого мышления. Затем, читатель согласится, что его наблюдения над жизнью животных большею частью соответствуют тем фактам, в каких эта жизнь обнаруживает себя. Два пункта особенно важны здесь: животные не мыслят и от этого не имеют настоящей памяти. Обратимся теперь к нашему сочинителю, как он смотрит на душевную жизнь животных.
Во–первых, он сердится на тех, которые различают сознание и самосознание и не хотят приписать животным последнего. Если бы сам ом не смотрел на самосознание схоластически, как на произведение или на сочинение отвлеченной мысли, он различил бы в этом знании души о самой себе целую историю, в развитии которой, как и в других случаях, человек идет дальше животного. Как только живое существо способно чувствовать удовольствие и скорбь, оно имеет уже самосознание или, правильнее, самоощущение, самочувствие; его существо есть везде, где есть его страдания и удовольствия: этот круг страданий и удовольствий оно противопоставляет всему остальному миру, который не есть оно, который есть иное для него. Может быть, есть животные, не имеющие никаких воззрений или представлений о внешнем, не имеющие никакого знания, но нет животных, не имеющих самосознания, не противополагающих себя всему остальному миру. Напрасно сочинитель воображает, что говорить о самосознании так же нелепо, как говорить о самосинем или о самосеребре. Дитя в первые месяцы своей жизни не имеет никакого знания, но имеет самосознание, самочувствие, потому что оно испытывает страдания й удовольствия, которые суть оно само, т. е. его душа в определенных, непосредственно ощущаемых состояниях.
Но от этого непосредственного самосознания, самочувствия или жнзнечувствования, без которого немыслима никакая душа на свете, нужно отличать тот образ нас самих, то воззрение на нас самих, то представление о нас самих, которое образуется в нашей душе с течением жизни и с умножением наших опытов. Различие между Я и не–Я, полагаемое удовольствием и страданиями души, одинаково резко, одинаково энергично на всех степенях душевной жизни. Но вопрос в том, везде ли это одинаковое различие сопровождается одинаковыми представлениями об этом Я. Как мы сказали, легко вообразить такую душу, которая не составит никакого образа о себе самой и будет отличать себя от всего мира только непосредственными чувствованиями удовольствия и скорби; мы, посторонние наблюдатели, могли бы сказать об ней, что она есть существо, способное к страданиям и наслаждениям, и ничего более; но сама себе она будет являться, в своем самосознании или в своем самоощущении она будет сама себе известна только как удовольствие и скорбь, и ничего более. Это — низшая ступень душевной жизни, какую только мы можем вообразить себе и где подле испытываемых непосредственно душевных состояний душа не имеет еще никакого образа ни о вещах, ни о себе.
Только та телесная организация, в которой кроме мозга существуют отдельные органы чувств, способна вывести душу из этого чисто патологического состояния в мир воззрений и представлений, способна доставить животному не только эти состояния удовольствия и скорби, но и образы внешних предметов, а также образы, под которыми оно сознает свою собственную жизнедеятельность, — потому что при воззрениях, условленных чувствами, в душе необходимо выделяются и обособляются различные частные стремления, частные деятельности и частные силы, из которых каждая не то, что другая, каждая дает себя чувствовать иначе, нежели другая. Здесь однородные деятельности выделяются из общей, слитной и неразложенной жизни души, слагаются, по мере однородности, в одну деятельность, становятся от этого крепче и сильнее и таким образом дают о себе, о своем частном характере знать животному сознанию. Ассоциации между однородными воззрениями и представлениями, происходящие по законам психической механики, подобным же образом остаются в душе животного как ее определенное настроение, как определенный след, и всякое новое впечатление освежает эти следы, возбуждает эти ассоциации, следовательно, приводит их к сознанию животного Так для животного делаются знакомыми многие внешние предметы, так же делаются ему знакомыми многие его внутренние состояния. Поэтому нет никакого сомнения, что всякое знание животного сопровождается самосознанием, что животное знает о своих состояниях, имеет определенные представления о себе, имеет так называемое эмпирическое самосознание. Вот почему повторяющееся воззрение оказывается ему знакомым, вот почему собака узнает своего хозяина, своего врага: эти воззрения уже оставили след в ее душе; животное относится к ним иначе, нежели к воззрениям новым, оно прибавило к ним нечто из–внутрь себя, именно знание о них, какое оно получило прежде, из прежних опытов; итак, здесь в знании о предмете дано непосредственно самосознание. Это эмпирическое самосознание есть душевное явление, общее животным и человеку. Из наших случайных опытов слагаются в нас образы о внешних вещах и так же слагается образ о нас самих, о наших душевных деятельностях и состояниях.
Но как в геометрии пункт, где линии сходятся, есть вместе пункт, где они расходятся, так и здесь душевные явления животной и человеческой жизни из общей точки их встречи развиваются в направлениях совершенно различных. Психолог Бенеке говорит, что нужно различать сознание, существующее в психических актах, от сознания об этих актах. На основании этого различия мы могли бы доказать, что только человеческая душа, как способная мыслить, то есть образовать невоззрительные понятия о вещах, имеет самосознание в последнем значении слова, то есть самосознание, которое есть сознание не только β актах души, но и об этих актах. Но мы оставим этот психологический путь, потому что он слишком отдалил бы нас от той почвы, на которой стоит наш сочинитель. Как здесь, так и далее мы будем ограничиваться такими изъяснениями, которые, не исчерпывая предмета во всей его полноте, взамен этого сближают нас с воззрениями сочинителя и таким образом всегда дают видеть последовательный переход от его односторонних взглядов к более верному психологическому истолкованию разбираемых здесь явлений.
Мы видели, что животные не имеют воспоминания, что их память есть ныне оказывающееся знакомство с предметом, есть простое совпадение настоящего впечатления с следом, остававшимся в их душе. Когда Улиес возвратился на родину после долголетнего странствования, собака узнала его. Это возбуждение настоящим впечатлением прежде бывшего воззрения вызвало в ней и душевные настроения радости, которые психическим механизмом необходимо связались с этим воззрением. Но этот знакомый образ был для собаки чисто настоящий; она не вспоминала, как давно видела своего господина, не относила своего настоящего воззрения к прошедшему; она не проходила в воспоминании тех состояний, которые она пережила без господина и которые господин пережил без нее; поэтому ее настоящая радость не возмущалась тягостными воспоминаниями о днях разлуки, как это бывает при человеческих встречах. Этот ясный факт указывает нам на определенную границу самосознания животных. Именно, так как всякое познание происходит из опыта, то воспоминание всегда объясняет нам, откуда и почему такой‑то предмет оказывается нам знакомым: воспоминание открывает нам источник нашего настоящего знакомства с предметом. Следовательно, оно есть знание о знании, знание не только предмета, но также знание и о том, откуда и почему я знаю этот предмет. Человеческое дитя в первый год своей жизни узнает свою кормилицу, няню, мать. Но откуда это знание, это знакомство? Конечно, из прошедших впечатлений, из прошедших опытов. Только дитя не знает об этом, для него это знакомство есть простое настоящее, оно не имеет еще воспоминания о прошедшем, которое было причиною ею настоящею знания, следовательно, оно не имеет знания о своем настоящем знании, не имеет самосознания. Не знаем, скажет ли сочинитель разбираемых нами статей, что и это, собственно человеческое самосознание есть такая же нелепость, как самосиний цвет или самосеребро. Мы не приводим здесь его текстов только потому, что они слишком сбивчивы и потребовали бы обширной критики. Между тем из факта самосознания, на который мы указали (впрочем, косвенным образом), вытекает целый ряд явлений, которые резко и решительно отличают душевную жизнь человека от жизни животных.
Положим, что человек имеет ограниченную память и что его воспоминание охватывает слишком короткую линию прошедшего. Если, однако же, ему попадется в настоящих опытах знакомый предмет, то он не остановится тупо на этом сознании знакомого как такого; он скажет, например: «Это лицо знакомо мне, но я забыл, где я видел его». Что значит это выражение? Очевидно, что в этом случае человек критикует свое собственное душевное состояние. Он говорит: «Мои ассоциации, которые образовались из опытов, не достаточны; они не таковы, каковы они должны бы быть, чтобы изъяснять настоящий факт моего знакомства с этим предметом». Это критическое отношение человека к своему эмпирическому сознанию, к своим эмпирически образовавшимся душевным состояниям, — это отношение, которое говорит о том, что должно бы быть и чего, однако же, нет в наличном состоянии человеческого духа, — и есть начало всех и всяких идеалов, которые предносятся человеку в его знании и деятельности и под которыми развивается даже душа самого грубого дикаря, в этом отношении решительно отличная от всякой души животной. В психологии отцов церкви эта способность духа поставлять свое действительное развитие под идею, иметь не просто знание, но и идею знания, не просто действовать, но и предносить себе идеал деятельности лучшей и совершеннейшей, — эта способность называется логосом, и очевидно, что развитие, прогресс, цивилизация имеют свое психологическое основание в постоянной зависимости существующего, эмпирически образующегося духа от требований логоса, или от идей, которые так естественно возникают в духе из свойства сейчас указанного.
Если таково ближайшее отличие человеческого духа от души животной в его внутреннем самосознании, то надобно ожидать, что и познание человека о внешнем мире будет отлично от познания о нем животных. Штейнталь говорит, что животные не имеют знания о вещах как таких или что они не подводят своих воззрений под категорию вещи. Это совершенно согласно с замечанием Шопенгауэра и самого же Штейнталя, что животные не имеют общих понятий о внешних предметах. Собака отличает хозяина от хозяйки, кучера от поварихи, хозяйского быка от хозяйской коровы, хозяйского барана от хозяйской козы; но различает ли она их как мужеский пол и женский? соединяет ли она представление хозяйки, поварихи, коровы и козы в одно общее представление женского пола? представление хозяина, кучера, быка и барана — в одно общее представление мужеского пола? знает ли она о тех общих признаках оплодотворения, беременности, рождения детей и т. д., которые входят в невоззрительное, общее понятие женского пола и в которых находят свое логическое и действительное единство. неделимые, на взгляд бесконечно различные? Штейнталь дает отрицательный ответ на эти вопросы, что едва ли понравится нашему сочини телю, у которого животные мыслят, рассуждают, умо заключают. Что касается, далее, вопроса о сознании вещи, то мы воспользуемся прежним примером. Когда собака узнала Улисса, то она не усиливалась проследить в воспоминании те перемены, какие произошли и лице, в голосе, в походке и во всех движениях ее господина. Такое систематическое воспоминание истории Улисса действительно предполагало бы, что собака различает между Улиссом и его изменениями, различает предмет от его свойств, относит эти свойства к неизменяемой объективной основе, которая как вещь, как субстаник, как мыслимый носитель качеств не дана в воззрении. Когда мы, люди, подводим наши воззрения под категорию вещи, то это мы делаем по логической необходимости. Одно и то же данное для воззрения представляется нам раз черным, в другой раз белым, раз большим, в другой раз меньшим, раз треугольным, в другой раз круглым. Так как наше логическое суждение не может делать таких нелепых положений, каковы: черное есть белое, большее есть меньшее, треугольное есть круглое, то наше мышление отодвигает эти воззрения на второй план и подлагает под них идею вещи, на которой они, как изменчивые свойства или состояния, могут быть мыслимы без противоречия. Следовательно, мы соединяем различные воззрения в единичном и простом пункте вещи по нуждам мышления. Мы видим вещи, потому что самые наши воззрения суть логической натуры.
Наш сочинитель говорит, что осы, пауки и другие насекомые «умеют приноравливать свою жизнь к новой обстановке». «Сначала, — говорит он, — насекомое пробует поступать по–прежнему; постепенные неудачи показывают ему неудовлетворительность прежнего метода, оно пробует новые методы, и, если обстоятельства не губят его, оно наконец устроивает свою жизнь по новому способу». Этот факт не подлежит сомнению, но он не доказывает, чтобы животное сравнивало новую обстановку с прежнею как два изменения одной и той же вещи. Из ассоциаций, которые рождены прежними опытами животного, сложился в его душе образ определенной деятельности. Этому образу оно повинуется слепо, хотя чувства его получают другие впечатления от новой обстановки. Нечто подобное вышло бы, если бы человек, видя ясно, что в стене нет уже гвоздя, тем не менее по старой привычке, то есть по старой ассоциации представлений, пытался вешать на этом месте свое пальто; пчела и оса точно таким образом, по старой привычке, пытаются привешивать свои клеточки к местам, на которых они не видят прежних опорных пунктов; только частые неудачи разрушают механически эту старую ассоциацию и так же механически образуют новую, которая отобразит в себе новую обстановку. Весь этот факт, в котором наш сочинитель видит доказательство разумности животных, изобличает их решительное бессмыслие. Сюда же относятся случаи, когда, например, кошка приносит пойманных ею мышей в хату долго еще после того, как ее котенята, для которых она это делает, заброшены, или когда наседка садится на гнездо, из которого яйца давно уже вынуты, и т. д. Во всех этих случаях мнимая разумность животного состоит в том, что новые впечатления, накопляясь мало–помалу, вытесняют впечатления старые, и животное таким образом приноравливается наконец к новой обстановке. Человек, который поставляется в другие обстоятельства, подобно этим животным, первее всего обозревает эти обстоятельства как перемены в вещах и как нечто объективное; ему нет надобности делать такие глупые опыты, как привешиванье пальто на стене, в которой он не видит более гвоздя: он не просто видит явления, но и критикует их, судит об них. Таким же образом, как показано выше, он критикует и свои внутренние ассоциации. Поэтому он приноравливается к новой обстановке, не делая таких бессмысленных попыток, какие мы сейчас видели у животных и какие легко изобличили бы в нем человека сумасшедшего.
Гете сказал, что один человек может различать, и теперь мы видим всю верность этого положения, потому что для различения не достаточно, чтобы мы получили новые впечатления; точно, каждое новое впечатление, если оно довольно сильно, чтобы сразу вытеснить представления прежние, определит познания и действия души другим образом, и отсюда‑то происходит тот воззри–тельный и узкоэгоистический смысл высших животных, который обнаруживают они в способности применяться к новым обстоятельствам. Но для различения требуется еще воспоминание прошедших состояний вещи как прошедших и сравнение их с настоящими, следовательно, отнесение их к одному объективному пункту вещи или субстанции как чего‑то данного для понимающего мышления, а не для принимающего воззрения. Как животное не относит внешних изменений к одному равному пункту, который есть вещь или субстанция, так и по тем же причинам оно не относит и своих внутренних изменений или состояний к одному невоззрительному носителю, или к я, потому что и знание о я рождается только тогда, когда категорию вещи или субстанции мы подлагаем под наши внутренние явления. Итак, хотя оно и знает о своих стремлениях, желаниях, страданиях, ощущениях, однако не знает о я как их источнике или носителе. Бенеке говорит, что в самом простом или элементарном чувственном ощущении дано уже сознание предметного и сознание того настроения или состояния, в каком находится при этом душа, следовательно, в каждом знании дано и самосознание. Об этом‑то самосознании он говорит, что оно существует в психических актах или есть самосознание прилагательное (адъективное), следовательно, не субстанциальное, не то, по силе которого мы говорим о нашем я или знаем наше я. Очевидно, что самое развитое животное не поднимается выше этого прилагательного самосознания. Кант в своем трансцендентальном выводе категорий доказал и показал с особенною определенностью, что признание вещи как вещи или как объекта и знание о я или самосознание обозначают одну и ту же степень развития человеческого духа, только первое — со стороны внешней, а последнее — со стороны внутренней. Животное сознание не знает о вещи как носителе внешних изменений, не знает и о я как носителе внутренних изменений, потому что то и другое знание нераздельно, то и другое знание определяется одним и тем же законом мышления. Итак, мыслит ли животное? Мы видим, что оно не интересуется ходом вещей, не стремится постигать их по их объективному порядку, изъяснять их из них же самих, построивать науку о вещах; также видим, что оно не интересуется состояниями своего духа, не стремится понять их, изъяснять их из причин и условий и усовершать их дознанными наукой средствами, словом, не стремится построивать науку о существе и усовершенствовании духа. Наши человеческие науки не чудо; они только яснее, определеннее и искуснее делают то, что делает самое бедное и неразвитое человеческое сознание.
Итак, мы указали на две формы самосознания, которых недостает животным: первая из них есть критическое отношение духа к своему собственному шпирическому состоянию, — отношение, которым условливается развитие человека под идеей; вторая — знание о я как основе душевных явлений. Как относятся между собою эти две формы самосознания, далее — что разумеет человек, когда говорит о себе: я, — чем, и многим ли, отличается это человеческое я от того, о котором учил, Фихте как о чистой, безусловной деятельности положения, — этих вопросов мы не будем касаться здесь. Понятно, впрочем, что каждый человек наполняет эту идею я различным содержанием, смотря по степени своего образования. Также мы не будем изъяснять, какие причины и условия в устройстве организма и в свойствах души содействуют человеку подняться на эту ступень светлой, самосознанной жизни, где он свободно обозревает свой внутренний мир и так же свободно смотрит на мир внешний, не ограничивая своего знания настоящею, тет кущею нуждою, но интересуясь чистым пониманьем вещей как таких. Очевидно, что указанные нами отличительные свойства человеческого духа можно выразить так; человек развивается под идеей истины; он не довольствуется фактическим состоянием ни своих представлений, ни внешних воззрений. Те и другие подводит он под невоззрительные, метафизические категории и таким образом оправдывает или выправляет их по общим, необходимым законам. Как в чувственных воззрениях он отличает существенные формы явления от случайных, хотя бы то и постоянных изменений, так в своем душевном состоянии он отличает субъективные соединения представлений от мыслей, выражающих действительный ход вещей. Это та же критическая способность, на которую мы указали выше. Итак, если говорят, что человеческий дух отличается от животного тем, что в нем или ему открывается метафизическая сущность вещей, то и это выражение может показаться странным или сомнительным только для незнакомого с характером и свойствами человеческого мышления и познания. Сознание человека дикого и образованного одинаково отодвигает мир. непосредственных воззрений на второй план, превращает его в явление, в действие, в случайное, в зависимое, в производное и воображает видеть истинно–сущее в силах, в сущностях, в причинах, в основаниях. Все категории, под которые мы подводим наши воззрения, все общие законы, по которым мы определяем настоящие и предопределяем будущие изменения в вещах, составляют метафизическое содержание человеческого мышления, не данное в воззрении. Лейбниц сказал, что только животные суть чистые эмпирики, то есть они довольствуются знанием чисто опытным и тем сочетанием или порядком представлений, какой сложился в их душе из случайных впечатлений; а сообразен ли с истиной тот и другой порядок — порядок вещей и порядок идей, определен ли он общими законами, и какими именно, этим вопросом об истине, с которого только еще начинается человеческое знание, они не интересуются.
Эти границы животного сознания обнаруживаются в самых очевидных примерах.
) Два внешние изменения впечатлевали на глаза животного часто и в одинаковом порядке; от этого произошли в душе животного два представления, которые и соединились в том же последовательном порядке. Поэтому когда в настоящем опыте животное получит представление одного из этих изменений, то оно ожидает непосредственно, без сильнейших опытов, и другого изменения. Это— силлогизм животного, основанный на приметах, которым очень часто руководствуются и люди в обыкновенной жизни. Имеет ли этот силлогизм привычки что‑нибудь похожее на силлогизм мысли, когда мы ожидаем частного случая на основании общего и необходимого закона, когда Лаплас указывает из общих посылок на существование планеты, которая не впечат–левала еще ни один человеческий глаз и, следовательно, не образовала в душе человека ни одной психической ассоциации, не имела в ней никакого представителя? И есть ли это различие только количественное, как утверждает наш сочинитель, для которого мышление Ньютона, отыскивающего законы тяготения, и мышление курицы, отыскивающей овсяные зерна в куче сора и пыли, различаются «только размерами процесса, а не сущностью»? Во–первых, кто вам сказал, что курица отыскивает зерна, что, называя зерна зернами, вы этим выражаете взгляд на эту вещь самой курицы? Зерна как зерна, как эти вещи, — принадлежащие к этой системе вещей, по содержанию которой они есть то, что есть (начало мысли-), и по содержанию которой они именуются (начало слова), — существуют для вас, для вашего мыслящего воззрения, а для курицы они суть корм, а не зерна. Если бы они были для нее эти вещи, то, действительно, для ее маленького мозга они представляли бы маленький астрономический мир, и она, как Ньютон в своей сфере, пыталась бы открыть законы существования и изменения этого мира. Тогда ее мышление отличалось бы от мышления ньютонова «только размерами процесса, а не сущностью»: именно — чтобы сказать всю истину, — тогда ее мышление бесконечно превосходило бы мышление Ньютона, потому что законы изменения и развития овсяного зерна бесконечно разнообразнее законов изменения Солнечной системы. Но, как доказывает Штейнталь. курица не имеет идеи вещи, поэтому она и не интересуется знанием законов и способов изменения овсяных зерен; в ней нет даже и зачатков тех стремлений и задач — понять объективное, — какими отличается мышление Ньютона.
В другом месте сочинитель доказывает присутствие мышления у животных следующим фактом: «Вы, — говорит он, — поднимаете палку на собаку; собака поджимает хвост и бежит от вас; отчего это? Оттого, что у ней в голове построился следующий силлогизм: когда меня бьют палкою, мне бывает неприятно; этот человек хочет побить меня палкою; итак, удалюсь от него, чтобы не получить болезненного ощущения… Смешно и слышать, когда гопорят, будто собака η этом случае убежала только по инстинкту, машинально, а не по рассуждению, сознательно…»
Новейшая психология отличается от схоластической преимущественно двумя великими открытиями, это — законы психического механизма и закон так называемых рефлексивных движений. Наш сочинитель, по–видимому, не знаком с этими открытиями, и оттого он приписывает животным деятельность, определенную отчетливым мышлением, в таких случаях, в каких и самые развитые люди не руководствуются силлогизмами. Когда на ваш глаз ударит слишком яркий свет, вы мгновенно закрываете глаз; когда в ваш нос или в ваше горло попадает предмет, производящий неприятное ощущение, вы мгновенно удаляете этот предмет чиханьем и рвотою. Во всех этих случаях ощущение само по себе и непосредственно рождает движение, не дожидаясь вашей воли или вашего желания производить это движение, или, как говорят физиологи, за определенным состоянием чувствительных нервов следует с необходимостью движение в нервах двигательных, без нашего намерения или желания, но тем не менее движение целесообразное, устраняющее неприятные ощущения, рождаемые состоянием нервов чувствительных. Или вы рассуждали: так как яркий свет неприятен, то закрою лучше глаза так как ощущениє в моем носе и в моем горле неприятно, то буду чихать и рвать? Животное убегает при виде поднятой палки: представление палки в этом, впрочем, определенном направлении рождает, по необходимой психической ассоциации, ощущение страха; это ощущение само собою приводит в целесообразное движение члены животного, и оно убегает. Во всех этих случаях и человек повинуется не медленному силлогизму, который притом еще обязан вызвать желание движения, а быстрому потоку представлений, сменяющихся механически, и невольному пе^ реходу их в движения. Так, мы внезапно сотрясаем рукой, когда упадет на нее искра, внезапно делаем прыжок назад и издаем крик, когда на нашу голову летит камень. В минуты испуга мы обнаруживаем такую силу и ловкость в движеньях, каких не может произвести наша обыкновенная, действующая но соображениям воля. Отчетливое мышление может или помогать этим движениям, или же оказываться вредным резонерством, задерживающим целесообразные порывы природы, но вообще не оно рождает эти явления.
Если наш сочинитель так охотно приписывает животным мышление, то это происходит оттого, что он не имеет никакого ясного и определенного понятия о мышлении. «Мышление, — говорит он, — состоит в том, чтобы из разных комбинаций, ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, избирать такие, которые соответствуют потребностям мыслящего организма в данную минуту…» Так вот в чем состоит мышление, если верить сочинителю.
Бывают случаи, когда человек испытывает такие необыкновенные страдания или потрясения, которых не может выносить его организм, имеющий ограниченную сумму сил: в этом положении человек или умирает, или же приходит в особенное, несчастное психическое состояние, в котором все его душевные силы теряют объективное достоинство и в котором они только «соответствуют потребностям мыслящего организма в данную минуту». Когда в человеке возникает эта роковая нужда, «чтобы из разных комбинаций, ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, избирать такие, которые соответствуют потребностям мыслящего организма в данную минуту», то это состояние называется сумасшествием. Наш сочинитель называет это мышлением. Между тем мы согласны еще раз повторить, что отличительная черта всякого сумасшествия состоит именно в том, что душевные деятельности делаются равнодушными к объективному ходу вещей, что человек выбирает идеи, представления и понятия не такие, какие необходимы для того, чтобы сознавать этот объективный мир в его закономерности, а такие, «которые соответствуют потребностям мыслящего организма в данную минуту». Когда сумасшедшая мать прижимает к груди подушку и видит в ней свое любимое дитя, то эти грезы имеют целью поддержать ее жизнь, которая иначе разрушилась бы от страданий, ее поразивших. Это состояние безотрадно по отношению к целям духа, но Оно имеет значение в общем порядке вещей как временный замен смерти, как последнее средство самосохранения, какое нашлось еще в органической системе человека.
) Сочинитель говорит, что мнение, будто бы животные не способны к умственному развитию, к усовершимости или к прогрессу, «разрушается фактами, известными каждому: медведя научают плясать и выкидывать разимо штуки, собаку подавать поноску и танцевать; слонин даже выучивают ходить по канату» и т. д. Точно, чти факты общеизвестны, но их следует изъяснить. Как это научают медведя плясать? Нанимают ему танцмейстера, водят его смотреть балет, раіивают в нем эстетический вкус? Нас, впрочем, интересует здесь другой Вопрос: смотрит ли сам медведь на свои танцы как на искусство? Почему он не употребляет своих досугов на усовершенствование этого искусства? Почему вообще животное, если оно вырвется на свободу, не пользуется своим искусством как средством к лучЩей жизни и наслаждению, как это делает человек? Вы видите, что здесь опять недостает того объективного взгляда, Той идеи истины, которой отсутствие так характеризует состояние души животных. Танцы медведя не суть искусство на его взгляд, они суть его состояния. Не имея сознания о я, он не может превратить этого состояния в деятельность, в поступок, не может посмотреть на эту деятельность в ее предметном достоинстве, по которому она есть искусство, а не движение организма.
Физиологи доселе не согласятся, точно ли механические препятствия и неудобства, лежащие в устройстве организма, мешают животным образовать членораздельный язык. Мы, однако же, замечаем, что некоторые животные яегго произносят некоторые из наших букв: сороки и попугаи произносят целые ряды человеческих букв, и притом в сочетаниях человеческих слов. Итак, каковы бы ни были механические препятствия к образованию языка, лежащие в устройстве голосовых и слуховых органов животного, мы должны бы ожидать, что животные могут развить язык хотя крайне бедный, тем не менее членораздельный. Если это ожидание не оправдывается, если у них звуки, рождаемые рефлексивными движениями, не превращаются в слова, то это происходит от той же причины, почему у медведя движение и перемещение его членов не превращается в танцевальное искусство. Человеческое дитя не сочиняет своего языка: его крик и лепет есть простой ненамеренный переход ощущений в движения голосовых органов. Но с пробуждением знания о я оно превращает эти рефлексивные движения в деятельности, в поступки; оно овладевает этим механизмом движений как средством для своих ясно сознанных целей. Таким же образом человеческое дитя с пробуждением самосознания различает звуки не как состояния своего горла, приятные или неприятные, но также различает их по их предметному качеству, по их качественному сходству и несходству, так что огромное расстояние этих качественно сходных звуков на музыкальной лестнице оно часто препобеждает по возможности как физическую границу, несообразную с его личными целями. Вот почему человеческий певец не только поет, как поется, как удобнее для положения его горла, но и делает из пения искусство. У животных пение есть простое движение голосовых органов, вовсе не определяемое знанием объективного качества тонов. Для самого животного это пение не есть искусство, на его взгляд оно ничем не отличается от движения его ног, его крыльев.
) Мы не будем доискиваться, как там животные совершенствуются целыми породами: сочинитель уверяет нас в этом. Если говорят об усовершенствовании целой породы, то этим предполагается, что в этой породе возможно предание, передача знаний и открытий от одного поколения к другому. В противном случае еы можете усовершенствовать, например, вс«х лошадей и быков на свете и все же не можете утверждать, что лошади и быки совершенствуются целыми породами. Но мы рассмотрим здесь с нашей довольно уже выясненной точки зрения те факты, на основании которых сочинитель,, по–видимому, не хочет допустить никакого различия между нравственными явлениями животной и человеческой жизни. Мнение, будто животные не имеют чувств, «которые называются бескорыстными, возвышенными, идеальными», он признает совершенно несообразным с общеизвестными фактами. «Привязанность собаки, — говорит он, — вошла в пословицу; лошадь проникнута честолюбием до того, что когда разгорячится, обгоняя другую лошадь, то уже не нуждается в хлысте и шпорах, а только в удилах». О наседке говорится: «На чем основана ее заботливость о цыплятах, высиженных ею из яиц другой курицы? На том факте, что она высидела их, на том факте, что она помогает им делаться курами и петухами… Она любит их, как нянька, как гувернантка, воспитательница, благодетельница их. Она любит их потому, что положила в них часть своего нравственного существа — не материального существа, нет, в них нет ни частички ее крови, — нет, в них она любит результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумия… это отношение чисто нравственное».
Этим изъяснением поведения наседки сочинитель надеется доказать, что животные возвышаются над кровным родством u знают родство, основанное «на возвышенном чувстве благорасположения». Хотя пример этот н. чит из непонятной области инстинктов, однако из него видно, что сочинитель приписывает курице деятельность, вытекающую из идеальных побуждений или из сознания, что эта деятельность имеет достоинство для целей рода.
Мы сомневаемся, чтобы это изъяснение было правильно. Если курица делается наседкой, то она побуждается к этому не идеей общей пользы для целого рода; по причинам, которые мы указали выше, она садится в гнездо даже и тогда, когда вынуты из него яйца, также садится и тогда, когда положены в него яйца другой курицы. Она воспитывает цыплят, которых она высидела из чужих яиц, с такою же любовию, как если бы они происходили от ее крови. Так и человеческая мать, если подменить во время родов ее ребенка чужим, будет любить чужое дитя, как свое: здесь не может быть и речи о родстве, «основанном на возвышенном чувстве благорасположения». Но человеческая мать превращает эти инстинктивные стремления в дело личности, в нравственно достойные поступки: она вспоминает радости и страдания, которые она испытала, откармливая дитя, она заботится в настоящем о целой будущности его; в своей любви к нему она видит долг, нравственное требование, предписание совести; оттого ее инстинктивная любовь к дитяти служит только опорным и начальным пунктом для ее любви к целому человеку. Поэтому когда дитя созреет до человека и не будет нуждаться в заботливости матери, эта мать тем не менее видит в нем «результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумия». Теперь позволительно думать, что курица, по прошествии определенного срока, прерывает с своими цыплятами всякую связь, по силе которой она могла бы любить в них результаты своей заботливости, своей доброты. Она не превращала своих прекрасных инстинктов в правило, в долг, оттого даже и во время самого ухода за детьми она все же не любила их как плод своей заботливости, своей доброты. Инстинкты, говорит Кювье, суть сонные идеи; действительно, здесь мы видим душу не пробудившуюся, не обладающую собою и своим, впрочем многознаменательным, содержанием. Животное тупо повинуется своему инстинктивному требованию ухаживать за детьми, и когда проходит пора этих невольных влечений, оно равнодушно расстается с этою жизнию любви, не вспоминая о ней и не жалея об этом прекрасном прошедшем. Нравственные инстинкты животных, бесспорно, имеют глубокое значение и говорят много об основаниях этого по–видимому материального мира; но тем не менее животные не суть нравственные личности.
Другой пример, указывающий па честолюбие лошади, которая готова надорвать себя и упасть замертво, «лишь–бы обогнать соперницу», представляет то неудобство, что он может быть изъясняем из многих оснований. Если вы смотрели на конские беги, то вы могли наблюдать здесь множество движений. Лошадь действительно стремится обогнать другую, но и господин, правящий лошадью, не остается в покое. Легким движением плечей, ровными, едва приметными качаниями головы, особенно же напряжением и подергиванием ног он повтори ет бег лошади и мало–помалу учащает и ускоряет эти движения. То же вы можете заметить и на некоторых зрителях. Итак, здесь, во–первых, существует передача движений. Как распространяется эта эпидемия движений, так ли, как зевота одного рождает зевоту в другом, как за судорогами одного больного нередко следуют судороги и остальных больных, находящихся с ним в той же камере, или здесь действуют более эстетические основания симпатии, которая увлекает всех на один путь, вызывает во всех одно стремление, —мы не будем решать здесь. Довольно, впрочем, видно, что как зритель воспроизводит движения лошади и наконец предупреждает их своими движениями, т. е. соперничает с лошадью не из честолюбия, так и лошадь обгоняет свою соперницу не по этому идеальному побуждению, потому что в честолюбии существенную черту составляет мнение других о достоинстве подвига, суд или оценка других, а этим лошадь вовсе не интересуется. В возбужденном состоянии мы ненамеренно, без нашего желания, ускоряем нашу походку, наш разговор. Нужно отличать волю, желание или намерение от простого прилива и натиска сил к одному душевному пункту: в этом последнем случае наши движения делаются быстрее и быстрее, не дожидаясь нашей воли. В такое возбужденное или, как говорит сочинитель, разгоряченное состояние приходит и лошадь во время состязания. О честолюбии как душевном двигателе здесь не может бить и речи.
Но для нас легче оцепить третий пример, который говорит о привязаннасти собаки. Что «привязанность собаки пошла н пословицу», это справедливо. Мы говорим, например, о служителе: он привязан к своему господину, как собака. Что, однако же, хотим мы сказать этим? Служитель привязан к господину так, что одинаково повинуется всем его желаниям, не оценивая их достоинства. По первой воле господина он бросается на людей, как собака, и терзает их, не думая, что это подло; порядочный слуга скорее оскорбил бы господина неповиновением, нежели стал бы слепым орудием его злости и подлости. Точно такова привязанность собаки к своему господину: она привязана к нему не за его достоинства, она ценит одинаково все его желания, даже самые низкие. Как в животном всякое желание имеет право на удовлетворение только потому, что оно есть, а не потому, что оно есть хорошо, то и на человека оно смотрит с этой же низкой точки зрения; оно не относится к нему, как к человеку, оно измеряет его своею животного меркою. Те, которые любят мосек и жучек, должны бы подумать об этом, каковы‑то они на взгляд той собаки, которая так привязана к ним. Во–вторых, в области животных мы имеем, действительно, ту мораль утилитаризма, которую так усердно стараются иногда навязать человеку. Животные обнаруживают трогательные примеры верности, любви, благодарности, но все это не есть свободная нравственность, не есть явление идеальных чувствований. Они, животные, оценивают эти явления по по их объективному достоинству, но по их полезности. Животное не признает права вещей как таких, для пего существует только то, что полезно ему. Это общее настроение его сознания повторяется и в его кажущейся нравственной деятельности. На всех ступенях животной жизни недостает идеи истины, оттого в их практической деятельности недостает идеи добра. Их добродетели таковы же, как и их познания.
Мы должны прибавить, что не все явления животной души изъясняются легко и просто из начала, на котором мы стояли доселе. Зависит ли это от неопределенности самих фактов, наблюдаемых в жизни животных, или же от неполноты изъясняющего начала, к которому, может быть, пришлось бы еще прибавить другие точки зрения, не будем исследовать. Мы заключим наши замечания об этом предмете указанием на одно место в божественном откровении. Во второй главе книги бытия говорится, что Бог привел к Адаму всех животных, дабы он посмотрел, как надобно назвать их. И Адам назвал имена всем скотам и всем птицам небесным и всем зверям земным. Но (между ними) не нашлось Для Адама помощника, подобного ему (Быт. 2, 19—20). И так Адам пришел к сознанию, что животные не подобны ему, что ни одно из них не подходит под идею человека. На этом сознании стояли доселе и, вероятно, всегда будут стоять все дети Адама. Восторженные декламации об умственных и нравственных совершенствах животных не обольстят никого. Вы говорите, что животные имеют мышление и способны умозаключать; не надеетесь ли вы, что человек когда‑нибудь передаст им часть своих ученых работ, поручит им делать известные наблюдения и исследования? Вы говорите, что животные способны к нравственной деятельности; не надеетесь ли вы, что люди когда‑нибудь будут вступать с ними в договоры, заключать контракты, требовать от них исполнения обязательств, законов долга, чести и справедливости? Если подумать серьезно, то эти практические выводы следуют необходимо из вашего теоретического учения о душе животных и таким образом, в свою очередь, произносят суд над этим учением. Несмотря на огромные успехи естествознания, живое и действующее человечество остается и, надеемся, останется навсегда при убеждении, к которому пришел и первый человек, именно, что животные не подходят под идею человека, что их душевная жизнь есть воплощение других идей, а не той (как сказал бы Гегель) себя–знающей идеи истины и добра, которую выражает или может выражать человек в своем теоретическом самосознании и знании и в своем нравственном самоопределении.
Хотя наша критическая статья вышла уже слишком длинна, однако нам еще предстоит рассмотреть в разбираемых статьях интересный отдел о нравственной деятельности человека.
И этот вопрос, на разрешение которого потратили столько сил практические англичане и теоретические немцы, не представляет для сочинителя, как он уверяет нас, ровно никаких затруднений. Во–первых, мы видели, что о человеке вообще нельзя сказать, добр он или зол, то есть нельзя сказать, каков он вообще, что это такое существо, которое само по себе не имеет, так сказать, никакого нкуси, и только обстоятельства —словно творческие силы — делают из этого нравственного ничто нечто, имеющее вкус сладкий или горький, хороший или дурной, смотря по качеству и количеству этих обстоятельств. «Человеческой натуры, — говорит сочинитель, — нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений». Сочинитель хочет сказать, что когда мы доброе одобряем, злое не одобряем, то мы поступаем несправедливо. А между тем нравственная область открывается именно этим фактом, что некоторые поступки человека мы одобряем, а другие порицаем. Этот факт тем замечательнее, что человек сам себя то одобряет, то не одобряет или, как говорят, имеет совесть; этого события точно недостает в душевной жизни животных, но оно неразлучно сопутствует человеческому поведению. Даже и тогда, когда человек убеждается, что его желания и происшедшие из них поступки условлены необходимыми причинами, он не перестает вменять себе эти поступки, то осуждает, то одобряет их в своей совести. Человек во всяком разе сознает, что другой на его месте поступил бы не так, как он поступал, что другой на его месте повел бы себя иначе, нежели как он себя повел; то есть он сравнивает себя с другим, требует от своего поступка общечеловеческого достоинства, и с этой точки зрения он вменяет себе свои поступки как заслугу или как вину независимо от того, имеет ли он теоретическую веру в свою свободу или нет. И так странно слышать, если говорят, что «человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое». Человеку нельзя внушать, чтобы он перестал действовать под идеей вменения, как нельзя впутать Солнечной системе, чтобы она перестала двигаться по: ш копим тяготения. Вы имеете здесь нравственно необходимое явление, которое вы должны изъяснить, а не отрицать. Гак и понимает это дело философия, которая полому встречает неодолимые затруднения при изъяснении нравственной деятельности человека. Животное не вменяет себе своих поступков: оно не имеет нравственной способности поставлять себя на место другого в другого — на свое место. Поэтому оно не интересуется вопросом, каков бы был его поступок, если бы он был совершен другим, какую цену имеет он не для пего в частности, а для духа вообще, для всякого духа. Наш сочинитель легко мог бы заметить, что в факте вменения — в том, что мы вменяем человеку его поступки, — кроется так называемое начало человечности.
Хотя сочинитель уверяет нас, что о человеке нельзя сказать, добр ли он или зол, однако он же дает нам совершенно общее правило, по которому надобно определять, когда бывает добр или зол всякий человек, человек вообще, а не Иван, не Петр. «Добрым, — говорит он, — человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим, злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим». Конечно, было бы последовательнее, если бы сочинитель назвал добрыми или злыми обстоятельства, понуждающие человека поступать по этим правилам, а не самого человека, и если бы он прибавил, что и самое это вменение, самое это суждение, которое различает добрые и злые обстоятельства, делают опять эти же самые обстоятельства, а не человек, не ученый, не писатель, который — как нечто ни доброе, ни злое — вообще не подходит сам и не подводит других ни иод какую нравственную оценку — ни одобряет, ни бранит, следовательно не может назвать одного добрым, а другого злым, или одни обстоятельства—добрыми, а другие злыми. Такое строгое и оттого доводящее до нелепостей развитие основной мысли указало бы сочинителю на потребность избрать другой путь изъяснения, чтобы уклониться от положений, не поддающихся человеческой логике. Далее, как видим, он предполагает, что душа Ивана, Петра и каждого человека как нечто нравственно бесхарактерное обнаруживает один и тот же образ деятельности при одних и тех же обстоятельствах. Обыкновенный смысл и философия изъясняют поступки человека из влияния обстоятельств на этот определенный характер, так что только одинаковые характеры при одинаковых обстоятельствах будут действовать по одному и тому же правилу. Впрочем, теория, которой держится сочинитель, должна объяснять и происхождение мира единственно из обстоятельств. Она рассуждает просто, что обстоятельства сходятся на пустом месте и рождают так называемую душу; но эта так называемая душа и после рождения не есть нечто определенное, как надо бы ожидать; она и теперь не смеет обнаруживать себя как нечто относительно самостоятельное и качественное, хотя этим преимуществом пользуется самомалейшая песчинка в волнах моря; когда этой душе приходится действовать, то качество се поступков будет зависеть не от нее, а все‑таки от обстоятельств. Это опять мифология, которая допускает многих действительно творящих богов, называя их обстоятельствами.
Как бы то ни было, «добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим». Мы боимся, что для иного это правило покажется слишком широким, простирающимся далее человеческой жизни. Бывают же случаи, когда животное «для получения приятного себе» должно «делать приятное» другому животному. Таковы игры молодых животных, таковы отношения полов. В человеческой жизни можно указать па множество примеров, во всей точности соответствующих этому правилу. Если я хочу наслаждаться театральними представлениями, то я должен платить деньги за ложу; если я хочу кататься по городу, то я должен нанимать извозчика: даром не пустят меня в театр, даром не повезет меня извозчик. В этих случаях, как и во всех подобных — когда, например, я покупаю ветчину, табак, вино, нанимаю повара, служителя, — действительно, «для получения приятного себе» я «должен делать приятное другим». Однако кто же вменит мне в личную заслугу, в добродетель все это? Я имею средства хорошо покушать, бывать в театре, кататься на извозчике: какой народ называет добрым человека за одно это? Или вы имеете дело не с человеческим сознанием, не с человеческой нравственностью?
А между тем то же самое правило, которое приводит сочинитель, если подвергнуть ого анализу, легко приведет нас к понятию о добром поступке как личной заслуге человека. Когда служители театра исправны и не пропустят в ложу никакого господина без денег, то и мошенник, как честный человек, заплатит деньги за место в театре: он доставит удовольствие другим «для получения приятного себе». Но это не составляет его личного достоинства, іо не доказывает, что он добрый человек; его поступок в самом деле произошел «от обстоятельств и отношений», он доставил удовольствие другим или, правильнее, он не оскорбил права других не желая эті.(, а покоряясь неизбежным обстоятельствам и отношениям. Нравственное достоинство находят обыкновенные, то есть все люди только в тех поступках, которыми человек не только доставил удовольствие другим, но и хотел, имел намерение доставить это удовольствие. Так, честный человек заплатит деньги за место в театре не потому, что иначе он не может войти в театр, а потому, что он хочет заплатить, или потому, что хочет уважать право других людей. Почему он так поступает — это другой вопрос; только мы видим, что он поступает по идее справедливости или что справедливость есть для него долг, нравственное требование. В свободном, охотном, не вынужденном исполнении законов справедливости состоит его нравственное, и притом личное, достоинство; так посмотрит на его поступок и зритель посторонний, лично не заинтересованный в деле; он почувствует уважение к этому человеку, признает за ним нравственное достоинство, вменит ему его поступок в нравственную заслугу. Итак, если в правиле, которое приводит сочинитель, говорится о нужде доставлять удовольствие другим для получения приятного себе, то мы теперь видим, что здесь понятие удовольствия стоит случайно. Поступок добр и вменяется человеку в личную заслугу не потому, что человек этим поступком хочет доставить себе удовольствие и для его достижения поневоле делает приятное другим, но потому, что он свое стремление к удовольствию ограничивает нравственной идеей справедливости: он не хочет доставлять удовольствие себе, оскорбляя права другого (так поступает только животное в своем стремлении к удовольствию, так поступает и личность безнравственная); он хочет быть в этом случае справедливым, и собственно только это составляет нравственное явление в целой, сложной системе действий и поступков, относящихся к этому случаю. Поэтому еще древние признали справедливость главною добродетелью, которая превращает стремление к удовольствию, общее человеку с Животным и человеку доброму с злодеем, в поступки, имеющие нравственное достоинство.
Как видим, на этом пункте человек отличается от животного резкою чертою. Для животного всякое желание, как только оно возникло, имеет право на удовлетворение, потому что Желание всегда желает приятного; приятное или полезное есть для животного цель жизни, цель, которою оно не считает обязанным жертвовать другим целям. Человек имеет наклонность, привычку, способность — образовавшуюся или прирожденную — оценивать еще самые эти желания, которые — заметим еще раз — все одинаково направлены на достижение приятного или полезного. Как он имеет знание знания, гак он имеет (мы позволим себе неупотребительное выражение) желание желания, то есть он не только желает приятного и полезного, как и другие животные, но еще желает, чтобы самое это желание достигало своей цели средствами общегодными, имеющими достоинство в себе, а не только в том удовольствии или в той пользе, к какой стремится желание в своей непосредственности, по своей физической, не от нас зависящей натуре. Здесь опять выступает та идея истины, которая для нашего чувственного существа есть что‑то непонятное и постороннее. Почему бы человеку не погружаться тупо в свои наличные воззрения? Почему бы ему так же насильно не повиноваться своим влечениям к приятному и полезному? Ведь беззаботность животного, его спокойствие, его довольство настоящим происходят именно из этих источников. Но как свои воззрения он поверяет и оценивает по идее истины, поколику он сознал ее в общих, невоззрительных законах мышления и бытия, так и свои желания, влекущие его к удовольствию и пользе, он поверяет и оценивает по общей идее добра, насколько она сознана им в общих, невоззрительных законах нравственной деятельности. Много ли и верно m сознана им эта идея добра, это другой вопрос. Для одного нравственные законы лежат в авторитете высших или старших, для другого в обычаях страны или в общественном мнении, для многих все эти законы сосредоточиваются в ясных и удобопонятных идеях справедливости и любви, наконец, всякий думает знать об них, хотя различным образом, из внушений совести или из нравственного чувства. Не об этом говорим мы здесь: точно такие же разности существуют при вопросе о науке, об источниках знания, о возможности, достоверности и границах человеческих познаний и т. д. Именно самое это богатство начал доказывает, что дли человека желание удовольствия и пользы имеет право не потому, что оно есть, и не потому, что оно есть желание удовольствия и пользы; таким естественным, правом пользуются только желания животных; человеческие желания должны еще добыть себе это право, должны еще оправдывать себя пред идеей добра, в каком бы виде эта идея ни была представляема нами.
Наш сочинитель выдаст за аксиому, «что человек любит приятное и не любит неприятного», и мы согласны с ним; в этом отношении случай сынов человеческих и случай скотский, случай един им (Еккл. 3, 19). Но, кроме этого, человек любит присматриваться еще к тем способам, к тем манерам, к тем правилам, какими он достигает приятного и избегает неприятного; животное не занимается этим знанием о себе. Эта способность человека судить о способах, манерах или правилах, какими он достигает приятного и избегает неприятного, эта критика желаний ноли сразу переносит человека в область нравственную: ом различает добрые и злые поступки в деятельности своей и чужой, как различает истину и ложь в познании.
Мы вовсе не намерены здесь систематически излагать основания нравственной деятельности человека; мы только показываем, как близко стоял сочинитель к правильному пониманию этой деятельности, и только ненаучное стремление все сливать, все смешивать не дало ему видеть истину, которая представляется так очевидно. Он говорит: «Г. сли, например, кто‑нибудь отказывает свое наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным…. Почему посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт, давший им это имущество? Потому что этот акт был им полезен. Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным наследства, потому они называют его дурным делом». Из этого сочинитель заключает, «что добро есть польза». Нам кажется, что приведенный сейчас пример говорит совсем не то. Старик, отказавший наследство людям посторонним, принес им пользу, а родственникам нанес вред, одним сделал добро, а другим — зло. Итак, что он вообще сделал, добро или зло? Хорош или дурен его поступок, который был для одних полезен, а для других вреден? Кажется, в этом состоит вопрос. Представьте, что простой, не заинтересованный в деле человек будет рассматривать поступок старика, — заметим мимоходом, что большая часть английских философов–моралистов оценивали достоинство человеческих поступков по тому, какое впечатление производят они на постороннего беспристрастного зрителя, — итак, представьте, что этого человека просят сказать свое суждение о распоряжениях старика. Может статься, что он будет рассуждать: «Его поступок не хорош, потому что он произошел из мелочного самолюбия, которому успели льстить чужие люди, тогда как прямодушные родственники гнушались этим сродством приобретения». Или он скажет, при других обстоятельствах: «Родственники старика были несправедливы к нему и оскорбляли его, а чти чужие люди так были добры к нему, так заботились об нем, так много жертвовали для его покоя, что старик был бы несправедлив и неблагодарен, если бы не наградил их».
Так рассуждают люди на всех углах земного шара и притом независимо от положительного законодательства. Или они смотрят, как животные, только на результат, только на полезность поступка, не справляясь с способами, манерами и правилами, какими достигнут этот результат? Что, если бы одна из тяжущихся сторон жаловалась н суде или пред сторонним зрителем на то, что завещательный акт был для нее вреден, а другая защищалась бы тем, что он был для нее полезен? Что должен бы при этом сказать судья или зритель? Животные не подвергают своих поступков никакой оценке, потому что, дорожа только результатом поступка или его полезностию, они не имеют никакого начала для определения, хорош или не хорош, добр или не добр этот поступок. Или — чтобы выразить то же самое с другой стороны, — им не о чем, собственно, судиться, потому что для них добро прямо и непосредственно «есть польза». Как нет таких безголовых людей, которые не подводили бы своих воззрений под общее начало, — хотя бы это начало состояло, из одного закона противоречия, не позволяющего назвать черное белым и круглое треугольным, — так, вероятно, вы не отыщете на земле людей, которые добро непосредственно признавали бы в пользе, не справляясь, каким образом поступок оказался для них полезен, какое достоинство имеет та деятельность, н результате которой оказалась польза для них или для других.
В выражении, что добро есть польза, заключается плохо понятое учение философии, что нравственно совершенная деятельность есть необходимое условие для счастия или для блага людей как существ разумных. Человек имеет разумный дух, который так же требует удовлетворения, как и желудок. Но удовлетворение человека как разумного духа не только не противоречит пользам людей как существ физических, но и вносит в их чувственное стремление смысл, ясное сознание значения целей и средств, особенно же располагает их нужды в правильной, осмысленной системе по их относительному достоинству и таким образом ведет их к счастию собственно человеческому, — когда человек не теряется в слепых влечениях и в их удовлетворении, как животное, но в самых этих влечениях только раскрывает достоинство своего лица и совершенство преследуемых им целей. То, что называют полезным, он ценит не по его непосредственному качеству, как полезное, но по его отношению к целям, которые он преследует как нечто достойное само по себе. Этого понятия о достоинстве человеческой личности и, следовательно, о достоинстве правил и целей ее деятельности недостает в системе нравственного утилитаризма. Для него поступки человека хороши потому же, почему хороша вода, хорош воз-4 дух, хороши деньги, хорошо кушанье. Они получают свое достоинство только по отношению к интересам и выгодам другого, а прежде этой встречи с интересами и выгодами другого они еще не имеют никакого нравственного качества.
Как прежде был близок сочинитель к открытию субъективных основании нравственно добрых поступков, которые лежат в оценке способов и правил происхождения их, так теперь он лицом к лицу встречается с основаниями объективными, состоящими в оценке предметов или целей, которыми человек удовлетворяется. Он говорит: «Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячи рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы на приобретение несравненно большего наслаждения». Эта оценка поступков мота, как легко видеть, основывается на суждении о совершенстве предмета или цели, которою он удовлетворяется. Правда, что сам сочинитель порицает мота во имя удовольствия, которое он получил бы в большем количестве, если бы он распорядился своим капиталом лучше. Но нам кажется, что с этой точки мы не имеем права порицать его поступков. Удовольствие, как удовольствие, не подлежит внешней и посторонней оценке: оно есть такое состояние, когда нужда, стремление удовлетворяется, когда это определенное желание перестает. От каких предметов получается это удовлетворение, перестает это желание — это дело безразличное для существа, чувствующего удовольствие, но оно не безразлично для духа, мыслящего истину и оценивающего достоинство самих предметов желания. Если положим, что удовольствие состоит не в этом насыщении желания, но в положительном, возбужденном состоянии жизненных или душевных сил, то и и піком случае оно намеряет само себя, оно самодовольно, всегда и при псех обстоятельствах есть таково, каковым оно должно быть по своему качеству, так что наши суждения об удовольствиях низших и высших, грязных и благородных основываются на оценке предметов желания и на суждении о том, каков должен быть человек по своему достоинству. Представим пример. Вы испытали приятное чувство возбужденного состояния ваших жизненных сил или приятное душенастроение от ванны, или от верховой езды, или от прогулки в саду; другой — от созерцания прекрасного ландшафта или от чтения поэтического произведения; третий —от изобретения математической формулы, облегчающей изъяснение физических явлений; четвертый — от разоблачения и пресечения общественных злоупотреблений или от борьбы, которую он вынес за дело справедливости и общей пользы; пятый — от великодушия, какое он оказал своему врагу, которому угрожала действительная опасность; наконец, шестой — от вести, что его враг потерпел большое несчастие или что человек, который знал о его дурных и опасных для: общего дела намерениях, умер. Во всех этих случаях приятное чувство возбужденного состояния жизнедеятельности или приятное душенастроение, взятое в своей непосредственности, одинаково или, по крайней мере, может быть одинаково; но безмерное различие в состояниях этих душ происходит от мысли о предмете, доставившем им удовольствие, или от мысли о достоинстве цели, ими достигнутой и отразившейся в их душе как приятное настроение. Сообразно с этим будет судить об них и посторонний зритель. 1J человеке, испытывающем приятное душенастроение от созерцания ландшафта, он признает личность, развитую эстетически; в человеке, испытывающем это состояние от ученых открытий, — личность, развитую умственно; в том, кто приходит в это состояние от борьбы за справедливость и общее благо, — личность, развитую нравственно; наконец, в том, кто наслаждается смертию врага, — личность безнравственную и подлую. Или и этот последний суд определяется холодным соображением полезности или бесполезности поступка. «Добро есть польза» — это значит: поступок другого существует только для моего рассчитывающего суждения, а не для сердца, не для чувства; это значит: я отыскиваю в нем полезное, как справки в архиве, как слова s лексиконе! Такова другая сторона нравственности утилитаризма, которая не позволяет ему быть нравственностию души живой, любящей и ненавидящей, сочувствующей и отвращающейся…
Мы, однако же, уклонились от предмета. Предыдущие примеры показывают, что в понятии о добром лежит понятие достоинства предмета или цели, достижением которой человек удовлетворяется. Мот получает такое же удовлетворение, как и честный труженик; на этом пункте непосредственного удовлетворения потребностей оба они равны. Но если в первом из них мы признаем мота, то это произошло от посторонней для удовольствия оценки того предмета или той цели, достиже нием которой он удовлетворяется.
Мы видим, что понятие пользы само есть телеологическое: польза не существует как гора, как набережная, как вещь; она есть то, что она есть, только по отношению к нуждам и стремлениям человека, по отношению к целям, которые человек преследует как нечто достойное. Если наш сочинитель говорит, что «добро есть польза», то, по–видимому, он направляет свою теорию нравственности против морали ригоризма, которая хочет, чтобы мы так же выполняли законы долга, как камень выполняет законы тяжести, — безучастно, не испытывая радости и наслаждения от нравственной деятельности, от торжества правды и добра в наших отражениях и поступках. Справедливо, что такая нравственность несообразна с существом человека: удовольствие, удовлетворение, следовательно, добро или благо, счастие или, пожалуй, польза суть неотделимые мотивы человеческих поступков. Чистейшая христианская нравственность указывает человеку на благо, которое он должен найти в Боге: радость или светлое настроение духа в настоящем, надежда в будущем, блаженство в вечности— таковы состояния, неразлучные с этой нравственной деятельностью.
Индийские аскеты делали отчаянные попытки выключить всякое ощущение счастья и радости из своей деятельности. Встреча с человеком доставляет удовольствие, и вот они дают обет не видеть человеческого образа во всю свою жизнь и бегут в пустыни. Здесь они питаются плодами, которые опять производят ощущение удовольствия, и они решаются заменить плоды травой, невкусной и неудобоваримой. Наконец, они замечают, что самое зрелище дерев и лугов рождает чувство удовольствии, — и они уходят в места скалистые и песчаные. Но u здесь их совесть не спокойна: там в ущельях скал показался аскету прекрасный цветок, другой раз на пего повеяло ароматом или его слух получил приятное ощущение от пения птиц; даже каждый прием скудной и безвкусной пищи сопровождался, хотя легкими, приятными ощущениями, и все это ложилось тяжестью на совести аскета. Отсюда брамаизм очень последовательно пришел к убеждению, что быть человеком — грел и неправда, что существование человека как человека есть порок и зло, потому что где есть человек, там есть и желание, а желание всегда желает приятного. Таковы в самом деле необходимые выводы из нравоучения, которое требует от человека нравственной деятельности, не доставляющей ему удовлетворения или удовольствия, — деятельности, в которой исполняется только отвлеченное правило, неведомо для кого, для чего, из каких интересов, и которая не должна быть одобряема первее всего самим деятелем, потому что всякое одобрение предполагает удовлетворение.
Но отсюда не следует, чтобы нравственная система утилитаризма была более сообразна с существом и достоинством человека, нежели система нравственного ригоризма; ей недостает, как мы видели, идеи достоинства человеческой личности, нераздельной с этим идеи цели, в достижении которой человек находит не только удовлетворение, но и совершенство. Полезно то, что удовлетворяет вашим потребностям; но каковы эти потребности и каковы поэтому предметы, способные удовлетворить им, это мы определяем уже не из идеи пользы, а наоборот, идея польшы изменяется с изменением наших потребностей п понятий о пашем достоинстве и цели нашего существования. Если вы развили в себе потребность, которая удовлетворяется только познанием сущности и законов мира явлений, то, таким образом, вашу пользу, ваше счастие вы можете найти только в истине. Подобным образом говорит Спиноза, что познание Бога есть основная страсть (affectus) человеческого духа, и потому удовлетворение этой страсти, т. е. действительное богопознание, доставляет духу величайшую радость и блаженство. Очевидно, что в этих случаях идея удовольствии или пользы не выключается из области нравственной деятельности, но только изменяется сообразно с задачами, стремлениями и целями, достижением которых дух интересуется. В какой бы области ни действовал человек — в земном мире страстей или в небесном мире истины и добра, — он всегда будет живым существом, следовательно чувствующим удовольствие и скорбь и стремящимся к тому, что доставляет ему счастие и благо. Полезно то, что производит приятное щекотание в нашей коже, хорошее пищеварение в желудке, правильное обращение крови и т. д., полезно то, что развивает паши душенные силы, увеличивает наши познания и нравственные совершенства; полезно то, что приводит нашу деятельность в гармонию с общим благом существ разумных; вероятно, также полезно и то, что приводит нас в согласие с общим смыслом всего существующего или, проще, с волею Божиею, насколько люди знают или надеются знать об ней из различных источников. Но эта система благ, как легко видеть, основывается на системе совершенств и на понятии о достоинстве предметов желания. Или можно допустить, что эти различные потребности, которым удовлетворяют такие различные предметы, развились в духе так просто, а не вследствие того, что он заинтересован идеей совершенства и что эта идея есть для него движущая и определяющая сила? Удовольствие, как удовольствие, существует только для сознания животных: животное удовлетворяется, и только; а чем оно удовлетворяется, это для него безразлично. Человек получает удовольствие от чего‑нибудь, от этого определенного предмета, а знание о том, что удовлетворяет его, рождает в нем оценку предмета как такого и дает ему средства различать цели достойные и недостойные, низшие и высшие; таким образом, он поставляет свое развитие и свои стремления к счастию под идею объективного совершенства, свои влечения он подчиняет сознанию долга и требованиям нравственным. Или другими словами: человек, как и животное, начинает свое существование в патологическом мире непосредственных желаний приятного как такого; на этой точке все его удовольствия существуют, так сказать, у него под кожею — он ищет удовольствия просто ради удовольствия, ради его непосредственного качества. Но из этого патологического мира непосредственных желаний человек, как мы видели, выходит в мир действительный и вступает в область истинно–сущего: развитие свое он поставляет в зависимость от идеи, какую он образовал о своем назначении и достоинстве вещей. Поэтому и свои удовольствия и свое удовлетворение он переносит в этот мир истины и добрії; для него удовольствие, как говорит Тренделленбург, есть торжество цели или идеи.
Утилитаризм н нравственности есть то же, что фетишизм в религии. Как эта форма религии чтит Бога только за то, что он полезен человеку, т. е. доставляет ему помощь и счастие, но она не имеет идеи существа в себе совершенного, в себе достойного, в себе досточтимого, так мораль утилитаризма требует только полезности поступка, не спрашивая, как он относится к той идее, под которою развивается всякий человек. Если бы сочинитель понимал пользу в таком виде, как мы ее изобразили, т. е. как идею телеологическую, стоящую в зависимости от суждений духа о своем назначении, он не затруднился бы допустить философское различие между добром безусловным и добром условным или собственно тем, что он называет пользою. А теперь он віынужден изменять себе, отрицать свои собственные определения, и все это непоследовательно и наперекор своим открытым стремлениям.
Так, во–первых, чтобы слить добро с пользою, он поставляет правило, называемое им теоретическою справедливостию, которое говорит: «Общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного». То есть малочисленное сословие должно преследовать счпи интересы и искать своей пользы настолько, насколько это сообразно с интересами многочисленного сословия и, далее, с интересами целой нации и, наконец, с интересами общечеловеческими. Это — дорогое правило, которое целиком восстановляет нравственное начало, указанное нами иі.іше, потому что, как очевидно, это правило говорит: «Пришивай полезным только то, что приводит твою деятельность в гармонию с общим благом разумных существ». По что рождает эту гармонию частного и общего, сочинитель уже не может сказать; он только требует во имя теоретической справедливости, чтобы человек заботился об этом. По крайней мере, и в настоящем случае добро не есть для него только польза, как в китайском учении и в китайской жизни, но польза, определенная теоретическою справедливостию.
Он говорит, что общечеловеческие интересы выше национальных, национальные выше сословных. Что значит это выше? То ли, что сословие имеет право приносить в жертву своим интересам интересе частных лиц, нация — интересы сословий? Но это привело бы нас к восточному воззрению на общество и на отношения к нему частных лиц с их частными интересами. Сочинитель, по–видимому, только это и умеет сказать, потому что он видит в своем учении о высших и низших интересах применение геометрической аксиомы «целое больше своей части». Мы думаем, что пока человек преследует свои частные интересы в пределах справедливости, до тех пор эти интересы должны быть уважаемы сословием и целой нацией. Это предположение о нравственном праве лица лежит в основании законодательства всех образованных народов. Что целое больше своей части, это всегда справедливо; но не всегда справедливо, что интересы сословия выше интересов отдельного лица. Отдельный человек может поступать сообразно с требованиями долга чести и справедливости, и наоборот, сословие может изменить этим нравственным требованиям. Что же, и тогда интересы бесчестного сословия выше интересов этого честного и справедливого человека? Но главное в том, каким образом, например, маленькая компания кулцов должна приняться за свое дело так, чтобы ее интересы не противоречили интересам целого торгового сословия, целой нации и, наконец, всего человечества? Почему и откуда будет ей известно, что она не вступит в это роковое противоречие? Она будет знать об этом не вследствие невозможного сличения ее нужд с нуждами всех, но из законности и справедливости своих предприятий. Кто мыслит правильно и логически, тот уже не справляется на улице, сообразно ли его мышление с мышлением всех; он уверен внутренно, что его мышление развивается в общечеловеческом направлении. Таким же образом и для примирения частных интересов с общими человек находит правила и законы в себе самом, и когда он поступает сообразно с этими правилами, то он убежден, что его деятельность находится в гармонии с общим благом существ разумных; а интересы большинства, как большинства, никогда не могут стать за одно это законом его поведения. Другие примеры, может быть, так же доказали бы нам, что количественное различие между интересами высшими и низшими, которое выставляет сочинитель как правило доброй деятельности, всегда сводится к качественному различию между правилами или способами деятельности со стороны субъективной и между целями или пред–мотами деятельности со стороны объективной. А кто учит, что интерес большинства за это одно есть выше интереса меньшинства, тот дает такую юридическую теорию, о которой давно забыли образованные и свободные народы.
Во–вторых, сочинитель, размышляя об изменчивости всех внешних благ и о том, что «доброе или дурное употребление внешних предметов случайно», приходит к убеждению, что «действительным источником совершенно прочной пользы для людей от действия других людей остаются только те полезные качества, которые лежат в самом человеческом организме». «Потому, — продолжает сочинитель, — и слово добрый настоящим образом прилагается только к человеку. В его действиях основанием бывает чувство или сердце, а непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности, которая называется волею». Этот человек, которого поступки истекают из воли и основываются на чувстве или сердце, «не может перестать делать пользу людям, — не делать ее выше его сил, не в его власти».
Итак, и сочинитель находит прочный и абсолютный пункт, находит такое безусловное добро, которое есть добро при всех обстоятельствах и которое никогда не может быть злом, — следовательно, добро, о котором уже нельзя сказать, что оно «зависит от обстоятельств, и отношений», как это утверждал сочинитель прежде. Поступки доброго человека непосредственно истекают из воли, т. е. они полезны для другого не так, как полезен воздух или вода, по полезны потому, что самая воля определила быть им таковыми. Добрый человек хочет делать добро, а не только что добро извлекается из его поступков силою обстоятельств, без его ведома. Утилитаризм отрицает здесь самого себя: он уже не довольствуется запросто поступками полезными, но требует еще, чтобы человек нарочито хотел от своих поступков этого качества. Этим он в самом деле возвращает поступкам человека нравственное достоинство, которое он так усиливается заменить расчетом на их полезность, рождаемую единственно сплою обстоятельств и отношений. Он говорит теперь: поступок добр не тогда, когда из него вышла польза для людей, но тогда, когда человек желал, имел именно чту цель доставить людям пользу. Далее, основанием этих поступков «бывает чувство или сердце», т. е., по всей вероятности, любовь, и, по смыслу статьи, любовь к человечеству, и также, вероятно, любовь бескорыстная, потому что сочинитель требует, чтобы добрый поступок истекал из воли, из желания, был намеренно добр. Итак, он имеет идею безусловного добра и происходящую отсюда идею нравственно доброй деятельности; и для него есть небо, где царствует только добро, куда не входит ничто недостойное и дурное и куда не простирается сила случайных обстоятельств и отношений. Правильно ли развита эта идея добра и как она выражена, это другой вопрос, которым мы не будем заниматься.
Но вы можете только глядеть на эту, впрочем, неопределенную, высоту нравственно духовной жизни человека в человечестве и для блага человечества: подняться на эту высоту вы не можете. Сочинитель доказывает вам, «что все люди эгоисты». «…Вообще, — говорит он, — надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все‑таки лежит… мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом».
Может быть, нам не следовало бы и спорить с сочинителем на этом пункте; мы только могли бы пожелать, чтобы он приписал уже и человеку те бескорыстные чувствования, те поступки, основанные «на возвышенном чувстве благорасположения», которые, как мы видели, нашел он в курице. Впрочем, справедливо, что самые добросовестные исследователи человеческой природы затруднялись обозначить нравственные факты, которые со всею определенностию указывали бы на благорасположение или на бескорыстную любовь как на свой единственный источник. Английские философы находили в человеке, кроме эгоизма, благожелание, нравственное чувство, чувство общественности или симпатии как источник особых, бескорыстных деятельностей в пользу ближнего. Все эти предположения хотя не решают спорного вопроса о возможности бескорыстного добра, однако приводят наблюдателя к мысли, что и изъяснение поступков из одного самолюбия не есть что‑либо само в себе понятное и легкое. Давид Юм, философ скептический во всех вопросах, говорит однако же: «Нельзя отрицать, не делая величайшей нелепости, что в нашу грудь влита некоторая, хотя бы то и самая маленькая, капля благожелания, что в нас тлеет искра дружбы к человеческому роду, что наш образ сложен из кусочка голубки с элементами волка и змеи. Положим, что эти благородные ощущения слабы, положим, что они даже недостаточны для того, чтобы приводить в движение руку нашу или хотя один ее палец; все же они должны иметь влияние на качества нашей души и, если все прочие обстоятельства равны, по крайней мере рождать в нас холодное предпочтение общеполезного общевредному».
Так рассуждает скептический Юм. Чтобы понять его последнее выражение, нужно вообразить случай, когда человек одинаково достигает своей личной пользы, изберет ли он путь вредный для других или полезный. По всей вероятности, он предпочтет идти путем последним. Когда нам какая‑нибудь вещь не нужна или когда нам надоела она так, что мы можем или выбросить ее за окно или отдать нищему, случайно теперь попавшему на наши глаза, то, вероятно, мы сделаем последнее без всяких дальнейших расчетов, кроме желания отдать другому то, что не нужно нам и что ему полезно. Здесь в самом деле мы видим эту искру благожелания, о которой говорит Юм.
Но никто так не умел рисовать человеческого эгоизма, как Шопенгауэр. Он показывает мастерски и с верностию глубокого наблюдателя, что этот эгоизм имеет или принимает чудовищные и колоссальные размеры. Том не менее и он не сомневается, «что есть поступки безкорыстного человеколюбия и совершенно свободной справедливости». «Если, — говорит он, — не будем ссылаться на факты сознания, а только на опыт, то доказательством этой последней служат частные, но несомненные случаи, когда бедняк возвращает богачу его собственность, в то время как ему не только не угрожала опасность законного преследования, по и опасность открытия и даже опасность кикою бы то ни было подозрения: например, когда он приносит найденные им деньги потерявшему их владельцу, или когда он отдает владельцу собственность, которую вручил ему кто‑нибудь третий, теперь уже умерший, или когда он тщательно сохраняет и мерно возвращает собственность, порученную ему тайно челонеком, который был вынужден бежать из родины. Без сомнения, есть такие примеры; но удивление, сочувствие и уважение, с какими мы встречаем их, ясно показывают, что они принадлежат к неожиданным случаям, к редким исключениям. В самом деле, есть истинно честные люди, как в самом деле есть четырелистый трилистник». Итак, и Шопенгауэр указывает на эту искру добра в сердце человека, которую воспитание должно раздуть в пламя нравственно живой и воодушевленной деятельности для блага человечества. Мы тем охотнее ссылаемся здесь на Юма и Шопенгауэра, что оба эти философы слишком критически и скептически смотрят на все задачи науки.
Между тем, чтобы не приводить фактов, которые во всяком разе можно истолковывать так или иначе, мы спросим вообще, какие условия представляет человеческий дух, из которых изъясняется его способность к благожеланию, к бескорыстной любви и правде. Если нет таких условий, то каждый человек необходимо смотрит на счастие других только как на средство для своего счастия и все другие опять видят в его счастии только средство для своего счастия, или каждый желает только себе добра, а к. счастию и несчастию другого он равнодушен, он трактует другого как вещь, в которой интересует его не то, хорошо или ме хорошо ей самой, а единственно то, сколько пользы для себя он может извлечь из различных положений этой вещи. Таков истинный смысл учения, что человек действует только по эгоизму; это — механизм в области человеческой культуры, человек поступает, как камень, который стремится прийти в положение, сообразное с его удельным весом Η объемом, а производит ли это стремление давку и домку в окружающей среде, или же оно вносит в нее порядок и правильное движение — этим камень и человек равно не интересуются.
Положим, что это так, положим, что человек заинтересован только своим счастием, а к счастию и несчастию другого он не имеет никакой приимчивости. Однако если история человечества показывает, что везде, где были люди, были и понятия о справедливости как основании общего счастия, если люди на самых низких ступенях цивилизации сознавали, что для своей личной пользы нужно заботиться о пользе других, то здесь мы видим какую‑то мудрую силу, которая вынудила у эгоизма, равнодушного к счастию и несчастию других, холодное, невольное и неискреннее служение пользам других людей для своих собственных выгод. Этот факт кажется нам понятным только потому, что мы привыкли к нему. Хищные птицы и хищные звери живут одиноко, потому что они не могут поделиться добычей. И эгоизм как такой не может делиться добычей; и однако же он делится, и однако же против своего искреннего желания он заботится о пользе других людей. Если предполагают, что к сознанию необходимости этого образа действий он пришел рядом опытов, что в исторических борьбах он осмысляет себя и находит в служении чужой пользе самое прочное, хотя и неприятное средство для достижения собственных интересов, то такое построение общества и идеи общего блага из нужды эгоизма — делать поневоле то, чего он не хочет делать по воле и что несообразно с его понятием, — изъясняло бы только производство или фабрикацию чужой пользы, но не то живое, непосредственное, симпатическое участие в судьбе другого, которое знакомо и душе злодея в ее лучшие минуты. Вероятно, и здесь придется нам сослаться на сердце, как это сделал наш сочинитель по другому случаю.
История человечества начинается непосредственно жизнию лиц в общем, в племени, в роде; долго человек не хочет и не умеет выделять себя и свои интересы из этого общего, его нравственность есть нравы племени, его знание — авторитет старших, он радуется и скорбит не за себя, а за свое племя, за его счастие и несчастие; совершенства и слабости этого целого он относит к себе, как будто определенный дух этого общего есть его непосредственный дух. Общее благо так близко его простому сердцу, так непосредственно и внутренно интересует его. что он долго не может выделить из этой идеи представление о своей частной пользе. Даже предметам неодушевленной природы он дал достоинство, какое находил в себе: он одушіміил их, подложил под них свою душу с ее нуждами п сочувствовал им. Он созерцал вещи не так, как они есть,;і так, как они были бы, если бы все в мире наслаждалось полным счастием. Всякое человеческое дитя начинает свое развитие этим мифологическим сознанием. Живые потребности любящего сердца, еще не охлажденного от опыта, понуждают его видеть и любить жизнь, даже там, где опытный ум не видит ничего живого и воодушевленного. Человек начинает свое нравственное развитие из движений сердца, которое везде хотело бы видеть благо, счастие, сладкую игру жизни везде хотело бы встречать существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви, связанные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме осуществленного всеобщего счастия мир представляется ему как нечто достойное существовать. Так и мы, развитые эгоисты, все же не можем относиться безучастно и холодно, по одному расчету на личную пользу, не только к человеку, но и к самой неодушевленной природе. Когда вы видите, что цветы в вашем саду вянут, вами овладевает какое‑то чувство, похожее на сожаление: вам не хотелось бы, чтобы и эта жизнь страдала. Все, напоминающее вам о страданиях живых существ, вызывает в вас грусть, — грусть не за себя, а за жизнь, совершенно для вас чуждую. Так, уже неодушевленная природа рождает в вас своими впечатлениями чувства не только эгоистические, но и нравственные: ваше сердце испытывает легкое волнение от идеи общего блага, которой осуществление вы хотели бы замечать везде, куда ни обратится взор ваш.
Странными кажутся эти рассуждения об общем благе как хорошо придуманном средстве для достижения личной пользы. Недавно еще господствовало убеждение, что человек придумал словесный язык, соображая те выгоды, какие происходят из предпочтения этого языка языку Жестов. Теперь эта теория брошена, как нелепость, свойственная незрелой науке. Человек говорит прежде, нежели хочет или рассчитывает говорить. Он вовсе не придумывал того, чтобы его ощущения производили особенно сильные рефлексивные движения в органах дыхания и горла: это зависит от первоначального устройства его чувственно–духовной природы. А между тем и доселе некоторые психологи доказывают нелепость, подобную нелепости, о которой мы сейчас сказали, именно что люди, как существа эгоистические, придумали общее благо как средство для личной пользы каждого, что, собственно, только своею личною пользою интересуется человек, а в общем благе видит не общее благо, а простое условие своего частного интереса. Понятно, что рефлекс и, следовательно, придумывание не простирается ни на какие начатки душевных явлений. Шеллинг говорит, что человек, когда он в первый раз обратил отчетливое внимание на свою жизнь и деятельность, уже застал себя охваченным тем нравственным и общественным порядком, который представляет осуществление идеи общего блага в больших или меньших размерах.
В человеческом духе есть нечто похожее на то, что католики называют сверхдолжными делами у Святых своих, есть средства и силы, гак сказать, лишние для целей чувственного самосохранения. Откровение называет этот дух — поколику он свободен от служения чувственным инстинктам — богоподобным. Выше мы видели, что человек сочетавает свои представления не только в том порядке, как этого требует его непосредственная польза, знает о мире не только как о сумме средств, необходимых для его поддержания; он возвышается над этою ступенью животного сознания и знания о мире. По силе своего самосознания он признает право вещей как таких, интересуется знанием способа их происхождения и изменения, знанием общих законов и правил, по которым все происходит в мире, независимо от того, как относится все это к его непосредственной пользе. И так уже человеческое знание выступает за пределы эгоизма и утилитаризма, в которых заключено знание животных. Человек находит удовлетворение в знании как знании, или он находит удовлетворение в перестройке своего мира субъективных представлений по идее истины. Перенесите это отношение в область практической деятельности, и вы поймете, почему человек наперекор своему эгоизму признает право живых существ как таких, следовательно, право их на жизйСь, на радости и блага жизни и почему он интересуется их судьбами, почему их страдания и радости отражаются в его сердце и вызывают в нем сочувствие, участие и любовь. Повторяем: как в своих познаниях, так и в своих поступках он одинаково признает право того, что не есть сам он, и оттого в первом случае он развивается под идеей истины, а во втором — под идеей добра, в первом случае он выступает как знающий истину ум, во втором — как любящее и жертвующее сердце. Если ум, стремясь воспроизвести объективный порядок мира, жертвует для него теми субъективными, хотя часто приятными сочетаниями представлений, которые развились в нем из встречи его личных состояний с случайными влияниями внешней среды, то и сердце имеет эту же способность жертвовать или приносить жертвы для общего блага, имеет способность сдерживать и подавлять эгоистические стремления.
Два психологические факта могут пояснить нам сейчас сказанное. Один из них состоит в том, что наши мысли суть вместе наши конкретные психические состояния, что поэтому всякая мысль — например, мысль о различии лица от вещи, о семействе, обществе, о счастии и несчастий другого, даже такая абстрактная мысль, как представление единства мира, — рождает или может рождать в нас так называемые интеллектуальные чувства, которые суть совершенно бескорыстное участие в положении мыслимого предмета, радость или скорбь за самый этот предмет, а не за наши личные интересы. Животное не имеет этих идеальных чувств, потому что оно не имеет мыслей, которые рождали бы их; поэтому оно вполне эгоистично. И в человеке эти идеальные чувства могут быть подавлены или закрыты более насущными требованиями и нуждами; по тем не менее они готовы пробудиться в нем при первом благоприятном случае. Эгоист равнодушен к счастию других, пока он преследует эту определенную цель; но как только он достигнет ее, то спокойное воспоминание о подлостях, неправдах и человеческих страданиях, которых причиною был он, бывает большею частию неприятно для него. Самое наслаждение достигнутою целию требует еще некоторого усилия для подавления тех хотя легких, но все же неприятных чувствований, которые рождаются от мысли, что он поступил несправедливо. Иначе наслаждается собственностию тот, кто приобрел ее честным трудом, и иначе —тот, кто украл се у другого. Последний не выразил в своем поступке истины, о которой он имеет теоретическое познание, но эта истина или мысли об этой истине тем не менее отзываются в нем чувствованиями, которые теперь противоречат его поведению и рождают или могут родить в нем невольное, неприятное душена строение. Вследствие этого психического отношения между мыслями и идеальными чувствованиями, которые происходят из них, человек ощущает потребность или влечение выражать в своих поступках истину, воплощать теоретически–истинное в нравственно–добром. Если выше мы сказали, что человек хотел бы действовать согласно не только с общим благом разумных существ, но и с смыслом всего существующего, то это желание безусловного нравственного совершенства происходит из тех идеальных чувствований, которые рождаются из наших теоретических мыслей о мире, его основе и его назначении.
Второй факт состоит в том, что эгоизм в своем чистом качестве, как мы изобразили его выше, не существует в человеческой природе: только отвлечением мы выделяем в человеческом духе ряд эгоистических стремлений, которые входят в многосложную систему душевной жизни как одно явление подле множества других явлений. Так, например, когда мы наслаждаемся созерцанием прекрасного ландшафта, то, вероятно, в это состояние наслаждения мы приходим не вследствие эгоистических стремлений. Злой дух, по изображению нашего отечественного попа, смотрел однажды на дивные красоты божественных созданий, и, однако же, «па челе его высоком не отразилось ничего». Эгоизм замкнут для всякого чужого совершенства, для него тяжело, невыносимо признание чужого достоинства, чужого добра. Человеческий эгоизм развивается, напротив, на общем, на родовом или на том, что признано совершенным во мнении других людей. Человек не может наслаждаться тем, чем никто не интересуется, в чем люди, окружающие его, не видят никакого достоинства. В этом отношении он сам ограничивает себя общим, поставляет себя в свободную зависимость от общественного мнения, от господствующих нравов, от принятых в обществе понятий о достоинстве лица, о достоинстве подвига и т. д. Когда лев вспрыгивает на жирафа и гордо несется на этом красивом коне по песчаным пустыням, он не чувствует потребности, чтобы другие видели его торжество и удивлялись ему, он просто наслаждается сам по себе. Человек чувствует эту потребность; он хочет, чтобы его достоинство было признано другими, поэтому в самых эгоистических стремлениях он признает право общего. Он испытывает нравственную потребность, чтобы люди признавали его мнимые или действительные достоинства, которыми он гордится, и в этих тесных пределах он уважает человечество и любит его. Полудикий деспот востока не терпит никакого проявления чужой воли, он беспощадно уничтожает каждого, кто осмелится противиться ему. Но он удовлетворяется не этим фактическим истреблением людей, а чувством, происходящим от мысли, что другие в этих действиях будут признавать, ого неодолимое могущество, которое, по суду дикого общественного мнения, составляет высшее достойна но человека. Он не хочет истреблять людей, он хочет, чтобы они жили и могли судить об нем; только ом не может выносить, чтобы его воля встречала где либо препятствия и ограничения.
Таким же образом когда животное преследует определенную цель, достижением которой оно удовлетворяется, то весь остальной мир, лежащий пне этой цели, не имеет на него никакого влияния: оно относится к нему равнодушно и безучастно. Человеческий эгоизм также преследует частную и определенную цель, эта цель есть как бы его специальность. Однако же при этом человек не остается равнодушным ко всему остальному миру. Именно, эгоист попирает человечество только там, где оно противоречит его эгоистической частной цели; во всех других случаях для него существует или остается психическая возможность уважать это человечество, содействовать его счастию и любить его. Так, тот же деспот востока истребляет всех, кто противится его безграничной воле, кто хочет ограничить эту волю; но если отсюда вообще по следует, что эта не терпящая ограничений воля есть необходимо зложелательная, то и в частности этот деспот любит человечество в своих предках, предшествовавших ему героях, даже в героях чужих стран; он может уважать мудрецов и художников своей страны, может быть беспристрастным и справедливым судьею в деле, которым он лично не заинтересован, может интересоваться свободною благодарностию и неподдельным уважением людей и т. д. Во всех этих отношениях он — человек, его сердце способно к правде, любви и человечности.
Итак, мы видим, что в человеческом духе действительно есть условия, которые взаимным трением рождают «искру благожелания», способную при лучших обстоятельствах воспламенить всего человека на подвиги правды и любви. Человек не есть злой дух, всегда разрушительный, как он не есть и светлый ангел Естественная потребность самосохранения или самоподдержания может развиться в нем до крайних пределов и обратить–ся в эгоизм, равнодушный к правде и любви и жертвующий для своей пользы чужим счастием. Но, как мы видели, эти эгоистические стремления не суть все душевные стремления: человек все же остается человеком, он находит человечество первее всего в себе, в своих понятиях и невольных сердечных движениях, как и в своей судьбе, которая слишком тесно связала его с другими, с родом; поэтому с какой‑нибудь стороны в нем всегда остается психическая возможность любви, сострадания, участия, уважения к другим и т. д. Мы приведем здесь некоторые из фактов, которыми наш сочинитель доказывает эгоистическое начало и эгоистическую цель всех человеческих поступков.
Он говорит: «Если муж и жена жили между собою хорошо, жена совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя тошно жить на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них смысл жалобы, и них основа печали. Возьмем чувство еще гораздо высшее, чистейшее, чем самая высокая супружеская любовь, — чувство матери к ребенку. Ее плач о его смерти точно таков же: «ангел мой! Как я тебя любила! как я любовалась на тебя, ухаживала за тобою! скольких страданий, скольких бессонных ночей ты стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!» и тут опять то же «я, мое, у меня». Другими словами, сочинителю хотелось бы, чтобы мы выключили из нашей деятельности наше я, которое, однако ж, есть источник этой деятельности; ему хотелось бы, чтобы мы выключили из нашей жизни наши радости и страдания, без которых, однако же, и эта жизнь не была бы наша; только под этими условиями он был бы готов признать эту деятельность и эту жизнь неэгоистическою. Но выше мы показали, да и теперь видим, что такое требование ригористической морали невыполнимо, что наше я всегда будет там, где есть наша — все равно, нравственная или безнравственная—деятельность, что наша живая душа всегда будет испытывать определенные приятные или неприятные ощущения — все равно, будем ли мы делать добро или зло, будем ли мы преследовать цели эгоистические или действовать для счастия других. Эгоизм не в том состоит, что мы не выключаем себя и нашего счастия из нашей деятельности, но 8 том, что мы выключаем из этой деятельности других людей и их счастие или смотрим на них при этом только как на средство нашего счастия. Известно, что люди, которые с нравственным воодушевлением и героизмом ухаживают за больными но время господства эпидемических болезней, менее всего подвергаются опасности заразы, и наоборот, люди, которые со всею тщательностию заботятся в это время только о хорошем состоянии своего желудка, не так безопасны от заразы, как эти герои. Известно вообще, что нравственное мужество, душевная доблесть отражается н пишем организме как физическая сила. Эти факты пришиты медициной и психологией. Но, после этого, каким образом вы можете выключить свое счастие н. ч тех нравственных стремлений, которые вы направляете ни благо других? Нравственность не есть ряд правил, а сеть жизнь, и притом самая нормальная; поэтому они воздействует или может воздействовать благотворными влияниями даже на наше физическое существование.
Впрочем, положим, для изъяснения дела, что жена будет говорить над гробом мужа таким образом: «Это ужасная неприятность! я не могу перечислить, сколько я потеряла в нем. Он получал огромное жалованье, пользовался квартирным пособием, казенным отоплением, да еще имел случайные доходы. Я могла держать экипаж, чистую прислугу, могла выезжать на бал и у себя принимать изящное общество. Теперь я должна отказаться от всего этого. Вообразите мое положение: я так люблю наряжаться и танцевать. Я скорее согласилась бы потерять мою прекрасную дачу, нежели лишиться моего мужа. И не знаю, каким бы образом выйти мне из этого дурного положения, и притом как можно поскорее». Заметим, что подобным языком может выражаться и благородная женщина, если дело идет о потере имения или даже о перемещении мужа на другую, менее доходную должность. Но что сказали бы вы о женщине, которая говорила бы таким языком при гробе мужа? Вероятно, вы отвернулись бы от этого нравственного чудовища; а между тем выражения, в которых наш сочинитель заставляет высказываться вдову и мать, вызывают ваше участие. Итак, откуда эта разница в чувствах постороннего зрителя? Она произошла оттого, что в приведенных нами последних словах муж рассматривается как вещь, как собственность, как имение; об нем жалеет жена как о потерянном средстве для своих личных удовольствий. Это подлинный эгоизм, — эгоизм в своем чистом качестве, и он‑то так действует возмутительно на сердце постороннего, не заинтересованного в деле зрителя.
Вообще, когда наш сочинитель превращает все человеческие поступки в эгоистические, то он рассматривает душу как струну, которая в одну единицу времени и от одного внешнего толчка может издавать только один тон. Но мы хотим не этой монотонной жизни; мы только требуем, чтобы различные тоны, вовсе несоизмеримые сами по себе, давали целостный аккорд, приятный для нравственного чувства. Особенно нежный плач матери по своем сыне, жены по своем муже не есть такое явление, в котором открывалось бы только нравственное чувство и ничего более: в нем — в этом явлении — встречаются и пересекаются множество душевных интересов, стремлений и состояний, которые можно бы разложить на определенные порядки. Но из этой сложности явления, из того, что явление не состоит из одного душевного элемента, из одного душевного движения, следует только, что человек воплощает свои нравственные чувства и идеи кс где‑нибудь в пустых, ничем не наполненных пространствах мира, но в действительных состояниях своей души, в ее порывах, нуждах и стремлениях. Мы даже не можем вообразить в человеке такого нравственного поступка, в котором можно бы видеть, например, только голую справедливость, держащуюся на самой себе, или только выполнение абстрактного долга и который не имел бы еще другого особенного содержания и не представлял бы для нас еще других разнообразных интересов. Так, рафаэлева Мадонна существует для нас не только как прекрасный образ, но и как ряд линий различной величины и как группа различных красок; но это обстоятельство вовсе не противоречит тому, что она есть прекрасный образ, удовлетворяющий нашему эстетическому чувству. Человек не есть машина, движимая каким‑то нравственным механизмом и равнодушная к Тому, что вырабатывается этим движением. Вы хотели бы убить в человеке всякое влечение, всякую жизненность и теплоту, чтобы потом сказать ему: «Теперь ты можешь поступать как нравственная личность, потому что когда ты сделаешь другому бескорыстную услугу, это не отразится в тебе никаким чувством удовлетворения; ты будешь делать добро другим, не желая этого; а так как всякое желание направлено на предмет, его удовлетворяющий, то в настоящем случае это добро, которое ты делаешь другим не желая, не будет иметь к тебе никакого отношения, не будет иметь для тебя никакого вкуса: это мы называем бескорыстным поступком. Во всяком другом случае ты, как мы утверждаем, будешь действовать эгоистически, потому что добра другому ты будешь желать, заметь, буднім, желать, т. е. будешь находить свое удовлетворение, снос благо, свой рай, свое небо в том, чтобы делан, других счастливыми, уменьшать их страдания, достанлип. торжество правде и т. д.».
В самом деле, на этих, впрочем невысказанных, предположениях основано иге учение нашего сочинителя о том, что все поступки человека происходят из эгоизма. Он говорит, например: «Друг, проводящий целые недели у постели больного друга, делает пожертвование гораздо более тяжелое, чем если бы отдавал ему все свои деньги. Но почему он приносит такую великую жертву, и в пользу какого чувства он приносит ее? Он приносит свое время, свою свободу в жертву своему чувству дружбы, — заметим же, своему чувству; оно развилось в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает большую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий» и т. д.
Это изъяснение пожертвований друга как раз подходит под странные нравственные правила, которые мы привели выше. Сочинитель соблазняется тем, что друг не только приносит большие жертвы, — приносит их не так себе, а еще желает приносить их, испытывает потребность и влечение проводить дни и ночи у постели больного друга. В этом же изъяснении сочинитель рассматривает чувство дружбы так, как оно существовало бы только в тупом и неосновательном сознании животных. Выше мы сказали, что для животного удовольствие или удовлетворение есть абсолютный пункт, неразложимый, ничем внешним не измеряемый; какой предмет доставил ему это удовлетворение, — вопрос этот не занимает его, оно не думает об оценке достоинств самого предмета. В таком ли положении находится сознание человека, жертвующего своим покоем и временем для выздоровления своего друга? Судя по изъяснениям сочинителя, мы должны бы предположить, что жертвующий друг может рассуждать наедине таким образом: «Мой друг опасно болен: оно бы и ничего, пусть себе валялся бы он в больнице, пусть себе страдал бы он и умер; я к этому совершенно равнодушен; только у меня сильно чувство дружбы, которому я не могу удовлетворять, пока он в больнице и когда он умрет; я вовсе не забочусь собственно о нем; если бы на его месте была моя собачка, т. е. если бы она так же удовлетворяла моему чувству дружбы, я и для нее пожертвовал бы всем тем, чем жертвую для него, потому что предмет, на котором удовлетворяется мое чувство дружбы, безразличен для меня; так оно водится между животными, так веду себя и я». Предоставляем другим судить, возможно ли это отношение, которое в самом деле было бы эгоистично, как этого желает наш сочинитель.
Пример Лукреции, которая «закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний», всего скорее мог бы показать нашему сочинителю, что человек не наслаждается удовольствием непосредственно и безусловно, как животное, но что его удовольствия стоят в зависимости от той идеи, какую он образовал себе о достоинстве предметов или целей своей деятельности. «Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний»; она страдала от того, что ее настоящее положение не соответствовало идеалу женской чистоты и достоинства. Представьте, что она заколола бы себя, потому что ее башмак оказался н одном собрании римских матрон нечистым, или потому что ее любимая собачка пропала, или потому что одна из матрон оказалась красивее ее, или потому что ее муж оказался неверным, наконец, «закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний». Во всех этих случаях вы сделаете совершенно различную оценку ее нравственной личности: в первых случаях вы найдете ее женщиной пустой, тщеславной, завистливой, ревнивой; в последнем она рисуется в вашем воображении как женщина достойная и благороднейшая, для которой жизнь теряет всякую цену, как только она несообразна с своей идеей. Наш сочинитель говорит, что «Лукреция поступила в этом случае очень расчетливо», «Лукреция справедливо нашла, что» и проч. Можно бы подумать, что эта очень расчетливая женщина собирала совет матрон и предлагала им на обсуждение, нужно ли ей убить себя или нет? И как это сообразно с фактами психологии!
Окончим наш разбор статей «Антропологический принцип в философии» общими замечаниями. Эти статьи действительно принадлежат к философии реализма,; от которой мы имеем и ожидаем так иного доброго и плодотворного для науки и жизни, но они не знакомят нас с действительными выводами этой философии. Знаком ли сочинитель даже с именами философов этого направления, неизвестно; а что он не знаком с их психологическими и философскими теориями, несомненно. Он говорит о предметах философии как будто понаслышке. Он слышал, что философия реализма разрабатывает свои задачи по методе естествознании и есть, так сказать, естествознание на почве психических явлений, — и, как кажется, отсюда пришел к мысли искать изъяснения душевных явлений в химической лаборатории. Он отвергает в человеке нематериальное нимало потому — как мы видели, — что его нигде не видно, он ни одним словом не показал, чтобы он имел ясное представление о самовоззрении и самонаблюдении как особенном источнике психологических познаний. Таким же образом метафизическое учение о единстве бытия и физическое учение о единстве материи по всем чувственном мире послужило для пего поводом к смешению и к слитию различных порядков явлений — неорганических и органических, органических и духовных, и только непонятое им учение о превращении количественных разностей в качественные возвратило миру тот порядок и ту постепенность в развитии явлений одного из другого, какие мы ежедневно наблюдаем. Наконец, принимая с множеством народа, что всякое воззрение, взятое в своей непосредственности, есть уже факт науки, сочинитель не нашел особенных отличий жизни человеческой от животной, признал за душою человека только животную способность действовать по эгоистическим побуждениям и отказал человеку по всяких средствах и условиях, при которых он мог бы развиться в нравственную личность. На этом пункте его реализм переходит в номинализм — сочинитель думает, что предметы, означаемые именами: память, воображение, мышление и т. д., так же везде одинаковы, как эти имена.
Отдельные замечания, которые мы противопоставили этим будто бы философским теориям, надеемся, показывают, что сочинитель их не знаком с делом, за которое взялся. Очевидные логические погрешности рядом с метафизической путаницей; признание метафизического достоинства за некоторыми частями естествознания; наивная вера, что вещи, которые мы видим и осязаем или о которых говорит химия, суть вещи в себе, а не явления; представление духа как предмета, наблюдаемого совне, и притом предмета в себе бескачественного, который всякой мысли, всякого стремления, всякого желания должен ожидать не от своей натуры, а от милости внешних обстоятельств; похвальные песни высокому уму и благородному сердцу животных, наконец, отрицание в человеке всякой моральной натуры, даже и такой, какую сочинитель приписал животным, — все эти предположения и положения далеко не обозначают современного состояния психологии. Конечно, детство в философии будет всегда, пока будут люди на земле: философия, как говорят, принадлежит общему образованию, но поэтому можно сказать, что она принадлежит и общему невежеству. Статьи, которые мы рассмотрели, не только не изъясняют психических явлений, но сами представляют психическое явление, интересное в некоторых отношениях. Посмотрите, в самом деле, на их диктаторский тон на всезнание сочинителя, на его презрение к людям, которые искренно признаются в затруднениях, связанных со многими психологическими вопросами, на эти странные уверения сочинителя, что для него тут все легко, все просто, все понятно, — посмотрите на то, как он всякую путаницу выдает за строгий вывод точных наук, как ом пугает читателя постоянными напоминаниями, что он — сочинитель — принадлежит к числу естествоиспытателей и что глупо спорить с его положениями, как с истинами точной, математически точной науки, — посмотрите, наконец, на это циническое сознание сочинителя, что он пишет о том, о чем ничего не знает, что он занимается «пустословием», щеголяет «знакомством с такими вещами, с которыми, в сущности, он мало знаком»: не есть ли это ряд психических явлений, которые можно бы изъяснять из других, более специальных начал, нежели к"акие изъясняют душевную жизнь человека вообще? Вспомните только, что эти вопросы, которые не представляют для сочинителя ровно никаких затруднений, в самом деле решаются где‑нибудь в центрах Африки с несравненно большею легкостью, нежели в центрах Европы. Но мы приведем здесь коротенькую выписку из Давида Юма. «Я убежден, — говорит этот философ, — что в тех случаях, когда люди говорят особенно дерзко и заносчиво, они всего чаще обольщаются и повинуются страсти, не взвешивая и не ограничивая своих положений, а между тем только одно это могло бы избавить их от величайших нелепостей». Эта выписка избавляет нас от обязанности изъяснять явления, на которые мы сейчас указали.
Материализм и задачи философии
Если вообще суждения о явлениях современных не могут отличаться единством и законченностию, то неустановившиеся и разноречивые суждения о характере и достоинстве современной философии, может быть, имеют свое особое историческое основание. По мере того как положительные науки развиваются все более и более, открывая факты и их соотношения, о которых непосредственное человеческое сознание не имело никакого представления, общество предъявляет философии такие сложные и тяжелые требования, которым уже не удовлетворяют прежние, так богато и величественно развитые системы идеализма. Каждый новый факт в области положительного знания природы или истории имеет сторону, неизъяснимую по началам и приемам физики, и этот остаток бытия всегда будет ожидать метафизики, которая изъяснила бы его, по крайней мере приблизительно. Таким образом, задача философии усложняется и затрудняется, по мере того как положительные науки открывают человеческому сознанию ту или другую часть мира явлений, о существовании которой человек доселе, может быть, вовсе не думал. Быстрое изменение философских систем в XVIII и в начале XIX столетия идет об руку с быстрыми открытиями в многосложной области естествознания, как и в частном человеке, идеи изменяются, чередуются, вытесняют одна другую и преобразуются, смотря по большему или меньшему количеству вновь открываемых и наблюдаемых им фактов. И если системы последнего идеализма не удовлетворяют нас, то это, может быть, еще ничего не говорит против их достоинства. Скорее всего, этим обозначается, что мы живем в другом мире, — в мире других явлений, других фактов, которые необходимо отсылают нас и к другим идеям. В самом деле, эти системы, неудовлетворительные, если рассматривать их с научной точки зрения, отличаются тем неподдельным воодушевлением к лучшим идеалам человеческого духа, тем героизмом мысли и чувства, в которых вообще мы можем видеть выдающуюся, характеристическую черту всех явлений этой эпохи; поэтому они всегда будут обнаруживать притягательную силу ш умы и сердца, способные сочувствовать всему высокому и прекрасному. Философия наших дней подобным же образом выражает наше время с его практическими, рассчитанными стремлениями, с его здравым смыслом, который идет вперед, оглядываясь и благоразумно обозревая все пути, чтобы не оставить прочной почвы действительности; поэтому, каково бы ни было ее научное достоинство, она может показаться бледною сравнительно с прежними системами. Может быть, из этих обстоятельств нам придется изъяснять часть жалоб на упадок философии в настоящее время, хотя эти жалобы вообще имеют основание более сильное. Именно, явление материализма и широкое распространение его в массах — вот то обстоятельство, в котором очень многие видят признаки упадка философии в настоящее время. В Германии различные философские партии взваливают друг ii л друга ответственность за это состояние философии. Одни говорят, что диалектика Гегеля, превратившись в ограниченных умах в искусство Горгиаса доказывать по доброму желанию pro и contra с одинаковою силою, породила в обществе недоверие и нерасположенность к философии как науке мышления и вызвала, как необходимое противодействие, материалистическую теорию, которая воображает, что стоит на почве опыта и опирается в своих выводах не на чистое мышление, а на чистое воззрение. Другие, как последователи Герба рта и Бенеке, обвиняют прежнюю философию в одностороннем идеалистическом направлении и надеются восстановить ее значение, обосновав ее выводы на прочных и достоверных опытах. Иные, как, напр., Лотце, видят недуг настоящей философии не в слабости опытных оснований, которые добывать так удобно и легко и которые, однако же, никогда не определяют окончательно философских воззрений и идей, но в неясном и сбивчивом понимании тех метафизических предположений, без которых невозможен никакой опыт. Наконец, большинство, и во главе их Шопенгауэр, видят причину зла в непонимании Канта и его философских тенденций. Конечно, все эти споры, как парламентские прения в Англии, не должны быть принимаемы за беспристрастное выражение действительности. Как партии на почве политической, так и партии в области философии могут преувеличивать действительное зло, чтобы тем сильнее предъявлять необходимость защищаемых ими начал, так что эта борьба, эти взаимные порицания в области философии иногда могут обозначать богатство и жизненность философского развития мысли, для которой уже поэтому кажутся недостаточными все существующие исторические формы философии. Ни одна эпоха не умела смотреть на себя так критически, не умела так жестоко осуждать себя, как наша эпоха: а это возможно в настоящее время особенно потому, что никогда еще закон обособления (спецификации) не имел такого всестороннего применения к жизни и науке, как в наше время. Древность, развивавшаяся под началами слитными и монотонными, не успевшая дать свободу и самостоятельность частным формам духовной жизни, должна была пасть и действительно пала пред силой отрицания и критики, потому что в этом случае отрицание и критика не оставляли человеку почвы, которая при свободном, обособленном и своеобразном развитии частных форм человеческой жизни всегда остается нетронутою с каких‑нибудь сторон или в каких‑либо местах. Так, например, философия XVIII века, несмотря на решительное отрицательное направление, какое приняла она по отношению к историческим, существовавшим формам человеческой жизни и мысли, не оставляла человека без всякой почвы; напротив, она определенно и сознательно указывала ему в нем самом начало такое прочное и незыблемое, которое недоступно самому решительному отрицанию. Поэтому если критический момент нашего образования поднимается иногда на степень принципа и часто обнаруживается как крайнее отречение от всего добытого и добываемого человеческим духом; если, соответственно с этим отречением, некоторые мыслители пытаются поставить нас материалистически на ту почву, на которой никогда еще не развивалось человечество в своей исторической жизни; если, таким образом, скептицизм и материализм суть бесспорные явления нашей эпохи, — то все же было бы поспешно заключать, что в них, в этих отрицательных явлениях, выражается душа и сердце всей нашей цивилизации.
Справедливо, что в настоящее время в особенности материализм имеет партию, сильную, по крайней мере, своею числительностию и значением в области естествознания. Как при настроении общества идеалистическом возникает в нем наклонность к мифологии, к вере в привидения, в создания фантазии, заслоняющие собою действительность, так настоящий материализм может быть рассматриваем как побочный продукт реалистического настроения нашей цивилизации. Мы так много обязаны мертвому механизму природы, в области которого деятели и двигатели оказываются тем совершеннее, чем они пассивнее, что фантазия невольно рисует образ простои, пассивной материальности как чего‑то основного, лежащего на самом дне явлений: она хотела бы все движения так называемой жизни изъяснять так же просто и удобно из механических отношений материальных частей, как изъясняет она движения паровой машины. Чарующая мысль, что в случае успеха этих изъяснений мы могли бы так же просто управлять судьбами своими и других людей, как ныне управляем движением машин служит едва ли не самым задушевным побуждением к материалистическим воззрениям. Если бы действительность была во всех своих откровениях материальна, го основном закон механики, которым выражается равенство действия и противодействия по всех движениях вещественной природы, простирался бы без границ на все существующее; а так как этот закон содержит в себе основу для всех изобретений в области механики, то мы уже не находили бы в природе явлений, не покоряющихся изобретательному гению человека. Недавно один ученый этого направления1 распространился об устройстве и механическом образовании человеческого организма и вообще человеческого существа с таким всезнанием, что наконец сам почувствовал необходимость предостерегать читателя от возникающей при этом надежды — и. чобрееть или построить этот организм и все -jto существо искусственными средствами человеческой механики; впрочем, он умеет противопоставить этой мечте не решительные основания, а только случайные обстоятельства, каковы, напр., что человек не может построить таких нежных сосудов и изобресть такие тонкие инструменты, какими пользуется природа; и очевидно, что подобным образом за сто лет назад могли бы опровергать мечту о пароходах и телеграфах, которая, однако же, в настоящее время осуществлена. Итак, ненасыти–мая жажда знания, стремление сделать все бытие насквозь прозрачным, не оставить ни одного пункта в действительности не разложенным, не выведенным, стремление рассчитывать и предопределять мысленно всякое явление и его будущность с математическою точностию, — вот те психические мотивы, которые, по нашему мнению, условливают явление материализма в настоящее время. Предположение абсолютного знания возможно сделать только на двух основаниях: или мы должны допустить, что содержание нашего мышления есть безусловно внутреннее, или, напротив, что содержание бытия есть безусловно внешнее. В первом случае безусловное знание будет возможно потому, что мышление, как все бытие в идее, будет содержать в своих логических формах и их процессах формы и процессы всего сущего; в последнем — потому, что само сущее не противопоставит нам ничего внутреннего, простого, не поддающегося анализу и существующего безусловно. Материализм настоящего времени решает под другими формами ту самую задачу знания, под тяжестию которой пал абсолютный идеализм. И если этим обозначается историческая, следовательно условная, необходимость его появления, то с другой стороны π этой идее знания мы видим его глубокое отличие от материализма времен языческих, потому что последний не вызывал мысль и волю человека на энергическую деятельность, но хотел нарочито парализовать нее его стремления, погрузить его дух в состояние покоя, сонной невозмутимости αταραξία и апатии ύπάθвια Теория атомов, развитая в древности, оставалась бесплодною, для знания, пока не были открыты и приведены в определенные, математические формулы законы механики; поэтому она получила в древности значение преимущественно нравственное. Материалист успокоивал свое сердце учением, что мир равнодушен к судьбам человека, что человек не должен возмущать свой внутренний покой представлениями будущего, которого он по истине не имеет, или сознанием тяжелых умственных и нравственных задач, которые предлагались бы ему объективным свойством мира; вместо этих тревожных стремлений, которые были бы неизбежны, если бы мир был явление разумное, он должен заключиться в свои личные интересы л искать покоя и удовольствия как последней цели своего личного существования и как высочайшего блага своей частной души, потому что благо как нечто объективное, как содержание мира не существует: мир материален, он управляется необходимостию или случаем, а не умственными или нравственными идеями. Как этот материализм хотел успокоить тревожные стремления человека к истине и добру как к задачам, вытекающим из неведомого существа мира, и собственно для этой цели он учил, что «истина сокрыта в колодезе», так современный нам хочет убедить нас, что истина совершенно открыта для человека, что знанию человека все доступно, все прозрачно, потому что во всецело материальной природе вещей нет таких непроницаемых сторон, которые необходимо было бы отчислить из светлой области знания в темную область чувствований, поэтических чаяний и религиозного вдохновения. Всего нагляднее представляется это различие в том, что древний материализм хотел остановить порывы метафизики, тогда как новейший хочет обогнать ее и идти далее: он упрекает метафизику в том, что она слишком рано указывает человеку опорные пункты, далее которых он не может проникать своим знанием; он видит н метафизических илеях успокоивающие мечты, которые надеется разогнать, поступая при изъяснении действительности нес. далее и далее, и не останавливаясь ни на одном явлении как на простом и неразложимом. Таким образом, этот материализм выражает, конечно, своеобразно и отчасти, характер и направление нашей эпохи, рефлексивной, стремящейся проникнуть светом знания все, что доселе было дорого для нас именно своею непосредственностию, стремящейся все вывести, все изъяснить, все понять и в развитии форм духовной жизни по возможности опираться на началах знания, не предоставляя этого развития непосредственным и неясным духовным инстинктам или столько же безотчетным, хотя часто и прекрасным требованиям сердца. Ум поэтический и дух религиозный первее всего имеют полное основание жаловаться на эту прозаическую, рассудочную жизнь и на эту философию материализма, для которой мир есть нечто слишком сухое и бедное, слишком рассеивающееся для того, чтобы человеческий дух, ищущий сосредоточенности и жизни, мог привести в ясность свои задачи и нужды посредством познания окружающих его явлений. Однако же если этим уже указывается ограниченность материализма и его неспособность удовлетворить всесторонним духовным требованиям человека, то, г другой стороны, как видно из предыдущего, он не может служить признаком упадка мышления и интеллектуального развития нашего общества. Если уже раз дана возможность этого миросозерцания, то оно должно пробежать в истории все степени развития, какие вообще лежат в существе его, чтобы таким образом высказать все свое право или поправо: идея, говорит Шеллинг, должна проходить все возможности, содержащиеся в ней, и таким образом созидать свою историю. В древности материализм выступал как воззрение, успокоивающее человека, усталого и так много потерявшего в исторической борьбе за свои разнообразные интересы. В XVIII столетии он является как воззрение, которое отрешает человека от всякого предания, от всех авторитетов, чтобы тем сильнее вызвать его на борьбу с ними за новые, доселе неведомые интересы. В наше время он хочет стать наукою, и, по крайней мере, законы механики, которыми он пользуется как правилами логики, имеют такое научное достоинство, что с этой формальной стороны материалистические воззрения едва ли могут быть развиваемы далее. В самом деле, ожесточенная борьба, которая недавно еще происходила на почве философии и естествознания за право или неправо этого воззрения, доказывает, что эта теория выяснила себя, и, может быть, из этой борьбы, которая продолжается и доселе, откроется наконец, какое определенное место и в каком значении должна занять эта теория в целостной области человеческого миросозерцания.
Мы не будем входить в историю этой борьбы; мы хотели бы изъяснить только то отношение, какое имеет материализм к метафизике, потому что хотя эта последняя и не существует как определенная система знания, однако же она представляется довольно ясною как система определенных задач, указывающих своим особенным содержанием и смыслом на те научные приемы, которые было бы необходимо исполнить, чтобы решить эти задачи; и таким образом мы не подвергаемся здесь опасности изъяснять явление неясное посредством другого явления, еще более неясного. При этом мы должны будем повторять критические замечания на материалистические воззрения, насколько это необходимо для изъяснения их связи с метафизическими задачами. Впрочем, все эти исследования мы ограничим областию так называемого атомизма, потому что так называемое динамическое воззрение не есть необходимо материалистическое. Кто хотел бы изъяснять единство духовных и материальных явлений из деятельности первоначальных, непосредственно существующих сил; кто видел бы в материи феномен, полагаемый этими силами на одной стадии их развития, а в духе феномен, рождаемый этими же силами, только на другой стадии, тот, очевидно, не утверждает этим, что материальность или вещественность есть первоначальное и единственное содержание истинного, нефеноменального бытия; напротив, где только отвлеченное понятие силы заменяется конкретным, как это и необходимо в метафизике, там этот динамизм скорее всего переходит в идеализм. Поэтому, например, идеализм Шеллинга при переходе из метафизики в физику делается динамизмом. Только в атомизме мы имеем недвусмысленную теорию материалистическую, потому что эта теория принимает атомы как первоначальные основные формы бытия и вместе как части или частички материи, так что материя составляет здесь не феномен, а основу и сущность мира явлений.
С разных сторон в Германии и у нас доказывали, что этот материализм только обещает изъяснить свою проблему, а в действительности нисколько не изъясняет ее. Он занимается, можно сказать, исключительно одним, самым определенным и ограниченным пунктом в явлениях действительности, именно пытается найти непосредственный переход, непосредственное превращение явлений физиологических в явления психические. Вся эта задача поставлена строго и определенно на почве физики и решается по методе, которая привела к таким блестящим результатам в области естествознания, то есть решается на предположении, что явление изъясняемое, в этом случае психическое, отличается от явления изъясняющего — физиологического — только большею сложностию и запутанностию одних и тех же основных элементов. Итак, решительное основание этой теории лежит в области явлений, доступных научному опыту и анализу, и мы еще не можем сказать об этой теории, что она, как метафизическая, как выступающая из абстрактного понятия вещества или материи, не есть наука. Справедливо, что она пользуется этим общим и абстрактным понятием как основною мыслию, в которой дано для нее сознание об истинном содержании мира явлений; но если это понятие дает ей характер метафизический, то легко видеть, что оно само по себе еще не лишило бы ее достоинства науки. Здесь мы наглядно удостоверяемся, что это скептическое разделение между наукою и метафизикою не может быть допущено безусловно, потому что слабость материализма заключается вовсе не в том, что он изъясняет явления из мысли общей, отвлеченной и в этом значении метафизической. Физиолог говорит не о веществе вообще пли in abstracto, а об этом видимом и осязаемом нерпе, который никак не обладает абстрактным бытием и пашей мысли. Он спрашивает: движения, изменения и состояния этого нерва не суть ли полная и достаточная причина или источник этого психического явления? Он ищет причинной зависимости между двумя данными и конкретными явлениями, без всяких метафизических предположений, — ищет так точно, как и в других случаях физического исследования. И если бы наконец этому физиологу удалось найти фактически, что изменения и состояния такого‑то нерва или такой‑то части мозга рождают, без всякого постороннего принципа, такие‑то психические явления, что изменения и состояния этого другого нерпа пли этой другой части мозга рождают другой ряд психических явлений и т. д.; если бы он па основании этих опытов сделал заключение к общей и отвлеченной мысли, что вещество есть единственная основа всех явлений в области телесной и психической, что следовало бы сказать тогда об этом материализме? Мы сказали бы: хотя понятие вещества есть отвлеченное и общее, однако процесс отвлечения и обобщения совершился здесь так правильно и над такими бесспорными фактами, что эта метафизика имеет полную, научную достоверность или, по меньшей мере, что этот материализм есть эта частная паука, доказывающая частный случай полной зависимости психических явлений от физиологических с математическою достоверностию; посему он может стать метафизикой с научным достоинством, если ему, на основании этого достоверного физиологического открытия, удастся образовать такое общее понятие о веществе, которое, как ниоткуда более не выводимое, как последнее предположение знания и бытия, было бы оправдываемо внутренне» или логически. Это последнее различие мы делаем потому, что положение математически достоверное в кругу данных условий не есть уже поэтому положение метафизическое. Если бы физиолог доказал свой тезис с математическою очевидностиго, то и в этом крайнем случае мы еще не имели бы непосредственного права по–строивать из факта науки материалистическую метафизику, для которой вещество есть первоначальная основа всех явлений мира. Как доказывает история философии, самые достоверные, научные данные открывают для мысли возможность различных метафизических предположений: а в таком случае выбор одного из этих предположений нужно было бы определять, кроме достоверных фактов науки, внутреннею или логическою оценкою. Опыт никогда не дает окончательного оправдания нашему мышлению, которое, бесспорно, должно повиноваться как опытам, так и своей внутренней закономерности. Как в математике самый непогрешительный анализ приводит иногда к величинам мнимым, то есть не имеющим никакого смысла, так самая точная наука еще не дает непосредственно метафизической мысли, еще не ручается за то, чтобы эта мысль не уничтожалась от внутреннего противоречия. Этим мы обозначаем тот простейший прием, посредством которого условливается переход от частных фактов и познаний к метафизическим воззрениям, и очевидно, что метафизика при этом не потеряла бы нисколько научного достоинства, если бы только она была прочно обоснована на достоверных фактах. В наше время, напротив, господствует в массах убеждение, что самое понятие метафизической истины есть нечто несостоятельное пред судом науки. Когда Гегель учил, что истина дознается только одним логическим, следовательно внутренним, оправданием или что логическое и истинное безусловно тождественны, потому что из себя развивающееся мышление не нуждается в предположениях, лежащих вне его, в области воззрения и опыта, то наука справедливо признала это учение односторонним. Однако же многие в его отрицании идут так далеко, что наконец считают излишним всякое логическое оправдание того, что сознано как факт, что дано в воззрении. Отсюда изъясняются эти странные попытки, когда ученые на основании какой‑либо одной новой химической комбинации или нового открытия в области природы построивают, прямо и непосредственно, целое миросозерцание, как будто доступ к сущности вещей одинаково легок и открыт со всякого пункта мира и как будто метафизика есть это ничтожное знание, которое может приобресть человек со всякой случайной точки зрения. Так, если бы и материализм не пользовался отвлеченными законами механики, то его принцип представлялся бы нам как содержание, которое мы видим и осязаем сразу, в непосредственном, неразвитом, не–изъясненном воззрении, следовательно как содержание, которое лежит на поверхности мира явлений и которое метафизика признает за предмет изъяснения, а не за его основу. Вся эта теория хотела бы дать нам истину из чистого воззрения, как противоположный ей идеализм надеялся открыть ее в чистом мышлении.
В этих теориях мы имеем две крайние, пограничные линии, внутри которых совершается процесс собственно человеческого познания. Человек, проникнутый чувством реальности и стремящийся охватить бытие в его непосредственности, как оно дано в своем собственном элементе, нередко пытается выделить из процесса знания понятие, потому что оно стоит вечным посредством между нами и бытием; при этой попытке он усиливается выступить за эти крайние линии, и, смотря по тому, в какую сторону он направляется, мы получим или мистическое погашение мышления в экстатическом погружении в бытие, или же материалистическую теорию непосредственного воззрения как единственного и всецелого откровения истинного бытия, потому что для этой теории мышление есть только человеческое средство повторять еще раз то, что было дано в воззрении. Впрочем, как мистицизм есть только момент в самоотречении мышления, тотчас же восстановляющего себя, так и эта теория не может выступить в идеальной чистоте своего принципа. Конкретное и воззрительное, которым так гордится эта теория, было бы в нашем знании непосредственное, тупое и ничего не значащее ощущение, которое еще не было бы пи субъект, ни предикат, ни субстанция, ни ее изменение, ни причина, ни следствие. Со времени Канта стало достоверным, что когда мы говорим о вещах и телах, даже когда мы просто смотрим на них, то уже в этом непосредственнейшем акте воззрения мы влагаем предмет в идеальные формы, свойственные мышлению; уже здесь мы построиваем предметы так же, как построивает их метафизика;- и последняя, по воззрению Канта, делает это построение неосновательно только там, где она выступает за пределы возможного опыта или решительно прерывает всякую связь с воззрением.
Мы еще продолжим эти замечания, хотя они удаляют нас от нашего прямого предмета. Может быть, впоследствии они будут для нас полезны для определения отношений материализма к метафизике.
Когда в настоящее время так охотно ссылаются на Канта, когда так часто повторяют, что Кант доказал невозможность метафизики, то нам кажется, что этим еще вовсе не обозначается дух и направление кантова скептицизма. Справедливо, что ни один критик не потряс так сильно оснований метафизики, как Кант; однако же, с его точки зрения, были возможны метафизические основания естествознания и основания для метафизики нравов. Один этот факт должен бы убедить нас, что Кант понимал под метафизикою несколько направлений, из которых одни научно основательны, другие неосновательны. Невозможна метафизика сверхчувственного, то есть лежащего за пределами всякого возможного опыта; возможна метафизика натуры и метафизика нравов. Эти два факта, природа и человечество, которые составляют всю данную, предлежащую для мышления действительность, могут быть сведены к окончательным, абстрактным формулам, которые будут представлять изъясняющие начала для всего мира явлений, как из ньютоновой теории изъясняются перемены и передвижения Солнечной системы. Если бы теперь при определении этих окончательных формул феноменальной действительности мы были вынуждены логическою необхо–днмостию обратиться к идее абсолютного, то Кант не только не противоречит лому, по и сам даст блестящий пример такого применения этой идеи; только, при этом он хочет, чтобы мы пользовались этой идеей, как математик пользуется пополняющими понятиями, которые он привносит в свою формулу не на основании опытов, а по логической необходимости, чтобы снять лежащее в этой формуле противоречие. Таким образом, если эта идея не есть свет, направленный вверх, то все же, по меньшей мере, она светит вниз: если мы не можем доказать бытия ее предмета, то тем не менее она имеет для наших опытов значение регулятивное, значение логического принципа. В этом последнем значении она есть достояние человеческого разума совершенно законное и действительное: она образуется строго логически, по необходимым законам мышления, хотя именно по этой причине она есть только идея.
Это — скептицизм, но не тот, который в настоящее время так решительно заслоняет для нас область высших интересов духа и так охотно делает исключения в пользу чувственности, как будто на этой почве непосредственного видения, слышания и осязания мы имеем вещи в себе или встречаемся лицом к лицу с подлинным бытием, из которого должны быть изъясняемы все другие, отдаленнейшие явления природы и духа. Между тем только на этом отсутствии верного критического начала может развиваться материалистическое воззрение; и как непоследовательно, как нелогично оно превращается из реализма, идеей которого оно в истине и воодушевлено, в материализм, это можно видеть опять из рассмотрения глубочайших оснований кантова скептицизма. В анализе опыта и чувственного воззрения Кант пришел к результату, что так называемый предмет, или вещь, которую обыкновенно считают чем‑то действительным, лежащим не в мышлении, а в бытии, есть построение или продукт субъекта, способного к воззрению и мышлению; потому что если форма этой вещи дана a priori, то и содержание или материя ее слагается из ощущений, которые имеют свое бытие только в ощущающем субъекте. Итак, уже здесь, в области непосредственного опыта, где обыкновенное сознание надеется обладать всею полнотою данного, существующего содержания, мы не имеем предмета как чего‑то содержащегося в элементе бытия; мы имеем только систему представлений, которую Кант называет системою явлений. Если теперь мы не можем доказать, что абсолютной идее соответствует ее действительный предмет, то это происходит так точно и потому, как и почему мы не можем доказать, что нашим эмпирическим но. ч. чрениям и представлениям соо пнете гну ют действительные, существующие пещи. Различие между эмпирическими представлениями и идеями имеет большое достоинство для познающего субъекта, но оно ничтожно по отношению к познаваемому объекту. Ни на одном пункте, начиная с чувственного воззрения до абсолютной идеи, мы не встречаемся с бытием. Метафизика так же не дает знания о бытии объективном, как и чувственное воззрение; как опыт, так и метафизика суть в истине логические процессы, касательно которых нельзя сказать, чтобы они повторяли в себе, воспроизводили для нашего сознания натуру и отношения действительных предметов. Если бы нам удалось где‑либо на низшем пункте чувственного воззрения повстречаться с бытием, тогда, может быть, оставалась бы надежда, что мы уже не расстанемся всецело с этим бытием и на высочайшем пункте абсолютной идеи или, по меньшей мере, что объективное знание, добытое на одном пункте, теряло бы свой характер объективности только постепенно, по мере движения мысли в отдаленные области бесконечного; другими словами, самое различие между объективным и субъективным было бы только гносеологические, а не метафизическое. Новейшая философия, как увидим, ищет этого пункта реальности в области воззрения, чтобы с него, как с прочного основания, идти далее при изъяснении явлений природы и духа: материализм не признает даже тех затруднений, какие сопряжены с этой проблемой— подлинного метафизического бытия; для него физическая материя есть непосредственно бытие метафизическое. Поэтому при видимой простоте и ясности он обладает существованием смешанным; он движется между физикой и метафизикой, становится то на ту, то на другую почву или из последней получает проблемы, а из первой— методу их изъяснения; однако же, воображая, что эти проблемы могут быть и поставлены с точки зрения естествознания, он стремится в истине создать абсолютную физику, при которой не имела бы уже места метафизика.
Этот смешанный характер материализма обнаруживается уже в том физиологическом тезисе о всецелой зависимости душевных явлений от органических, который надеется привести в ясность и сделать бесспорным основной факт этой теории. Критики материализма доказали слишком ясно всю странность этого тезиса, или этой попытки изъяснить душевные явления из простого видоизменения, превращения или усложнения явлений физиологических. Здесь идет дело о таком наблюдении над предметом, которое беспримерно во всей остальной области естествознания, потому что весь этот вопрос может быть поставлен здесь только тогда, когда наблюдаемый предмет внезапно сам превратится в наблюдателя, когда он станет смотреть на себя, и притом внутренно, и скажет о себе на основании этого самовоззрения стороннему наблюдателю, что он представляет, мыслит и чувствует. Но если уже самый этот вопрос поставляется здесь таким необыкновенным образом; если о самом факте мышления и чувствования знает только наблюдаемый предмет, а не сторонний наблюдатель как такой, то этот последний напрасно усиливался бы явление, не данное для него как внешнего наблюдателя, изъяснить из средств и научных приемов внешнего наблюдения. Так как этот себя наблюдающий предмет ничего не знает во внутреннем самовоззрении о тех физиологических процессах, которые иеследывает внешний зритель, то для знания этих двух рядов явлений никогда в будущем не может быть открыт пункт единства, или переходный посредствующий член, в котором они встречались бы как в месте превращения первого из них в последнее. Физиолог будет вечно наблюдать изменения, процессы и движения чувственных иерион, и он не может мечтать в будущем о таком совершенном микроскопе, посредством которого можно было бы уішдсть мысль, чувство или себя знающий субъект там, где доселе открывались наблюдению недостаточно іюоруженных внешних чувств только физические или химические изменения нерва. Хотя бы мы и согласились, что причина этого непримиримого двойства рассматриваемых явлений заключается в характере нашего.іиаішн, а не в натуре вещей, то все же этим мы только открыли бы иоле для метафизики и тем не менее были бы вынуждены отказаться от мнимого притязания иметь факт там, где и в самом деле естественный порядок исследования отсылает нас к метафизической мысли, потому что здесь самым наглядным образом мы встречаемся с явлением, неизъяснимым из законов механики. Но если мы будем уклоняться на первый раз от всякого метафизического предположения, если будем стоять на феноменальной почве опыта, как этого требует правильная научная метода и как материализм надеется решить свою задачу действительно этим путем, то расстояние между противоположными членами исследования, из коих один дан, а другой никогда не может быть дан для внешнего опыта, будет бесконечное, и наблюдению остается следить только связь этих двух рядов явлений, без надежды указать когда‑либо в будущем способ превращения одного из них в другое. Предположим, для ясности, с некоторыми метафизиками, что все на свете, следовательно и всякое физическое тело, воодушевлено, то есть способно ощущать, представлять и стремиться. Понятно, что, изучая такое тело в его различных физических положениях покоя, движения, нагревания, охлаждения и т. д., мы не подвинемся, при самом тщательном анализе, ни на один шаг к изъяснению его внутренних состояний ощущения, представления и стремления; всякое будущее открытие в свойствах и составе этого тела будет падать в область внешнюю, физическую и никогда не перенесет нас в область внутреннюю или психическую, а это было бы необходимо, если только понятия: вывод, изъяснение психических явлений из физиологических должны иметь какой‑либо определенный смысл. Но как скоро раз своеобразная деятельность самовоззрения дает нам откровение о душевных явлениях, то наука может сопоставлять эти предметы самонаблюдения с предметами наблюдения, чтобы указывать их разнообразную взаимную зависимость, как и образ их взаимной связи, которая ни в каком случае не должна быть смешиваема с понятием генетического вывода одного из них из другого. Как и в других случаях, физика дает нам математически достоверное знание только тогда, когда она подчиняет свои выводы силлогизму пропорциональности, когда она говорит нам, что если такое‑то явление (напр., температура) изменяется от А до а, то и такое‑то другое явление (напр., объем тела) будет изменяться от в до Ь; так и в этой области явлений физиологических и психических она может дать нам только познание отношений и зависимости между изменениями того и другого рода, с тем, впрочем, ограничением, что душевные изменения, но крайней море доселе, не поддаются никакому мате–м. тпічески определенному измерению и вычислению, не могут быть отнесены ни к каком количественной единице. Повторяем, это тавтологическое положение, что только при определении количественных отношений между явлениями физика дает нам математически достоверное знание. Если бы подобным же образом физиологии удалось указать определенные пропорции между изменениями животного организма и изменениями душевных явлений, то мы получили бы основное психологическое открытие, без которого всякое дальнейшее движение в этой области будет непрочно. Но эти пропорции никогда не приведут последовательного наблюдателя к материалистическому предположению, что нервные процессы суть причины и источники душевных явлений, так точно, как в вышеприведенном примере температура не рассматривается физиком как причина того тела или того субъекта, в данном и относительно первоначальном объеме которого она производит количественные изменения посредством собственных, также количественных, изменений. Хотя между температурою и объемом тела существует необходимая связь, однако физик не спрашивает, как тело начинает получать объем вообще или как этот объем происходит, начинает быть из той причины, которая, по несомненному свидетельству опыта, производит в нем количественные изменения.
Между тем в настоящее время так охотно указывают на эти необходимые соотношения между физиологическими и душевными явлениями как на доказательство возникновения последних из первых, что для читателя, не привыкшего к строгому анализу, материалистическое воззрение может показаться фактически оправданным. Когда, например, превосходство человеческого мышления пред мышлением животных п. чъисниют из большого количества человеческого мозга или из особенного устройства его, из присутствия u нем значительнейшего количества жира и фосфорл п т. д., то все эти изъяснения могут быть истинны настолько, насколько они производят душевную жіі. чіи. не сначала, а уже предполагают ее вообще н царстве животном и только указывают физиологические условия для ее превосходства в человеке. Вообще, и гпіх случаях физиологии принадлежит задача определить: какие окончательные условия, какие последние изменения и в каких именно пунктах телесного организма должны совершиться, чтобы движения и состояния внешнего мира, переходя на живое тело, могли подать душе повод к рождению представления, чтобы это бытие возникло в душе как знание? — потому что представление рождается не из собственных средств и сил души, не из абсолютной производительности ее, но, как и все на свете, по причинам и условиям, лежащим в отношениях ее ко внешнему миру. И как вообще необходимое соотношение, необходимая связь не есть еще генетическая зависимость, потому что последняя есть только частный случай внутри этого общего соотношения, то эти факты физиологии пока ничего не говорят о начале и происхождении душевных деятельностей из отправлений мозга. Они только доказывают, что психические процессы возникают в бытие не случайно, не по абсолютному произволу души, не как призраки, которые не имеют определенного, раз навсегда избранного места в действительности, но что они входят в великую систему мира как ее часть и связаны с ее порядком и зако–номерностию необходимо. Кто выяснил себе понятие необходимой связи, тот не только не станет отрицать несомненных фактов физиологии, что с изменением или беспорядком в деятельности мозга соединяется необходимо изменение или беспорядок в деятельностях душевных, но он имел бы право сказать вообще, что если бы где‑нибудь в механической вселенной исчез из бытия один какой‑либо неведомый для нас атом, то с этим вместе должно бы произойти особенное превращение как во всех частях мира, так и в душевных отправлениях, потому что в системе механизма, определяемой с математическою необходимостию, исчезновение одного атома повлекло бы за собою переворот в ходе, направлении и отправлении всех частей ее, как в математической формуле выключение одной единицы или даже малейшей дроби дает результаты совершенно новые и особенные. И если древние, сознавая эту необходимость связи душевных явлений с порядком мира, учили, например, что наше мышление имеет свой источник в воздухе или в другом элементе, которому они приписывали особенно сильную роль в судьбах мира, то я не вижу, чем лучше или хуже это учение в сравнении с материалистическим предположением о мозге как источнике душевных явлений; тем более что и это учение, с одной стороны, выражает общую и истинную мысль о необходимой связи между душевными явлениями и строением целого мира, а с другой— не исключает, что все же последний член внешнего мира, стоящий в непосредственной u ближайшей оняли с этими явлениями, есть мозг н его отправления. Гак как современный нам физиолог не может признавать мозг за субстанцию самодовлеющую, которая из себя одной может рождать эти явления, то, по–настоящему, и он должен бы прийти к каким‑нибудь подобным предположениям. В самом деле, нечто подобное и встречаем мы в тех теориях, которые говорят об электрическом токе в нервах, о жире и фосфоре в мозге так, как будто бы они были источниками душевных явлений, потому что таким образом эти теории очевидно выступают далее понятия о мозге к тем элементам, которые входят и в другие органические, а частию и неорганические комбинации. Только древним мы не можем возражать без всяких условий и ограничений, потому что в их связном мышлении тот элемент, из которого была выводима деятельность мышления, сам обладал качеством разумности как своим первоначальным, ниоткуда более не происходящим содержанием, так что человеческое мышление, рождаемое этим элементом, было тем не менее явлением первоначального содержания мира; между тем как новые слишком определенно признают в этих вещественных элементах только механических и химических деятелей, а в душевных отправлениях видят нечто существующее не в целостном содержании мира, а только в определенном и частном круге животной жизни. Поэтому здесь действительно мы имеем ничем не оправдываемую смесь приемов и воззрений физики с задачами и воззрениями метафизики.
Примеры таких смешанных представлений, которыми надеется материализм доказать снос право, предлежат нам в огромном числе в сочинениях и статьях этого направления. Мы приведем два таких примера из порядка мыслей, который очень часто воспроизводится, хотя и в различных выражениях.
Защитники этой теории часто говорят: «В мире вещественном мы не знаем ни одного предмета, в котором бы не проявлялись какие‑либо свойственные ему силы. Точно так же невозможно представить себе и силу, независимую от материи… Стало быть, и в человеческом мозге, каков бы ни был его состав, должна быть своя сила. И что же удивительного, если эта сила проявляется в ощущении?» И, дабы в самом деле это не показалось удивительным, защитники этого воззрения ссылаются на закон развития, которому подлежит материя и вследствие которого на одной степени «мы находим то, что не свойственно другой. А если самую развитую часть человеческого тела составляет мозг то отчего же<не допустить, что мозг способен к такой деятельности (то есть к ощущению), какой мы не замечаем в камне и дереве?» Это учение о развитии материи, по–видимому так доступное пониманию, едва ли показалось бы ясным для какого‑нибудь Ньютона, потому что Ньютон, не обольщаясь словом развитие, всегда понимал бы под материей пространственную массу с отличительным качеством инерции; эта масса, хотя бы она была «тончайшая», развивала бы из себя только такие силы, сущность и особенность которых обнаруживалась бы только в пространственных изменениях таких же пространственных масс; следовательно, под это общее понятие силы, производящей пространственные изменения в массах, он не подвел бы ощущения или сознания. В самом деле, положение, что «мы не можем представить себе силу без материи», означает в области физики, которая знает что мозг есть самая развитая часть человеческого тела, это положение имеет смысл только телеологический, которым уже может быть отрицаемо материалистическое воззрение, потому что с исключительно физической точки зрения каждая система человеческого тела условлена в своем происхождении равно одинаковою необходимостию и обнаруживает отправления, одинаково необходимые для существования тела как целостного феномена этих частных отправлений.
хорошо, что нужно думать о силе вообще, бесспорную истину, что мы не можем представить пространственных изменений без пространственных масс. Между тем мы согласны, что как в этой физической области, так и вообще положение это, что нет силы без материи, имеет априорную необходимость, как положения: нет действия без причины, нет явления без субстанции; только в этом случае оно имеет аналитическое или тавтологическое значение, которое может быть выражено так: мы не можем представить изменения или явления без содержания, которое при этом изменяется или является. Ощущение или сознание будет, таким образом, предполагать содержание, которое для нас является в этом виде: оно есть изменение, которое невозможно без того, что изменяется. Но есть ли это изменение пространственное и есть ли содержание этого изменения пространственная масса с свойством инерции, это совершенно новый вопрос, который не определяется предыдущими соображениями. Разве нужно бы принять за достоверную и a priori ясную истину, что мы не можем представить никаких других изменений, кроме пространственных, и никакого другого содержания их, кроме іакже пространственных масс с свойством инерции, как и в самом деле эти положения, которые нелегко примирить с очевидными опытами, должны лежать явственно или сокрыто в основании всякой материалистической теории. Мозг, как и всякая материя, имеет свои силы, об этом психология не спорит. Только это положение будет означать, что когда пространственная масса мозга будет изменяться по поводу внешних впечатлений, потому что по закону инерции она не может изменяться внутренно, из себя и от себя, когда она будет таким образом приходить в движения и перемещения, то она будет иметь силу производить изменения, движения и перемещения в других массах, которые находятся с нею в определенной связи. Но чтобы эта сила мозга, эти движения и перемещения в его массе могли рождать ощущение и сознание, это опять новый вопрос, как очевидно, даже поставленный произвольно или независимо от ясных физических понятий о силе, которой самым наглядным признаком служит явление пространственного изменения.
Другой пример мы возьмем из статьи одного журнала этого направления Статья эта тем интереснее, что она есть руководящая и что в пей и в самом деле высказывается основная мысль материализма — изъяснить душевные явления, ощущения и сознания из простых движений, перемещений и сложения этих движений, происходящих в телесном организме.
«Основание, — говорит статья которого выходит положение человека ко внешнему, ого окружающему миру и вместе его отношение к самому себе как непрестанное взаимодействие между ого внутренними и теми силами, которые в каждое мгновение влияют па него фактически, — это основание осп, ого телесность. Отсюда идет путь вовнутрь, поколику и и этом натуральном основании чувственности построяется внутренний мир, который, однако же, в свою очередь непрестанно воздействует на внешнее и образует постоянно открытый круг обнаружений, посредством которых ноток жизненных явлений в каждое мгновение смыкается с тем же самым окружающим миром, из которого вышел толчок первоначально.
Человек в нераздельной целости своего существа, в котором нельзя разделять зерна и скорлупы, образует живое сборное место и гумно, на которое движения вторгаются, на котором движения переплетаются и смешиваются и от которого движения исходят. Путь совне вовнутрь означает чувственность; круговорот движений, который развивается между двумя крайними полюсами человеческого существа, означает внутренность, а процессы, обнаруживающие внутреннее как поток жизни, возвращающийся к исходу, образуют путь вовне».
На основании этих рассуждений, в которых, как кажется, неясность и неопределенность составляют логическую потребность сочинитель имел право сказать: «Ощущение есть в сущности движение, которое идет вовнутрь и которое возбуждает здесь новые движения… С органами чувств как с особенными снарядами тела, которые служат для приема внешних возбуждений, соединяются сходящиеся id мозге пути нервов чувств, чтобы принимать эти возбуждения как толчки и передавать их в порядке (головному) мозгу, чрез посредство которого они и превращаются в ощущения».
В последних словах сочинитель разрешил нам тайну, каким образом от простых и постепенно усложняющихся движений происходят ощущения; впрочем, разрешил.
См. ниже замечания о категории взаимодействия, которое в приведенном тексте рассматривается как начало действия.
так, что все предыдущие рассуждения оказываются бесполезными, потому что эти рассуждения говорят только о движениях, которые потом «посредством мозга превращаются в ощущения». Если бы физиологии удалось эти простые и постепенно усложняющиеся движения подчинить определенным правилам или пропорциям, то она извлекла бы из этого факта движений все те выгода для познания физиологических отправлений, какие вообще доступны методе естествознания. Но потом все же она должна была бы сказать, помимо этих точных познаний, что эти движения, совершающиеся по определенным пропорциям или законам, «посредством мозга превращаются в ощущения». В этом превращении или, как выражается Лотце очень метко, в этой транссубстанциации заключается и в самом деле тайна, которую здесь необходимо не поименовать только, а разоблачить, чтобы иметь не призрак, а факт. Но если текст говорит, что «ощущение есть в сущности движение», то превращение это будет лишь простым именем для обозначения более сложного и более запутанного движения, которое поэтому хотя и может наблюдать сторонний зритель, но которое само себя наблюдать еще не может; оно есть не ощущение, не сознание, не самонаблюдение, а движение, так что вопрос о выходе феномена ощущения из феномена телесных движений будет возвращаться всякий раз после того, как мы, казалось, уже разрешили его. — Очевидно, сочинитель хотел воспроизвести ощущение из телесных движений так, как в теории единства физических сил пытаются производить из движения теплоту, овет, электричество, звуки и т. д. Мы коснемся здесь этой теории, насколько она имеет философское основание.
Локк, на основании анализа человеческих представлений, различал в явлениях качества первоначальные и вторичные. Последние существуют собственно в воззрениях и состояниях субъекта, первые существуют в действительном мире, все равно, будет ли при этом ощущающее существо замечать их или нет. Первоначальные качества суть: непроницаемость, протяжение, фигура, движение или покой; вторичные, или имеющие место в воззрениях субъекта: овет, звук, теплота, холодное, запах, вкус и т. д. Этим различием Локк указал самым определенным образом на ту почву, на которой должно было раз навсегда остановиться естествознание. Предмет или вещь в себе есть для Локка материя с качествами непроницаемости, протяжения и движения. Хотя это учение о бытии объективном не может быть оправдано с философской точки зрения, как показали Беркелей, Юм и Кант, однако естествознание имеет полные основания начинать свои изъяснения и выводы с движений протяженной и непроницаемой материи как с основного феномена, так что явление вторичных качеств света, звука, запаха, теплоты оно будет изъяснять из количественных изменений или из различных передвижений частей материи. Только при этих выводах не всякий хочет знать, что эти вторичные качества существуют пока в зрителе, что без предположения этого зрителя движения, несмотря на самое разнообразное усложнение, оставались бы навсегда движениями, что если, напротив, они рождают явления теплоты, звука и света, то рождают их не как нечто существующее вне слышащего, видящего и чувствующего субъекта, а как внутренние состояния или воззрения этого последнего, вне которых мы имели бы в объективном элементе только количественные изменения движений.
Отсюда видно, как странно предприятие материализма — производить самый субъект, способный к воззрению и сознанию, из движений материи. Ощущение и сознание он рассматривает как вторичное качество, которое поэтому и хочет он изъяснить из качеств первоначальных. Но если вторичное качество существует не для себя, а для другого зрители, то нам бы опять пришлось искать того другого субъекта, сознающего и ощущающего, в воззрениях, представлениях и в сознании которого движение превращается в ощущение и сознание. Таким образом, мы разгадали бы тайну, как движения «посредством мозга превращаются в ощущения», если бы эти ощущения имели бытие в чужом воззрении или для стороннего наблюдателя и если бы поэтому уже не было наперед, без вывода, предположено бытие ощущающего и сознающего субъекта как необходимое условие его непосредственных, для него существующих состояний ощущения и сознания. В этом противоречии заключается одно из решительных оснований, которое противопоставляет новейшая философия защитникам материалистической теории. Если, однако же, от Платона и до настоящего времени материалисты повторяют один и тот же пример музыкального инструмента, будто бы превращающего движения в звуки, и думают этим изъяснить, как посредством мозга такие же движения превращаются в мысли, то в этом мы опять должны видеть то смешение понятий и научных приемов, которое так необходимо для этого воззрения. Как материализм XVIII столетия, гак и современный нам думает избежать этих противоречий посредством решительного положения, что материя способна к ощущению. Разбираемая нами статья продолжает: «Общая основа, из которой в первый раз выходят частные душевные деятельности с их отличительною определенностию, есть чувство ощущения вообще (der Sinn des Empfindens uber‑haupt)». Субъект и предикат этого положения так далеко отстоят друг от друга, что вследствие этого его нелегко как защищать, так и оспаривать. Можно различать здесь несколько случаев. Если ощущение есть принадлежность только органического тела, если поэтому оно есть феномен ін материи производный, то оно должно быть подведено под категорию вторичных качеств, и все прежние затруднения возвращаются здесь еще раз. Напротив, рассматривая его как принадлежность материи вообще, мы избежали бы этих затруднений, но зато под именем материи мы понимали бы нечто другое, чем ту массу, которой движения и изменения определяются математически. Мы должны были бы сказать: один и тот же субстрат имеет два порядка качеств — тяготение и самовоззрение, движение и мышление, так что последнее качество не есть простое видоизменение первого, а так же первоначально или непервоначально, как и это первое. Следовательно, это положение говорило бы нам о субстрате не данном в воззрение, а выражало бы толь‑что его последний результат, с таким трудом достигнутый, т. е. познание, было уже предположено как необходимое условие еще при самом первом, начальном пункте, при этой чистой материи, и то время как мы воображали с ним, что мы мыслили материю, в действительности мы мыслили субъект, который представляет материю, — глаз, ее видящий, руку, ее ощущающую, рассудок, познающий ее. Таким образом, нам открылось бы безмерное petitio principii: внезапно последний член цепи оказался бы начальным пунктом, на котором утверждался уже член первый, и цепь превратилась бы в круг: и материалист был бы похож на барона Мюнхгаузена, который, плывя верхом на лошади по реке, тянул лошадь вверх своими ногами, а себя самого тянул вверх, ухватившись за свою косу, переброшенную на лоб».
121
ко метафизическую мысль о единстве того содержания, которое раскрывается в явлениях природы и духа. Философия во все времена сочувствовала этой міысли, и материализм, если только под материей понимал он не массу, механически определимую, которая, без всякого сомнения, не способна к самовоззрению, поставляет себя в этом случае в такое неопределенное положение, из которого возможен выход к метафизическим воззрениям совершенно различного направления. Если бы, однако же, несмотря на это метафизическое предположение, он все еще хотел держаться в области физики, то он отсылал бы нас к тем наивным воззрениям древности, которые говорили о разумном воздухе, разумном огне, разумном эфире и т. д., хотя и<п этом случае он уже не мог бы возвратиться на ту почву физического механизма, на которой он надеется стоять и развиваться без всяких других пособий, как система чистого естествознания Было бы слишком долго повторять все возражения, какие были сделаны против мнимого факта, на котором материализм надеется построить свое здание. Если для него не имеет значения всецелая несоизмеримость явлений психических и физических и единство понимающего сознания; если, далее, он говорит о внутреннем и внешнем в человеке в том физическом смысле, как мы говорим о внутренней и внешней стороне дома; если, наконец, в помощь к процессам физическим он присоединяет процессы химические, то в первом случае он признает все содержание внутреннего чувства явлением, или вторичным качеством, которое имеет бытие для другого, а в последних двух случаях он превращает процессы, имеющие бытие для другого, в бытие для себя или явления внешнего воззрения в явления внутреннего непосредственного самовоззрения. Мы спросим здесь, почему, однако же, защитники этой теории так глубоко убеждены, что они имеют определенный факт там, где по самой натуре вещей не может быть открыто никакого подобного факта. Если мы не будем давать значения тому обстоятельству, что некоторые из них очень мало знакомы с собственным делом, с особенною задачею и особенными методическими приемами философии то это признание факта механической причинности в области, недоступной для средств механического исследования, получит свой особенный смысл среди стремлений нашего времени и нашего образования. С тех пор как в положительных науках распространилась ничем не оправданная вера в вечность физических теорий, стали говорить о той вожделенной будущности, когда эти теории обнимут всю безграничную действительность и когда уже поэтому не окажется нужды в философии с ее изменчивыми идеями. Выше мы видели, как обширною и безграничною представляется идея знания с точки зрения абсолютной механики. Только, для осуществления этой идеи предстоит крайняя необходимость найти механически сложенный мост из области посредственного внешнего воззрения в область непосредственного, внутреннего самовоззрения. Пока этот переход не найден, пока он не указан как достоверный факт, до тех пор вечные физические теории, как очевидно, будут иметь огромное значение гносеологическое и самое ничтожное метафизическое; следовательно, открытия физики, несмотря на свое необыкновенное расширение, нисколько не будут стеснять той области подлинного бытия, которую освещает метафизика своими изменчивыми, но все же светящимися огнями. Поэтому защитники материалистической теории должны употреблять все усилия для указания фактического перехода от явлений физических к психическим, если они не должны расстаться с своей блестящей идеей знания. В противоположность с этой теорией всезнания, философия выступает — чтобы употребить здесь сократическое выражение — из сознания незнания. Кто не выяснил себе этого начала философии, для того и в самом деле покажется она чудовищным предприятием человеческого ума, стремящегося отыскать ключ к мирозданию. Изъясняемый ею предмет дан в том же самом опыте, внутри которого движется и механическое естествознание. Только она выступает из предположения, что как в действительности нет такого сплошного механизма, который держался бы сам на себе и не предполагал бы идеальных отношений, так и в знании метода, изъясняющая явления из внешних причин, должна быть завершаема изъяснениями явлений из идеи. Основной факт, которым оправдывается это направление философии, как и необходимость ее в области знания, есть факт самосознания, потому что здесь внезапно наше отношение к предмету становится внутренное, непосредственное, тогда как во всех других опытах мы смотрим на предметы со стороны, как на что‑то внешнее, открытое нам не прямо и не изнутри. Поэтому может статься, что борьба за этот особенный факт, где бытие превращается в знание и признание бытия, всегда будет продолжаться между естествознанием и философией, и временная победа одной из этих наук будет зависеть не столько от ее научных сил, сколько от того общего настроения современного образования, которое будет видеть свои интересы преимущественно в этой торжествующей науке. Мы здесь не говорим о других важнейших основаниях, которые условливают необходимость философии. В настоящем случае мы только изъявляем сомнение, чтобы люди когда‑либо в будущем могли сравниться с теми богами, которые, по Сократу, не чувствуют нужды в философии, потому что они все знают.
В самом деле, предположим, что спорный факт полной причинной зависимости душевных явлений от физиологических был бы оправдан научным образом, — то и в этом крайнем случае мы имели бы еще только частную науку, которая не была бы сама по себе достаточным основанием для материалистической метафизики; следовательно, и в этом крайнем случае оставалось бы место для философии как науки со своими особенными приемами, которые будут отличаться от методы естествознания. Выше мы развили это положение вообще и хотели показать, что самая точная паука еще не дает непосредственно метафизической мысли, так что материалистическое миросозерцание еще не оправдало бы себя пред философией, если бы оно защитило с научною строгостию тот спорный факт, о котором идет здесь дело. Положение это не покажется здесь странным для того, кто вспомнит, что метафизика большею частию не признавала психологического дуализма, который нельзя препобедить на почве опыта, что для нее материальное было необходимым, феноменальным предположением духовного и что, однако ж, из‑за одного этого она еще не была материалистическою. Явление это происходило в истории философии оттого, что метафизика не только должна признать фактическую связь явлений, но и оправдать внутреннюю возможность этой связи. Повторяем, что в этом заключается одна из ближайших задач философии. Хотя и частные науки занимаются решением этой задачи каждая в своей области, однако — не всегда и не вообще; и они в самом деле довольствуются очень часто признанием постоянной связи в явлениях, которая для них служит внешним, достоверным признаком их внутреннего, необходимого соотношения, как это доказывал Юм, отрицавший, впрочем, возможность знания этой внутренней необходимости. Как бы ни была тяжела эта задача философии, однако самый простой человеческий ум не может остановиться на признании фактически существующей, хотя и постоянной связи явлений, потому что эта постоянная связь есть на первый раз чудо, которое только теперь, как оно открыто наблюдением, требуется изъяснить, истолковать, чтобы видеть возможность этого частного случая из общих оснований, из общего понятия. Поэтому и материализм должен бы поставить вопрос: каким образом должно мыслить содержание, данное для чувств в виде материи с свойствами протяженности, непроницаемости и инерции, чтобы оно было достаточно для произведения явлений мышления и знания, которые, по свидетельству опыта, происходят из него? Это логическое оправдание фактически существующей связи отсылало бы нас из области воззрения в область бытия, и, при самом скептическом взгляде па философию, оно, по меньшей мере, предостерегало бы нас от обольщения, будто первое в явлении есть уже поэтому первоначальное в бытии. Кто, напротив, убежден, что философия может сделать больше, нежели только определить достоинство, значение и границы опыта, тот будет перерабатывать содержание, данное в воззрении, будет пополнять его, видоизменять, мыслить под предикатами, отличными от предикатов, взятых с воззрения, пока наконец не увидит возможности внутреннего перехода от одного из членов явления к другому; данное в воззрении становится в мышлении, по справедливому замечанию Гегеля, другим содержанием, как и вообще для мыслящего сознания содержание воззрения превращается в простую схему, в простой образ, который должен быть наполнен определениями совершенно другого качества. Нам кажется, что простое логическое суждение с разностями субъекта и предиката и с их взаимным отношением может быть только с этой точки зрения оправдано как нечто не призрачное, но как разумная форма понимающей мысли. И если материализм, останавливаясь на первоначальном содержании внешнего опыта, видит в материи нечто самое положительное, реальное, богатое силами и средствами для рождения из себя всех других явлений мира, то философия, стремившаяся к пониманию этого содержания, а не к простому признанию его как факта во все времена, от Платона до Гегеля, умела мыслить материю под определениями только отрицательными, каковы: άπειρον и μή оѵ не имеющая энергии и еще пока ожидающая бытия возможность, феноменальное единство двух противоположных деятельностей, которые как такие исключают себя в одном и том же материальном субъекте и делают его ничтожным, несущественным бытием, выносящим на себе самые противоречащие определения, и т. д. Впрочем, кто не согласен с тем, что мышление обладает собственною, внутреннею закопомерностию, что оно по своей внутренней необходимости может сказать нечто о мире явлений, для того нее ли усилия философии покажутся мечтою, не имеющею научного достоинства, тогда как принцип материализма будет рекомендовать себя по крайней мере как нечто близкое и родственное естествознанию.
Мы не говорим, чтобы материализм не чувствовал потребности оправдать свою теорию пред мышлением; он сознает, что докладывать просто о том, как душевные явления условливаются физиологическими, еще не значит давать метафизическую теорию мира явлений; он пытается оправдать себя не только фактически, но и внутреннею стройностию своей мысли. Только если эти попытки не касаются примирения между его началами и естествознанием, то они и собственной области философии не приводит im к каким положительным результатам. Самые большие затруднения встречает эта теория при определении понятия знания и понятия тех метафизических начал, из которых, как из последних данных действительности, должны быть изъясняемы все формы и изменения мира явлений.
В первом случае мы говорим не о самом факте знания, который противостоит материализму, как чудо, потому что материализм должен признать в этом факте только простой, существующий и условленный достаточными причинами процесс, в этом отношении совершенно подобный всем другим процессам в природе, следовательно, ни истинный, ни ложный, ни правильный, но только необходимый. Мы хотели бы рассмотреть здесь его гносеологическую теорию, которая уже предполагает неизъясненную возможность знания. По случайным обстоятельствам мы будем пользоваться здесь выражениями Молешотта. «Мысль, — рассуждает этот писатель, — дает только общую форму частному явлению, если воззрение подтверждается тысячекратными наблюдениями. Когда человек исследовал все свойства веществ, которые могут производить впечатления на его развитые чувства, то он постиг и существо вещей. Этим он достигает своего, то есть для человечества абсолютного знания, потому что каждое существо, будь оно даже высшего и высочайшего порядка, познает только то, что поражает его чувственным образом». Этими выражениями достаточно подтверждается означенное выше стремление материализма поставить философию на почву чистого воззрения, как абсолютный идеализм переносил ее в область чистого мышления. Между тем Молешотт вращается около несомненного факта, именно, что все простые представления должны быть где‑нибудь даны для нас, что мы не можем их создать непосредственным актом мысли, что самые выспренние поэтические фантазии, самые возвышенные идеи философии состоят окончательно из этих простых представлений, получаемых посредством какого‑либо воззрения. Но если он производит всю сумму человеческих познаний от впечатлений, рождаемых свойствами веществ в наших развитых чувствах, то иной без предварительных опытов мог бы отсюда заключить, что представление о мышлении, воле, желаниях, представление страсти, голода, жажды и т. д. происходит от впечатлений свойств веществ, действующих на наши развитые чувства, или что все эти вещи можно видеть, слышать и осязать где‑либо в пространствах, случайно встречающихся с нашими развитыми чувствами. Вся эта теория снята из приемов физики и не развита до таких пределов, в которые входили бы другие представления, не получаемые путем физического или внешнего наблюдения свойств веществ. Поэтому Молешотт говорит о существе вещей так, как говорит медик о существе лихорадки, горячки и т. под. То, что впечатлевает на развитые чувства, которые вследствие тысячекратных опытов замечают в вещах постоянные свойства и научаются отделять от них случайные обстоятельства, и есть самое существо вещей. Если бы Молешотт сказал, что о мышлении, чувствованиях, желаниях и проч. мы знаем иначе, нежели посредством развитых чувств, то этим он уничтожил бы предположенное в материализме тожество физики и метафизики. Как прежде мы видели, что материализм знает только внешнее, существующее для другого, знает самую душу как объект, а не как субъект, так и вообще прямое или непрямое, сокрытое или открытое отрицание самовоззрения и самосознания составляет самую живую потребность его. При этом рассматриваемая теория знания обещает доставить нам не объективный образ вещей, а знание о них абсолютное только для человечества, т. е. знание, ограниченное чувственностию человека. В существе дела это же самое признавали и все лучшие естествоиспытатели; оми приходили к убеждению, что физическое наблюдение дает познание о вещах гипотетическое, выражающее не подлинную натуру этих вещей, а наше чувственно определенное отношение к ним. Но поэтому они и не усиливались давать познаниям физики достоинство ннутреинее и метафизическое. Если бы и материализм, чтобы не противоречить самому себе, давал своему принципу значение субъективное или условное, если бы он учил, что материи только является основанием всех явлений мира для нас, только представляется нам в этом достоинстве и качестве, поколику она поражает нас чувственным образом, тогда этот принцип, как образ воззрения, а не бытия вещей, только еще открывал бы поприще и предлагал бы задачу для будущей метафизики, если вообще она возможна.
«Кант знал, — продолжает Молешотт, — что мы знаем вещи только по тому впечатлению, какое они производят на наши чувства, знаем только, как они есть для нас. А что он мог еще мыслить знание пещи в себе в противоположность с знанием людей ощущающих, видящих, слышащих, — вот та пропасть, которая отделяет его от нас». Итак, материализм надеется продолжить развитие философии в том особенном виде, как оно определено критическими исследованиями Канта. Только легко видеть, что не одна эта пропасть отделяет его от философии Канта, но необозримое расстояние, какое вообще существует между философией и представлениями не развитого, не оправданного сознания. Действительно, Кант допускал, что возможно воззрение только чувственное, поэтому он не мог быть мистиком, который уверен в действительности воззрения или созерцания интеллектуального; но в свойствах чувственного воззрения он еще не видел основания для материалистических теорий, которые отрицают вещь в себе как что‑то немыслимое. Если бы, впрочем, мы захотели, совершенно произвольно, видеть в философии Канта тот непосредственный и неосмысленный реализм, который находит вещи в себе или просто вещи там, где мы имеем пока впечатления и чувственные воззрения, то и в этом крайнем случае мы все же могли бы мыслить с Кантом «знание вещи в себе в противоположность с знанием людей ощущающих, видящих, слышащих», потому что было бы слишком неосновательно предполагать, что вещи имеют содержания или свойств не больше, как сколько наши развитые чувства могут воспринять их, или что в наше воззрение входит не многое, а все существующее. Философ Бенеке выяснял это отношение примером вымышленного животного, которое знает о существовании вещей по их запаху. Сообразно с рассматриваемой теорией, которая отрицает вещь в себе, это животное, если бы оно мыслило, могло бы заключать, что запах как свойство вещей, впечатлевающее на его развитые чувства, составляет самую сущность вещей, что в сознании этого свойства открывается мышлению все содержание, вся полнота существующего мира и что поэтому вещь в себе немыслима: как и действительно было бы странно говорить о вещи в себе после того, как все содержание бытия пошло в чувственное воззрение. Если справедливо, что противоположности нередко сходятся, то и здесь мы видим, что как абсолютный идеализм не признавал потустороннего для мышления, таи материализм, по меньшей мере, не хотел бы допустим ничего потустороннего для воззрения. Между тем из предыдущего следует, что рассматриваемая теория, не имея ничего общего с кантовым понятием об опыте и чувственном воззрении, может, однако же, в себе самой найти достаточные основания, чтобы признать «вещь в себе», и притом в смысле кантовом, как «понятие предеіа, которым ограничиваются притязания чувственности». И если на этой ступени понятие «вещи в себе» не обоіначает еще положительного содержания другого, нечувственного мира, то оно, по меньшей мере, рождает убеждение, что «чув-, ственные познания не могут прости(аться на все, что только мыслит разум» и что «не разім ограничивается чувственностью, но, напротив, он сам іграничивает ее». Случайным образом мы встречаемся здесь с понятием метафизики, которое нельзя выделить из системы человеческих познаний самым решительном скептицизмом. Если прежде мы видели, что для Каніа была возможна метафизика как логически оправданая теория мира явлений, то здесь она является необходимою как критика человеческих познаний, как определение их значения и степени объективности. Не имея средств овладеть своим сверхчувственным содержанием или предметом, она все же необходима как идея, при свете которой мы усматриваем феноменальный характер нашего знания и существующего для воззрения порядка вещей. Этот разум, ограничивающий притязание чувственности метафизическим понятием вещи в себе, есть явление в нас особенно человечное; без его деятельности, отбрасывающей чувственный мир на второй план как нечто не первоначальное и не основное, без его метафизических идей мы погружались бы тупо н что настоящее существование и не имели бы силы совершать простейший, но вместе и особеннейший акт мышления, состоящий в утверждении, положении или признании существующих процессов. И если материализм отрицает вещь в себе, то он поступает логически, рассматривая мышление как простой существующий процесс, который получил бы утверждение или признание разве только в чужом мышлении, но который сам в себе вовсе неспособен к совершению этого, доселе, впрочем, неизъясненного, акта. Впрочем, к сознанию этой метафизической натуры человеческого мышления не может прийти тот, кто наперед убежден, что «каждое существо познает только то, что поражает его чувственным образом». Человек, не ознакомившийся предварительно с действительностию мышления и знания, имел бы право заключать из этой теории, что где‑нибудь в пространстве, рядом с впечатлениями света, запаха и вкуса, он получит подле них, как особенные патологические состояния, впечатления необходимости, отрицания, подчинения, возможности, причины и т. д., — впечатления, которые будут поражать его «чувственным образом» и, следовательно, будут видоизменять в нем состояние того или другого телесного органа. Повторяем, что вся эта теория хотела бы построивать науку из чистого воззрения; она хотела бы в окончательных выводах отречься от мысли и заменить ее тупыми, в себе ничего не значащими видоизменениями чувственности. Этого и надобно ожидать от учения, для которого вся область самосознания есть мираж, рождаемый движениями материи, так что пс эти мысли, не эти идеи суть нечто существующее действительно, а материальные движения и изменения.
По–видимому, в прямой противоположности с этою бессодержательностию теории знания материализм обращается с особенным предпочтением к закону причинности, который имеет необыкновенное достоинство для мышления. При исследовании явлений он хочет познавать причины и… ничего более: «Только причина, — говорит Молешотт, — есть предмет мыслящего исследования». В самом деле, этим он достаточно характеризует свою мысль, потому что метафизика изъясняет явления не только из причин, но также — чтоб сказать здесь кратко — из сущности вещей. Различие этих двух способов изъяснения можно указать следующим образом. Чтобы основной закон механики, которым выражается равенство действия и противодействия, приложить к изъяснению действительности, необходимо предположить, что предмет, подлежащий исследованию, изменяется в своих формах и действиях настолько, насколько это зависит от характера и свойства действующих на него причин или условий; другими словами, что этот предмет ничего при этом не может проявить из себя, из своего внутреннего существа, так чтобы в явлениях противодействня содержалось больше, чем в явлениях действии. Такой предмет, которого состояния и изменения определяются только механически, не может иметь значения единичной и простой сущности, потому что его состояния и изменения не могут быть отнесены к нему как к бытию, которое раскрывало бы в них свое собственное, внутреннее содержание; эти состояния и изменения разлагаются по многим причинам, которые в одинаковом достоинстве, то есть механически, участвовали в их образовании. А если, несмотря на это, предмет представляется нашему воззрению как единица, как нечто существующее в себе и для себя, то причина этого единства, этой целости заключается в нашем соединяющем воззрении, а не в натуре предмета. Далеко ли может простираться это механическое воззрение и нет ли уже в мире явлений таких предметов, изменения и состояния которых необходимо изъяснять из предположения сущности, воздействующей больше нежели сколько понуждают ее к этому действующие причины, — это один из самых трудных вопросов, который тем не менее должен быть решен на почве опыта. Заметим только, что одни думают находить такие явления уже в царстве органическом, тогда как другие видят их только в области душевной жизни; и как последние должны выдерживать на почве опыта борьбу с материализмом, так первые должны защищать свое понятие жизненной силы против механической физики.
Философия чистого идеализма не имела даже нужды защищать это положение об изъяснении явлений из сущности вещей. Признаная в идее «саморазвитие, самодвижение», она уже поэтому должна была изъяснять все явления из понятия или из сущности вещей, а не из причин и условий; она знала одно внутреннее, как материализм хочет знать одно внешнее. Изъясняя все перемены и формы явления единственно из понятия вещи, идеализм пришел к предположению, что все существует сообразно с своим понятием, или с идеей, что все действительное разумно: материализм, построивающий явление только из причин, должен отрицать всякое идеальное соотношение в явлениях действительности. В этих двух направлениях философии, где, с одной стороны, мы имеем построение явлений только из внутренней их сущности, а с другой — изъяснение их только из внешних причин и условий, выразилось или воплотилось резкое, положенное Кантом, различие между вещью в себе и явлением. Если бы удалось доказать — как это и надеется сделать новейшая философия, — что различие между вещью в себе и явлением есть не метафизическое, а гносеологическое, тогда можно бы думать о примирении этих противоположностей, которые идут почти непрерывною нитью на почве истории философии. Между тем в условной области опыта примиряющее начало может представляться в следующем виде. Как мы различаем суждения аналитические, в которых сознается то, что лежит в понятии субъекта суждения, и синтетические, посредством которых мы сознаем содержание, определенное не понятием субъекта, а его отношениями к видимым формам бытия, то можно бы, переходя от этой схемы мышления к знанию, предположить, что все содержание подлежащего рассмотрению явления, вся полнота его имеет свою достаточную изъясняющую основу как в понятии сущности, так и в понятии тех внешних соотношений, которые мы называем причинами и условиями явления. Например, что человек мыслит, этой деятельности нельзя изъяснять вообще из внешних причин и обстоятельств; простое стечение этих причин на одном «сборном пункте» не может само по себе родить феномена мышления. Поэтому мы -предполагаем субъект, в идее которого лежит рождать этот своеобразный феномен. Только вместо того, чтобы с абсолютным идеализмом допускать самодвижение, саморазвитие этого субъекта, как будто бы он с силою творческою или волшебною мог осуществлять или раскрывать свою идею, мы полагаем синтетически, что он рождает частные мысли и понятия по достаточным частным же основаниям или причинам, потому что в общем понятии мыслящего субъекта еще нет достаточного основания для явления в нем таких или других частных понятий или суждений. Таким образом, закон причинности испытывает здесь только мнимое ограничение, потому что, с одной стороны, в области действительного и возможного опыта мы всегда будем встречать только частные случаи, которые, несмотря ни на какое метафизическое предположение, все же должны быть изъясняемы из частных причин и условий, а с другой — предположение сущности, из которой тем не менее нечто в явлении должно быть изъясняемо, только поставляет закон причинности под метафизическое понятие истинно–сущего, или реального. Это предположение говорит в общем и целом, что мир не есть сборное место, на котором сходятся внешние причины и обстоятельства, чтобы рождать подлежащие нашему наблюдению явления; он есть содержание, определенное в себе или внутренно, так что явление, рождаемое внешними причинами, тем не менее носит на себе печать идеи, тем не менее может быть разумно и целесообразно. Повторяем, что мы не знаем непосредственно, на какой предмет опыта должно перенести это понятие. Но если естествознание разрешает сущности, субъекты и их свойства на отношения, как единство на множество, целое — на части, то материализм не может в этом случае подражать ему; потому что он в своих изъяснениях не хочет остановиться на сложном и производном, а стремится дать нам образ того первоначального и непроизводного бытия, которое уже не ожидает причины, чтобы ему быть и действовать. Поэтому он уже не может сказать с Молешоттом, что «только причина есть предмет мыслящего исследования», а должен перейти наконец, подобно всякой философской системе, от частного понятия причины к общему понятию основы. По–видимому, в понятии материальных атомов дано для материализма это истинное бытие; однако легко видеть, что здесь эта идея осуществляется только мнимым образом. Атомы относятся к вещам, как к числам единицы, которые опять суть числа. Атомы, как маленькие вещи или как бы кусочки материи, представляют основу для явлений фактически существующих, но не изъясняют этого существования: вечность атомов по бы тию и неизменяемость по форме достаточны для того, чтобы гарантировать нам прочность и постоянство известного порядка натуры, если вообще он существует. Но чтобы он существовал, чтобы зачался и завязался этот порядок, это не следует из натуры атомов, потому что они вообще не имеют натуры н смысле производительного принципа (natura iialiirans). Поэтому и в самом деле физический атомизм может быть развит в систему так, что он еще не будет имен, ничего общего с философией, как это доказывал Фехнер. Для перехода от этой физической системы к метафизике необходимо одно из двух: или признать случай, как нечто восполняющее пассивную натуру (natura natiirata) атомов, как это высказать не задумался н нонешнее премя Фохт, или же допустить то істинно–сущее с, которое способно положить и раскрыть нечто из себя как бытие внутренно определенное, внутренно возбудимое. Сколько бы ни злоупотреблял последним предположением неразвитый человеческий смысл, который видит единство, сущность и цель там, где естествознание находит сложных физических деятелей, однако достаточно, что оно, как сказано выше, не противоречит закону причинности, а между тем открывает для мышления возможность исследовать идеальные связи и отношения в мире явлений. Все подобные предположения делаются несообразными с наукою тогда, когда они из простых правил или требований ума превращаются в познания,, которые будто бы содержатся в них непосредственно, или a priori. Собственно, против этого ложного мнения о непосредственных познаниях, заключенных в идеях разума, вооружается критика кантова, которая тем не менее признает эти идеи как правила, как требования и как задачи. И если бы философии удалось развить эти предположения в ясную и точную систему, то она в этой онтологии имела бы для своих познаний о действительном мире такой же орган, какой дан для естествознания в области чистой математики.
Этим мы уже указали частию на те метафизические начала, которыми руководствуется материализм при изъяснении мира явлений Как и всякая метафизика, он воодушевлен идеей истинно–сущего; но в понятии атомов он определяет это истинно–сущее так, что все судьбы мира, все его формы и изменения тем не менее должны быть изъясняемы только из внешних причин и условий. Материя не есть матерь всех вещей, как называл ее Платон; она не рождает их, а они только делаются из нее по силе внешних причин и обстоятельств. Чтобы продолжить изъяснение этих метафизических начал материализма, мы должны только рассмотреть частные применения, какие делаются в положительных науках и в метафизике из того же закона причинности, при этом в одно и то же время мы будем видеть и стремления материализма, и действительные нужды философии.
В естествознании причинность означает необходимую зависимость двух изменений, — так что если изменение на одном пункте мы наблюдаем непосредственно, то отсюда мы можем заключать об изменении на другом пункте, если только общее отношение этих пунктов известно нам или подведено под определенное правило. В этом простейшем применении закона причинности подлежат нашему рассмотрению разом три явления: вещь, подлежащая изменению; внешняя причина, рождающая изменение, наконец, самое это изменение как повое состояние вещи, которое до сих пор не было в явлении. Все остальное, что не может быть изъяснено из этих причинных отношении, естествознание соединяет под общим понятием силы и пользуется этим понятием или чтобы обозначить им еще не открытую наблюдением сумму внешних причин и условий явления, или же — чтобы указать на последние, ниоткуда более не выводимые условия возможности всякого механизма в природе. В последнем случае это понятие имеет положительный смысл: естествоиспытатель не спрашивает, как тело начинает быть тяжелым, но предполагает силу тяготения, при которой только и могут частные причины и условия производить явления падения, вращения, удара и т. под. Метафизика может изъяснять эти последние основы механизма если не генетически, как это пытались сделать Шеллинг и Гегель, то, по крайней мере, по их смыслу и достоинству для целей мира. Однако если мы отрешимся от этого понятия силы, то от указанного применения закона причинности возможен переход к двоякому воззрению на мир явлений. Во–первых, так как с этой точки зрения всякое явление нужно рассматривать как изменение, произведенное причиною, то в целости мира явлений можно бы видеть такую систему, где, по выражению Форстера, «все взаимно притягивает и притягивается» или — все взаимно изменяет и изменяется; и таким образом идея взаимодействия, которая, по справедливому замечанию Гегеля, составляет основную категорию материализма, была бы последним метафизическим предположением относительно систомы мира явлений. В самом деле, читая материалистические сочинения, вы всегда встретите эту идею гам, где по всем соображениям нужно бы прийти к идее сущности, чтобы из нее изъяснять окончательную (норму явления, и часто рождается невольное чувство досады, когда это смешанное представление взаимодействии заслоняет от мысли того особенного деятеля, из натуры которого она ожидала окончательного изъяснения, и взамен этого ответственность за явление взваливает то на тот, то на другой член, не определяя, кто же, собственно, носит и развивает в себе это явление, хотя бы то под влиянием внешних условий. Коротко, но метко показывает Шопенгауэр внутреннее, то есть логическое ничтожество этой категории взаимодействия: «Это понятие, — говорит он, — предполагает, что действие в „свою очередь есть причина своей причины и, следовательно, что последующее было вместе предшествующим». Материализм XVIII пека даже и не пытался оправдывать это понятие, а ссылался на него безусловно, как па окончательную логическую формулу мира явлений. Но и материализм современный также не может выразить своей основной мысли, не внося в нее внутреннего противоречия, лежащего в этом понятии. Именно сюда относятся эти бесконечные споры о том, как материализм может воспользоваться теми понятиями материи, свойств и сил, которые имеют ясный и определенный смысл в области опытного естествознания. Не входя в эти споры, мы заметим вообще, что для атомов, если они должны быть нечто значительнее и полновеснее, нежели не имеющие бытия математические пункты, необходимы эти предикаты материи, свойств и сил, которые, впрочем, как доказано выше, не могут воодушевить их и обратить в источники жизни. Материализм тесно сопоставляет эти предикаты друг с другом и видит в них различные точки зрения на одно и то же бытие, так что свойство будет только содержанием материальной частицы как субстрата, а сила будет означать этот же самый, наделенный определенным качеством субстрат, поколику он производит в других субстратах определенные изменения. «Сила, — говорит Мо–лешотт, — не есть движущий Бог, не есть сущность вещей, отдельная от материальной основы: она есть свойство, неотделимое от вещества, от вечности принадлежащее ему». И далее: «Изменение в пространстве и времени открывается нашим чувствам как движение. Свойство материи, условливающее это движение, мы называем силою». На эти определения естествознание имеет достаточную причину отвечать, что они истинны под условием или в форме гипотетической. Именно, если вещества находятся от вечности в определенной системе, которую мы называем миром явлений, в определенных отношениях, которые мы наблюдаем уже здесь, то им от вечности принадлежат определенные свойства, которые будут производить в других веществах определенные перемены, то есть будут силами; потому что свойства и силы суть категории отношения или сравнения деятельностей и состояний; они известны только как результаты чтой феноменальной системы мира, а не как начала ее. И если материализм гопорит, что основные вещества «обнаруживают свои свойства только во взаимном отношении», то этим понятием «взаимного отношения» он целиком предполагает уже ту систему мира явлений, которая еще должна быть выведена. Это кружение понятий, по которому взаимное отношение веществ есть необходимое условие для обнаружения их свойств, хотя эти свойства неотделимы от вещества и вечно принадлежат собственно ему, а не системе отношений, соответствует вполне логическому противоречию, лежащему в понятии взаимодействия. Нередко это противоречие закрывается для материализма представлениями, имеющими смысл только на почве психической. Когда, например, говорит он, что магнит от вечности обладает свойством или силою притягивать железо, то можно бы из этого выражения заключить, что магнит, поставленный вне тех пространственных отношений, внутри которых он обнаруживает явления притяжения, будет испытывать влечение, потребность, будет чувствовать неудовлетворенную жажду, которая будет утолена не прежде, как если внешние обстоятельства поставят к нему железо в определенные пространственные отношения. Сообразно с духом механической физики нужно сказать, напротив, что магнит ни от вечности, ни во времени не имеет свойства или силы притягивать железо, что он по закону инерции очень доволен как состоянием, когда он притягивает железо, так и тем состоянием, когда он поставлен вне возможности обнаруживать это притяжение, потому что хотя мы и наблюдаем это явление притяжения как условленное свойством магнита, однако: I) наблюдаем только в определенных пространственных отношениях между магнитом и железом, следовательно, не как сиопстио, принадлежащее вещи в себе; 2) это свойство имеет:іл собою и под собою целую систему мира явлений, которою, может статься, оно условлено механически; λ) вообще, с этой точки зрения, мы можем говорить только о состояниях, которые испытывает при этом магнит, а не о деятельном, производительном и внутреннем участии его в рождении этого феномена. Так и но «сох других случаях сила, которая для физики означает только количество действия, — как, например,» выражении: масса вдвое большая обнаруживает двойную силу притяжения, — эта механическая сила превращается метафизикою материализма в силу живую, внутреннюю, известную нам только из психических стремлений или влечений. Но с этим последним понятием о силе, которое действительно устраняет противоречия, лежащие в основании материализма, соединяется в истине совершенно другое миросозерцание. Остальные затруднения, противостоящие материализму в этом круге мыслей, именно: дается ли понятие силы в воззрении или в умозаключении из воззрении, — понятие материального атома не содержит ли логического круга, поколику оно должно бы изъяснить и вывести феномен материальности, — каким образом свойство или определенность вещества начинает быть силою или переходит из спокойного содержания в состояние начала деятельного, — наконец, как мыслить actio in distans, которое, однако же, необходимо для связи пространственно разделенных атомов в систему мира явлений, — все эти вопросы, сколько нам известно, только возвращают материалистическую теорию в тот же безвыходный круг, который она создала для себя в понятии взаимодействия.
Физическое употребление закона причинности строго ограничено началом механики, которое признает полное равенство между действием и противодействием. Сколько бы ни были несходны изменения, наблюдаемые в известном теле, и причины, которые произвели их, естествознание всегда пытается довести эти несходные члены до полного равенства, находя те промежуточные или посредствующие условия, которые дали изменению такую своеобразную и, по–видимому, вовсе несходную с его причиною форму: ничего оно не хочет изъяснять из непосредственной, необусловленной раздражительности, силы или первоначального свойства рассматриваемых тел, и в этом отношении оно не дает никаких оснований для материализма, который нуждается в таких непосредственных, необусловленных свойствах и силах. Но зато эта точка зрения ведет к общей мысли, что вообще мы можем наблюдать только изменяемость или движимость, а не изменяющее или движущее, потому что, в свою очередь, причины и обстоятельства, производящие изменение в рассматриваемом теле, действуют не из собственных сил и средств: напротив, и они подвинуты к этой деятельности понудительною силою других причин и обстоятельств, и это надобно сказать о каждом пункте мира явлений. Таким образом, мы получаем единственно верное понятие механизма; и хотя об нем мы говорили уже по другому поводу, однако небесполезно сказать об нем еще несколько слое. Система явлений представляется нам как natura natiirala: материи, говорит Декарт, не свойственно движение; ей свойственна только движимость. Это строгое понятие механизма теряет всякий смысл, как только материализм хочет дать ему абсолютное значение, потому что мыслить систему явлений, в которой каждый член живет и действует не от себя, а нуждается в другом члене как источнике своей жизни и деятельности, в которой, следовательно, нет первого члена, нет внутреннего начала жизни и развития; мыслить эту систему как нечто самостоятельное, самосущее — значит вносить в понятия самое явное противоречие. Представление взаимодействия, которым материализм хочет заменить недостаток действия и положительного источника жизни в этой системе, оставалось бы здесь совершенно пустым словом, как будто бы основание движимости одного члена явления могло заключаться в другом, который наперед еще должен получить свою движимость от первого. Поэтому, как мы сказали, он нередко вносит в свое созерцание так или иначе, прямыми или непрямыми путями представление чего‑то живого, деятельного, развивающегося, движущегося по силе своего внутреннего содержания и потолику не материального. Обещая дать нам систему абсолютного механизма, он построяет обыкновенно систему абсолютного мира, в которой основные элементы не ожидают движения от внешних причин, а обладают свойствами и силами как положительными источниками движения и развития. Таким образом действительно он избегает внутреннего противоречия, он имеет основание говорить в этом смысле о силах и свойствах: только при этом он оставляет механическую точку зрении, с которой он не должен бы сходить, судя по іто основному характеру; он оставляет даже свои первоначальный предмет, потому что на этой ступени содержанием его служит natura naturans, а не natura naturata. Какое этот динамизм по своему внутреннему значению, мы не будем исследовать. Достаточно, что, как сказано выше, он не есть необходимо воззрение материалистическое. Если, например, Платон видел «идее душу мира как источник движения для движимой материи; если тот же источник движения Аристотель находил u уме как первом движителе и рациональной форме мира; если, наконец, картезианская школа говорила о Боге как непосредственном и единственном начале движения для пассивного бытия материи, — то все эти предположения происходят из потребности дать конкретное содержание абстрактному или нарицательному понятию силы и определить ближе, по данным во внутреннем воззрении, эту natura naturans, которая в себе пока есть общее название для существующих и, следовательно, специально определенных деятелей. Кант не надеялся, чтобы такое положительное восполнение механического миросозерцания идеями метафизическими могло быть совершено с некоторою научною достоверностию; но причина этого скептицизма заключалась в том, что для него механическое воззрение было не более как воззрение, то есть способ понимания и изъяснения явлений, определенный не подлинным бытием вещей, а свойствами нашего воззрения и познания. Итак, было бы странно требовать, чтобы мысль могла отрешиться от механического воззрения, которое условлено ее же собственною натурою. Бессилие мышления в построении метафизики вытекает непосредственно из его необычайной и доселе неведомой силы — созидать и построивать из собственных средств и материалов всю эту чувственную область физики с ее порядком и закономерностию, которые обнимаются общим понятием механизма. Однако же новейшая философия большею частию убеждена, что мышление может найти где‑нибудь реальный пункт, или подлинное бытие, которое как такое будет ограничивать область метафизики, казавшуюся для Канта неопределенною, как вообще область возможного, и что сообразно с этим самый механизм будет находить свои границы в этом подлинном бытии, потому что она будет иметь свое начало в себе или своей идее, а не во внешних факторах. Из этих предположений открывается для нее возможность метафизического знания, которое если на конце и ведет к гипотезам, то в начале, однако же, открывает высшую внутреннюю истину явлений, однажды уже познанных с механической точки зрения.
Справедливость требует сказать, что философия в своем стремлении изъяснить явления из их сущности часто или видоизменяла ясный вышеуказанный смысл закона причинности, или же всецело обходила его в своих изъяснениях, как будто бы этим путем нельзя было познать ничего существенного. Первый случай мы встречаем в философии картезианской. Именно, отношение между причиною и действием она рассматривала как аналитическое. Когда даны причины, то в них даны уже и действия, как в посылках силлогизма само собою содержится следствие, и только ограниченное человеческое мышление должно еще нарочитым актом выводить как следствия, так и действия, которые в действительности даны непосредственно и сразу в своих причинах или посылках. Натура вещей не дожидает, чтобы посредством особенной новой перемены выступали действия из причин, потому что они существуют уже, как только существуют причины. Если с этой точки зрения нужно изъяснять известное causa sui, которое при других предположениях не имеет смысла, то здесь же мы получаем представление о causa immanens, как оно развито в философии Спинозы. Понятие причины видоизменяется непосредственно в понятие субстанции, и в то время как философия хотела посредством закона причинности изъяснить изменяемость явлений, она пришла к отрицанию всего этого изменчивого мира и к признанию бытия одной субстанции неизменяемой, не развивающейся, не переходящей в другое; потому что при этих предположениях об имманентной причинности действие будет не что‑либо другое, отличное от причины, — оно будет падать в тот же самый пункт бытия, который мы уже сознаем в понятии причины. Предмет философии есть бесконечное, поколику оно полагает только бесконечное: чтобы получить даже простое понятие о конечном, или изменяемом, как таком, необходимо выступить из области философии и вступить в область условного физического знания, которое не имеет ничего общего с истиной философии. Другой случай мы имеем в философии Гегеля. Как мы сказали, понятием «саморазвития, самодвижения идеи» она исключает понятие причины как внешнего, не определенного существом вещи деятеля. Впрочем, так как способная к саморазвитию идея воплощает все свое содержание в мире явлений, то что содержание должно открываться и в причинных отношениях, которые господствуют в этом мире. Философия изъясняет из идеи явления, поэтому она изъясняет из идеи и отношения причинные, или чти отношения суть для нее предмет, а не средство. пития. Как сам Гегель истолковал и вывел из идеи‑ли причинные отношения как формы явлений, мы не будем говорить здесь. Довольно сказать, что как моменты идеи эти отношения суть для него совсем не го, что они означают в области естествознания. Он учит, что в действии нет такого содержания, какого нет в причине; что первоначальный характер причины снимается в действии и становится производным, и, наоборот, этот производный характер есть отражение причины на самую себя, есть ее первоначальность. Первое положение разлагало бы вещи и субъекты на отношения так же без всяких ограничений, как этого требует исключительно механическое миросозерцание; потому что действие, не имеющее другого содержания, кроме рожденного причиною, возможно только в субъекте, который есть сборное место частных причин и который в себе и для себя не есть что‑то реальное, имеющее свою определенную натуру. Последние два положения, не ограничивая прав механического миросозерцания, говорят только, что в этих причинных отношениях, снимающих внутреннюю определенность или самость всего данного в опыте, развивается одно и то же абсолютное содержание идеи: поэтому causa sui есть и для Гегеля абсолютная истина причины Итак, две самые развитые метафизики новой философии не указывали границ для механического изъяснения мира явлений и таким образом как бы положительно вызывали естествознание на материалистическую дорогу. Впрочем, они более содействовали к рождению материализма отрицательным образом. Хотя эти системы истинны в той общей мысли, что метафизическое содержание мира явлений есть другое, чем содержание данное в воззрении, однако отсюда еще не следует, что познание и изъяснение этого последнего по общим приемам естествознания не может иметь никакого значения при определении метафизической мысли о мире. Между тем Спиноза отделяет знание метафизическое от естествознания такою бездною, что между ними не может быть никакого перехода. Выступая из глубокой и истинной мысли, что философия должна познавать явления sub specie aeternitatis, он раскрывает все содержание этой науки в следующих положениях. Из необходимости божественной натуры должно следовать бесконечное в бесконечных видах. Все, что следует из безусловной натуры какого‑либо божественного атрибута, есть, по силе этого атрибута, вечно и бесконечно. Все, что следует из такого вечного и бесконечного видоизменения божественного атрибута, есть вечно и бесконечно. Наоборот, предмет естествознания определяет он положением: каждая частная вещь, имеющая конечное и ограниченное бытие, может существовать и действовать но иначе, как если она будет определена к бытию и деятельности посредством причины, имеющей бытие также конечное и ограниченное; а эта причина не может ни существовать, ни действовать, если она не будет определена к бытию и деятельности посредством другой причины, также ограниченной, и так — в бесконечность. Следовательно, естествознание, двигаясь в бесконечном ряду ограниченных причин, не имеет никакой надежды прийти к истинной мысли о мире, или к сознанию истинно–сущего. Гегель нисколько не изменил этого отрицательного отношения между философией и эмпирическим естествознанием. Дух феноменальный не имеет истины; вся его деятельность лежит вне области истинного знания и должна быть рассматриваема как предварительный процесс, который оканчивается там, где начинается наука. Если эти метафизические воззрения отождествляют идею реального с идеей бесконечного, то уже поэтому они, с другой стороны, объясняют нам, что естествознание лежит всецело вне области истины, что оно не имеет никаких средств образовать и определить идею бытия подлинного, нефеноменального. Что оставалось делать этой науке опыта, гордой своими силами и проникнутой чувством реальности, если не построивать метафизическое миросозерцание по тем приемам и методам, которыми она пользуется для изъяснения явлений как таких? И вот метафизическому учению, что первоначальное содержание мира не имеет ничего общего с содержанием, данным в воззрении, материализм противопоставил положение, что это первона-, чальное содержание мира есть то самое, которое позна-1 ем мы в непосредственном воззрении. Когда человек, говорит Молешотт, исследовал псе свойства веществ, которые могут производить впечатления на его развитые чувства, то он постиг и существо німцем. Как для мысли древних философов оставалось и мире явлений апеіроѵ как нечто алогическое, не поддающееся пониманию, так новая философия и своих главных системах не могла поставить мира явлении н положительное отношение к идее истинного бытия; мир конечный есть иррациональная величина, которую уже поэтому нельзя свести к положительному основанию: или субъективное воображение— как у Спинозы, — или порывание первоначальной деятельности я положить то, что не может быть положено — как у Фихте, — или объективное противоречие в содержании безусловной идеи — как у Гегеля, — таковы источники, из которых было выводимо явление или конечное как такое. Исторически известно, что материалистическое воззрение Фейербаха протестует именно против этих теорий, которые в последних выводах отрицали все конечное, индивидуальное, здесь, теперь и для нашего воззрения существующее.
Кто знаком с философией Гербарта, Бенеке, Шопенгауэра и Лотца, которых мы имеем основание рассматривать как представителей новейшей философии, тот согласится с нами, что этот материалистический протест не имеет в области этих воззрений того значения, какое мы указали ему в развитии прежней философии. Храм истины не может быть создан, пока одни, как жрецы, ясно будут сознавать идею божества, не зная при этом, как может или должна эта идея определять образ храма, его устройство, части и их взаимное отношение, и пока другие, как простые зодчие, будут знать устройство отдельных частей храма и лучший для этого материал, не имея этой безусловной идеи, которою определяется окончательно как целое здание, так и взаимное положение частей его. Как известная политическая партия, которая для устройства и управления обществом требует всеобщей подачи голосов, материализм утверждал, что все явления, посредством основных атомов, из которых они слагаются, имеют одинаковое участие в идее реального бытия. Философия безусловно отрицала в явлениях это право, сосредоточивала его в идее бесконечного и таким образом делала из натуры то, что хочет сделать из общества теория так называемого политического абсолютизма. Новейшая философия отличается реалистическим направлением: безусловное и реальное не суть для нее понятия тождественные, но в средине между явлением и его безусловным содержанием она признает вещи в себе, она признает подлинное бытие и там, где еще нет бытия безусловного. Это направление опять выдается в том особенном применении начала причинности, какое мы видим в этой философии. В причинах не заключается действие аналитически или непосредственно. Требуется условие, которое сообщает совершенно внешним и для частного случая общим обстоятельствам значение причинности, чтобы эти обстоятельства, подчиняясь общим законам, могли, однако же, производить это своеобразное явление с неуловимыми дли мышлении индивидуальными отличиями. Такое условие заключается в понятии реального, которое полагается мышлением постепенно и тем решительнее, чем выше поднимается наше наблюдение от монотонных движений механической натуры до индивидуальных явлений организма и до внутренних изменений душевной жизни. Когда даны причины, то нам еще приходится поджидать, пока они вызовут действие в определенной натуре, которая испытывает их влияние. Следовательно, из рассмотрения причин мы не можем построивать a priori их будущие действия или последствия, но должны поступать при этом эмпирически, наблюдая и открывая явления и факты, как это делает естествознание. Если, таким образом, различие между явлением и вещью в себе признается здесь не метафизическим, а обозначает -только степени нашего познания, то, с другой стороны, в этом воззрении соединяются противоположности, которые доселе выражались в идеалистическом понятии внутреннего саморазвития и материалистическом представлении внешнего изменения. Что всякое явление изменяется только под влиянием внешних причин, с этим согласна философия. Но если естествоиспытатель изъясняет падение тел не только из частных обстоятельств, каковы, напр., отнятие подпоры, наклонение плоскости, удар и т. п.; если он утверждает, что последнее условие, которое превращает эти обстоятельства в причины, лежит в первоначальном действии тела как тяжелого или тяготеющего, — то и философия имеет основание не останавливаться материалистически на идее внешних изменений, а предположить реальное как внутреннее бытие, которое при данных условиях рождает это определенное явление. Таков смысл гербартоиа положения: So viel Schein, so viel Sein, — положения, которым резко отделяется новейшая философия как от скептических воззрений Канта, так и от идеализма, равно отрицающего представление о реальном, данном в элементе бытия, а не мышления. Выше мы показали, что определить эту идею истинно–сущего к ее отношении к явлениям есть одна из самых трудных задач философии и что, с другой стороны, начало причинности не терпит никакого ограничения от признания и положения этой идеи.
Мы здесь не имеем намерения показывать выгоды этого реалистического воззрения; мы только хотим сказать с этой точки зрения наше последнее слово о материализме. Именно, с разных сторон доказывали, что материализм, как бы мы ни думали о его внутреннем или научном достоинстве, все же выступал и выступает как представитель и защитник некоторых весьма важных и существенных интересов человечества. Противоречить этому зйачило бы не замечать самого достоверного факта истории. Если всякая теория, как бы она ни была односторонна, может руководить нас к открытию фактов и явлений, которых без нее мы могли бы не заметить, или может указывать на особенное достоинство некоторых явлений, которое с иной точки зрения могло оставаться непонятым, если значение всех и всяких философских теорий, помимо высших соображений, заключается уже в том, что каждая из них, как руководящая и определяющая мысль, понуждает нас обозревать на беспредельном поле опыта такие пункты и такие места, которые при другой теории мы могли бы миновать, чтобы остановиться на пунктах и местах других, — то материализм именно обозревал то или давал цену тем фактам, каких не могла ни обозреть, ни оценить философия идеализма. Как доказывают факты и как следует отчасти из принципа материализма, его исследования всегда совершались на почве физики. Расширение физики как науки далее тех узких границ, внутри которых она была разработываема естествоиспытателями, составляет ту заслугу материализма, из которой легко могут быть выведены его другие заслуги. Идея абсолютной физики составляет тот основной его недостаток, из которого могут быть изъяснены его другие недостатки. Между тем мы видели, что новейшая философия принимает принцип причинности в том смысле, в каком он служит могущественным орудием физики и в каком он не мог иметь места ни в философии картезианской, ни в философии последнего идеализма. Если это справедливо, то нужно ожидать, что новейшая философия развивается в таком направлении, которое будет открывать для нее присутствие и достоинство (всех фактов, доступных доселе материализму1 или, говоря правильнее, — методе естествознания, потому что только эта метода, конечно, в себе еще не дающая никакого метафизического принципа, составляет положительное достоинство, положительную силу и деятельное орудие знания в теории материализма. По этим соображениям мы хотели бы рассматривать нынешний материализм как одно из явлений в более сложном движении новейшей философии. Этим явлением высказываются тенденции новейшей философии особенно резко, но, вероятно, уже поэтому и особенно исключительно. И если этому вес же одностороннему направлению сопутствуют нередко самые даровитые естествоиспытатели, то это происходит оттого, что идея знания, как я сказал в начале, ни с одной точки зрения не представляется в таком блестящем виде, как с этой материалистической.
Повторим коротко наши воззрения, которые в самой статье не подведены под определенные выдающиеся пункты, потому что мы говорили не столько о прямых задачах философии, сколько о случайных и ходячих мнениях относительно предмета, достоинства и значения этой науки. — Из противоречащих толков о достоинстве современной философии выступает определенное убеждение о широком развитии материализма, который и действительно в настоящее время надеется при помощи законов механики получить научное достоинство и закончить стремления человеческого разума к построению.
Опыт доказывает более, нежели сколько здесь мы вывели. Читая материалистические сочинения по части философии (как, напр., Psyche v. Noack), вы замечаете, что предпосылаемые в начале трактатов материалистические теории о единстве мыслей, чувствований и желаний с нервными движениями остаются без всякой пользы для дальнейших изъяснений и что эти изъяснения всегда опираются на идеях и даже выражаются в терминах новейшей · философии. Мне случалось всего чаще наблюдать, что материализм по положительному содержанию пользуется идеями и выражениями Гербарта и Бенеке системы целостного миросозерцания. Кроме психических мотивов, он находит опору в популярном понимании философии и в популярном скептицизме, потому что если первое теряет ил πиду собственное дело, собственную задачу философии, то последний отсылает философию к опыту, к воззрению, где мысль работает легко и удобно и где вместо великой загадки бытия она встречает только частные определенные задачи. В этих обстоятельствах материализм понимает задачу философии как задачу физики; и хотя он не имеет для своей теории фактического оправдания в физиологии, хотя он еще менее может доставить своим идеям оправдание внутреннее или логическое, однако указание многосторонней фактической связи между явлениями физиологическими и душевными, как и определение причинных отношений между явлениями вообще, составляет научное содержание его теории. Между тем эти научные данные могут вести к философским результатам только при определенных условиях или предположениях. Не говоря об эстетических и моральных требованиях, которые и с своей стороны должны определять судьбу метафизики, мы указали только на условия простейшие и ближе лежащие к опыту. Как мы видели, этим условиям противоречит понятие чувственного воззрения как чего‑то постороннего для субъекта, какого‑то в себе сущего и потому способного изъяснить чтот субъект и его сознание; далее, понятие безусловного механизма и причинных отношений, будто бы способных начать бытие мира вообще, а не только определять изменения в системе уже существующего мира явлений. Если последние условия механизма, каковы тяжесть, непроницаемость, инерция и т. д., не должны быть абсолютными началами бытия вообще, если о них еще нельзя сказать, что они есть, потому что они есть, — то философия имеет право изъяснять механизм как нечто зависимое, не первоначальное и самый закон причинности поставить под идею бытия, под идею сущности, которая должна быть определяема на основании других соображений, не вытекающих непосредственно из начал и оснований физики. Образцы такого истинного реализма мы имеем в философиях Гербарта, Бенеке, Шопенгауэра и Лотце: а материализм, изъясняющий явления как большие вещи — из меньших, но таких же точно вещей (атомов), есть пока теория физического атомизма, которая ожидает еще метафизики. Наконец, что психологический дуализм, который в области опыта нельзя препобедить, не ведет необходимо к дуализму метафизическому, это мы только предположили; потому что материалистическая теория направлена в истине не против этого дуализма, а против постоянного учения философии, что мир имеет другое, другими качествами, другими отношениями определенное содержание, нежели какое дано в эмпирическом и потоли–ку субъективном воззрении. С этими ограничениями материализм входит в новейшую философию как момент в ее реалистическом развитии. Признать определенное условное право этого материалистического воззрения, указать ему определенное место в целостной мысли о мире, — таково одно из выдающихся стремлений новейшей философии. Как мы видели, позднейший материализм возник по поводу определенных недостатков в прежней философии. Но если справедливо, что теперь сам он пополняет свои недостатки воззрениями и идеями философии новейшей, то это явление, как быни казалось оно незначительным, указывает, что философия все же подвигается вперед в разрешении тех трудных задач, которые оставляются па ее долю всеми положительными науками.
По поводу статей богословского содержания, помещенных в «Философском лексиконе» (Критико–философские отрывки)
Если прислушиваться к суждениям большинства о значении и достоинстве философии как науки, то пер–вее всего приходится защищать ее от упреков в темноте, неясности, неопределенности и сбивчивости ее понятий В этом отношении ей совершенно основательно противопоставляют математику, в которой все так просто, так определенно, так очевидно. Соединяются ли названные недостатки с задачею и предметом философии существенно или только случайно, мы не будем решать здесь. Можно только предположить, что как человеческий глаз видит близкие предметы ясно и отчетливо, а отдаленные— в неопределенных и зыбких очертаниях и таким образом, стремясь вдаль, наконец встречает пред собою слитную и однообразную синеву горизонта, в которой исчезают и сглаживаются все различия, все ясные образы предметов, так и человеческий ум, двигаясь в области философского знания все далее и глубже, встречает наконец в неопределенной дали подобную же синеву, где его понятия делаются темными, неопределенными, зыбкими. Мыслитель здравый, то есть обладающий критическим талантом, остановится на этой границе знания и человеческой науки; он всегда будет двигаться в области понятий ясны χ и определенных и предоставит сво–См. Философский лексикон. — Том первый. А, Б, В. — С. Г. Из–аание второе. Санктнетербург, 1859.
Редакция получила полный критический разбор «Философского лексикона», но, сообразно с назначением и: даваемого ею журнала, помещает здесь только те отрывки из целого сочинения, которые, при своем философском содержании, представляют еще особенный интерес для богослова. Таковы преимущественно критико–философ–ские замечания на члены «Лексикона»: Аскетизм, Бог, Вера, — замечания, которые поэтому и избраны редакцией для напечатания. — Примеч. редакции.
бодной вере или чаяниям и вдохновениям сердца пополнять пробелы, оставляемые ограниченным человеческим знанием. Однако же и в этом случае философия очень редко достигает той очевидности, определенности, особенно же общегодности в своих теориях, которые так легко достаются на долю математики. Ясность, определенность и общегодность математических выводов основывается, между прочим, и на том, что предмет математики не связывается с живыми и глубочайшими интересами духа; он есть нечто отдаленное от того эстетического и нравственного содержания мира явлений, к которому так неравнодушно сердце человека и пред которым человеческая мысль нередко пресекает строгую нить логических анализов, чтобы принять это содержание непосредственно, во всей его свежести, —принять простым чувством, простым сознанием его достоинства для целей духа. Если греческий философ Аристипп не любил математики за то, что она не говорит ни о добром, ни о злом, то к я к философ он был прав. Менее всего к этой пауке может высказаться человеческий дух с своими внутренними интересами; поэтому она никогда не запечатлевается характером, нравственным и эстетическим отличием лица, ее разрабатывающего. Для развития этой науки требуется участие не духа, а мышления, которое именно здесь выступает без примеси элементов, рождающихся из стремления воли и из беспредельного моря чувствований, — выступает как логический снаряд или законообразный механизм, который, смотря по той или другой материи, обнаруживает свою деятельность с неотразимою необходимостью в соединении и разделении, сложении и вычитании представлений, — и все это холодно, равнодушно, безучастно, как тот мир количеств, или величин, которым оно при этом занимается. В этом смысле английский философ Гоббс имел основание назвать мышление счислением и всю его деятельность поставлять в сложении и вычитании представлений. Философия, которую чаще всего называют наукою отвлеченною, именно не имеет этого отвлеченного характера, доставляющего математическим анализам годность для всех народов, для всех духов, как бы ни были они различны в своих убеждениях, настроениях и внутренних достоинствах. Каждая философская мысль возбуждает в духе особенные интересы, которые будут отличны от интересов, связанных с другою мыслию. При обозрении разнообразных явлений философ испытывает различные движения сердца, различные чувствования; в его душе образуются определенные настроения, которые в свою очередь будут давать особенное направление его анализам, его мышлению. Поэтому ни одна наука не запечатлевается так решительно характером духа личного, национального и характером эпохи, как философия. Это направление философии, захватывающей в своем научном движении все проявления человеческого духа и его жизни, дает ей особенное значение в исторических судьбах человечества: ни изучаете в ней не отрывочные явления духовной жизни человечества, а целостное состояние духа в данную историческую эпоху. Математическое воззрение даст сухой снимок или чертеж; философское дает картину, в которой правильность чертежа оживляется колоритом чувствований и глубочайших душевных состояний. Такая картина имеет особенную прелесть и многозначительный смысл, которых мы напрасно искали бы в чертежах математических. Очевидно, что это направление философии может совмещаться с самыми строгими анализами и научными требованиями. Только нужно сознаться, что эта возможность очень часто остается простою возможностью. Философия принимает одностороннее, направление, когда научный элемент в ней, так сказать, осиливается влияниями духа личного, национального, а также воздействиями эпохи. Часто также случается, что мыслитель останавливается на пути анализа, как бы пугаясь сам его окончательных результатов. Яркий пример этого романтизма в философии мы находим в истории этой науки после Канта. Неумолимым выводам критики чистого разума Якоби противопоставил живое чувство, непосредственную веру, эстетическое и нравственное чутье, голос сердца, — и с его легкой руки в Германии стали учить, что кроме отвлеченного, рассудочного мышления, которое, по Канту есть единственный орган, перерабатывающий воззрения в познания, есть еще в человеческом духе высшая способность, которая будто бы внутренно, непосредственно и сразу созерцает самую сущность вещей, которая внимает сверхчувственному, подслушивает его (vernehmen — слушать, Vernunft — ум), принимает от него впечатления так же легко, просто и естественно, как глаз видит вещи, не дожидаясь анализов и выводов отвлеченного мышления. Поэтому ничего нет удивительного, если философские системы идеализма последнего времени имеют образ более поэтических созданий, нежели научных построений анализирующего рассудка. Эти системы надобно оценивать не только с научной точки зрения, но также принимать во внимание те особенные нужды духа, которые высказались в них так энергически, потому что только в этих многосторонних отношениях они составляют замечательное явление в истории развития человечества.
Но в истории философии мы не знаем ни одного мыслителя, который до того подчинялся бы своим личным настроениям или посторонним для науки расчетам, чтобы смешивать самые различные вещи в мнимо научном анализе, и который для целей, лежащих вне науки, выдавал бы одно понятие за другое и думал бы таким обра: зом доказывать истину того явления, о котором, собственно, и не говорит он. Если мы не ошибаемся, этот странный случай встречается нам в статье «Философского лексикона» об аскетизме (стр. 192). Сочинитель, видимо, хочет оправдать это явление в нравственной жизни человечества как необходимое и разумное, и против этого намерения мы ничего не можем возразить. Он называет пошлым то мнение, «будто всякий аскетизм есть пустая абстракция». Почему же так? Почему аскетизм есть явление разумное, а не пустая абстракция? «Аскетизм, — говорит сочинитель «Лексикона», — понимаемый в самом общем смысле, есть или такое нравственное учение, которое требует от человека постоянного упражнения воли в побеждении всех препятствий к совершенному исполнению нравственного закона, к полной чистоте духа, или самая деятельность направленная к этой цели». И в другом месте: «Основная идея аскетизма состоит не в бессознательном погружении в измышленную воображением общую жизнь или всемирную субстанцию, не в тщеславном превознесении своей самости над всеми условиями жизни, не в праздном удалении от деятельности для блага ближнего, но в исполнении воли верховного законодателя мира, начертанной в слове Божием и в нашем собственном духе». И еще далее: «Истинный аскетизм не есть абстракция или мечтательная односторонность, но живая деятельность, стремящаяся к осуществлению высоких велений закона истины, правды и любви в жизни, к полной гармонии всего нашего существа с идеею нравственного совершенства». Легко видеть, что все эти определения ни слова не говорят об аскетизме как об особенном явлении в области нравственной, что они описывают вообще нравственную деятельность с точки зрения христианской. Представим себе, что русский мужичок, усердный христианин, терпеливый работник, честный гражданин, живущий с своей женой, детьми и друзьями в довольстве и доступных ему наслаждениях, прочитал бы эти строки: «Аскетизм состоит в исполнении воли верховного законодателя мира, начертанной в слове Божием и в нашем собственном духе», он «есть живая деятельность, стремящаяся к осуществлению высоких велений закона истины, правды и любви в жизни» и т. д. Мы думаем, что он был бы совершенно прав, если бы вообразил, что он ведет жизнь аскета. Сочинитель «Лексикона» указывает нам поле общей нравственной деятельности и ничего не говорит об отличительных явлениях аскетической жизни, каковы в особенности: вольная нищета, целомудрие и послушание, которые выражают отречение от собственности, от брака и от личной воли. А между тем, как известно, «пошлое мнение, будто всякий аскетизм есть пустая абстракция», относится именно к аскетизму, выражающемуся в этих главных формах и во многих связанных с ними, как то: удаление от общества людей в безлюдные пустыни, печальное, покаянное настроение духа в течение всей жизни, признание всякого удовольствия греховным, воздержание от мяса, изнуряющие посты и т. д. Все это мы пережили и переживаем в светлом христианском мире; итак, мы хотели бы иметь определительное понятие о достоинстве и значении этих форм аскетической жизни и об их отношении к общей нравственной задаче человека и христианина.
Сочинитель «Лексикона» следит за неправильными формами аскетизма в их историческом развитии и говорит об аскетизме индийском, пифагорейском, циническом, стоическом и александрийском. Все эти формы легко свести к двум: к форме восточной и греческой. На Востоке аскетизм был направлен, да и теперь направляется, на уничтожение личности, в Греции — на ее восстановление. «Лексикон» говорит почти то же самое, хотя непоследовательно утверждает (стр. 193), что индийский аскетизм основывался на понятии о материи как источнике зла: потому что из этого основания еще никак не вытекает для индийского аскета потребность и нравственная задача погружаться «в Браму или превращать свою личность в ничто». Как говорит история и как понятно само собою, для последователей брамаизма самая. личность, личное, сознательное существование есть зло и источник зла; а материя, как призрак, как Майя, есть нечто несуществующее, недействительное: пред разумным взором аскета она исчезает в беспредельном, повсюду разлитом духе, как лотос в волнах моря. Причина этого призрака, называемого материей, заключается в обольщениях личного существования: снимите, уничтожьте эту личность, и на месте материи будет только один, вечный, необозримый и невидимый океан духа, в который разрешается всякая жизнь, частная, отдельная, личная, сознательная. Точно, индийские аскеты терзают свое тело: они умеют до того иссушить его, до того убить в нем всякую жизненность, что голодный тигр, ищущий добычи, равнодушно проходит мимо этих все еще дышащих людей, как мимо камней, на которые он не имеет надобности нападать. Но эта роковая борьба с телом есть только частный случай в общей борьбе индийского аскета с своим всецелым существованием. От влияний материи нельзя избавиться иначе, как погасивши всякий свет сознания; но и в частности против тела нужно еще бороться для того, чтобы убить в нем способность рождения. Рождение есть зло, потому что оно дает сознательное существование человеку.
В прямой противоположности с этим воззрением учит греческий философ Платон, что «рождение есть дело Божие, что оно есть вечное и бессмертное, доступное смертному». Но как рождение дает личное существование человеческому духу, то форма личности и сознательной жизни также должна быть признана божественною, что сообразно и с мифологическим воззрением греков. Итак, и греческая мифология, и развитие греческой философии вели сами собою к аскетизму, который боролся за восстановление и возвышение личности, за ее самостоятельность и независимость от всех внешних сил и влияний. «В этом аскетизме, — говорит «Лексикон», — сквозь оболочку самоотвержения проглядывает самый утонченный эгоизм и самоугождение». Мы спросим: не из утонченного ли эгоизма и самоугождения Сократ пошел навстречу смерти, — пошел, как нравственный герой, свободно, за право личного и разумного убеждения? Не из утонченного ли эгоизма и самоугождения стоик Клеант, названный древними за свою несокрушимую волю вторым Геркулесом, таскал по ночам воду для орошения садов афинских, чтобы днем быть в состоянии заниматься исключительно философиею? По–видимому, сочинитель «Лексикона» имеет очень мало любви к самым достойным представителям человечества, если они действовали под другими воззрениями, отличными от наших. Впрочем, это предположение, которое мы сейчас сделали, оказывается несправедливым, если сравнить его с одним мнением «Лексикона» об аскетизме стоиков. «В их безусловной бесчувственности, говорится и «Лексиконе», — ко всем видам благ и зол и жизни, и пренебрежении к формам общежития замеіеп юг же утонченный эгоизм, который считает свою самость. и самозаконие выше нравственного порядка, выражающегося и формах общежития». Судя по этому мнению, «Лексикон» хотел бы поставить личность человека н такое отношение к обществу, в каком она стоял» н греческом мире до Сократа, когда деятельное п. по совести и личному убеждению, а не по существующим формам общежития была признаваема уже за одно что преступлением. Мы противопоставили сочинителю пример Сократа, потому что именно в Сократе мы встречаем первое выдающееся явление этого аскетизма, направленного, по справедливому замечанию «Лексикона», «к отвлеченной, подлежательной свободе лица», хотя «Лексикон» буквально упрекает только циников и стоиков в односторонности их аскетических стремлений. Мы имели право на это, потому что при таком взгляде на отношение личности к обществу, какой мы сейчас встретили в «Лексиконе», утонченный эгоизм й самоугождение придется нам находить везде при встрече с нравственным героем, который, как говорит тот же «Лексикон», «образумливает от времени до времени своим примером мир, погрязающий в страстях». Интересно поставить вместе основания, которыми сочинитель опровергает восточное и греческое направление аскетизма. Как аскетизму греческому он говорит, чтобы самости и самозакония он не считал «выше нравственного порядка, выражающегося в формах общежития», так аскетизму восточному, который борется на жизнь и смерть с чувственным миром, он возражает, что мир чувственный безразличен «в отношении к нравственной жизни». Если мы не окончательно ошибаемся, то из этих слов следует, что для целей духа все равно, есть ли чувственный мир творение любвеобильного Бога или произведение злого духа. Также, по–видимому, следует, что для целей духа все равно, совершен или несовершен нравственный порядок, выражающийся в формах общежития, потому что предпочтение самости и самозакония этому порядку сочинитель называет вообще утонченным эгоизмом и самоугождением. А между тем живое человечество чтит и обожает тех героев нравственности, которые, не скрываясь в пустыни, вступали в общество людей с своими личными убеждениями и преобразовали своей несокрушимой волей опошлевший нравственный порядок, выражающийся «в формах общежития».
Впрочем, как известно, Сократ говорил основателю цинической школы Антисфену: «Сквозь дыры твоего плаща я вижу только твою гордость» («Леке.» стр. 115). Антисфен, как ученик софистов, понимал, в самом деле, сократово учение о самости и свободном убеждении слишком узко. Как для софистов мерою всех вещей был человек, взятый со всеми своими случайными и эмпирическими определениями, так для Антисфена случайные особенности бедного сословия, к которому принадлежал он, казались неразрывно связанными с достоинствами лица и самости: он гордился дырами своего плаща, гордился просто тем, что был беден, как Сократ гордился своими нравственными и педагогическими заслугами пред афинским обществом. Антисфен давал сократической мысли сословный характер и хотел таким образом возвысить нравственно класс граждан беднейших и неполноправных, как Платон в той же мысли Сократа находил лучшее основание для усовершенствования греческого общества во всех его сословиях. Сократ не мог со чувствовать одностороннему стремлению Антисфена, он видел в нем сословную гордость, которая была опасна для универсального характера его мысли. Тем не менее Сократ, циники и стоики сходятся в одном общем стремлении— жить и действовать по плану, начертанному самостоятельным разумом, жить сообразно с свободным внутренним убеждением, с требованиями совести и нравственного закона, не справляясь с тем, как эта разумная и нравственная жизнь будет относиться к формам и правилам национального общества. Эта сторона греческого аскетизма, направленного «к отвлеченной подлежательной свободе лица», по нашему мнению, не имеет ничего общего с утонченным эгоизмом и самоугождением. Здесь мы имеем замечательный шаг вперед в истории развития человеческого духа и в истории борьбы человека со внешними силами за свои права, за свои личные убеждения, за свободу разума и совести. Эта роковая борьба продолжается и до настоящего времени, она представляет как бы центральное явление в жизни исторических народов Правда, что и ныне многие говорят о принижении личности как о нравственном требовании; однако из предыдущего видно, что такое мнимо нравственное требование может быть понятно разве для индийского аскета, для которого личность есть нечто ненормальное, неестественное и злое.
Но если восточный аскетизм уничтожал личность, а греческий восстановлял ее, то какое направление должен принять аскетизм в мире христианском, который развивается из начал высших и совершеннейших, нежели какими прежде жило человечество? «Лексикон» оставляет нас в неведении касательно этого важного вопроса, с разрешением которого весь член об аскетизме получил бы современное значение и служил бы опровержением «того пошлого мнения, будто всякий аскетизм есть пустая абстракция». В настоящее время мы не будем отвечать па этот вопрос, потому что он отослал бы нас к истории. Однако же припомним, что на границе между древним и новым миром один христианский аскет резко и нарочито отличает новое призвание аскетов от древнего: «Если, —говорит он, —я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то сие ни к чему не послужит мне» (1 Кор. 13, 3). Вот, по нашему мнению, точка зрения, с которой нужно судить о последующей истории аскетизма. Раскрытие божественной идеи в сознании и нравственной деятельности своей, благо и совершенствование человека — такова цель, которую преследует или должен преследовать христианский аскет, если он понимает себя. «Истинный аскетизм, — говорит «Лексикон», — проникнут живейшею любовию к человечеству и в духе этой любви не только стремится к своему внутреннему усовершенствованию, но и способствует истинному, существенному благу других своими трудами и подвигами. Аскетизм не исключает никакого доброго труда, направленного к нравственному совершенству человека, к утверждению царства духа, царства Божия на земле». Было бы правильнее и сообразнее с духом христианства сказать: не только не исключает, но признает этот труд направленный «к нравственному совершенству человека, к утверждению царства духа, царства Божия на земле», своею главною задачею. Й действительно, первые христианские аскеты, известные под этим именем, шли в больницы, чтобы служить страждущим собратиям, шли на поле битвы, чтобы облегчать страдания раненых, выкупали плененных, заботились о содержании нищих, калек, вдов и сирот. Индийский аскет стоит на убеждении, что мир есть зло, что он произошел вследствие какой‑то ошибки Брамы и что поэтому он не представляет никакого поприща для целей духа. Преступление, вина человека состоит уже в том, что он человек: поэтому подавлять положительные стремления духа, убить в нем всякое желание и чаяние, перестать быть человеком — такова мрачная задача, которую преследует аскет индийский. Для восточного духа темная ночь небытия есть нечто более отрадное, нежели светлый день бытия, и покой среди этой ночи, не нарушаемый никакими помыслами, желаниями и стремлениями, есть подлинное счастие. Греческий аскет не имел этого мрачного настроения. Среди развалин древнего мира он находил опору в своем могучем духе и надеялся в себе, в своем сердце открыть такие богатые источники совершенства и счастия, что всецелое разрушение мира и превращение его в хаос — как он надеялся — нисколько не может изменить его душевного настроения. Эта вера в себя, вера в человека происходила из убеждения, что «мы — род Божий». Но как индийский аскет думает, что мир по самому бытию своему есть зло, так аскет греческий был убежден, что мир способен состариваться, дряхлеть и что в эту эпоху он действительно не может быть поприщем для целей духа. Это воззрение, которое самым определительным образом высказалось в философии стоической, давало этому аскетизму характер отрешенный. Аскет заботился только о своем личном совершенстве и счастии: как эпикурейские боги, он был равнодушен к судьбам мира, притом вдали, в будущем ему представлялись такие препятствия к осуществлению идеала лучшей и совершеннейшей жизни, которых избежать надеялся он разве произвольною смертию. Поэтому очень естественно, если этот аскетизм в дальнейшем развитии слился с восточным в школе неоплатоников и в сектах гностических. Только христианский аскет, сознавая свое призвание, может смотреть на свою задачу и на дело человечества взором светлым, исполненным любви и надежды. Он трудится, как говорит «Лексикон», «для утверждения царства Божия на земле». Итак, человеческие отношения, существующие и развивающиеся здесь, на земле, он не считает чем‑то ненормальным, они способны принимать в себя «царство Божие»: его не оставляет надежда, что общество и человечество при самых крайних уклонениях с пути правильного развития могут возрождаться Божественной идеей и что именно достижению этой достойнейшей цели может содействовать энергическая воля аскета как частного человека. Выразилсь ли это христианское направление аскетизма и прошедшей истории и насколько, а с другой стороны, как относятся к этому духу аскетизма те особенные своеобразые формы его, на которые мы указали выше это — такие вопросы, решение которых повело бы пас слишком далеко, в область истории и нравственном философии. Заметим коротко, что развитие своеобразных форм аскетизма всегда находилось в связи понятием аскетов о святости жизни, поколику они отличали жизнь святую от общенравственной жизни, основывающейся на правде и любви. Так как нравственная философии греком не имела этого понятия, то и их аскетизм не нуждался ни и каких своеобразных формах проявления. Только в последнее время греко–римского периода начали различать добродетели низшие и высшие, добродетели жизни практической и созерцательной, добродетели всех и добродетели избранных; вместе с этим различием и аскетизм стал принимать такие формы, которые не могут иметь общеприменимого нравственного значения.
Если говорят, что «аскетизм есть пустая абстракция», то это по всей справедливости относится к аскетизму, имеющему отрицательную цель, — к аскетизму, который определяет свою задачу одними только отрицательными правилами, каковы: беги от мира, стремись к апатии (к бесстрастию), погашай желания, чтобы достигнуть невозмутимого покоя (правило квиетизма); также это относится к аскетизму, для которого отречение, борьба с чувственностию есть цель сама в себе до стойная, но не средство к цели; наконец, это относится к мелочному самонаблюдению, которое мешает человеку направить свои силы на дело, на событие, на плодотворный подвиг и делает его мнительным, нравственно робким, нравственным скептиком.
Между тем многие нравоучители полагают, что аскетизм есть необходимый момент даже вообще в нравственном развитии человека. Как наши воззрения не все входят в понятие, потому что многие из них оказываются случайными, не выражающими существа предмета, как, поэтому, мышление необходимо сопровождается отрицанием, так и наши влечения, привычки и наклонности не все могут входить в нравственную задачу, которую мы преследуем в данном случае и среди данных обстоятельств; поэтому и здесь необходимо такое же отрицание некоторых влечений, привычек и наклонностей. Как только мы следуем правилу несколько высшему и достойнейшему, нежели правило: повинуйся обстоятельствам, как только мы живем и действуем по разумному, отчетливому и строго начертанному плану, мы уже не можем уклониться от аскетической борьбы с внешними влияниями, поколику они противоречат этому плану. Поэтому мы согласны с сочинителем «Лексикона», если"он к числу аскетов относит стоических философов, которые, как практические мудрецы, хотели во что бы то ни стало жить и действовать по разумному, ясно сознанному плану, для достойной, ясно определенной цели и не повиноваться случайным впечатлениям и влияниям Сочинитель «Лексикона» тем удобнее мог бы рассмотреть эту сторону вопроса, что в другом месте он высказал уже разумное основание для этого решения На стр. 223 он говорит о педагогах Базедов и его последователях: «От ложного предположения, что человек от природы есть существо совершенно доброе, они слишком потворствовали физическим влечениям человека, превратно понимали значение дисциплины и в самом обучении мало обращали внимания на необходимость нравственного элемента, на усилия воли, полагая, что достаточно одного удовольствия и игры природы для правильного развития и образования человека». Если бы психология доказала, что усилия воли, самопринуждение, самообладание суть только неточные выражения для обозначения необходимых результатов, которые происходят в душе по механическим законам сложения и вычитания душевных про цессов, тогда не могло бы быть и речи об аскетическом моменте в нравственном развитии человека, — тогда вместо свободного акта воли, вместо энергического порыва ее — начинать ряд действий из себя и от себя, мы должны были бы говорить только о несамостоятельных, пассивных результатах, которые возникают из столкновения различных душевных состояний и которые только про стому, не научному сознанию кажутся произведением свободных актов воли. Пока этот важный пункт в психо логии не изъяснен окончательно, мы не можем согласиться с мнением, «будто всякий аскетизм есть пустая абстракция». Только было бы справедливо сказать, что как во всякой форме человеческой жизни, так и в аскетизме может быть много пустых абстракций. Такова земная участь человека, что обольщения преследуют его везде, даже на самых достойных путях его жизни! От них освобождается до известной степени только тот, кто умеет определить достоинство деятельности достоинством ее содержания или, что го же, достоинством и многозначительностию ее цели. На этом пункте согласны почти все философы, рассуждавшие о началах и основах нравственной жизни человечества.
Если сочинитель «Лексикона» не хотел ясным определением отличить аскетизм от нравственной деятельности вообще, как это мы видели, то можно бы предположить, что он сделал это для удобнейшего оправданий этого явления, в котором многие не видят ничего положительного и существенного. Из предыдущего, однако же, явствует, что этот прием вовсе не нужен Для достижения предположенной сочинителем цели. Вообще, мы хотели бы находить в«Лексиконе» не только точность и ясность понятий, но также и искренность, которая не позволяет достигать доброй цели неестественными свойствамй. Зачем эта мечта, будто всякое доброе убеждение нужно во что бы то ни стало доказать из общих теоретических или логических оснований? Так области наук опытных мы знаем больше, нежели сколько можем доказать, так и в философии есть убеждения, которые оправдываются или фактически, во внутреннем опыте или же своим нравственным смыслом и которое доказывать и значит возвращаться к схоластическому заблуждению, будто Достоинство знания определяется количеством доказательств. Мне сказывали об одном преподавателе, который любил всякое положение, даже ясное как день, доказывать множеством аргументов и который однажды для доказательства того, что мы когда‑нибудь помрем, сослался на убеждения всего человечества, на свидетельство откровения, на авторитет знаменитейших писателей разных эпох, на здравый разум и, наконец, — да, наконец, на свидетельство опыта. Говорят, что слушатели после этих аргументов вышли из аудитории с некоторым сомнением, точно ли они помрут когда‑нибудь. Мы не хотим сказать, что нравственное право аскетизма для всякого ясно как день, но мы желали бы, чтобы его оправдание было естественное, а потому искреннее, а не искусственное, придуманное. Почти все члены «Лексикона» наполнены искусственными, сочиненными основаниями, и это производит неприятное впечатление на читателя. Образчики того направления мы встретим в избытке ів статьях о Боге и вере. Как будто светлый мир воззрений и не существует для сочинителя, так он охотно движется в тенях отвлеченных мыслей. Как будто жизненные образы действительности ничего не значат в сравнении с их отражениями в камер–обскуре отвлеченного мышления. Слепой, проходя по улицам без во жатого, должен руководствоваться априорным мышлением: он должен соображать, выводить, построивать комбинации, умозаключать, должен сравнивать мысленно расстояния, пройденные ныне, с прежними опытами этого рода, чтобы решить, где ему должно переходить чрез улицу, где поворотить за угол, где взять направо и т. д. Человек, видящий непосредственно улицы, их расстояния, повороты и углы, не нуждается в этих выводах и умозаключениях. Было бы смешно, если бы он, подошедши к углу улицы с открытыми глазами и среди белого дня, стал рассуждать: здесь необходимо должен быть угол, потому что ныне от моего дома я сделал столько же шагов и чувствую такую же усталость, как это случалось со мною и прежде на месте поворота в другую улицу; а одно и то же пространство можно пройти, сделавши одинаковое число шагоів, и ту же степень усталости можно почувствовать, прошедши то же самое расстояние. Итак, я имею общие силлогистические основания, из которых следует с необходимостию, что здесь должен быть угол. — Чтобы замечания, которые мы сейчас- сделали, не показались пристрастными, приведем здесь из «Лексикона» несколько примеров абстрактных формальных и искусственных приемов, которые заслоняют живой опыт. Стр. 333: «Как едино существо Божие, как одна идея верховного существа, так одно может быть, в сущности дела, доказательство бытия Божия». При этой манере мы могли бы сказать; как этот преступник совершил одно преступление, то и улика его должна быть, в существе дела, одна; как Киев — один, так одна может быть, в сущности дела, и дорога к нему. То есть сочинитель придумывал основание и вовсе не смотрел на факты мышления, которые предлежат в науках и в самовоззрении, из которых видна эта хитрость мышления, что оно может доказывать бытие предмета многими приемами, хотя бы даже этот предмет был один и единственный. Притом можно бы припомнить и основной закон мышления, по которому его содержание остается одно и то же, вое равно, будет ли оно дано в одном экземпляре, или в двух экземплярах, или в бесконечном числе их; или, другими словами, численное единство и численное множество не есть предмет мышления как такого. Стр. 84: «Синтез, как синтез, вообще был бы невозможен, сколько бы мы ни рассматривали частных явлений и фактов спомощию анализа, если бы он не предшествовал всякому анализу как внутреннее, прирожденное нашему духу единство самосознания, в силу которого мы везде, во всех явлениях отыскиваем единство, гармонию и внутреннюю зависимость». Что прирожденное единство самосознания необходимо и для возможности анализа, как и всех остальных приемов знания, это известно всякому, кто прямо и непосредственно смотрит на факты знания; следовательно, принимая это прирожденное единство как факт, условливающий окончательную возможность всех и всяких приемов знания, возможность всех синтезов и всех анализов, мы опять должны будем спросить: есть ли синтез что‑нибудь отличное от анализа? Оба эти приема одинаково основываются на прирожденном единстве самосознания: чем же теперь они отличаются друг от друга? А сочинитель думал, что указанием на единство самосознания он порешил эти вопросы, которые теперь только возникают. Стр. 498: «К убеждению в действительности познания мы доходим посредством умозаключений и соображений; но воля присутствует в каждом акте своем непосредственно. В этой непосредственности, сопровождающей в нас признание воли как способности самоопределения к деятельности, заключается самое лучшее доказательство ее присутствия в нашем духе». Мне не приходилось встречать в психологиях доказательство присутствия воли в нашем духе, хотя часто психология доказывает свободу воли: как увидим сейчас, сочинитель смешивает эти две совершенно различные вещи; в настоящем же случае доказательство присутствия воли в нашем духе находит он s «непосредственности, сопровождающей в нас признание воли», то есть из любви к доказыванию он признает доказательством самый факт, который он хочет доказывать. Между тем под именем воли (volo, voluntas, он разумеет не способность желаний вουλί) вουλκύвσθαι) или хотений, влечений и стремлений, отличную от способности представлений и чувствований, не то, что разумеют все смертные, когда говорят о душе, что она может представлять, хотеть и чувствовать, но разумеет свободу воли. «Под волею, — говорит он, — разумеется способность нашего духа устанавливать по своему собственному хотению (то есть по своей собственной воле?) и усмотрению ряд Деяний независимо от необходимой связи причин и действий». Словом, воля есть свобода воли, воля есть способность духа устанавливать ряд деяний"чіл о своему собственному хотению», то есть по своей собственной воЛе. Доказательство присутствия этой воли е нашем духе есть, как мы уже видели, непосредственность, сопровождающая в нас признание воли, и такого‑то могущественного доказательства мы, по мнению Сочинителя, не имеем для деятельности нашего познания; сочинитель уверяет нас решительно, что «к убеждению в действительности познания мы доходим посредством умозаключений и соображений». Как хотите, а это Значит стоять на углу улицы с открытыми глазами и среди белого дня и убеждаться «посредством умозаключений и соображений» в том, что мы стоим на углу улицы. Скажем просто, что факт представления или познания так же непосредственно дан нам во внутреннем опыте, как факт хотепин и чувствования, что, по простому и умному выражению Спинозы, когда я знаю или представляю, то я знаю и о том, что и знаю или представляю. Сочинитель между тем солидно уверяет меня, что когда я вижу или слышу вообще, когда я представляю или знаю, то «к убеждению в действительности» этих душевных состояний видения или слышания или, вообще, представления и познания я дохожу «посредством умозаключений и соображений». Стр. 30: сочинитель опровергает кантово понятие об автономии, то есть о способности разума из себя й от себя полагать или предписывать законы для воли, и пользуется при этом следующим приемом.; Ум сознает в себе всеобщий нравственный закон, а «понятие ёсеобщности уже само собою указывает на сферу, превышающую нашу Ограниченную личность». Далее, если бы разум сам от себя предписывал законы воле, то «в этом случае был бы только простой акт деятельности, без всякого разделения сознания на предписание закона й исполнение его». Легко видеть, что оба эти основания придуманы, сочинены, а не взяты из существа дела. Понятие всеобщности в том логическом значении, в каком употребил его сочинитель, указывает не на высший авторитет, а именно на человеческую голову, которая образует общие понятия. Когда я решаю математическую Задачу не по случайным соображениям, не на основании прежних удачных опытов, а по общему алгебраическому закону, отсылает ли меня этот общий закон к высшему авторитету? Ум сознает в себе всеобщий нравственный закон, то есть такой, исключение из которого; невозможно, немыслимо, завивало бы в: себе, jвнутреннее противоречие. Теперь, с этою логическою всеобщностию сочинитель, как по всему видно, смешивает всеобщность историческую или согласие всех людей в, признании нравственного закона, и отсюда заключает: «Понятие всеобщности уже само собою указывает на сферу, превышающую нашу ограниченную личность». Другое доказательство точно такого же достоинства. Когда я играю в карты и различаю в моем создании «предписание закона игры и исполнение его», следует ли из возможности этого, различения, что закон игры предписан высшим, авторитетом? А между тем учение о высшем источнике нравственного законодательства имеет бесспорно сильные и определительные основания, о которых можно справиться» любой нравственной философии.
Довольно и этих немногих примеров, потому что они касаются не частных фактов, а общих приемов мышления, какими пользуется сочинитель «Лексикона» при обозрении различных предметов. Эти примеры оправдывают высказанный нами взгляд на характер и направление «Лексикона», — взгляд, который на первый раз может показаться пристрастным. Приступим, однако же, к рассмотрению статей «Лексикона» о Боге и вере: интересы науки и жизни так сходятся здесь, что для нас будет дорого всякое правдивое слово, какое попадется нам в этих членах «Лексикона»; но зато мы будем открыто говорить о всякой неясности и неопределенности, потому что нечистый ум, как и нечистое сердце, равно препятствуют боговедению. Спиноза стремился в своей философии к одному — дать понятие о Боге, если и неполное, то все же столь ясное и определительное, какое, например, имеем мы о треугольнике и его свойствах, особенно же — доказать бытие Божие из таких отчетливых оснований, которые ни н чем не уступали бы основаниям эвклидовой геометрии. Те, которые с ужасом говорят о решительном пантеизме философии Спинозы, не могут, по крайней мере, не ценить в этом философе глубоких нравственных стремлений, его горячей любви к бого–познанию и богосозерцанию. «Атог erga rem aeternam, — говорит Спиноза о себе, —sola laetitia pascit animum; ipsaque omnis tristitiae est expers; quod valde est deside‑randum totisque viribus quaerendum». Справедливо, что о Спинозе мы можем сказать то же самое, что Оригон сказал некогда о самом себе, именно что и любовь бывает грехом! однако же многие ли из нас в состоянии приступить к богопознанию, к этому вечному предмету (гее aeterna) с таким детски радующимся сердцем, многие ли способны унимать все свои тревоги и страдания простою мыслию о Боге? У нас большею частию бывает так, что, доказываем ли мы возможность или невозможность богопознания, в том и другом случае ми обраща–емся с этим вечным предметом, как с трупом, рассекаем его анатомическим ножом мысли, спорим, трактуем, ис–следываем, переисследываем, как будто в этом состоит все дело и как будто живые нужды сердца — которое, по выражению Гербарта, «всегда стремится не дальше и не выше, как до Бога», — не имеют никакого значения и права пред выводами отвлеченной мысли. Не любяй не позна Бога — вот истина, которую мы часто забываем, полагаясь в деле богопознания только на наши мысли, на наши силлогизмы, на наши тощие синтезы и шіили: ш.
Когда ми переписывали вту статью для печати, нам попалась рецензия на «Философский лексикон», напечатанная в № 27 «Санктпетербургских ведомостей» за текущий год. Мы позволяем себе сказать здесь об ней несколько слов. Известно, что «Философского лексикона» вышло всего два тома, из которых второй оканчивается статьями на букву «И». Если когда‑нибудь явится в свет третий том, то в нем мы должны ожидать статей на букву «К» и, следовательно, статьи о Канте и его философии. Между тем сочинитель упомянутой рецензии, обозревая статьи, помещенные во втором томе «Философского лексикона», между прочим говорит: «После Гегеля, самая обширная статья е «Философском лексиконе» посвящена Канту — предшественнику Гегеля. И здесь г. С. Г. остается верен руководящей его мысли и дает нам не только объяснение того, кто был Кант, но очерк его системы, главнейшие положения и, наконец, критическую оценку его деятельности, с указанием на источники, из которых можно почерпнуть полные и обширные сведения». Не знаем, почему рецензент не сделал за одним разом отзыва о статьях на букву «Ш», например, о статьях «Шеллинг», «Шлейермахер», также и обо всех статьях, которые когда‑нибудь, быть может чрез несколько лет, могут быть напечатаны в последующих томах «Философского лексикона». Впрочем, если эта рецензия доказывает, что можно делать отзыв о книге, не заглядывая в нее и даже не перелистывая ее, то нам нечего бояться расходиться с нею во мнениях. Рецензент, например, говорит, что статьи «Лексикона» написаны «языком по возможности понятным и ясным», но говорит, как надобно думать, вследствие того же знакомства с «Лексиконом», благодаря которому он открыл, что в нем «самая обширная статья посвящена Канту— предшественнику Гегеля», что в этой самой обширной статье сочинитель «остается верен руководящей его мысли» и т. д. После этого небольшого отступления обратимся к обозрению статьи «Лексикона» о Боге, как мы обещали нашим читателям.
Если сочинитель «Лексикона» в понятии о Боге поставляет себя на точку зрения теизма, то есть принимает это понятие так, как оно дано «общечеловеческом и христианском сознании, то мы в этом отношении совершенно согласны с ним. «Богом, — говорит он, — называем мы верховное существо, создавшее мир и промышляющее о нем». В системах философии нередко с этим словом соединялись такие понятия, которых вовсе нет в обыкновенном сознании, а от этого происходила только неясность в мышлении и эти системы поставляли себя в неопределенное отношение к религии. Именно философские системы часто определяют только безусловное содержание или безусловную форму мира явлений и потом это содержание и эту форму называют Богом. Так, уже древнейший греческий философ Ксенофан учил, что действительное или существенное содержание мира явлений есть одно, без множества, без разностей, изменений, без движения, что в нем самые крайние противоположности мышления и бытия сливаются в чистое единство, и это единое бытие называл Богом: все есть одно, говорил он, и это одно есть Бог. Справедливо, что таким языком пользовались философы не без основания. Признавая субстанцию мира божественною, или Богом, они этим хотели сказать, что мир, утверждающийся на этой субстанции, есть явление хотя необходимое, не происшедшее из планов и намерений свободно творящего духа, тем не менее сообразное с идеей, или такое, каким оно и должно быть, и что в этом по естественной необходимости существующем и раскрывающемся мире все действительное разумно и все разумное действительно. Какое бы значение ни имела эта мысль о Боге как общей субстанции вещей, мы все же должны сознаться и что не к этому Богу обращается человек в своем религиозном чувстве, не пред этим Богом он изливает тоску души своей, повергается на колена и молится. Сердце человека возносится в вере и молитве к такому существу, которое может внимать его воплям и облегчать его страдания, а что там философия может сказать о положительном, действительном или существенном содержании мира явлений, — это предмет, который не имеет прямой связи с потребностями религиозного сознания человечества. Поэтому Кант оказал большую услугу философия тем, что сделал в своей критике чистого разума и критике разума практического солидную попытку поставить в определенное отношение к науке учение о Боге в том неискаженном смысле, в каком оно принимается всяким верующим человеком. Результаты, к которым пришел Кант в этом отношении, известны всему ученому миру. Как невозможна метафизика вообще, то есть знание о положительном содержании мира явлений, так невозможно и знание о Боге. Справедливо, что основное начало ума осп. требование безусловного по поводу данных и условных явлений; но что требование есть только мысль, есть только идея, а бытие, соответствующее этой идее, мы признаем не из научных или объективных оснований, а из субъективной потребности или из нужды, которая связана с существом человека как нравственной личности. И так как из потребности в предмете не следует бытие предмета, то наша вера в Бога как Творца и Промыслителя мира есть слепая и безотчетная. Свойства, которые приписывает Богу теоретический ум, каковы разум и воля, суть простые человекообразные представления, которые нисколько не расширяют нашего познания за пределы мира явлений. Из обширной системы Богопознания остается для науки только идеал чистого разума; этот идеал служит для нее не источником особенных познаний, а правилом или регулятивным принципом для познаний о мире, уже готовых и приобретенных из опыта. Сообразно с ним мы должны рассматривать все, что входит в систему возможного опыта, так, «как будто бы все явления составляли абсолютное, но вполне зависимое и все еще условленное внутри чувственного мира единство и тем не менее как будто бы совокупность всех явлений имела вне своей сферы одну высочайшую и веедовлеющую основу, именно как бы самостоятельный, первоначальный и творческий ум». Короче и яснее, хотя мы должны познавать явления по их механической связи и изъяснять их из механических причин и условий, потому что другое познание об них и другое изъяснение их для нас невозможно, однако все же мы должны рассматривать самый этот механизм, слагающийся из необозримого ряда естественных и необходимых причин и действий, так, как будто бы он был создан высочайшим разумом, потому что начало ума есть требование безусловного. И если разум практический признает по субъективной нужде действительность предмета, которого идею теоретический разум образует с логическою необходимостию и сознает как свое естественное законное содержание, то всякий видит, что нет противоречия между этою практическою верою в бытие Бога и теоретическим идеалом чистого разума, имеющим формальное значение для науки. Познание о Боге невозможно, но зато нера в Бога не осп. нечто лежащее вне разума и не имеющее к нему никакого отношения. Эта вера падает, во всяком разе, в сферу, очерченную идеями ума, в котором требование безусловного так же естественно, как в рассудке, например, требование причины для всякого изменения в мире явлений.
Таково мнение Канта о значении идеи Бога для науки и о возможности богопознания. Ниже мы найдем случай рассмотреть его подробнее, а здесь приведем суждение об этом учении Якоби, который известен как противник кантовой философии. Он говорит: «Для Канта, как глубокого и искреннего философа, слова Бог, свобода, бессмертие, религия означали то же, что означали они спокон веков для здравого общечеловеческого смысла. Кант не хотел обманывать нас этими словами или играть ими. Досадуют на него за то, что он показал, как недостаточны все доказательства, придуманные умозрительною философиею для защищения этих идей. Но он вознаградил потерю теоретических доказательств необходимыми постулатами чистого практического разума. Он был уверен, что таким образом он оказывает решительную помощь делу философии и что таким образом действительно достигается философией та цель, которой она никогда прежде не достигала».
Непосредственно за этим суждением о религиозном учении Канта Якоби продолжает: «Но уже родная дочь критической философии (философия Фихте) делает живой и деятельный моральный порядок Богом, — делает Богом, буквально не имеющим сознания и самостоятельного бытия. Когда эти искренние слова были высказаны гласно и без всяких околичностей, то они все еще возбудили некоторую тревогу. Однако же очень скоро страх прошел. Когда вторая дочь критической философии (философия Шеллинга) окончательно, то есть так же буквально уничтожила еще оставленное первою различие между философиею природы и философией нравственной, когда она чисто–начисто объяснила, что выше натуры нет ничего и что существует одна натура, то это учение не возбудило уже ровно никакого удивления; эта вторая дочь есть вывороченный или просветленный спинозизм, то есть материализм идеалистический».
Заметим, что такое суждение о Канте и о последующих за ним философах произносит мыслитель, который стоит на почве теизма так же определенно, как и наш сочинитель. Мы увидим, что для нашего сочинителя учение Канта о богопознании и учение о том же предмете последующих философов представляется почти в обратном значении и достоинстве сравнительно с мнением Якоби. Отчего произошло это различие при одном и том же понятии о Боге у нашего сочинителя и у Якоби, мы скоро утиднм.
Весь член о Боге разделен на две части, из которых в первой говорится о доказательствах бытия Божия, а во второй — о свойствах существа Божия.
Перечисляя доказательства бытия Божия, сочинитель говорит об историческом доказательстве, что «оно имеет силу только как фактическое подтверждение необходимости идеи бытия Божия в нас, не зависящей от климата, поверий, обычаев и других каких‑либо особенностей человеческого рода», и приписывает этому доказательству «в научном отношении» низшее достоинство. С этим, вообще, можно согласиться. Если бы мы исторически познали, что народы всех времен имели и имеют веру в бытие Бога, создавшего мир и промышляющего о нем, то из этого факта наука еще не имела бы непосредственного права заключать, что этой идее соответствует высочайшее Существо в действительности. Так, народы всех стран и времен убеждены, что Солнце движется от востока к западу, и, однако же, Коперник отверг этот факт общечеловеческого наблюдения и сознания. Наука должна исследовать, по каким необходимым законам и общим условиям образуется в общечеловеческом сознании это явление, которое мы называем идеей Бога, — и тогда может открыться, что это явление имеет основание или субъективное, или объективное, или, наконец, то и другое вместе. Содержание общечеловеческого сознания не есть простой и нѳвозмущенный образ действительности: оно слагается из образов, большею частию выражающих человеческую природу, ее слабости и нужды. Человек имеет счастливую или несчастную способность заменять действительность мечтами и успоконваться на последних в том предположении, что они‑то и есть неподдельные образы действительности. Скептицизм имеет безграничный простор среди этих субъективных образов, к числу которых относит он и идею Бога, будто бы научно не–оправдываемую. Но так же, без предварительного исследования, легко предположить возможность и другого случая, именно что идея Бога происходит в человеческом сознании по основаниям объективным, что человечество в этой идее сознает истину, к которой приходит и наука путем отчетливого анализа. Как в других областях знания науке очень часто приходится соглашаться с общим смыслом по научным основаниям, так, может статься, и здесь мы имеем мысль, оправдываемую научно, хотя человечество приходит к ней другим способом. Как именно оно приходит к ней, на это с настоящей точки зрения можно отвечать различно: можно доказывать, что эта мысль или идея открыта человечеству внутренним и сверхъестественным образом, или что она ерождена его сознанию, или, наконец, что это сознание, не имея первоначально ни врожденной, ни откровенной идеи о Боге, развивается и организуется среди мира явлений и под его влиянием правильно и целесообразно; поэтому как во многих других случаях, так и в этом особенном оно служит чистым и неподдельным выражением действительности. Этот предмет представляет неистощимое богатство для исторических и психологических анализов. Если говорят, что в человеке есть ум как способность видеть бесконечное или внимать ему, если говорят об инстинкте, чувстве или чувстве истины, о психическом, безотчетном такте, который и в обыкновенной жизни нередко приводит человека, помимо анализов и умозаключений, к истинным воззрениям и идеям; если, наконец, говорят о непосредственной связи человеческого духа с божественным и о постоянных впечатлениях, какие он получает от высшего мира, то все эти предположения имеют целию изъяснить объективное значение идеи Бога в общечеловеческом сознании. Наконец, возможно третье предположение, именно что эта идея есть выражение действительности, а, однако же, в обыкновенном сознании она соединяется со множеством элементов субъективных. Найти ее предметное содержание и исключить из нее субъективную примесь — такова будет задача науки с этой точки зрения. Философия большею частию так и понимала значение этой идеи: она признавала, в общем и целом, веру человечества как явление имеющее предметные основания, но предполагала, что в содержании этой веры есть много пришлого, несущественного, человекообразного. Только со времен Канта философское изъяснение религиозного сознании человечества принимало большею частию другие направления.
. Но все эти изъяснения должны бы следовать за решением исторического вопроса, точно ли идея Бога как Творца и Промыслителя мира находится в общечеловеческом сознании? «Лексикон» говорит: «Идея Бога неразрывно соединена с разумным существом нашего духа». Поэтому для указания слабости исторического Доказательства бытия Божия «Лексикон» мог бы уже и не ссылаться па то, что «многие народы остались неизвестными»; он должен был заключить a priori, что все народы, известные и оставшиеся неизвестными, имеют вру в Бога как Творца и Промыслителя мира. Между тем в других отношениях и для другой цели историческое свйдегельство представляет особенную важность. Именно, многие, и в числе их особенно философ Шопенгауэр, доказывают, что идея Бога как Творца и Промыслителя мира получена человечеством из божественного откровения и не есть естественное достояние обыкновенного человеческого сознания. Факты истории, по–видимому, подтверждают это предположение: греческие боги, происшедшие из космогонического процесса как его выдающиеся и значительнейшие части, Брама индусов и Тьень китайцев никаким образом не подходят под идею Бога как Творца и Промыслителя мира. Итак, не должны ли мы допустить, что эта идея открыта человечеству сверхъестественным образом и что поэтому выводить ее из развития человеческого разума или духа, изъяснять и доказывать ее истину из начал философии так же невозможно, как невозможно выводить из этих начал, например, христианские таинства? В таком случае философия должна бы ограничить свою задачу и не придумывать рациональных выводов для истины, которая может быть принята только верою, доверием к авторитету, как непостижимая тайна.
Впрочем, мы видим, что сочинитель «Лексикона» избирает совершенно другой путь исследования. Хотя мы благодарны ему за то, что понятие о Боге он принимает так, как оно дано в общечеловеческом сознании, однако мы видим, что на расстоянии целой статьи он смешивает это ясное понятие с неопределенною мыслию философов о положительном и существенном содержании мира явлений. Эти две идеи так несходны между собою, что в другом члене сам сочинитель называет пантеистические системы, говорящие не о Боге, а о безусловной субстанции вещей, атеистическими («Леке.» 206). Между тем от смешения этих идей происходит неясность и, неопределенность в понятиях, одинаково вредная для философии и для богословия. Так, например, идея бытия бесконечного, которой воодушевлен и пантеизм, признаваемый сочинителем за атеизм, совпадает для нег; о с идеей Бога (стр. 330); «заключение от ограниченного бытия к бесконечному» (стр. 329) есть для его логики заключение от мира к Богу. Из этого смешения понятий изъясняются следующие, при других предположения. вр, — всё непонятные комбинации мыслей: «Истина Батия божия составляет, можно сказать, жизнь и душу философского ведения: устранять первую— значит уничтожат.!? самую возможность философского знания, и наоборот, отрицать возможность философского ведения — Значит колебать ту первую, высокую и святую истину, на которой единственно утверждается здравое размышление о мире и человеке» (325). И в другом месте: «Идея безусловного бытия не только присутствует незаметно в самом первом положении о бытии случайном и ограниченном, но даже, можно сказать, дает возможность образоваться в. нас понятию об этом последнем. Так, напр., когда мы говорим: если есть бытие случайное, т. е. бывающее и не бывающее, являющееся и исчезающее, стали быть, есть бытие неизменное и безусловное, то в первом положении понятие ограниченности и случайности уже предполагает противоположную ей идею бытия безусловного, только она еще не высказана и не определена по своему существу. Мы только отчасти высказываем ее словом «бытие», но определеннее сознаем только в то время, когда, приложив к нему предикат случайности и ограниченности, находим, что он не соответствует идее бытия бесконечного, и отрицаем его» (332). Заметим, что в этих комбинациях, которые сочинитель развивает на пространстве нескольких страниц,, заключается главное возражение «Лексикона» против кантова учения о невозможности доказать бытие Божие. Ниже мы рассмотрим силу этого возражения, которое особенно характеризуется последним из вышеприведенных пунктов, именно учением, что «понятие ограниченности… уже предполагает идею бытия безусловного» и что, с другой стороны, эту идею «мы определеннее сознаем только в то время», когда прилагаем к ней «предикат ограниченности» и видим его несовместность с ней. Легко видеть, что выражение: понятие ограниченного предполагает понятие безусловного есть видоизмененное учение Канта, что начало ума есть требование безусловного: каким же образом будет опровергать Канта то, с чем он совершенно согласен? А между тем, как мы сказали, целые страницы израсходованы на раскрытие этой простой и ничего не доказывающей мысли, которая, как думает сочинитель, опровергает Канта.
Мы хотим на этом пункте достигнуть такой ясности, чтобы читатель мог себе определенно представить частную и своеобразную задачу философии как науки, отличной от богословия, и чтобы вместе с этим он был в состоянии понять, отчего статья о Боге говорит так темно и тяжело о предметах, в существе дела самых простых и удобопонятных. Для этой цели мы должны заметить, что комбинации мыслей, которые выше мы выписали й на которые так полагается сочинитель «Лексикона» в опровержении Кванта, родились, сколько нам известно, в диалектике Платона. Там они имеют свой настоящий смысл. Против гераклитова учения о безусловной изменяемости или текучести космоса Платон утверждает, что должно быть истинно–сущее, должна быть основа, или субстанция, изменяющегося, должно быть в исчезающих вещах нечто постоянное, прочное, положительное, неизменяемое —и доказывает эту міасль частию тем, что понятие бытця ограниченного и изменяющегося предполагает само собою, т. е. логически понятие о Сытин неизменяемом, частию же тем, что без истинно–сущего было бы невозможно знание, — различение в знании положительного и отрицательного, общего и частного, необходимого и случайного. Если есть явление, то должно быть то, что является; если есть случайное, то должно быть и субстанциальное. Исследование об основании явлений, об их субстанции, о вещи в себе, о положительном, объективном, подлинном содержании мира явлений «составляет жизнь и душу философского ведения»; этою определенною задачею отличается философия от всех положительных наук, определяющих отношение явления не к его объективному, подлинному содержанию, а к его общим и необходимым законам или правилам, по которым оно изменяется. Для кого задача философии не представляется ясно, тот может вместо этих ничего не значащих для религиозного сознания понятий основа явлений, субстанция изменений, вещь в себе, объективное, действительное содержание мира явлений поставить слова бытие Божие и затем уже рассуждать: «Истина бытия Божия составляет, можно сказать, жизнь и душу философского ведения: устранять первую—значит уничтожать самую возможность человеческого знания» и т. д. Прекрасно, и все‑таки несправедливо. «Истина бытия Божия составляет, можно сказать, жизнь и душу» религии: «устранять первую—значит уничтожать самую возможность человеческого» спасения. Повторяем: мысль философии, что без истинно–сущего невозможно знание, имеет самый обыкновенный смысл, вовсе не касающийся религиозных интересов человека, так что можно быть решительным скептиком в философии и вместе глубоко и искренно верующим в Бога и его спасительное промышление. Когда из показаний преступника следует, что он был в одно и то же время в Москве и в Перми, то судья считает это показание противоречащим самому себе и ложным. Природа не есть колдунья, которая доставляла бы человеку возможность быть в двух различных и отдаленных друг от друга местах в одно и то же время: она следует неизменяемым законам, для нее здесь есть здесь, там есть там, а не здесь; в ней есть что‑то постоянное, неизменяемое, истинно–сущее. Если бы она находилась в безусловном изменении, как учил Гераклит, если бы в ней не было ничего прочного, себе рапного, неизменяемого, истинно–сущего, то наше познание было бы невозможно, мы не знали бы, например, противоречит ли или нет самому себе вышеприведенное показание преступника, истинно ли оно или ложно. Так, без истинно–сущего, по всей справедливости, невозможно познание. Но как далеко отстоит это учение философов от мысли, которую сочинитель смешивает с ним и которую он выражает в положении: «Устранять истину бытия Божия —значит уничтожить самую возможность человеческого знания!» Вследствие этого смешения совершенно различных понятий, которое служит главнейшим основанием неясности всего члена о Боге, сочинитель имел уже право сказать, что доказательство бытия Божия одно — «это полное возвышение духа нашего к Богу как во внутреннем чувстве, так ив органическом, последовательном развитии целой системы философского ведения», — он имел право сказать так потому, что «в органическом последовательном развитии целой системы философского ведения» решается, как это известно очень многим, означенная выше задача философии, решается вопрос о существенном, подлинном, действительном содержании мира явлений. Впрочем, мы согласны, что такой образ выражений был бы для нас совершенно понятен в системе Гегеля, для которого и в самом деле Бог есть только существенное, подлинное, действительное содержание мира явлений.
Теперь нам не должно казаться странным, если сочинитель «Лексикона» в учений о Боге, Творце и Промыслителе мира часто обращается к гегелеву учению о бе- зусЛонном, или об истинно–сущем. Он мог бы также обратится к Ксенофану Элейскому и Плотину, которые, как и Гегель, в своем учении об истинно–сущем говорят вовсе не о тем предмете, о котором идет рассуждение в члене о Боге. Впрочем сочинитель имеет свое особенноё мнениё о Гегеле, Он говорит: «Гегель в разборе кантовой критики на доказательства бытия Божия глубокомысленно раскрывает всю ее неосновательность, но сам впадает в другую неизвинительную крайность. Единственным субъектом или опорою действительности этой идей; как увидим ниже, он полагает не самое существо Божйе, не слитное с бытием нашего мыслящего субъекта, но наше же собственное мышление. Таким образом, по понятию Гегеля, идея всесовершенного существа в нас и само это существо — одно и то же». Из этого текста мы видим, что едва ли Гегель мог опровергать кагнтову критику доказательств бытия Божия, и притом опровергать «глубокомысленно», потому что Гегель говорит об истинно–сущем, а не о Боге, Творце и Промыслителе мира. Сам сочинитель излагает мысль Гегеля «в отношении к этому предмету» таким образом: «То, что мы называем безусловным существом, есть гармония или равенство мысли и действительности; но именно эту полную гармонию или равенство мы находим в нашем же (абсолютном) мышлении». Подобным образом сказал бы материалист: то, что вы называете духом, личностью и евобо–дою, есть не дух, не личность, не свобода, а система самых тонких и самых запутанных движений, которые происходят между частицами нервной материи и которые составляют истинный, существенный и объективный процесс, ложно понимаемый вами как дух, личность и свобода. Мысль Гегеля можно выразить на этот же манер таким образом: то, что вы называете «безусловным существом», не есть Творец и Промыслитель мира, не есть, личность сознательная и свободная, а «есть гармония или равенство мысли и действительности», которое «мы находим в нашем же (абсолютном) мышлении» и которое составляет истинное, существенное и объективное бытие, ложно понимаемое нами как Бог, Творец и Промыслитель мира. Сознаемся, что мы неосновательно прибавили для полного соответствия с материализмом слова ложно понимаемое, потому что, по смыслу гегелевой философии, вера u Бої а как Творца и ІІромыслителя мира хотя, не есть истинная в значении философском, однако она есть разумное и необходимое явление в развитии безусловной мысли мира, в ней есть истина как момент наивысшей истины, о которой знает только философия., и с «которою мы сейчас познакомились. Предыдущими замечаниями мы не хотим, отчислить Гегеля в разряд атеистов, Атеизм признает религиозную. идею во всех отношениях незаконным произведением субъективного вообажения; Гегель считает ее явлением совершенно., нормальным, законным, возникающим с необходимостью, из, разумного развития первоначального содержания мира явлений; он признает истину в религии, во всякрй рела, ги и, даже в религии фетишей. Но эта истина есть тоя, ко момент в целой, системе, истицы, о которой, знает, уже не религия, а философия; эта истина есть условная, дод-; чиненная, есть плод, а не корень; она выражает безусловное существо не в его коренных и первоначальных качествах, а в производных, которые оно имеет не в себе и для. себя, а для ограниченного человеческого сознания. Безусловное, рассматриваемое само по себе и по своему подлинному качеству, есть тожественное с собою мышление как общая сущность мира явлений. Итак, если Гегель говорит, что безусловное есть мысль, ум, идея, истина, Бог, то только незнакомый с задачею философии соблазнится последним названием и станет искать в его определениях деятельной сущности вещей мнимого учения о Боге, т. е. о Творце и Промыслителе мира.
И однако же Гегель «глубокомысленно раскрывает всю неосновательность кантовой критики на доказательства бытия Божия»! Как это возможно, из предыдущего не видно. Конечно, было бы справедливо привести это опровержение, «ели оно глубокомысленно, потому что и ін самом деле кантово учение о вере в Бога, совершенно слепой, безотчетной и бездоказательной, нелегко по мирить с требованиями н нуждами религиозного сознания. Мы думаем, что для богослова полезно знать, каким образом Гегель опровергает Канта в рассматриваемом здесь случае, и потому изложим мысли Гегеля, которые сюда относятся, тем более что это необходимо и для надлежащего понимания самой статьи о Боге.
Во–первых, справедливость требует сказать, что Гегель раскрывает как недостатки доказательств бытия Божия, так и недостатки кантовой критики на них, или что он отвергает кантову критику этих доказательств, потому что отвергает самые доказательства «Метафизические доказательства бытия Божия, — говорит Ггель», суть недостаточные изъяснения и описания возвышении духа от мири к Богу, потому что они не выражают момента отрицания, который содержится в этом возвышении». Что же это за момент отрицания, который содержится в возвышении духа от мира к Богу и отсутствие которого в доказательствах бытия Божия делает их недостаточными? Космологическое и физикотеологическое доказательства бытия Божия имеют свой исходный пункт в представлении мира или как совокупности случайных вещей, или как системы целей. Гегель говорит: «Может показаться, что этот исходный пункт в мышлении, поколику оно делает умозаключения (т. е., от свойств мира к бытию Божию), остается и оставляется как прочное основание, и в таком же эмпирическом виде, как это непосредственно данное вещество. Таким образом, отношение этого исходного пункта к пункту конечному, к которому движется мышление, представляется только как утвердительное (affirmativ)». Точно так думал Кант, так думают все люди и такова мысль заключается в названных доказательствах бытия Божия: мир имеет свою особенную природу, и из ее рассмотрения мы заключаем к бытию Бога как существа отличного от мира, так что и после этого заключения мир все же остается с этой своей особенной природой, не исчезает в мысли о Боге, не перестает быть содержанием положительным или, как говорит Гегель, утвердительным. «Но в том‑то, — возражает Гегель, — и состоит большое заблуждение, что мы хотим знать природу мышления только в этой рассудочной форме. Мыслить эмпирический мир — значит, в существе дела, переменять его эмпирическую форму и превращать ее в общее; мышление обнаруживает вместе отрицательную деятельность на вышеуказанное основание; как только наблюдаемая материя определяется со всеобщностию и необходимостию, она уже не остается в своем эмпирическом виде. Мышление вынимает из наблюдаемого мира внутреннее содержание, а скорлупу его (т. е. частности и случайности) удаляет и отрицает». Так вот, доказательства бытия Божия недостаточны потому, что не выражают этого момента отрицания, «Или, яснее и правильнее, недостаточны потому, что они думают переводить нас от прочно существующего мира к отличному от мира или премирному Богу, тогда как этой вожделенной цели философия Гегеля достигает гораздо проще: она возвышается от частного и случайного к общему и необходимому, она вынимает из наблюдаемого мира внутреннее содержание, отрицая скорлупу, или частности и случайности, и таким образом доказывает бытие абсолютного или, если угодно, бытие Бога; потому что для нее абсолютное или Бог есть общее и необходимое в области частного и случайного, есть внутреннее содержание мира явлений, есть общая сущность явлений. Кант не знал об этой тайне; в простоте сердца он думал о Боге, как думают все люди», и потому солидно признавался, что наука не имеет средств доказать бытие Божие. Гегель указывает Канту самую легкую дорогу для выхода из этого неприятного положения: бытие Бога мы доказываем просто тем, что мыслим мир явлений в общности и необходимости, потому что общая и необходимая мысль о мире, или мысль мира, и есть Бог.
Далее о мире как системе, состоящей из случайных вещей и целесообразных отношений, Гегель говорит: «Мыслить это наполненное бытие — значит снимать с него форму единичностей и случайностей и понимать его как бытие, отличное от первого, как общее, в себе и для себя необходимое, как определяющее себя по общим целям и деятельное, — словом, понимать его как Бога. Главный смысл критики (т. е. кантовой критики телеологического доказательства бытия Божия) этого приема состоит в показаний, что этот прием есть умозаключение, есть переход; именно, так как воззрения и их совокупность, мир, взятые сами по себе, не обнаруживают всеобщности, до которой мышление очищает сказанное содержание (т. е. сумму случайных и отдельных вещей), то таким образом всеобщность не оправдывается эмпирическим представлением мира. Итак, возвышению міыс‑ли от эмпирического представления мира к Богу Кант противопоставляет Точку зрения Юма, —точку зрения, которая признает невозможным мыслить воззрения, т. е. познавать в них общее и необходимое…». Между тем «так называемые доказательства бытия Божия суть ве что иное, как только описания и анализы этого хода Духа в себе, который есть мыслящий и который мыслит чувственное». Точно, если доказывать бытие Божие значит мыслить чувственное или понимать общее и Необходимое в воззрениях, то кантовы возражения против доказательств бытия Божия суть только повторение rtitaorta учения, что мы не можем мыслить, что наши общие и необходимые мысли суть в действительности произведения привычек и фантазирующего воображения.
. Теперь мы видим, как должно представлять себе процесс между Гегелем и Кантом и какой стороне больше может сочувствовать богослов. Кант говорит: наука не может доказать бытия Божия потому‑то и потому‑то. Гегель отвечает: не может потому, что она под именем Бога! разумеет «верховное существо, создавшее мир и–промышляющее о нем» (срав. «Леке», стр. 327); но если она будет понимать под именем Бога «внутреннее содержание» явлений, «общее и необходимое», существующее в море частностей и случайностей, то познание общего й необходимого, следовательно и доказательство бытия Божия, будет возможно, и критика этого доказательства составляла бы только поворот к скептицизму Юма, который утверждал, что мы не можем знать общего и необходимого. Вот как «глубокомысленно раскрывает Гегель всю неосновательность кантовой критики на доказательства бытия Божия»; да, он раскрывает так глубокомысленно, что целиком уничтожает то истинное понятие о Боге, какое имел Кант и какое имеет наш сочинитель. Вероятно, по этой причине и не приведены в «Лексиконе» эти глубокомысленные возражения против Канта. Если бы читатель, поверивши на слово «Лексикону», что у Гегеля есть глубокомысленные опрокантовой критики на доказательства бытия Божия, взялся за Гегеля и принял его своеобразные суждения о Боге и о доказательствах Его бытия, ои мог бы рассуждать: все статьи «Лексикона» о Боге есть чистая ложь, эта статья даже говорит не о том Боге, которого бытие Гегель «глубокомысленно» доказывает; и доказательства бытия Божия, предлагаемые в «Лексиконе»», суть, опять чистая ложь, потому что Гегель, поражая Канта, «глубокомысленно» учит, что восхождение or частного к общему, от случайного к необходимому, о. т воззрения к мысли и есть уже доказательство бытия Божия., Во всяком разе, для нас остается непонятным, почему сочинитель вообразил видеть в Гегеле своего соратника и борьбе против Канта, тогда как не подлежит сомнению, что Гегель одинаково поражает и Канта, и нашего сочинители.
Только после этих длинных и скучных замечаний о смешении ясного понятия о Боге как Творце и Про–мыслителе мира с теориями философов о существе вещей мы чувствуем себя в силах проникнуть в смысл разных суждений о том, какое значение и достоинство нужно приписать так называемым доказательствам бытия Божия. «Внутреннее признание бытия верховного мира {т. е. верховного существа), — говорит «Лексикон», — не может быть плодом умозаключений от данного ряда явлений, потому что доказывать в таком сміысле можно только равным равное или ограниченными предметами то, что так же относится к области ограниченного бытия. (Знает ли логика что‑нибудь о подобном мудреном образе доказывания не из общих и необходимых посылок, а о доказывании равного равным, ограниченного ограниченными) В этом отношении прав Якоби (см. Якобы). Но непосредственный характер идеи бытия Божия не дает еще основания думать, что так же непосредственно происходит в нас и вся определенная, доступная собственным нашим силам мера ведения о Боге. Непосредственное признание бытия Божия как безусловного и бесконечного составляет в нашем сознании как бы мгновенный идеальный узел, в котором идея бесконечного предстает разом с определенною мыслию о конечном или ограниченном бытии: выходя из недоведомой глубины нашего духа и прикасаясь к среде ограниченного бытия в нашем сознании, эта идея как бы сама себя в нем вскрывает и определяет (вероятно, это означает, что не мы эту идею мыслим, а что она мыслит в нас сама себя, не мы в ней и чрез нее познаем Бога, а что она сама совершает это дело: иначе как понять выражение, что идея сама себя определяет). В этом смысле заключение от ограниченного бытия к бесконечному возможно и вполне основательно, потому что в таком случае оно уже совсем несходно с обыкновенным заключением; с выводом чего‑либо одного из другого, бесконечного из ограниченного. Мысль об ограниченном бытии как ограниченном вскрывается прежде присущего и еще не уясненного идеею бесконечного (выше сказано, что эта идея предстоит сознанию разом с конечным, а не прежде), но потом, вследствие обозрения многоразличных видов ограниченного бытия, эта идея в свою очередь получает более ясный и определенный вид. Поэтому хотя в самоубеждении о существе Божием идея его отнюдь не выводится из сознанной суммы явлений, однако же мы по крайней мере всматриваемся в этот мысленный узел и постепенно анализируем его, дабы видеть и аыразуметь определенный характер идеи Бога по наблюдению разлпчного порядка явлений. Разлагая рефлексом мысли sto совместной в религиозном чувстве присутствие идеи бесконечного и конечного на составные стороны (чего? присутствия?), мы сначала как бы отодвигаем первую за круг нашего сознания (т. е. перестав ем сознавать ее?) и, всматриваясь только в мир явлений, разъясняем те точки кажущегося отправления, а на самом деле точки их соприкосновения (как будто еще можно представить точку отправления, которая бы не была вместе и точкой соприкосновения!), с которых начинаются для нас пути благоговейного возвышения духа от мира к Богу. Судя по тому, какое исходное начало мы приняли в кругу ограниченного бытия для возвышения духа к Богу, такой определенный характер принимает и это возвышение или, что все равно, так называемое доказательство (?) бытия Божия и определение его неисповедимого существа».
Несколько страниц далее мы читаем о том же предмете: «В умозаключениях о бытии Божием ход доказательства совпадает с самым возвышением нашего духа к Богу. Присущая нашему духу идея бесконечного, применяясь к какому‑нибудь ряду явлений, ограничивающих ее, отрицает их и восстановляет свою силу; путем таких отрицаний наше сознание, в самом внимании к относительным причинам и законам явлений, мало–помалу исполняется мыслию о бесконечном бытии (теперь эта мысль является на конце, и притом мало–помалу, а выше она являлась то разом, то прежде мысли о конечном), и во свете ее с высоты единой и бесконечной идеи созерцает все явления мира физического и нравственного… Идея бесконечного происходит не вследствие или после умозаключений, напротив, своим прикосновением (к чему?) ойа мгновенно вскрывает противопоставляемый ей предел и, так же мгновенно отрицая его, восстановляет в нашей душе свою положительную, ми–ротворящую силу».
Излагая учение Гегеля о Боге, сочинитель пользуется следующими словами: «Мысль наша, встречая многообразные формы бытия, ограничивающие, преломляющие и вместе с тем отражающие бесконечную силу ее, постепенно отрицает и поглощает их в своем лоне. Таким последовательным отрицанием их она вскрывает свою божественную полноту до тех пор, пока…» и проч.
Предоставляя другим разрешить все загадки, брошенные сочинителем в текстах, которые мы привели выше, мы только скажем, что все эти тексты, будто бы показывающие значение доказательств бытия Божия, представляют жалкую пародию сейчас приведенной мысли Гегеля, что бесконечное, так как оно есть не более как мысль, происходит из отрицания бытия ограниченного и случайного. Правда, что выражения, каковы: «мгновенный, неуловимый идеальный узел, в котором идея бесконечного предстает разом с определенною мыслию о конечном, или ограниченном бытии»; также что «мы всматриваемся в этот мысленный узел и постепенно анализируем его [анализировать узел, да еще мгновенный и неуловимый!); еще что «рефлексом», следовательно, сознанием «мы отодвигаем идею бесконечного за круг нашего сознания», т. е. перестаем сознавать ее и перестаем сознавать сознательно, — эти и подобные выражения, может быть, и навсегда останутся непонятными. Но зато сочинитель, следуя Гегелю, хочет внесть в доказательства бытия Божия момент отрицания, т. е. внесть в темных выражениях мысль, что идея бесконечного происходит из отрицания конечного. Он говорит, как мы уже видели: «Путем таких отрицаний наше сознание… мало–помалу исполняется мыслию о бесконечном бытии». Далее: «Идея бесконечного мгновенно вскрывает противопоставляемый ей предел и, так же мгновенно отрицая его, восстановляет в нашей душе свою положительную, миротворящую силу». Или еще: «Когда мы, всматриваясь в водоворот явлений, отрицаем его; мысленно» и проч. Наконец, если сочинитель говорит, что «для убеждения в необходимости связи между идеей Бога и деятельностью ее (т. е. действительностью) совсе мнеуместно доискиваться, существует ли что–ни–будь ей соответственное в действительности», то и эта мысль; имеет место только в системе Гегеля. Бытие, учит Гегель, есть определение самой идеи, а не есть что‑то такое, к: чему идея относится как ко внешнему и постороннему; это следует уже из того, что безусловное есть мысль мира, и ничто более. Итак, с этой точки зрения неуместно спрашивать, соответствует ли что‑либо в действительности идее Бога или идее безусловного; потому что вообще нет ничего действительного вне безусловного, вне безусловной мысли мира, которая есть вся действительность. Но непонятно, каким образом может утвердить эту же мысль сочинитель, для которого Бог есть не идея, не міысль мира, а Творец и Промыслитель мира. А между тем он за одним разом уничтожает приведенным выше положением псе пел и к не труды богословов и философов по этому важному предмету.
Наша статья была бы слишком длинна, если бы мы захотели приводить здесь все противоречия и неопределенности, в какие впадает сочинитель, следуя Гегелю без всякой определенной цели. Так, напр., он говорит, что Кант «превратно понимает смысл самой идеи Бога как существа бесконечного и всесовершенного». Между тем известно, что Кант понимает эту идею так, как понимал ее в самом начале и наш сочинитель, когда он говорил о Боге как Творце и Промыслителе мира; Кант понимает эту идею так, как понимает ее и всякий христианин, верующий в Бога, Творца и Промыслителя мира. Или это понимание «превратно»? Или мы должны бросить его и погрузиться в диалектические материи, которые говорят об отрицаниях, о вскрытии предела, о вскрытии идеи посредством самой себя как о действительных средствах Богопознания? Нет, ученый богослов никогда не пойдет тою дорогою, которую указывает ему статья «Лексикона» о Боге, потому что эта дорога никогда не приведет его к понятию о Боге истинному, общечеловеческому, — к тому понятию, которое в начале своей статьи поставил и сам сочинитель.
Если предыдущие замечания показывают нам, как надобно думать о Гегеле и о том содействии, которое сочинитель надеялся получить от него при разрешении существеннейшего вопроса богословия, то так же необходимо рассмотреть здесь определеннее те отношения, «какие поставлял себя сочинитель к кантову учению о Богопознании, потому что таким образом вопросы о. Боге и о доказательствах, бытия Божия получат ту ясность и определенность, которую они потеряли в «Лексиконе» от неестественной примеси диалектических тонкостей, — —Против кантова учения, что мы не можем доказать бытия Божия и что только практический разум по нравственным нуждам приводит нас к вере в Бога, нам сочинитель возражает, что «нельзя отделять теоретического разума от практического» и что Кант «неправильно понимает самый характер доказательств бытия Божия». Первую мысль он развивает таким образом: «Разум в машем духе один, как одна в нем сила мыслящая, и двух разумов с двумя видами достоверности не может быть. Если разум необходимо предполагает бытие верховного существа как законодателя нашей воли, как судии, приводящего в гармонию нравственное совершенство, или добродетель, со счастием, то почему не с такою же необходимостью должно заключать к бытию верховного существа как верховного основания истины и знания? Далее, идея Бога, признаваемая практическим разумом, непременно предполагает и те его свойства, которые открывает разум теоретический». Вторую мысль он доказывает так: «Если бы несомненность признания бытия Божия утверждалась единственно на умозаключении, то действительно мы никогда не достигли бы ее, потому что вследствие умозаключения можно вывести только то, что заключается в посылках, а между тем в них положена мысль об ограниченном бытии»; вслед за этим замечанием сочинитель доказывает, что «сознательное движение умозаключения уже проникнуто неопределенною идеею бесконечного бытия». Таковы ясные возражения против Канта.
.: Мы думаем, что на последнее возражение Кант отвечал бы таким образом: «Иное дело изъяснять способ происхождения этой идеи в нашем духе (и иное — доказывать, что этой идее соответствует предмет в действительности. Вы, г. сочинитель, смешиваете эти две вещи на протяжении целой статьи вашей о Боге. Так, опровергая мое учение о бессилии разума теоретического доказать бытие Божие, вы говорите: «Должно согласиться, что идея Бога как Твориа и Промыслителя все лепном так же действительна, как идея Бога, законодателя и Судии нравственного мира». Но не об этом дело: идея эта действительна, это правда; она есть в нашей голове; но я спрашиваю, соответствует ли этой идее существующий предмет? Итак, положим, что вы не согласны со мною в изъяснении того, каким образом происходит эта идея в нашей голове, каким образом она получает действительность или становится действительною. Предположим даже, что при этом изъяснении я шел ложным путем, и допустим, что эта идея есть не следствие умозаключений, как утверждал я, но «плод непосредственного восприятия», как вы думаете. Что тогда? Тогда все равно поднимется вопрос: этой идее, которой происхождение я изъясняю так, а вы иначе, соответствует ли действительный, существующий предмет? Можно ли доказать, что есть высочайшее существо, которого идею мы имеем в нашей голове? Как видите, г. сочинитель, этот вопрос имеет одинаковый вес с цишгп и моей точки зрения. Откуда же пришла вам добрtu омеги гоііоріггіі, что и неправильно понимаю самый хпрпктгр доказательств бытия Божий? Я знаю доказательства онтологическое, космологическое, телеологическое и нравственное; эти же доказательства приводите и вы в вашей статье. Точно, я не внес в эти доказательства момента отрицания, который предполагает, что идея вскрывает сама себя и противопоставляемый ей предел. Но и вы, наговорившись вдоволь об этих диалектических материях, приняли, однако же, оказанные доказательства так, как они вышли из‑под пера моего. И хорошо сделали, потому что момент отрицания разрушил бы их, как это и произошло в учении Гегеля об этом предмете».
На первое возражение, что двух разумов в нашем духе быть не может, Кант мог бы отвечать: «Точно, разум в нашем духе один; но когда он говорит о том, что есть, он называется теоретическим, когда же о том, что должно быть, — практическим. А если вы рассуж даете: разум, предполагающий «необходимо бытие верховного существа как законодателя нашей воли, с такою же необходимостью должен заключать к бытию верхов- ного существа как верховного основания истины и знания», то я не знаю, о ком вы говорите здесь. Моя мысль была такова: по нравственной необходимости, а не по началам знания мы признаем бытие Бога как восстановителя гармонии между добродетелию и счастием. Это признание, эта вера падает в ту область возможного, которой мы не могли наполнить действительным познанием; итак, эта вера не будет противоречить познанию действительному или разуму теоретическому. Но как только вы уже веруете в бытие Бога, вы можете приписать ему все предикаты мудрости, благости, вы можете видеть в нем «основание истины и знания», как это вы желаете. Это я позволяю вам в особенности. Но не забывайте, что все эти понятия, взятые с опыта, вы переносите на сверхопытный предмет, что, следовательно, ваши познания от этого перенесения нисколько не расширяются и вы все же остаетесь в области веры, имеющей нравственные, а не научные основания».
Что же должно думать — спросим наконец — о значении и достоинстве доказательств бытия Божия? «Лексикон» дает нам множество ответов, которые свести к единству мы не надеемся. Во–первых, эти доказательства неуместны, потому что «совсем неуместно доискиваться, существует ли что‑нибудь соответственное идее Бога в действительности» (стр. 337). Согласно с этим говорится, что «опровержения доказательств бытия Божий не могут ослабить достоверности самой идеи существа Божия» (стр. 341), Также, кажется, сообразно с этим говорится, что «во всех доказательствах бытия Божия, рассматриваемых в совокупности, происходит только уяснение присущей нашему духу идеи Бога, а каждое доказательство порознь есть такое же уяснение одной какой‑либо стороны доступного нам понятия о Боге» (стр. 332 и 333), Т. е. доказательство не доказывает, что существует действительный Бог, а уясняет только Его идею, находящуюся в нашей голове. Во–вторых, говорится: убеждение в бытии Бога «не может быть выведено из тех посылок, которые мы полагаем в основании умозаключений по наблюдению каких‑либо сторон бытия внешнего или внутреннего» (стр. 339). И, однако же, в–третьих, телеологическое доказательство «необходимо ведет нас» и проч.; в нравственном доказательстве мы «необходимо приходим к заключению, что» и проч. (стр. 339); онтологическое доказательство говорит, что «идея Бога сама по себе необходимо предполагает и бытие» (стр. 337), — словом, убеждение в бытии Бога выводится с логическою необходимостию «из посылок, которые мы полагаем в основание умозаключений». В–четвертых, говорится, что «доказательство бытия Божия может быть, в сущности дела, одно», потому что «едино существо Божие» (стр, 333); однако же перечисляется множество общеизвестных доказательств без объяснения,, каким образом, в. сущности дела, оіщ могут быть одно. Наконец, в–пятых, говорится: «На том основании»; чта эта идея. не может быть следствием умозаключения, было бы нелепо отрицать… основательность теоретического признания ее действительности» (. стр. 339 и 340), Разберите хорошенько: раз уверяют нас,. что доказывать бытие Божие «неуместно», в другой раз. что «нелепо» отрицать основательность доказательств бытия Божия. Кто при этом выяснит себе, что «теоретическое признание», во всяком разе, есть умозаключение, тот. прочитает сейчас приведенный текст «Лексикона» таким образом: «На том основании, что эта идея не может быть следствием умозаключения, было бы нелепо отрицать», что она может быть следствием умозаключения, При изложении самих доказательств бытия Божия сочинитель «Лексикона» забывает все, о чем так темно и так много говорил он доселе. По обыкновению он и здесь смешивает самые различные вещи. В трактате об онтологическом доказательстве он говорит: «Декартово онтологическое доказательство бытия Божия хотя и сходно отчасти с ансельмовым, но, с другой стороны, выше его и прямее выражает сущность дела… Декарт как бы заранее представил довольно удовлетворительный ответ на будущее возражение Канта… Сущность декартова доказательства состоит в следующем: наши представления, рассматриваемые сами по себе, как видоизменения самой способности, представления или мышления (de certaines facons de penser), ничем не различаются одни от других, потому что все они одинаково происходят в ней. Но как образы таких или других предметов они отличаются одни от других, потому что чем больше какое‑либо представление имеет полноты содержания, тем более должен иметь ее предмет или причина, производящая представление; в противном случае оно произошло бы из ничего. Даже если представления происходят из нас самих, то и в таком случае в основе их должна быть равносильная им причина, ибо без причины ничего не бывает; применяя это положение к идее Бога как существа бесконечного, вечного и всемогущего, мы необходимо должны согласиться, что его совершенства как предмет представления так велики, что в нас ничего не может быть им равносильного, а потому Наша идея Бога не могла бы даже Произойти в нашем духе, если бы не произвело ее в нас само верховное существо, исполненное бесконечных совершенств».
Это, как видите, онтологическое доказательство Декарта, с чем знающий читатель, без сомнения, не согласится. Декарт спрашивает, где причина той идеи о Боге, которую мы застаем в себе, и доказывая эмпирически, что ни мы, ни внешняя природа не в силах родить или образовать эту идею в нашем сознании, заключает, 'что есть Бог как достаточная причина этой идеи в нас. Аристотель говорил: без действительного Бога мы не изъясним одного из существеннейших явлений природы (движения). Декарт в приведенном месте говорит: без действительного Бога мы не изъясним одной из самых существенных идей нашего сознания (идеи Бога); Кант учил: без действительного Бога мы не осуществим высочайшего идеала нравственной личности. Эти три доказательства; которые не имеют ничего общего с доказательством онтологическим, выражают' своеобразно три'различные «эпохи философии. Сам Декарт называет вышепривеленное доказательство via per effećttis и отличает от него доказательство онтологическое, которое доказывает ipsam essentiam, sive nattiram Dei. Мы не будем более 'рассматривать статью о боге; потому, что, при видимом философском тоне, она вовсё не касается этого вопроса с его философской стороны. Так, например, почему философия во все почти: времени не допускала разности свойств в Боге, что ей за нужда была определять Бога как actus purus, ens realissimiun, ens a se, causa sui и проч., —все эти философские стороны вопроса даже и не тронуты в Статье, по–видимому, обширной. Также не будем разбирать члена о вере, хотя сначала мы и думали заняться им, — не будем потому, что нам пришлось бы повторять то, что мы уже высказали. Статья эта написана проще и естественнее, нежели статья о Боге. В ней опять является Гегель на трех страницах, и притом с тою же мыслию о посредственном знании, исчерпывающем содержание веры, какую читатель может найти и в члене о Боге, так что эти трактаты можно бы и переставить один на место другого. В выражениях, каковы: «идея бесконечного сама себе служит в нас и доказываемым, и доказывающим» (стр. 522) или «бесконечное утверждается само на себе» (стр. 524), нельзя не видеть гегелева учения о самодвиженин идеи, о ее способности предпосылать себя себе же, об этом perpetuum mobile его диалектики; но также эти выражения приводят нам на память и учение самого сочинителя о том, что идея сама себя вскрывает и определяет. Как в члене о Боге на вопрос «есть ли действительный предмет, соответствующий идее Бога?» сочинитель большею частию отвечал, что идея Бога действительно есть в нашей голове, так и член о вере говорит в различных выражениях, что мы имеем веру в сверхчувственное. «Основание веры лежит в самом существе духа» (стр. 519); вера «утверждается на неотразимом внутреннем требовании нашего духа» (стр. 520); она «остается постоянною внутреннею потребностию его» (520); она «составляет существенную потребность нашей внутренней духовной жизни» (521); «первое основание веры заключается в самом же духе, в его внутрен–нейшем самосознании» (526). Что, если бы физиолог рассуждал таким же образом: основание Дыхания лежит «и самом существе» тела; дыхание «утверждается на неотри. чимпм внутреннем требовании нашего» тела; оно «остается постоянною внутреннею потребностию его»; оно «составляет существенную потребность нашей» телесной жизни; «первое основание дыхания заключается в самом же» теле, «в его внутреннейшем устройстве», — как вы назвали бы такое изъяснение феномена дыхания? Но философии позволительно пользоваться такими изъяснениями; не всякий же догадается, что эти фразы ничего не изъясняют. — Вера —не из опытов, потому что «бесконечное может только само себя обнаруживать в нашем сознании» (стр. 522), да и самые «формы конечного или ограниченного разумения суть только преломления, в которых многообразно отражается идея бесконечного бытия» (стр. 523) (отражается в преломлениях, почему бы не сказать и наоборот: преломляется' в отражениях). «Бесконечное соединено с самым существом нашего духа» (524). Как «бесконечное утверждается само на себе, служит само себе и доказывающим, и доказываемым» (522), то и вера невозможна «без живого внутреннего стремления к бесконечному мыслию и сердцем» (627), т. е. вера невозможна без веры, с чем читатель, надеемся, Согласится после некоторого размышления. Однако же если вера происходит не из опытов, не из умозаключений, то тем не менее «уяснение идеи бесконечного бытия требует в некоторой степени участия рассудочной деятельности» (524). Этим предполагается, что есть другие некоторые степени, на. которых не требуется участие рассудочной деятельности, и на которых поэтому можно спокойно переносить идею бесконечного на кошку, на обезьяну, на чувственную, природу и т. д., не опасаясь протеста со стороны рас-, судка. А между тем апостол Павел требует, чтобы все наще служение Богу было словесное, т, е. логичное, разумное.
Так неясными и неопределенными представляются в рассматриваемых статьях вопросы и задачи, над разъяснением которых лучшие умы трудились в προдолжение целых тысячелетий! Что знает философия о Боге, что может сказать она о вере человечества в бытие Бога? Какую логическую силу имеют общеизвестные доказательства бытия Божия? На эти вопросы можно дать самые ясные и общепонятные ответы. В следующей статье мы представим короткое и по возможности ясное обозрение так называемых доказательств бытия Божия, не входя более в критику темных и неопределенных понятий, заключающихся в статьях «Лексикона» о вере и Боге.
Вместо того чтобы излагать, каким образом Кант критикует каждое из доказательств бытия Божия порознь, мы укажем на общие начала кантовой критики этих доказательств, потом перейдем к определению их общей логической формы, из которой будет видно, почему эти доказательства навсегда должны остаться несовершенными в научном отношении, наконец, представим по возможности ясно самый ход и развитие их. Все эти изъяснения будут входить в область аналитическое общерассудочного мышления, которое находит поверку в самых обыкновенных опытах. Но если позволят обстоятельства, то мы в заключение коснемся и тех спекулятивных или диалектических идей о Боге, которые имеют значение собственно в области метафизики и при изложении которых, как мы видели, сочинитель «Лексикона» не достиг надлежащей ясности и определенности.
В предыдущей статье мы сказали, что по учению Канта требование безусловного есть начало разума. Именно, разум поступает по следующему правилу: «Если дано условное, то должна быть дана и вся полнота его условий, следовательно и безусловное, посредством которого полнота эта замыкается или завершается». Если бы Кант стоял на почве прежнего догматизма, кото рый из всех правил разума, каковы в особенности: требование субстанции для. явлений, причины для изменений, условия. для условного, делал вечные истины (veritates aeternae), положенные Богом в основание миротворения, он легко обратил бы названное требование разума в действительное знание и пытался бы изъяснять мир явлений из идеи безусловного существа; также он легко мог бы согласиться с Спинозою, что бытие Божие есть истина столь же достоверная, как любая аксиома эвклидовой геометрии. Но, как известно, Кант пошел вовсе не тем путем. Во–первых, он справедливо замечает, что требование ума: «Если дано условное, то должно быть дано и безусловное» вовсе нельзя истолковать так: «Если дано условное, то дано и безусловное; если я знаю условное, то я знаю и безусловное». Прежняя философия действительно так и понимала это требование, и оттого она не сомневалась в возможности достоверного и математически основательного знании, о, Боге. Между тем требование ума, о котором говорим мы имеет смысл более простой. «Если дано условное, то должно быть дано и безусловное», следовательно, безусловное пока еще не дано и, так сказать только задано. Если я знаю условное, то я все еще при этом не, знаю безусловного, познание безусловного представляется еще только как задача) а разрешима ли эта. задача или нет, это другой вопрос, на который нельзя дать ответа из рассмотрения или из анализа изъясняемого здесь начала разума. Как только Спиноза понял это начало так, будто с данным условным дано уже и безусловное, с познанным условным познано уже и безусловное, он не мог избежать пантеистических выводов и положений, которые сливают миросозерцание и богосозерцание, знание о мире с знанием о Боге, бытие мира с бытием Бога.
. Так как критика чистого разума доказывает, что знание происходит только там, где воззрения перерабатываются мышлением в общие и необходимые положения, и так как безусловное не может быть предметом воззрения и опыта, то отсюда следует, что мы можем иметь об нем только мысль, только идею, а не познание. Но эта мысль, эта идея существует в нашей голове все же недаром, не без цели. Она 1) не позволяет рассудку при изучении явлений останавливаться на каком‑нибудь члене их как на последнем, но понуждает его подвигаться при исследовании причинных отношений все да лее и далее, в бесконечность; 2) не позволяет нам признать предлежащий нашему опыту механизм физических причин и действий безусловным или, что то же, «ограничивает притязания нашей чувственности», давая нам представление о безусловном уме или духе, который есть как бы последнее основание всех явлений физического мира; 3) открывает область сверхчувственного, которой содержание, недоступное знанию, мы можем определить из нравственных потребностей человека или из моральной веры.
После этих определений идеи безусловного которые представляют замечательнейшее явление в истории философского мышления, мог ли Кант основательно утверждать, что наша вера в бытие Бога есть слепая и безотчетная? Мы видим, что эта вера решает задачу, которую поставляет и ум теоретический, что она подходит под идею, которая имеет цену и для ума теоретического, или познающего, что, следовательно, в этих формальных отношениях она естественна и разуму, познающему мир явлений. Итак, можно ли признать ее слепою и безотчетною? Однако же Кант имеет свои основания.
Вечные истины, о которых мы упомянули выше и на основании которых прежняя философия надеялась дать нам познание о Боге математически достоверное, превратились у Канта в простые правила или манеры, но которым рассудок наш соединяет паши разнообразные воззрения, чтобы приобретать таким образом общие и необходимые познания. Они лежат не на дне вещей, а на самой поверхности их — там, где эти… вещи переходят в. явления, потому что эти правила, как субъективные формы или категории рассудка и суть те условия, которые. делают из мира подлинных вещей мир явлений, Английский философ Кларк рассуждал, что пространство и время не могут быть вне Бога, что они суть непосредственные и необходимые последствия его бытия и что без них Бог не был бы ни вечен, ни вездеприсущ. По Канту, напротив, пространство и время суть формы, свойственные способности воззрения, а не–подлинному существу вещей, взятых помимо зрителя. То же самое нужно сказать и о категориях рассудка, каковы: причинность, субстанционность и пр. Они суть правила, по которым рассудок соединяет наши воззрения в общие и необходимые познания, следовательно, они входят в систему познаний, а не в систему вещей. Все эти формы, и категории не только не могут изъяснять сущности вещей — что, бесспорно, они делали бы, если бы они были вечными истинами, — напротив, можно скапать, что они‑то и закрывают ее от нас: они стоят между нами и вещами, как среда, в которой вещи принимают формы, чуждые- для их подлинного содержания. С этой точки зрения Кант даже не имел нужды подвергать нарочитой критике доказательства бытия Божия космологическое и физикотелеологическое, потому что эти доказательства могут быть поставлены только тогда, когда категориям причинности, необходимости и целесообразности сил припишем предметное значение. Но зато с этой точки зрения для нас становится понятным, каким образом Кант мог утверждать, что вера в бытие Вожие есть слепая и безотчетная. Это положение вытекает с необходимостию из его общего учения, что все наши познания о вещах субъективны: оно стоит и падает с этим последним. Так как мы ничего не знаем о подлинном бытии в области непосредственных воззрений, то тем более нельзя понять, каким образом мы могли бы знать о подлинном бытии и. ч идей ума, из невоззрительных, отрешенных от всякого опыта форм и правил мышления. Как в области чувственной мы имеем субъективное знание, так в области сверхчувственной — субъективную веру, которая поэтому есть слепая и безотчетная.
Чтобы оценить это учение о вере и увидеть его слабые стороны, предположим невозможное, именно что предмет, соответствующий идее ума (бесконечное или Бог), дан в воззрении. Тогда мы приписали бы ему бытие; тогда мы сказали бы: Он есть, Он существует; тогда мы достигли бы цели, к которой так бесплодно стремятся все доказательства бытия Божия. Но все же в этом случае мы имели бы не вещь саму в себе, а только — чтобы употребить кантово выражение — объект, условленный формами субъекта, существующий только относительно этого последнего, или мы имели бы то, чего бытие есть не безусловное положение, не самостоятельный элемент, а есть опять форма, условленная воззрениями и категориями субъекта; и таким образом, признавши это бытие на основании воззрения, мы все равно не знали бы, существует ли рассматриваемый здесь предмет в своем подлинном элементе, помимо представления. То есть вопрос о бытии Бога всегда возвращался бы, и притом не потому, что мы имеем о Боге только мысль, только идею, а потому, что вообще самое познание наше — как бы ни было оно совершен но — целиком заключено в круге субъективном. Итак, если Кант, опровергая онтологическое доказательство бытия Божия, говорит, что в действительности предмета мы не иначе можем убедиться как посредством опыта, основанного на чувственном воззрении, то это опровержение так же ничего не говорит, с его точки зрения, как и самое доказательство. То, в действительности чего мы можем убеждаться посредством опыта, основанного на чувственном воззрении, есть не вещь сама по себе, существующая в своем собственном элементе, а объект, условленный формами воззрения. Или различие между тем, что дано в воззрении как факт, как действительность, имеет, о чем мы имеем только мысль, только идею (как, напр., мы имеем мысль о Боге, идею Бога), имеет большее значение для нас, для зрителей, но оно совершенно ничтожно для определения того, что есть в действительности, для познания и признания бытия подлинного, утверждающегося в своем собственном элементе: ни наши воззрения, ни наши идеи не дают нам ничего знать об этом последнем. Слепота нашей веры в бытие Божие не есть недуг, в частности принадлежащий этой вере. Мы имеем здесь совершенно общую болезнь человеческого духа, которая делает наши познания субъективными, нашу веру слепою. Или вера в бытие Божие есть совершенно слепая и бездоказательная, как и вера во всякое бытие, и бытие всякой вещи. Это—второй вывод, который ограничивает скептическое учение Канта о богопознании. Потому что отсюда можно идти путем обратным и умозаключать: так как наша вера в существование вещей или системы вещей, называемой миром, не есть слепая, так как противоречия или космологические антиномии — в которые, по Канту, будто бы необходимо впадает разум, как только он пытается признать этот мир существующим в своем особом элементе, помимо нашего представления, — вовсе не существуют в нашем мышлении о мире, то и наша вера в Бога, которая возбуждается в духе рассмотрением качеств или содержания и устройства этой системы вещей, также не есть совершенно слепая, хотя, по всей справедливости, она не есть и чистое ясновидение.
Впрочем, кто не надеялся бы выступить в познании вещей за пределы субъективного круга, в который это познание заключено философией Канта, тот должен избрать другой путь для оценки его учения о вере. Мы здесь имеем совершенно общие потери, которые, как общие, и не суть потери. Если бы физиолог стал нам докапывать, что человеческие глаза слепы, и притом вообще и в одинаковых отношениях, именно что они, с одной стороны, вовсе не видят многих цветов, которые тем не менее существуют в видах, а с другой — видят те краски и цветы, которые принимать они способны, не в их подлинном качестве, то это указание на всеобщую слепоту человеческих глаз приводило бы нас к таким же результатам, как и противоположное убеждение, что человеческие глаза совершенно здоровы и совершенно ясно видят все цветы и краски вещей: потому что убеждение во всеобщей болезненности и слабости наших глаз, как очевидно, нисколько не изменяло бы нашего ежедневного поведения и оставалось бы праздным теоретическим предположением. Так, если бы слепота нашей веры в бытие Бога была особенною и частною болезнию сознания, которая происходит только в том случае, ког–ди что сознание обращается к богопознанию, то мы были бы обнншы избегать этой болезни и держаться для итого исключительно и области опытом; но, как учит философии Канта,»та болезнь есть совершенно общая, ее нельзя избежать, будем ли мы познавать вещи, данные в опыте, или же заниматься мыслию о сверхчувственном, идеей бесконечного. Итак, эта болезнь не есть и бо-•лезнь: вера в бытие всякой вещи есть слепая, вера в бытие Бога такова же; отсюда нельзя сделать никакого основательного приговора относительно частных недостатков религиозного сознания. Так, повторяем, должен рассуждать тот, кто признает скептицизм Канта за последний вывод философской мысли или за чистую истину. Только, в этих же самых рассуждениях легко заметить диалектику, которая не дает остановиться мысли ни на утверждении, ни на отрицании и которая, таким образом, выводит нас за пределы кантова воззрения на достоинство наших познаний о вещах и на достоинство нашей веры в бытие Бога. Раскроем эту диалектику определеннее.
Когда мы говорим: вещь существует, или есть, то, по учению Канта, это означает: наши субъективные представления своим особенным сочетанием понуждают нас представить нечто существующим, а существует ли это нечто заподлинно, об этом мы ничего не знаем; мы также представляем нечто существующим, и представляем по понуждению чисто субъективных условий; быте, сумкч'тпование', ^йотвительность есть категория так же субъективна», как до другие. Вот почему, как мы сказали уже, Кант, с своей точки зрения, не мог даже и • спрашивать о бытии Божием; он не мог потому, что его философия вообще отказывает себе в условиях признать какое‑нибудь бытие, бытие какой‑либо вещи. Но, следовательно, он мог бы поставить вопрос о Боге таким образом: если в весьма многих случаях мои субъективные представления, сочетаваясь взаимно, понуждают ме–ш представлять нечто существующим, то почему я не испытываю такого же понуждения представлять существуй щим Бога, хотя отсюда вовсе не следует, что Бог есть, или существует? То есть если бы Кант и убедился; что доказательства бытия Божия вполне достигают своей цели и понуждают нас с неотразимою необходимостию представлять Бога существующим, то мы от этого ничего ровно >не выиграли бы. Правда, что в таком случае доказательства эти имели бы полное логическое достоинство,, какого; только можно требовать от; человеческих умозаключений, — они понуждали бы нас представлять Бога существующим, чего, по мнению Кантау они теперь не делают; но существует ли Бог, есть ли Бог, об этом мы все‑таки ничего не знали бы, потому что понуждение представлять нечто существующим основано на сочетании наших представлений, а не на свойстве вещи. Когда и говорю, что эта пещь бела, то этим я высказываю мое ощущение, мое представление, а не качество вещи; также когда я говорю, что вещь есть, то этим я выражаю мое представление, а не что‑то независимое от представления и принадлежащее вещи как вещи; то, что есть вне и помимо представления, следовательно,! то, чего мы не представляем, есть поэтому–нечто для нас безусловно неизвестное. Подобным образом, если бы доказательства бытия Божия своими отменными логическими совершенствами вынуждали у меня согласие. на то, что Бог существует, или есть, то я получил бы от этого представление еще об одном существующем: предмете, я представлял бы еще одни предмет действительным; но существует ли лог предмет, есть ли он в своем собственном элементе, помимо представления,; об этом я. вовсе ничего не знал бы.
Итак, с кантовой точки зрения, проведенной последовательно, наше убеждение в бытии Божием все равно не имело бы никаких оснований даже и в том случае, если бы доказательства бытия Божия отличались полною математическою строгостню. Как известно, Кант пришел к выводу, что эти доказательства суть софизмы, и признал нашу веру в бытие Бога слепою и безотчетною. Но теперь мы видим, что эта вера оставалась бы для него такою же и тогда, когда бы он признал эти доказательства не софизмами, а действительными математически верными умозаключениями. Такова болезнь полного и решительного скептицизма, что он разрушается своей собственной, внутренней диалектикой, что для него утверждение и отрицание безразличны, что в его теориях да переходит в нет и нет переходит в да. Кто захотел бы подражать наивной полемике древних философов, тот привел бы полный скептицизм в науке и религии, какой мы находим у Канта, к следующей формуле: все наши познания субъективны, следовательно, и познания о наших познаниях также субъективны, поэтому мы еще не имеем основания утверждать, чтобы наши познания были по своему действительному качеству субъективны, — таковыми они представляются только и нашем субъективном познании о них и т. д. Или: мы знаем, что ниша пера и бытие Бога есть слепая и безотчетная; но так как наше познание об этом есть субъективно, то мы еще не имеем основания утверждать, чтобы эта вера была такова по своему подлинному характеру и достоинству, — такою представляется она только в нашем субъективном познании о ней и т. д. Здесь, в самом деле, мы видим, как утверждение переходит в отрицание, да переходит в нет, и наоборот.
Этими простыми замечаниями о слабости начал, ва которых утверждается кантово учение о вере в бытие Бога, безотчетной и бездоказательной, мы избавляем себя от обязанности приводить здесь глубокие исследования Гербарта о том, что без истинно–сущего, или без содержания, данного безусловно, в элементе бытия, а не представления, не были бы возможны ни наши ощущения, ни наши воззрения, ни наши мысли. Но как только мы раз пришли к научной необходимости признать истинно–сущее, то есть признать действительную, а не только представляемую или являющуюся систему вещей, то уже легко убедиться, что с этой точки зрения нашу веру в бытие Бога нельзя считать совершенно слепою и бездоказательною, потому что в настоящем случае вера эта будет рождаться не только из субъективных нужд человека, во также из познания природы вещей, то есть будет иметь предлежательные основания. Небо было бы для нас совершенно неизвестно только тогда, когда бы эта земля, на которой мы стоим, была совершенно неизвестна нам. Все наши познания представляют не дуализм полного знания о земном и всецелого незнания о небесном, а незаконченную систему, в которой одни члены знания имеют математическую достоверность, другие—вероятность, и притом большую или меньшую, самую сильную и самую слабую. Что доказательства бытия Божия рождают самую сильную вероятность, это признает и Кант в критической оценке некоторых из них; но он имел добрые основания и положительно оправдывать эти доказательства, как увидим из нижеследующих замечаний.
Справедливо говорят, что «Трансцендентальная диалектика» есть одна из самых искусственных и несовершенных частей «Критики чистого разума» и что в ней самые глубокие наблюдения и идеи смешаны очень часто с странными положениями. Так, например, Кант находит, что умственное требование бесконечного дает три вида безусловных предметов. С этою мыслию соглашается и сочинитель «Лексикона», в других отношениях так ратующий против Канта. Он говорит, видимо, воспроизводя кантово учение о трояком безусловном: «Идеи разума, в которых как бы преломляется и дробится одна основная идея бесконечного в нашем сознании, происходит или от применения этой последней к трем коренным предметам познании — к Богу, миру и человеку, или…» и проч. (стр. 531); как будто мир и человек так же удовлетворяют идее бесконечного, как Бог. Очевидно, что учение Канта о трояком безусловном есть только несовершенная логическая форма очень простого вопроса: так как философия во все времена излагала учение о мире, человеке и Боге, то возможно ли это учение, можем ли мы знать что‑нибудь о положительном качестве этих предметов, как они есть сами по себе, независимо от нашего представлении? И если Кант отвечает, что все это мнимое учение прежней философии слагается в психологии и я паралогизмов, в космологии — из антиномий, в богословии — из софизмов, то мы здесь еще рая убеждаемся, что здесь мы имеем совершенно общие недуги, которые вовсе не составляют чего‑либо в особенности свойственного религиозному сознанию. С другой стороны, Кант утверждает, что, хотя разум убеждается в бытии Божием только мнимым образом или посредством софизмов, однако даже зная об этом, он не может освободить себя от этих софизмов, так что они происходят не от людей, а от чистого разумна. Итак, доказательства бытия Божия суть софизмы, от которых разум не может отрешиться, потому что они суть софизмы самого: же разума. Что значит это? Прежде всего, это значит, что Кант был самый искренний философ, что он охотно признавал и такие факты, которые открыто противоречат его теории. Во–вторых, если есть в наших познаниях софизмы, принадлежащие самому разуму, а не человеку, и если разума ничем другим нельзя поверять как самим же разумом, то такие софизмы чистого разума нельзя уже признать и софизмами: они разумны; они выходят из начал разума или из его правильной: закономерной деятельности. Стали же или оказались он» софизмами только пред посторонней теорией которая не умеет изъяснить всех фактов сознания. Если в рассматриваемом здесь случае сам Кант находит, что его отрицание переходит в положение, то такой же характер имеет и его другое убеждение, именно что объективного значения идей разума нельзя ни доказать, ни опровергнуть; поэтому, например, нельзя ни доказать; ни опровергнуть мысли, что Бог существует, или, наоборот, для познающего разума имеет одинаковый вес как утверждение, так и отрицание бытия Божия. Нам, кажется, что это положение ρ безразличном отношении разума к предмету, о котором он имеет логически необходимую идею, несообразно с известными формами человеческого суждения, мышления и знания. Как мы сказали, за; пределами достоверного знания всегда открывается нам область вероятностей, больших или меньших, самых сильных и самых слабых, но, чтобы, например, вероятности положения и отрицания бытия Божия были для нашего мышления равны, это утверждать не имел оснований в особенности Кант, который дал идее безусловного очень определенное значение в системе наших опытных познании о мире, как положительной, мысли дополняющей и исправляющей наше механическое миросозерцание; в наших опытах, в наших знаниях эмпирических есть нужды, которые заставляют, нас обратиться к этой идее; она ограничивает притязания чувственности и таким образом определяет истинное, философское значение наших обыкновенных познаний о вещах; итак, все ли равно для разума утверждать или отрицать бытие предмета, соответствующего этой идее? Она происходит из мышления с логическою необходимостью правильно и закономерно: как идея, как мысль, она есть совершенно законное достояние нашего разума. Это Кант утверждает. Теперь само собою понятно, что отрицание предмета, соответствующего этой идее, только тогда имело бы пред судом разума одинаковую вероятность с признанием его существования, если бы вообще мы не знали о логическом достоинстве этой идеи; если бы для нас было неизвестно, возможна ли она или же она заключает в себе внутреннее противоречие.
Доказательства бытия Божия, космологическое и физикотеологическое, выходят и из‑под кантовой критики доказательствами же, то есть они и по мнению Канта не оканчивают равным признанием положения и отрицания бытия Божия, но дают утверждение, положение, только слишком общее, имеющее много неопределенностей или оставляющее ряд возможностей, которые могут быть ближе определены из нравственных потребностей человека, из предания, из доверия к авторитету и т. под.
Наконец, мы не можем согласиться с Кантом, что вера в бытие Бога основывается на одном и единственном требовании счастья, сообразно с нравственным достоинством человеческой личности. Счастье составляет одинаковую потребность личности нравственной и безнравственной, как и в свою очередь паши нравственные нужды сами по себе рождают и нас перу в Бога, содействующего нашему флнпнопому усонершенствованию и предписывающего нашей воле все доброе и священное. Сообразно с этим и в действительной жизни мы находим людей верующих, но безнравственных, и наоборот. Но также пробелы нашего знания слишком велики и потребность знания слишком сильна в нашем духе, чтобы и здесь мы не восполняли наших недостатков более свободными, не имеющими математической достоверности предположениями. В истине и Каит приходит к этому же результату, если понимать его не только по букве, но и но духу. Идеи бесконечного есть правило или требование «рассматривать все связи и отношения в мире явлений так, как будто бы они происходили из безусловного творческого разума». Таю удовлетворяется верою потребность знания. Но и в практической жизни, по учению Канта, человек должен поступать так, как будто бы был Бог, нравственный законодатель и судья.. Так удовлетворяется верою нравственная личность. На бытие Божие одинаково сильно указывает и разум теоретический, или познающий, и разум практический.
Все эти замечания о недостатках кантовой критики им доказательства бытия Божия дают результаты очень бедные, которыми, впрочем, пренебрегать не следует. Во–первых, если Кант признает веру в бытие Бога слепою и безотчетною, то этим не обозначается частная и обособленная слабость нашего религйозногб сознания. Итак, ученые, которые не приписывают религии никакого положительного достоинства или разобщают веру с знанием непроходимой бездной, совершенно неосновательно имеют обыкновение ссылаться на Канта. Во–вторых, Канту никак не удается поставить науку в безразличное отношение к вере, потому что идея бесконечного имеет, с одной стороны, достоинство для положительной науки, которого никто так глубоко и определенно не обозначил, как сам Кант, а с другой, происходит в духе по строгой логической необходимости. В–третьих, сообразно с этими выводами мы не можем согласиться, чтобы пори н бытие Бога была слепая и безотчетная; нее ж о ни со стороне спет науки, на ее стороне находятся тооретннсчкщ* тдлчн, постлаляемме разумом, познающим янлении; и ней нмходит удовлетворение и разум познающий столько же, как и разум практический. Вера не слепая, она видит. Правда, что это видение не есть математическая очевидность: в вере мы видим, по словам апостола Павла, «как сквозь тусклое стекло» (1 Кор. 13, 12), — остаются неясные очертания, не определенные ближе возможности, которые наполнить определенным содержанием никогда не может строгое, ясновидящее знание. Точно такой же характер имеют и доказательства бытия Божия: п них есть элементы знании, и, следовательно, они не безразличны для науки; тем более они не суть что‑то противоречащее науке, какие‑то невольные, роковые софизмы, будто бы существующие в разуме наперекор его лучшим познанй&м. И, по взгляду самого Канта, доказательства, взятые йз наблюдения мира явлений, дают сильные понудительные основания для признания бытия Божия, хотя справедливо, что они не вынуждают нашего согласия с тою математическою необходимостью, которая решительно исключает всякий произвол, всякую свободу в убеждениях. Несовершенство этих доказательств сравнительно с доказательствами математически строгими и безусловно понудительными есть явление, имеющее глубокий нрав–I тошный смысл. В религиозном чувстве существенно смирение и благоговение: религиозно мы м ситься только к Богу непостижимому. Если бы мы i ли Бога вполне, как знаем свойства треугольника, т с этим вместе пали бы самые основания религиозности. Бог совершенно нам знакомый не рождал бы в нас чувства смирения и благоговения; такой совершенно знакомый нам Бог был бы, по справедливому замечанию Якоби, идол, существо совершенно прозрачное, которое отсылало бы нашу мысль далее себя. Если древние народы верили в неведомую и темную судьбу, которая стояла выше самих богов, если поклонники фетишей боготворили магические силы природы и считали волшебство делом религиозным, то в обеих этих формах высказалась нужда религиозного сознания, на которую мы указали и которой не могли удовлетворить ни идолы, ни фетиши. Часто также замечали, что неверие и суеверие, безбожие и страх пред образами фантазии идут почти всегда рука об руку. Насколько это наблюдение верно, оно изъясняется легко из вышесказанного. Когда неверие закрывает для человека полноту и богатство духовной жизни, чувство не знает, на чем и остановиться: голая материальность поражает его, как что‑то пустое, бессодержательное, на чем оно не может опереться и что не наполняет и не интересует его; так стекло совершенно прозрачное не есть даже и предмет для видений глаза; имен пред собою такое стекло, глаз наш все еще ищет предмета, который занял бы его способности и остановил бы на себе его стремления. Но так как чувство не находит предмета, который бы наполнял его, среди чистой материальности, то оно ищет опоры в фантазии и ее привидениях, потому что эти привидения все же вносят жизнь и содержание туда, где их прежде не было.
Логическая форма доказательства бытия Божия так общеизвестна, что можно бы здесь и не продета ил ять ее. Мы, однако же, раскроем ос единственно с тою це–лию, чтобы видеть, как бесполезны псе диалектические тонкости, которыми чип о парились подпереть или опровергнуть эти доказатедьета. Мы убедимся, что эти тонкости не могут изменять значения и достоинства, какое имеют эти доказательства но силе своего логического строения.
Все доказательства бытия Божия сходны в том, что они суть непрямые, то есть доказывают положение не иначе, как отвергая противоположение. Онтологическое доказательство говорит: «Если бы не былр Бога, то наша идея всесовершённейшего существа заключала бы и себе внутреннее противоречие». Космологическое и, физикотеологйческое: «Если бы не было.. Бога то мир был бы без основания и без художника». При этом, как видно само собою, доказательство онтологическое должно развиваться по логическому началу тожества, а остальные два — по началу достаточного основания. Нравственное доказательство, являясь необходимо в форме непрямой, может развиваться как по тому, так и по другому началу. В первом случае оно говорит, что без действительного Бога всякий нравственный поступок заключал бы в себе внутреннее противоречие; в последнем — что нравственный идеал оставался бы навеки, неосуществим и само нравственное законодательство было бы явление без основания, если бы не было Премудрого мироправителя, Которого воля, как святая, требует нравственного совершенства от существ свободных и как всемогущая, подчиняет развитие бессознательного мира нравственным целям, —или вообще, как святая и всемогущая, управляет миром по идее блага. Вот почему, заметим мимоходом, нравственное доказательство принимает в различных системах философии различные формы, тогда как остальные доказательства повторяются философами с незначительными изменениями. Таково простое логическое строение доказательств бытия Божия. Чтобы оценить его надлежащим образом, нужно устранить здесь один предрассудок, который часто защищают люди, даже действительно мыслящие. Именно, многие предполагают невозможным доказывать бытие Божие на том основании, будто бы доказывать вообще — значит находить условия и причины, для бытия доказываемого предмета. Так, Якоби учил: «Пока мы хотим, понимать и доказывать,; мы должны под каждым предметом признать еще высший предмет, который его уловливает, и потому доказывать бытие Божие — значит искать условий для безусловного и делать безусловное условным. А так как наука есть система положений вполне доказанных, то она, по своему существенному качеству, должна вести к атеизму: интерес науки— таков общеизвестный порядок Якоби— требует, чтобы не было Бога». Сочинитель «Лексикона» говорит: «В этом отношений прав Якоби. Внутреннее признание бытия, верховного мира (т. е. Верховного существа) не может быть плодом умозаключений от данного ряда явлений, потому что доказывать в таком смысле можно только равным равное или ограниченными предметами то, что также относится к области ограниченного бытия» (стр. 329). Однако же следует знать, что Якоби совершенно неправ с своим учением о доказательстве как открытии причин и условий от бытия предмета. Когда философы до Канта учили, что Бог есть causa sui или. ens a se, то эти странные определения в самом деле стояли в связи с понятием о доказательстве, которое будто бы обязано показывать условия и причины рассматриваемого предмета; потому что, как легко видеть, в этих определениях — causa sui, ens a se — указывается причина бытия Божия. Между тем в науке доказательство преследует не эту частную цель — изъяснить происхождение предмета из его условий и причин: вообще и в целом оно может представлять основания, почему мы знаем о бытии предмета, а не почему предмет существует, или есть. Пока философия утверждалась на предположении решительного тожества между мышлением и бытием, она необходимо требовала, чтобы мышление, понимая предмет и доказывая бытие его, двигалось в том же самом направлении, в каком двигалась природа, когда происходил этот предмет. Но это мнимое тожество мысли, будто бы на каждом шагу воспроизводящей процессы бытия н их предлежнтслыюм порядке есть, как очевидно, произвольное стеснение ее деятельности, несообразное с ее формами и законами. Мышление может подступать к предмету не так и не с той стороны, как и с какой подступила к нему природа с своими условиями и причинами, чтобы создать его. На этом свойстве нашей мысли основывается возможность так называемых непрямых доказательств. Математик рассуждает: а не может быть ни больше, ни меньше b по таким‑то и таким‑то причинам; итак, оно необходимо равно b. Здесь мы имеем непрямое доказательство, которое хотя не говорит, почему а равно b или какие причины и условия сделали а равным b, однако дает нам полное и достоверное знание о том, что а равно b. Таким же образом и доказательства бытия Божия говорят нам не то, почему Бог есть, но только предполагают дать нам достоверное знание о том, что Бог действительно существует. Сочинитель «Лексикона» не выясняет себе этой особеннейшей натуры нашего мышления, и оттого он утверждает, что признание бытия Божия «не может быть плодом умозаключений от данного ряда явлений» (стр. 329), что доказательство бытия Божия должно быть в существе дела одно, потому что «едино существо Божие» (стр. 333), наконец, что убеждение в бытии Божием происходит в нашем духе потому, что идея безусловного «сама себя в нем вскрывает и определяет» (стр. 329), т. е. сама себя мыслит и доказывает или, по другому выражению, «сама себе служит в нас и доказываемым, и доказывающим» (стр. 522). Все эти изъяснения вытекают из ложной мысли, будто доказательство должно начинать с того, с чего начинает природа, рождая предмет, и понятно, что особенно в учении о Боге такой взгляд на доказательство может приводить к самым нелепым определениям и суждениям.
Пример из математики, который мы привели выше, доказывает, что непрямые доказательства могут отличаться самою строгою достоверностию. Почему же не имеют этой безусловной достоверности доказательства бытия Божий? Как видно из того же примера, непрямое доказательство положительной мысли получает характер безусловно логической необходимости только тогда, когда оно сумеет отвергнуть всё случаи, какие только можно противопоставить защищаемой мысли. Так, а или равно, или больше, или меньше Ъ: эти три случая обнимают все отношения равенства между а и b, и четвертого случая мы уже представить не можем. Посему как только мы доказали, что второй и третий случай невозможен, то мы необходимо признаем первый из них: мышлению не предстоит больше никакого выбора между мыслимыми возможностями. Или, непрямое доказательство положительной мысли дает вывод безусловно необходимый только тогда, когда оно может принять фурму разделительного суждения, в котором члены разделения 1) взаимно себя исключают и 2) исчерпывают всю полноту предположении, — так что, отрицая все члены, кроме одного, мы этим самым понуждаемся необходимо утверждать этот остальной член. Мы рассуждаем: а может быть равно или b, или с, или d; но первых двух случаев допустить нельзя по таким‑то причинам, итак, α равно d. Представьте теперь, что это разделительное суждение не исчерпывает в членах, взаимно себя исключающих, всей полноты возможных предположений, представьте еще один случай, что а может быть равным; тогда наше заключение о равенстве между and будет в логическом отношении произвольно, хотя всегда нужно помнить, что оно и при этом может дать нам истину, Те перь, все доказательства бытия Божия вообще и в целом недостаточны тем, что они не могут принять этой формы разделительного суждения, в котором члены разделения взаимно себя исключали бы и при этом исчерпывали бы всю полноту возможных предположений. Онтологическое доказательство говорит: «Или есть Бог, или идея всесовершеннейшего существа не есть идея существа всесовершеннейшего, не есть то, что она есть (содержит в себе противоречие)». Космологическое и физикотеологическое: «Или есть Бог, или мир и его разумный порядок не имеют достаточного основания» и т. д. Против первого Кант возражает, что в нем члены противоположения не только не исключают себя взаимно, но даже вовсе не существуют, потому что в содержании идеи ничего не прибавится, если предмет, в ней мыслимый, существует действительно, или ничего не убавится, если этот предмет не существует; так, мысль о сотне талеров имеет одно и то же содержание, будет ли она относиться к талерам существующим или только воображаемым. Поэтому мысль о Боге или идея всесовершеннейшего существа останется одною и тою же, все равно, есть ли Бог или нет. Против последних доказательств он возражает, что в них члены противоположения не строго исключают друг друга и не обнимают всей полноты возможных случаев: первое—потому что мир как явление отсылает нашу мысль и к причинам феноменальным и не переводит нас непосредственно к представлению причины последней, безусловной, которая как такая не есть член этого мира, не есть одно из звеньев в беспредельной цепи причинных отношений и которую поэтому можно подложить под явления где угодно, не руководствуясь действительными нуждами познания; второе — потому что мысль об основе мира и его разумного порядка еще не совпадает непосредственно й всецело с мыслию о Боге, как доказывает история философских систем, которые находили эту основу то в безусловных вещах — субстанциях, монадах, атомах, го в душе мира или в пластическом принципе вещей, то в представлении художника, а не Творца мира и т. д.
Здесь в самом деле мы замечаем пробел, который оставляют по себе доказательства бытия Божия и который наполнить можно разве содержанием, взятым из веры — из доверия преданию, авторитету, из потребностей нравственных и эстетических и т. д. Двух обстоятельств не должны мы терять из виду при сознании логической недостаточности этих доказательств. Во–первых, недостаток безусловной понудительной силы в доказательстве еще не служит признаком, что положение, им доказываемое, ложно. Очень часто положение истинное основывается на посылках, которые не вынуждают нашего согласия безусловно. Другими словами, надобно различать в мышлении и познании логическую правильность и истину. В наших познаниях сумма истин, оправдываемых безусловно понудительными силлогизмами, слишком незначительна, и человеческий род был бы слишком ничтожен, если бы его умственный кругозор ограничивался узкою областию силлогистических знаний. «Если бы, — говорит Спиноза, —люди руководствовались бы только ясными и раздельными понятиями (т. е. такими, которые вынуждают наше согласие безусловно), то они должны бы вымереть с голоду». Но так как — продолжим мы — они не вымирают с голоду, и притом потому, что руководствуются понятиями неясными и нераздельными, то что значит, что эти формальные недостатки понятий ничего не говорят против их истины и что люди владеют истиной и в таких суждениях, которым они не всегда умеют доставить полное логическое оправдание. Во–вторых, очень часто в жизни, и притом в важнейших ее случаях, мы руководствуемся соображениями и суждениями, которые не имеют всей силы понудительных умозаключений, — и, однако же, мы достигаем предположенной цели; последствия доказали, что мы не ошибались, что наши соображения осуждений были истинны, хотя им и недоставало силлогистической строгости. Только необыкновенный интерес, связанный с убеждением в бытии Бога, понуждает нас жаловаться, что для этого убеждения недостает строгих, математически очевидных посылок; а между тем вся наша жизнь, все лучшее в этой жизни, нравственные цветы й плоды ее, высшая и самая верная оценка событий и дел основываются точно на таких убеждениях, которые «е рождаются из посылок с необходимостию логическою. Человеческий дух не есть машина, вырабатывающая умозаключения и только этим механическим приемом отделяющая истину от заблуждения, как зерно от шелухи. Как личность живая и самосознательная, он внутренно уловляет ту истину, которая изъясняет для него его нравственное и эстетическое содержание. Он не только знает или может познавать истину —- нет, этого было бы недостаточно для его целей — он заинтересован истиной, и этот живой интерес, который влечет его к истине, эта любовь его к истине дает ему возможность подступать к ней и находить ее такими совершенно частными и случайными средствами, которые никак нельзя подвести под общие правила силлогистического мышления; нельзя, впрочем, потому, что для наблюдения этих многосложных, частных и незаметных движений духа, приводящих его к истине, мы не имеем ни особенного микроскопа, ни увеличительных стекол, чтобы делать заметным для нас то, что теперь так неуловимо в нашем собственном сознании. Между тем из правильного и прочного сочетания этих движений образуется то, что называют тактом, инстинктом или чувством истины: все наше образование и воспитание имеет, между прочим, назначение дать нам возможность непосредственно и сразу овладевать тою истиною в событиях мира и в жизни человечества, которая только отчасти, и то медленно, переходит в наше сознание путем рефлексивного, умозаключающего мышления.
Эти два замечания дают нам видеть, что если в различные времена и являлся атеизм в научной форме, то он происходил чаще всего от недостатка различения между силами и средствами науки и силами и средствами человеческого духа, который не только есть существо анализирующее и умозаключающее, но также существо чувствующее, стремящееся и в обоих этих отношениях интересующееся собственно истиной, а не ее логической формою. Эти же замечания изъясняют нам, почему живое человечество не считает своей веры слепою, безотчетною и бездоказательною: эта вера, во всяком разе, основывается на истолковании явлений внешнего и внутреннего опыта; в ней, во всяком разе, дано и то содержание, которое входит в систему ясных и определенных познаний человеческого духа. Этот‑то момент в содержании веры, где оно дано еще в связи с знанием, и представляют так называемые доказательства бытия Божия; и вот отчего эти доказательства, несмотря на пробелы, ими оставляемые, интересовали философов и людей мыслящих во все времена; их недостаточность, по–настоящему, не есть и недостаточность, а есть, скорее, их естественное качество, определяемое не слабостию нашей мысли, а тем особенным, содержанием, которым они занимаются. Изложим эти доказательства по возможности просто и определенно.
Начнем с доказательства космологического: после мы увидим, что такой порядок не есть что‑либо произвольное. Это доказательство говорит, что без действительного Бога мир явлений не имел бы причины, и в этом простом, неразложенном виде оно составляет достояние общего смысла. Наука различает в нем два направления, смотря по тому, рассматривает ли она мир явлений как систему вещей или субстанций или же как систему изменений; таким образом она заключает, с одной стороны, от случайного бытия вещей к бытию существа безусловно необходимого, а с другой — от причин условных к причине безусловной. Так, в первом отношении ход мыслей будет следующий: если нечто существует действительно, то существует и то, без чего оно не могло бы быть действительным. Но, по крайней мере, не подлежит сомнению, что я существую действительно. Конечно, если бы мое бытие было необходимое, то оно и не предполагало бы другого бытия как своего условия. Но я нижу ясно, что мое существование так же возможно, как н несуществование, или, что то же, оно случайно: потому что необходимо только то, чего противоположность немыслима. Итак, мое существование отсылает меня к другому бытию, которое условливает его. При этом я мог бы остановиться на данном, на мире явлений, если бы в нем можно было указать или предположить что‑нибудь необходимое как условие всего остального, следовательно, и моего существования. Между тем в этом мире все вещи таковы, что их небытие так же возможно, как и их бытие; или, их существование случайно. Итак, должно признать вне мира существо безусловно необходимое, то есть такое, которого небытие невозможно, которое не только есть, как и все вещи, но и не может не быть. Такое существо есть всесовершеннейшее, потому что только всесовершеннейшее безусловно необходимо во втором отношении рассуждают! Bet события и изменения ι мире явлений суть действия причин, эти причины суть в свою очередь действия других причин и так далее. Если бы этот ряд причин простирался в бесконечность или если бы не была причины первой, го мире явлений see оставалось бы без причины и мы не могли бы изъяснить возможности самого простого изменения или действия. Чтобы наблюдаемое в настоящем пункте изменение а произошло от причины b, необходимо этой причине испытать изменение от с, и это надобно сказать о всякой предшест вующей причине. Итак, должен бы совершиться беско нечный ряд изменений для того только, чтобы в настоя щем пункте наблюдения произошло изменение а. Но бесконечный ряд изменений не может совершиться или закончиться, потому что он бесконечный. Итак, если предположить в мире бесконечный ряд причин, не замыкаемый первою причиною, то изменение о, наблюдаемое в настоящее время, будет невозможным. Вот почему необходимо допустить первую причину изменений в мире явлений, первую, следовательно, действующую от себя и из себя, или безусловную.
В первом направлении это доказательство раскрывали философы еще таким образом: все вещи, предлежащие нам в мире явлений, имеют условную необходимость, то есть они получают действительность только тогда, когда есть для этого условия. Для своего существования они должны поджидать условий, которые делают их возможное бытие действительным. Если бы все существующее было вынуждено получить действительность под условиями, то мы таким образом имели бы бесконечный ряд, то есть незаканчиваемый, неосуществимый, и так мы были бы не в состоянии изъяснить возможность происхождения всякой вещи, наблюдаемой нами в настоящую минуту. По этим соображениям мышление признает сущность безусловно необходимую, то есть такую, которая уже не дожидается условий, чтобы переходить из возможности в действительность, но которая есть сразу и непосредственно, которой небытие или существование в чистой возможности немыслимо. Существование каждой конечной вещи изъясняется вполне из ее понятия, которое содержит в себе возможное бытие вещи, и из условий, которые переводят эту возможность в действительность. Так, никакое могущество и никакие условия не могут дать существования квадратному кругу или круглому квадрату, потому что эти фигуры вещей невозможны или их понятие заключает в себе внутреннее противоречие. Действительному бытию вещи должна предшествовать ее возможность, открывающаяся в ее понятии. Теперь, из этой возможности вещь переходит в действительность посредством условий, которые наперед должны быть действительными. Так как это же самое нужно сказать и о происхождении самых условий, то мы получили бы ряд условий бесконечный, незаканчиваемый, следовательно, не достигающий того пункта в мире, на котором находимся ныне мы с нашим наблюдением вещей. Итак — повторяем — должно быть существо безусловно необходимое, или такое, которого простая логическая возможность есть непосредственно и сразу действительность, которого понятие есть вместе и бытие его (срав. «Леке», стр. 337).
Таким образом, в первом направлении, как и во втором, космологическое доказательство удовлетворяет одной и той же потребности мышления; оно говорит, что бесконечный ряд условий для бытия вещей и причин, для их изменения немыслим, что представление такого ряда заключает в себе внутреннее противоречие и что поэтому количественная бесконечность должна быть заменена в целостном миросозерцании качественною или отрицательная — положительною. Математический пример ряда чисел, простирающегося в бесконечность, не может служить руководством при изъяснении природы: потому что такой бесконечный ряд (progressus in infini-1 urn) есть и по понятию самих математиков система чисел неосуществимая; он представляет только правило, только закон, следуя которому математик может находить различные величины, смотря по частным задачам, его занимающим. От Аристотеля и до Гегеля философия признавала, что представление бесконечного ряда существующих условий заключает в себе внутреннее противоречие и что поэтому необходимо допустить существо безусловное как последнее основание всего условного. Даже материализм признает противоречие, заключающееся в положении бесконечного ряда условий; но он устраняет это противоречие не мыслию о существе безусловном, а учением о взаимодействии вещей или атомов как о последнем основании существующего ныне порядка мира. Часто, однако же, доказывали, что это учение вносит только новое противоречие в наше обыкновенное миросозерцание. Если бы взаимодействие вещей можно было представить как последнее условие (безусловное условие) известной нам системы мира, то было бы необходимо допустить, что вещь движимая получает своё движение от другой вещи, которой она должна наперед сама сообщить движение, чтобы самой сделаться движущеюся, или что предыдущее движение должно происходить от последующего, хотя это последующее только и возможно под условием предыдущего. На это противоречие, с помощию которого только и можно бы изъяснить мир вещей из самого себя, обратил внимание уже Аристотель; и вот почему в своем космологическом доказательстве он приходит к понятию о Боге не. вообще, как к причине и основанию мира, но частнее и определеннее как к первому движителю, без которого движение, наблюдаемое нами в природе, оставалось бы неизъяснимым (срав. «Леке», стр. 344). Нам кажется, что путь, избранный Аристотелем, особенно может быть понятен для естествоиспытателей: потому что если с механической точки зрения, на которой стоит естествознание, по научной необходимости каждая вещь, каждая часть мира рассматривается совершенно основательно как нечто только движимое, приходящее в движение. де от себя, а от посторонних условий, о которых нужно сказать то же самое, то вопрос о первом движителе или о начале и источнике движения, изменения и развития в природе представится для мыслящего естествоиспытателя очень определительно и может указать ему на неполноту исключительно механического миросозерцания. Но зато здесь же мы видим, что космологическое доказательство во всех своих направлениях достигает цели более скромной, нежели какую оно предположило себе: именно, оно понуждает мысль подниматься выше страдательного механизма условий и причин, составляющего мир явлений, — до безусловного, до начала, деятельного из себя и от себя; а есть ли это начало, деятельное из себя и от себя, существо личное, свободное, сознающее себя, это — вопросы, на которые можно отвечать только из других соображений. Так точно и Аристотель, доказавши существование первого движителя, определяет его качества из понятия о том, какая форма жизни известна нам из опытов как самая совершенная. Так как он находит, что только форма духа себя сознающего или ума себя мыслящего есть безусловно совершенная, самодовлеющая, не имеющая в себе ничего страдательного, неразвитого, незрелого, то сообразно с этим он учит, что первый движитель есть Бог, есть ум себя мыслящий, есть чистый дух, есть безусловная цель и безусловная форма мира, наконец, что и источником движения для природы служит он только вследствие своего безусловного совершенства, как прекрасное движет зрителя, само не испытывая движения и не нуждаясь ни в каком механизме. Творчество безусловного духа есть не труд, не работа и не удовлетворение его внутренних нужд — он ни в чем не нуждается — оно есть простое последствие или открытие его безусловного достоинства. Так, по учению знаменитого естествоиспытателя древности, фактически данная форма чувственного мира осмысляется и становится понятною только из совершенств безусловного разума: и, следовательно, космологическое доказательство бытия Божия входит в физикотеологическое и находит в нем свое дальнейшее развитие и завершение.
Историческая судьба доказательства физикотеологического представляет явление в некоторых отношениях замечательное. Созерцательный гений Платона и аналитический ум Аристотеля защищают его и, таким образом, находят в мире вещей разум, смысл, осуществление блага. Эпикур отвергает его, потому что оно поддерживает веру в богов, которая, по взгляду этого философа, мешает человеку спокойно наслаждаться настоящею минутою. Сообразно с этим он находит в мире чистые вещи, которые только и заняты тем, чтобы существовать и которые получают это существование ни про что ни за что, или случайно, не оправдывая его своим смыслом или значением. Древность разошлась в этих противоположных направлениях. Кант и защищает, и опровергает это доказатольство. Ii лом отношении он служит представителем современного настроения умов, когда люди хотят веровать, но критически — и, наоборот, сомневаются, но не с тем чтобы потерять из мысли всякое содержание, а с тем чтобы найти и признать лучшее в содержании мышления и, когда в особенности наука почувствовала всю тяжесть задачи, с одной стороны, признать право вещей с их неотразимыми и роковыми законами, а с другой — признать право духа с его высшими нуждами и чаяниями. Если философия так часто переходила от идеализма к материализму, чтобы потом опять выступить в форме еще более крайнего идеализма, то эти переходы зависели от разрешения вопроса: кому при названии истины принадлежит первый, высший и авторитетнейший голос, вещам ли и их слепому механизму или же духу и его ясным идеям и требованиям? Кант отвечал: вещам в области знания, духу в области веры, поэтому система знания должна быть развита так, чтобы она давала подле себя место вере, и, наоборот, содержание веры должно быть определено так, чтобы оно ни в чем не ограничивало прав ума на свободное и всестороннее исследование и познание мира явлений. Но физикотеологическое доказательство, если бы только оно было возможно, представило бы в живом единстве и во внутренней гармонии эти направления духа познающего и верующего, которые пока остаются параллельными рядами. Вот почему Кант, как мы сказали, и опровергает, и защищает это доказательство. С одной стороны, он признает высокие интересы, которые представляет оно для науки и для жизни, и не хочет, чтобы человеческий дух расстался когда‑либо с его глубоким содержанием, а с другой — убеждается, что все же дух владеет этим содержанием не бесспорно, не вследствие ясных и незыблемых прав, вытекающих из отчетливого и математически достоверного знания. Так и вообще мы плохо знаем то, что особенно достойно знания. Но послушаем самого Канта.
«Этот мир открывает нам столь необозримое зрелище разнообразия, порядка, целесообразности и красоты…, что даже при тех познаниях, какие в состоянии приобретать о нем наш слабый рассудок, никакой язык не может пересказать многочисленных и необозримо великих чудес его и никакие числа не в силах измерить его; самые мысли наши теряют всякую определенность, и наше суждение о целом теряется в невыразимом, но тем красноречивейшем удивлении. Мы видим, как во всех направлениях раскидывается цепь причин и действий, целей и средств, мы находим везде правильность в происхождении и исчезновении; и так как ни одно явление не приходит в свое настоящее положение само по себе, то оно отсылает нас к другому явлению как к своей причине, которая, в свою очередь, вызывает тот же самый вопрос о причине. Таким образом, вселенная должна бы потонуть в бездне ничто, если бы мы вне этой бесконечной ткани частных случаев не признали существа первоначального и независимого, — существа, которое держит весь этот мир и, как причина его происхождения, сохраняет его существование. Какое же величие мы должны приписать этой последней причине сравнительно со всеми вещами этого мира? Мы не знаем мира по его всецелому содержанию, тем более мы не в состоянии измерить величину его посредством сравнения со всем тем, что для нас доступно. Однако если уже раз закон причинности вызвал в нас требование безусловного высочайшего существа, то что мешает нам признать, что это существо по степени своего совершенства выше всех других возможных существ? Эту идею, которая, впрочем, дается только в нежных очертаниях отвлеченного понятия, мы легко можем наполнить содержанием, представив, что в этом существе, как в субстанции, соединены все возможные совершенства; Так мы получим понятие, которое соответствует требованию нашего ума не размножать изъясняющих начал, не имеет само в себе никаких противоречий, даже содействует расширению умственной деятельности в области опыта указывая на порядок и целесообразность в явлениях, и которое, наконец, не встречает ни в одном опыте решительного опровержения.
Это доказательство, — продолжает Кант, —всегда заслуживает уважения. Оно— самое древнее, самое ясное и наибольше соответствующее обыкновенному человеческому смыслу. Оно оживляет изучение природы, так как и в свою очередь оно получает бытие от этого изучения и почерпает из него все новые и новые силы. Оно вносит цели и намерения туда, где наше наблюдение, взятое само по себе, не открыло бы Ничего подобного, и расширяет наши познания о природе, указывая на особенное единство ее, которого начало лежит вне природы. Но так же и наоборот, эти познания влияют на свою причину, то есть на идею, которая подает к ним повод, и усиливают веру в высочайшего Виновника мира до степени неотразимого убеждения.
Итак, — заключает Кант, — было бы не только безутешно, но даже было бы и безуспешно, если бы мы Захотели подорвать значение этого доказательства. Разум, неудержимо поднимающийся вверх по лестнице оснований, правда эмпирических, но так сильных и все более и более нарастающих, не позволит осадить себя никакими сомнениями движущегося в тонкостях, отвлеченного умозрения; словно из сна, он вырывается из каждой скептической нерешительности при первом взгляде на чудеса природы и на величие мироздания и возвышается от величия к величию до Существа высочайшего от условного к условию до верховного и безусловного Виновника мира» Логический состав этого доказательства определяет Кант таким образом: 1) в мире находятся везде ясные признаки устройства, направляемого к определенной цели и осуществляемого с величайшею мудростию; 2) это целесообразное устройство есть для самых вещей мира нечто совершенно постороннее и находится в них только случайно, то есть натура различных вещей, какими бы связывающими средствами ни владела она, не могла сама по себе построиться по определенным конечным целям, если бы устрояющее начало, разумное и дейст вуюшее по идеям, не создало и не устроило ее нарочито для этих целей; 3) итак, существует высочайшая и премудрая причина, которая должна быть причиной мира не только по силе своей плодовитости, как слепо действующая, всемощная природа, но и как разум., по силе свободы; 4) о единстве ее можно с достоверностью заключить из единства взаимной связи частей мира; как членов одного художественного здания, и с вероятностью — из всех начал аналогии».
Что и это доказательство пред судом кантовой критики не имеет полного аподиктического достоинства; что и оно может вынудить наше согласие только в связи с нравственными требованиями, которые рождают в нашем духе веру в бытие Бога, это должно быть нам уже известно из предыдущих замечаний. Но для нас интересен самый взгляд Канта на это доказательство, который мы привели выше. Доказательство это не имеет аподиктической достоверности, и, однако же, око плодотворно даже; для опытного естествознания,: и, однако же, никакая критика не в силах остановить человеческий разум в его движении к безусловному существу по лестнице целей. Так высказываться мог только самый искренний философ и самый глубокий наблюдатель человеческого духа. В настоящее время поспешных взглядов, и незрелых суждений эта высокая критика большею частию заменяется плоским отрицанием, которое признает нелепым, смешным и глупым все высокое и достойное в развитии человеческого духа, что только не переходит в полный аристотелевский силлогизм с его двумя посылками и заключением. Наша эпоха находится действительно в прямой противоположности с средневековою. Очень часто случается, что ныне во имя совершенно невинных естественных наук преследуют и пытают человека за его любовь к истинам духа, как некогда почтенные инквизиторы пытали и преследовал и его во имя Христово за его любовь к истинам естествознания. Недавно один ученый докладывал нам как бесспорное слово науки, что ныне цели сделались, смешны для естествоиспытателей. Мы знаем, что великий наставник в науке естествознания Бакон считал смешными естествоиспытателей, которые изъясняют явления из целей, а не из действующих причин, но не считал смешными самых целей, которые, по его простому взгляду, должна изучить метафизика. Мы знаем, что весь успех естествознания, математическая достоверность его выводов зависит от того, что оно отрешилось от метафизики с ее нескончаемыми спорами о целях, об идеях, о смысле существующего мира явлений и стало на почве опыта, который — согласимся хотя на это — не представляет наличной и подлинной сущности вещей. Поэтому нам кажется, что цели сделались ныне смешными не для естествоиспытателей, а для материалистической теории, которая очень часто возникает на почве естествознания, подобно тому как на самом здоровом организме часто образуются наросты, не оправдываемые и не требуемые его смыслом и назначением. С другой стороны, известно, что естествоиспытатели часто пользуются понятием цели и приходят этим путем нередко к самым блестящим результатам. Попадалось ли вам в любой механической физиологии изъяснение состава и устройства человеческого глаза, такое, которое не опиралось бы на понятие цели? Но пот значительный пример, один вместо многих. Географии Риттера, которая составила эпоху в истории развития естествознания, основана целиком на целесообразном рассмотрении лом ной поверхности. Итак, цели не только не сделались смешны для естествоиспытателей, но даже употребляются ими как руководящие правила при изучении, сравнении и истолковании явлений и их взаимного друг на друга влияния. Только нужно бы различать, что ни Риттер, ни другие естествоиспытатели не занимаются метафизическим вопросом о том, точно ли всемогущество Божие создало этот мир вещей по определенным целям, которых поэтому они и достигают во взаимном влиянии друг на друга? Для них целесообразное отношение явлений друг к другу — как, например, для Риттера определенно устроенная почва с ее возвышенностями и равнинами, реками и морскими берегами как средство для существования таких, а не других живых существ или как место для развития такой, а не другой цивилизации, — для них, говорю, эти целесообразные отношения суть чисто феноменальные: они признают их, где понуждают опыты, но о значении их для существа вещей они предоставляют спорить философам. Или, понятие цели есть для естествознания методологическое: оно выражает образ воззрения сравнивающего и анализирующего опыты наблюдателя, а не образ бытия самой вещи. Но именно на это определенное значение идей ума в области естествознания и указал впервые Кант в известном положении, что эти идеи суть не по шпини, а только регулятивные принципы для позна ний, приобретаемых другими средствами. Сообразно с этим естествознание вовсе не имеет надобности смеяться над теми стремлениями и чаяниями духа, которые, по всей справедливости, могут быть удовлетворены только в религии; также оно ничего не говорит против понятия цели — этой любимейшей категории ума, которая при надлежащем разъяснении могла бы соединять веру с знанием; только, повторяем, оно не уносится посредством этого понятия в мир сверхчувственный, а пользуется им как формальным приемом для сличения и истолкования отношений между явлениями, которые тем не менее должны быть познаваемы из причин действующих. Итак, положение Канта, что понятие цели имеет положительную цену для естествознания, оправдывается и нынешним состоянием этой пауки.
Но, как видим отсюда, вопрос, точно ли существуют цели в мире вещей, точно ли кажущаяся целесообразность есть не следствие фактического устройства мира, а основание и начало его, остается неразрешенным в области естествознания. Кант называет физикотеологическое доказательство бытия Божия древнейшим, И действительно, оно было известно в самой глубокой древности правильно развитому религиозному сознанию. Созерцание в мире явлений божественного величия, божественной мудрости и любви составляет «жизнь и душу» истинной религии, которая вызывает человека не на мрачную борьбу с своим собственным существованием, а на положительную деятельность в мире богоправимом, пред взором благого и любящего Бога. Псалмы Давида переполнены этими отрадными и освежающими душу созерцаниями. Мы приведем здесь из псалма 104 замечательнейшее изображение божественного величия, мудрости и любви, открывающейся в устройстве этого мира и в целесообразном размещении его творений.
«Господи Боже мой, — взывает Давид, — Ты дивно велик, Ты облечен величием и красотою. Ты одеваешься в свет, как в плащ, раскидаешь небо, как шатер. Ты выводишь своды Твоих горниц из вод, делаешь облака своею колесницею и носишься на крыльях ветра. Ты делаешь ветры своими вестниками и пылающие огни своими служителями. Ты укрепил землю на ее сваях, чтобы она не пошатнулась никогда и вовек. Ты покрыл ее бездною вод, как одеждою, и воды стояли над горами. Но от Твоего грозного слова они побежали, от Твоего громового голоса они расступились. И вот поднялись горы и разостлались, долины на месте, которое, Ты. утвердил для них. Λ водам указал Ты границу, которой они не переступают; теперь они не смеют опять покрыть землю. Ты велишь источникам течь в глубинах земных и пробиваться между горами, чтобы они напояли всех полевых зверей и чтобы дикие животные утоляли жажду; свою. При них же обитают и птицы небесные и ноют на древесных ветвях. А самые горы напояешь Ты с высот Своих, и земля насыщается росою, которую творишь Ты.
Ты растишь траву для скота и посев для пользы человека; Ты производишь из земли хлеб. Ты создал так, что вино веселит сердце человека, от масла блистает лицо его и хлеб укрепляет сердце его. Ты создал так, что и деревья, растущие на воле, получают пищу, и кедры Либанона, которые насадил Ты, насыщаются. А на них птицы свивают себе гнезда: так аисты живут на елях. Высокие горы служат убежищем для диких коз, а каменные утесы для зайцев.
Ты создал луну для указания времен, и солнце знает, когда заходить ему. Ты простираешь тьму, чтобы была ночь: тогда‑то поднимаются все звери лесные. Львы рыкают, ища добычи и прося у Бога пищи себе. Но как только всходит солнце, они скрываются и ложатся в своих пещерах. Тогда выходит человек на свою работу и пашет ниву до вечера.
Господи, как многочисленны и величественны творения твои Ты разместил всех их премудро и земля переполнена Твоими богатствами. Вот море, как велико и широко оно! А в нем теснятся бесчисленные животные, большие и малые. На поверхности ходят корабли, иод ними же — морские чудовища, которых Ты создал, чтобы они играли в море. И все эти твари от тебя ожидают, чтобы Ты давал им пищу в свое время. И когда Ты даешь им, они собирают, когда раскрываешь руку Твою, они насыщаются благами. Когда же скрываешь Ты лицо твое, они приходят в ужас, а когда возьмешь от них Дух Твой, они- умирают и обращаются в прах. Но вот, опять Ты посылаешь Твой Дух; и они создаются: и таким образом Ты всегда обновляешь лицо зємли.
О слава Господа будет открываться вовеки! потому что Господь радуется своими творениями».
Мот мир, каким знает его чистое религиозное сердце! Λ оно, по выражению одного христианского аскета, знает тем больше, чем больше оно любит. Все в этом мире благо, весь он есть излияние божественной любви: необозримая полнота жизни и ее разнообразие, мудрое устройство вещей, которые дают каждому живому существу приличное ему место и пищу, суть произведения благого и радующегося о своих созданиях Бога. Видно, Кант был слишком приимчив к этим убеждениям чистого религиозного сознания, если он с таким уважением отзывался о физикотеологическом доказательстве бытия Божия и если он считал его неотъемлемым содержанием живого духа, несмотря на его логические недостатки.
Но целесообразное созерцание мира имеет также могущественные опоры в эстетических и нравственных идеях человеческого духа. Когда материалисты приписывают право открывать истину одним вещам, то они отделяют эти идеи к области субъективной, которая будто бы не стоит ни в какой связи с истинно–сущим и ничего не может сказать нам о его первоначальном содержании. «Все эти идеи суть человеческие взгляды, не имеющие ничего общего с истинной натурою вещей», — так возражает философии материализм, разумея под истинной натурою вещей тот обыкновенный, ежедневный ход вещественного мира, который, собственно, и нужно ещё изъяснить из этой истинной натуры. Содержание духа, в признаниях, положениях и утверждениях которого, собственно, и состоит истица, он рассматривает как нечто несущественное, существующее не заподлин–но, не действительно; и вот единственно для этой теории цели и в самом деле кажутся смешными. Справедливо, что и эта теория хочет признать за человеком право, эстетических созерцаний и действования под нравственными идеалами; но может ли она то, чего хочет это очень сомнительно. Она позволяет человеку видеть в созданиях природы красоту и величие, ощущать в ее порывах присутствие мысли, духа, любви, наслаждаться достоинством и многозначительным смыслом ее движений; она утверждает даже, что таким эстетическим и нравственным истолкователем природы останется человек навсегда, что это для него естественно и необходимо. Тем не менее учит она, что логическая формула мира везде и всегда одинакова, ни глубже, ни мельче, ни изящнее, ни безобразнее, что она совершенно равнодушна к названным идеям духа, что она не рассчитывает на красоту, величие, на смысл и достоинство явлений, а только и единственно на их фактическое существование и что человек видит в слепо рождающихся формах вещей следы духа и мысли только вследствие подложения своих собственных состояний под явления, не имеющие в себе ничего изящного, разумного, достойного. Так развивается эта теория в своих лучших представителях, и ми видим, что она на самом деле не может предоставить человеку то, что хотела бы предоставить. Как теория научная, она должна потребовать от человека жизни и деятельности сообразной с истиной, которую открывает она. Когда вы наслаждаетесь художественным произведением и удивляетесь ему, то возможность этого наслаждения и удивления основывается на убеждении, что это произведение произошло из гениальной намеренной мысли художника. Если бы вам сказали: вы можете наслаждаться и удивляться, но знайте, что это произведение не носит на себе печати гения, что в нем нет мысли, нет идеи, что не мысль, не идея воплотилась в нем, а только общие законы соединения вещей, повинующихся единственно своим физическим качествам, — могло ли бы устоять и удержаться ваше эстетическое чувство и ваше созерцание пред этим учением о вашем самообольщении? Если вам говорят, что ваши эстетические идеи происходят из какой‑то прирожденной человеку глупости, которая видит печать гения и воплощение мысли там, где иа самом деле ничего нет подобного, можете ли вы приписать им какое‑нибудь достоинство? Положим, что и после этого познания они останутся в вашей голове, потому что эстетическое созерцание для человека естественно и необходимо. Но, по всей вероятности, уверившись, что они не имеют предметного значения, вы будете смотреть на них так, как смотрите на субъективный звон в ваших ушах или на субъективный свет в ваших глазах, то есть не будете приписывать им никакого достоинства и не будете находить в них никакого удовлетворения. Мало сказать, что человек может наслаждаться эстетическими созерцаниями и находить смысл в явлениях природы: нужно еще изъяснить, как он может или на чем основана эта возможность, особенно же нужно изъяснить, как он может находить смысл там, где, по его же собственному убеждению, нет никакого смысла. Теория, для которой цели кажутся смешными, изъясняет эту возможность не из истины существующего мира, а из самообольщения, почему‑то свойственного человеку; другими словами, с еврей научной точки зрения признает невозможным то, что, однако же, существует фактически. С верою в слепой, равнодушный ко всякому достоинству механизм явлений — если бы только эта вера в самом деле овладела духом человека и не была непосредственно отрицаема нравственными инстинктами его — эстетические идеи должны бы исчезнуть из сознания, как исчезают призраки при взгляде на самые вещи. Человек, занимающийся эстетической оценкой художественной картины или поэмы, также наслаждающийся созерцанием высоких явлений природы, был бы первее всего смешон для самого себя, если бы, зная, в чем, собственно, дело, он хотел, однако же, видеть мысль и достоинство в том, что, по его научному убеждению, не имеет ни мысли, ни достоинства. Точно, мы знаем, например, что наука не в состоянии освободить человеческий глаз от миражей, которые он видит, и после того, как человек убеждается, что это миражи, а не действительность; но зато она легко достигает того, что человек перестает верить в эти естественные миражи, перестает удовлетворяться и интересоваться ими. Эту же судьбу должны бы испытать и эстетические идеи пред научным убеждением, что слепой, неосмысленный механизм физических причин есть единственный деятель во всех явлениях природы и человечества.
Почти те же самые замечания приходится повторять нам и при вопросе о нравственных идеалах, под которыми развивается живое и действующее человечество. Что присутствие их в человеческом духе потеряло бы всякое значение, если бы мир представлял систему вещей, не оправдывающих своего существования высшею мыслию и целию, это обстоятельство почти всегда противопоставляли философы материалистическим теориям. Мы предоставляем себе в другом месте рассмотреть те изъяснения, которые видят в этих идеалах простые психические явления, вырастающие из предшествующих причин с такою же физическою, не имеющею смысла и достоинства необходимостью, с какою на дубе вырастают желуди, на сосце шишки, на голове волосы или с какою в лошадях образуется так называемый норов. Мы согласны, что эти идеалы точно суть, во–первых, психические явленря или формации. Так, художественная картина есть, во–первых, холст, на котором сошлись в определенных механических сочетаниях различные Краски шые линии и который превратился в художественную картину не волшебством гения, а мелочными, паническими приемами мастера: эстетический образ произошел далеко не эстетически, а по общим законам механизма. Этот пример отчасти изъясняет нам, каким образом нравственные идеалы, происходя из предшествующих условий в качестве психических явлений или формаций, тем не менее оправдывают свое существование не тем, что были фактические условия для их происхождения, а своим достоинством и смыслом; или, как говорят, они существуют в душе не просто потому,! что есть для их образования элементы, но и потому, что они должны существовать, По крайней мере, живое человечество видит в нравственных идеалах требования, которые осуществлять обязывается или понуждается, воля единственно их особенным достоинством. Так смотрел на них и Кант* для которого человек, мыслимый и смоем идеальном нравственном совершенстве, есть конем пи и цель коего творения, —есть цель, которой в телеологическом отношении подчиняется вся природа. Два факта привели Канта к этому глубоко истинному взгляду на значение нравственных идеалов человечества, Во–первых, когда мы видим нравственно–добрый поступок, например* явление бескорыстной справедливости «бескорыстной любви, мы уже не спрашиваем, для чего это явление, мы оправдываем его существование просто его достоинством. Конечно, человек может до того испортиться, что не понимая внутренней цены и этого явления, станет спрашивать, как Иуда, для чего эта трата благовонного и драгоценного мира, для чего эта бескорыстная любовь (см. Ин. 12, 4); но тем не менее в общем и целом люди на всех углах земли смотрят на нравственно–добрые поступки как на доблесть, как на достоинство, которое поэтому само в себе имеет оправдание своего существования. На этом, впрочем частном, факте утверждается идеализм общечеловеческого сознания, для которого предшествующие условия суть только служители мысли и разума, предопределяющего события сообразно с их целью и достоинством, и для которого естественный ход вещей еще не понятен из самого себя, но изъясняется достаточно только из благодати духа. Кто исполняет нравственные требования как заповеди Бога, тот во всех событиях мира, приносящих ему радости и страдания, видит явление воли Божией, все–устрояющей разумно и целесообразно, а оттого‑то нрав ственные идевлы всегда предносят человеку нераздельно мысль о высшем совершенстве и высшем счастии. Может ли наука оправдать это общечеловеческое воззрение, это другой вопрос. Но мы видим, что с этой точки зрения нравственные идеалы и признание целей как последних оснований мира вещей должны стоять и падать вместе. Как для глаза мир есть система всего видимого, для рук — система всего осязаемого, так для нравственной личности он есть система всего целесообразного. Второй факт, которым руководствовался Каит при определении значения нравственных идеалов, представляет всеобщая зависимость нравственной жизни человечества от религиозного миросозерцания. Понятия добра и зла, совершенного и недостойного человечество определяет из учения о начале, происхождении и цели мира и человеческого рода и этим высказывает убеждение, что содержание его нравственной жизни оправдывается или, по крайней мере, должно оправдываться идеальным смыслом целого мира и что доброе в поступках человека есть добро по силе своего единства с идеей блага, которая лежит в основании божественного миротворения и мироправления. Таким образом, этот второй факт есть только развитие и окончательное осмысление первого: поэтому и здесь нравственные идеалы и цели в мире вещей стоят п падают вместе. Гл‑ли мир слагается из Пещей, которые оправдывают свое существование не идеей, пс целню, а единственно своими предшествующими фактическими условиями, то и в духе нравственные идеалы перестают быть тем, что они есть, и превращаются в ничего не значащие психические формации, которые существуют только как настоящие результаты своих предшествующих условий, а не как требования того, что не просто есть или будет, но что и должно быть по силе своего достоинства. Теория, для которой цели сделались смешны, может рассматривать наше я не как начало и источник особенной жизнедеятельности, а как результат своих условий и наши нравственные поступки не как нечто достойное или недостойное, доброе или злое, а как частные примеры, в которых природа в тысячный или миллионный раз повторяет одну и ту же рутину своих слепых, механических изменений. Как однако же, это я, которое выныряет, как несамостоятельная волна, из моря вещей, есть наше, как эти поступки, которые суть только несамостоятельные изменения этой волны, суть наши, каким образом, в особенности, мы приступаем к тому, чтобы делать им нравственную оценку как добрым или дурным, вообще чтобы вменять их себе, эти вопросы представляются ничего не значащими только для мыслителей, не умеющих поставлять их ясно и определительно; но для мыслителя, каков был Кант, они сразу обличали все ничтожество учения о безусловных вещах и их безусловном, чисто механическом течении, которое будто бы не имеет никакого смысла, никакой цели. Положим, что на эти вопросы не может дать удовлетворительного ответа наука; положим, что только религия может отвечать на них. Но все же человек — чтобы повторить здесь прежнее выражение— был бы первее всего смешон для самого себя, если бы он, с одной стороны, был искренно убежден, что с него выйдет только то, что сделают с него предшествующие фактические условия, с другой, однако же, давал бы цену своим идеалам и вменял бы себе, как свое дело, поступки, которые, по его же убеждению, суть не ого дело, а простые последствия общего механизма природы.
Итак, если теория, отвергающая в системе вещей смысл, разум, целесообразность, соглашается, однако же, что человек, и признавая безусловное самодержавие механизма над всем существующим, тем не менее будет развиваться под идеями эстетическими и нравственными и что это для него естественно и необходимо, то мы не видим, каким образом возможно в нем то, что по свидетельству опыта и в самом деле для него естественно и необходимо, или мы видим, что эта теория делает уступки опыту, которого изъяснить она не может. Во всяком идеале нужно различать три момента: 1) определенное содержание; 2) достоинство, которое приписывает человек этому содержанию, и 3) веру человека в его истину или убеждение, что этот идеал не есть самообольщение, а сообразен с общим порядком всего существующего. Последние два момента, во всяком разе, зависят от характера наших научных познаний, и поэтому они должны исчезнуть из сознания, как только человек убеждается научными средствами, что никакая мысль, никакая цель не определяет хода вещей и событий. Вообще теория, которая защищает это учение, позволяет всем вещам на свете развиваться сообразно с истиной, одному человеку отказывает она в этом праве и в этом наслаждении. Она говорит ему: развитие, которое для тебя естественно и необходимо, все же не выражает в себе предметной истины; оно происходи от оттого, что ты не можешь перевести в жизнь и в правила жизни твоих научных убеждений. В то время как ты мечтаешь об идеалах, о совершенстве, о достоинстве, о смысле и цели твоего существования, научная истина говорит тебе, что ты есть, был и будешь тем, что делают, делали и сделают из тебя условия и обстоятельства, управляемые физическими, неосмысленными законами, а не тем, что ты предносишь себе в этих идеалах как требование, как долг, как содержание, способное доставить твоему существованию смысл и достоинство.
Мы хорошо знаем силу доводов, которыми хотели бы мы оправдать признание целей и физикотеологическое доказательство бытия Божия. Как непрямые, как основанные на одном признании нужд и потребностей духа, они вовсе не устраняют возражений, которые защитники безусловного механизма противопоставляют рассматриваемому здесь доказательству. Также мы хорошо знаем, что соображения, приведенные нами, нередко отчисляются ныне к области отжившего свое время романтизма. Что человек развивается под идеями, это положение, по–видимому так понятное, еще недавно у нас называли мифологией. По мы и не имели намерения опровергать мыслителей, для которых идеализм есть мифология. Мы только хотели изъяснить, почему Кант пришел к убеждению, что пера ума н присутствие целей и смысла в мироздании не может быть потрясена никакими сомнениями. Мы уже выше привели это превосходное место. «Разум, — говорит Кант, — неудержимо поднимающийся вверх по лестнице оснований, правда эмпирических, но так сильных и все более и более нарастающих, не позволит осадить себя никакими сомнениями движущегося в тонкостях, отвлеченного умозрения; словно из сна, он вырывается из каждой скептической нерешительности при первом взгляде на чудеса природы и на величие мироздания и возвышается от величия к величию до существа высочайшего, от условного к условию, до верховного и безусловного Виновника мира».
Прежде чем оставим физикотеологическое доказательство бытия Божия, мы должны коснуться здесь вопроса о происхождении так называемой естественной религии. Мыслители, которые не признали за этим доказательством никакого значения, поставили себя в величайшее затруднение при разрешении этого вопроса.
Откуда происходит естественная религия, откуда происходит религиозное чувство, которое воплощалось в различных исторически известных религиозных миросозерца–ниях? На это нередко отвечают или древним софистическим положением, что «страх родил богов», или указанием на самолюбие человека, который ищет у богов только пользы и счастия, или на чувство зависимости, олицетворяющее и одухотворяющее тем мертвые условия, обстоятельства или части мира, силу и влияние которых испытывает человек во всех положениях своей жизни. Глубокое учение Гегеля, что явление религии происходит как разумное и необходимое требование безусловной идеи, что это явление сообразно с идеальным смыслом вещей, что поэтому отвергать его или признавать его призрачным и ненормальным было бы так же нелепо, как отвергать, признавать призрачными и ненормальными величественные формы и стройные движения звездного неба, — все это учение о существенном значении религии в мире и человечестве многими брошено ныне как диалектика, будто бы не оправдываемая ежедневными опытами. Но так ли? Точно ли происхождение религии имеет основания свои только н чувстве страха, в чувстве зависимости и вообще в эгоистических стремлениях человека? Если бы это было и так, то из всех этих условий равно изъясняется — как и действительно изъясняли — и происхождение тех форм общежития, которые так сообразны с высшим назначением человека и так необходимы для его правильного и всестороннего развития: поэтому мы все еще не имели бы права смотреть на религию как на что‑то ненормальное и не соответствующее назначению человеческого духа. Пора бы бросить эту мечту, будто зачатки всего высокого и прекрасного должны быть и сами высоки и прекрасны; семя, из которого развивается величественный ствол с изящными цветами и вкусными плодами, само вовсе не имеет этих качеств и не доставляет наслаждения ни нашему глазу, ни нашему вкусу. Чем началась в человеческом роде художественная деятельность, которая выражает мысли и идеи гения в сочетаниях звуков музыки и красок картины? Может быть тем, что дикарь случайно подул в отверстие, с которым попался ему ствол засохшего растения: ствол издал звук, и таким образом произошла пастушеская дудочка. Так же, может быть, случайно он выпачкался об угли своего очага, и это навело его на мысль делать изображения. Та и другая случайность могли сопровождаться на первый раз неприятными чувствами, которые произошли в дикаре от резких звуков и от неожиданной перемены цвета рук или выпачканной одежды. Но что отсюда можно заключить о достоинстве художественной деятельности? Только то, что гениальной кисти предшествовало пачканье углем, а гениальной музыке предшествовал отвратительный писк сухого корня. Подобным образом, если рождение религиозного чувства, как рождение человека, сопровождалось болезнями страха, что из этого? Мыслители, о которых говорим мы, забывают самое простое правило прикладной логики, именно что внутреннее достоинство явления никак не может быть определено историей его происхождения во времени. Или вы надеетесь схватить гениальную мысль, выраженную художником в картине, если только вы хорошо осмотрите его мастерскую, качество его красок, устройство его кисти и будете наблюдать от начала до конца его техническую деятельность?
Действительно, археологические исследования об именах древнейших божеств и об их культе показывают, что чувство страха играло важную роль при определении человеческих понятий о Боге. Итак, если бы чело–иечсскаи душа была струна, которая способна издавать юлько одни — «тог юн, ии. шнаемын страхом, если бы человек был сущееiпо, только приходящее н состояние страхе, и ничто более, то мысль, что страх родил богов, получили бы исторические основании. Только и при этих предположениях мы все‑таки не понимали бы, каким образом чувству страха принадлежит способность рождения, каким образом человек не просто приходит состояние страха, но и образует на основании этого §оетояния веру в Бога или, другими словами, кроме страха мы должны признать в диком человеке способность истолковывать себе это состояние так своеобразно, ЧТО оно по силе этого своеобразного истолкования рож–дмт в нем мысль о Боге. Чувство страха испытывают и животные, но здесь еще до настоящего времени страх н9 родил ни одного бога. Человек рождает веру в Бога, Ноколику он есть мыслящий, истолковывающий внешние тления и свои внутренние состояния. Смотря по тому, КМКНе эмпирические явления или состояния вызывают #го на мышление, на истолкование, он образует и соот–Шпттнующие представления о Боге. Но там, где постоянным страх не дает человеку осмыслить свое положение, 1нм, где постоянный страх закрывает для него свобод–нейший взгляд на вещи и одолевает его другие душевные деятельности, —там дикарь рождает и представлении о высшем существе, как раз соответствующие этому дурному состоянию и ничего более не выражающие. Страх есть зло, следовательно, и причина его должна быть злая; вот источник, из которого происходит между некоторыми дикарями поклонение черным духам и злым демонам, а также происходит шаманство, которое, собственно, учит не молиться, а отмаливаться. Обе эти формы религии существуют между дикарями, живущими в мрачных лесах и среди постоянных опасностей. Итак, теперь можно сказать, что страх родил почитание злых демонов; и это будет справедливо. Чтобы оценить это безотрадное явление по отношению к целой истории человечества, мы должны, во–первых, согласиться, что божественное провидение, насаждая в человеческом духе стремление к бесконечному, не сделало в пользу этого стремления счастливых исключений, благодаря которым оно развивалось бы всегда безболезненно, всегда правильно, всегда сообразно с своим действительным содержанием: болезни религиозного сознания суть такой же факт, как и все другие болезни тела и духа, и притом факт не так редкий, как мы воображаем себе, смотря на человека в ученом кабинете, а не на улице. Во–вторых, мы должны припомнить, что нередко и среди самой цветущей цивилизации человек, убитый и задавленный различными несчастиями, подобным же образом рассматривает формы жизни семейной и общественной и все явления наук и искусств, которые имеют бесспорное достоинство для целей духа, — рассматривает как порождения или произведения какого‑то злого демона, завидующего счастию человека. Итак, мы наконец можем сказать, что страх, взятый сам по себе и в своем непосредственном качестве как чувство неприятное и состояние дурное, рождает не религию, а болезнь религии и вносит порчу и уродство в религиозное сознание.
Но если говорят о самой религии, что ее боги родились из страха, то против этого можно разве заметить, что люди нигде не бежали от богов своих, как они бегут от того, что вызывает страх. Напротив, именно при виде обстоятельств, которые рождают страх, при виде угрожающих несчастий они с особенною преданностию и доверием обращались к богам своим. Поэтому было бы сообразнее с истиной сказать: не страх родил богов, а стремление избавиться от страха. И действительно, в самых разнообразных религиях господствует представление о Боге как защитнике и хранителе человека. С этой верой дикарь находит спокойствие среди постоянных опасностей, которые окружают его, с этой верой он пускается в море на гнилой доске, проникает в мрачную глубину лесов, вступает в неравный бой с тигром и после испытанных опасностей всякого рода беззаботно засыпает под скалою, которая готова обрушиться на него. Но таким образом мы только приходим к тому взгляду, который изъясняет происхождение религиозного чувства из самолюбия или из стремления человека к счастию. Это учение о стремлении к счастию как источнике религии и в самом деле достаточно изъясняло бы нам происхождение так называемого фетишизма. Дикарь идет на охоту и старается задобрить своего фетиша; он ставит перед ним черепок с сметаной или же вымазывает ему сметаной губы. Но как только он возвращается с охоты без всякой добычи, он наносит своему фетишу побои так точно, как он поступает с лошадью, когда она отказывает ему в услугах. Здесь, как видим, дикарь повинуется своим стремлениям к счастию или пользе и ничему более: здесь уже, во вред подлинной религиозности, вовсе недостает того страха, из которого некоторые так хотели бы изъяснять происхождение религий. По вообще явления, которые мы рассмотрели доселе, стоят мне истории человечества, и это указывает на их ничтожное значение, которое так же ничего не говорит против религиозного чувства, как существование кретинов и идиотов нисколько не изменяет наших понятий о человеке и его естественном совершенстве.
Таким же образом можно убедиться, что чувство зависимости, взятое в своем подлинном качестве, родило бы в человеке разве только представление судьбы неведомой, т. е. такой, которой нельзя приписать сверх этого никакого другого предиката. Точно, и это представление существует в древних религиях, но оно имеет значение темного места, которое еще не освещено религиозною мыслию, и оттого все богатство религиозных созерцаний древности лежит вне этого представления, как бы на переднем плане. Над этим миром, над людьми, над благими и правосудными богами, которые внушают страх и любовь, есть еще судьба, неведомая и оттого не вызывающая ни страха, ни любви, а только требующая от человека отречения, тупого, ничего не значащего, не оправдываемого никаким смыслом.
Словом, мы признаем, что все названные эмпирические мотивы участвовали в рождении религиозного сознания человечества: только, мы обозначаем границу, далее которой не простирается их рождательная сила. Положительное содержание языческих религий, которые все же предносили человеку идеалы блага и совершенства, всеобщее признание богов святыми и правосудными, созерцание благих божеств в частях природы лучших, величественнейших и совершеннейших, удовлетворение, которое получал древний грек от представления, что под тению каждого дерева живет дриада, в каждом ручье купается нимфа, волнами моря владеет Посейдон или что солнце есть не мертвая масса, а Гелиос, торжественно едущий на золотой колеснице, наконец, что любовь, согревающая жизнь человека, есть дар Афродиты, мудрость, доставляющая ему гражданское достоинство, — дар Афины, поэтическое творчество — дар Аполлона, — можно ли это усилие человека — видеть на месте мертвого и необходимого течения вещей живое и свободное царство духов — изъяснять единственно из указанных эмпирических оснований? Точно, философия восемнадцатого столетия не затруднялась рассказывать, каким образом человек, не имея первоначально в своем духе никакого человеческого содержания, сочинил — по расчету, по указанию самолюбия или по естественному стремлению к счастию—во–первых, язык, далее — семейство, жизнь общественную, наконец, религию и что все эти формы духовной жизни относятся к нему так же, как, например, искусство книгопечатания, изобретенное человеком единственно для пользы и удобства. Но если в наше время выдают как великую истину, что стремление человека к наслаждению есть источник всех форм его духовной жизни, — источник нравственных пожертвований и религиозных чаяний столько же, как и чувственной неги или гнусного разврата, то нам эта мысль представляется по меньшей мере как воздух, который вдыхаешь и выдыхаешь, не занимаясь этим нарочито. Как естествоиспытатель не изъясняет всех видов падения и всех перемещений тела единственно из однокачественного тяготения, как, напротив, все эти явления будут понятны из качества тяготения только под условием определенной системы и связи вещей, так, вероятно, и стремление к наслаждению не само по себе превращается там в справедливость, там в чувство религиозное, но понуждается рождать эти явления только потому, что оно существует в очень сложной системе человеческой жизни, как одна часть того содержания, которое в целости своей называется духом. Когда тело поднимается от своего земного центра вверх, то справедливо, что в этом случае не изменяет закону тяготення; однако столько же справедливо, что в этом случае тяготения не понуждает его, а только не препятствует ему стремиться вверх: то, что собственно понуждает к этому стремлению, есть определенная система тел которая не иначе может удерживать равновесие, ин заставляя рассматриваемое тело принять движение и ни правлении от земного центра. Теперь, чтобы с учением о тяготении человека к наслаждению как об источнике нравственных пожертвований и религиозных веровании соединить какой‑либо смысл, в котором оно крайне нуждается, мы должны, по примеру естествоиспытателей, рассматривать и это душевное тяготение в определен ной системе душевной жизни. Тело не есть только тяготеющее, оно эластично, непроницаемо, оно есть пространственная величина; наконец, оно немыслимо вне системы тел: и вот—различные начала, по силе которых однокачественное тяготение рождает самые мною сложные явления. Душа не есть только существо, стремящееся к наслаждению; она есть еще существо видящее, слышащее, воспоминающее, фантазирующее, способное задавать себе вопросы о начале и цели вещей, наконец, она немыслима вне определенных отношении к другим душам: и вот—различные начала, по силе которых монотонное стремление к наслаждению может превратиться в нравственную доблесть, самоотвержение, религиозное чаяние и т. д. Так, например, совершенно справедливо, что и в Боге человек видит свою опору, свое благо, источник своих наслаждений. Но кто поэтому утверждает, что эгоизм или стремление к наслаждению есть начало естественной религии в человечестве, тот, по нашему мнению, не знает, что, собственно, нужно изъяснять здесь. Если говорят, что монета превращается во все предметы, необходимые для нас, то это совершенно понятно, потому что при этом предполагается разум, занимающийся этим превращением и оценивающий предметы по их достоинству для целей жизни. Таким же образом, когда говорят, что стремление к удовольствию превращается там в справедливость там в религиозное чувство и т. д., то эти выражении получат смысл, когда предположим разумный дух, который способен оценивать вещи по их достоинству, также оценивать свои собственные состояния, наконец, способен предлагать себе вопросы о мире, его начале и его цели. Всякое определенное стремление или влечение образуется в человеческом духе из соединения (из ассоциации) чувства удовольствия с представлением, а это последнее условлено системой мира; оно есть предметный деятель в нашей жизни; оно не вытекает из эгоизма, как его форма или видоизменение; в нем дано для нас различное содержание, которое, смотря по своему достоинству, определяет нашу волю там к деятельности эгоистической, там к нравственным пожертвованиям, там к стремлениям в области невидимого и бесконечного и т. д. Не говорим о внутренних, первоначальных предрасположениях человека к доброму и совершенному, которые может признать здравая психология на основании некоторых многозначительных опытов. Но вообще, как способность видеть, слышать и мыслить, а равно и самые акты видения, слышания и мышления не изобретаются, не сочиняются нашим эгоизмом, так, вероятно, не эгоизм изобретает нравственную доблесть и религиозные порывы.
Теорию, которая изъясняет происхождение религиозности в человеке из названных выше мотивов страха, чувства зависимости и стремления к счастию, мы признаем одностороннею, потому что она рассуждает почти таким образом: человек есть животное, в его душе нет ничего, что есть в его истории, он не носит в себе семян и зачатков тех нравственных и религиозных явлений, которые обозначают его историческое развитие; только страх, только чувство зависимости, только эгоистическое стремление, ложно истолкованные невежеством дикаря, рождают в нем веру в бесконечного, невидимого Бога. Мы думаем, что теоретические соображения, которые привели мы выше, как и факты истории позволяют совершенно обратное предположение о происхождении религиозности в человеке. Человек есть человек: в его душе есть зачатки и предрасположения к вере в невидимое и вечное. Эгоизм вовсе не виноват в том, что глаз дикаря вследствие особенного физиологического устройства не направлен вниз, как глаз животного, а может устремляться в бесконечную даль и таким образом рождать в душе чувство бесконечного, — может свободно обозревать звездное небо и возбуждать таким образом чувства удивления и благоговения пред вели чием мироздания. Эти же созерцания, которых возможность условливается уже физиологическим составом человека, вызывают в нем чаяние жизни лучшей, высшей, тихой, безмятежной, пример которой он думает видеть в тихом течении светил небесных. Также не эгоизм причиною того, что дикарь, входя в дремучий лес, испытывает в своем организме особенную дрожь, которою сопровождается в нем чувство невидимого. Это состояние так мало имеет общего с чувством страха пред ожиданием опасности, что дикарь хочет испытывать его и ходить в священные рощи для возбуждения и освежения своих религиозных чувствований. Вероятно, также не из эгоизма должны мы изъяснять, если слух дикаря не только привыкает различать крик опасного животного, но и соединяет с разнообразными тонами, поражающими его со всех сторон, определенное значение, находит в тонах слова или откровения внутренней жизни, закрытой для взора: в шелесте листьев слышит он таинственный говор невидимых существ, в журчанье ручья различает он смех богини, в раскатах грома узнает он голое бога, разгневанного на его неправды…
Среди нашей цивилизации мы привыкаем к высоким явлениям до того, что они делаются для нас обыкновенными. В дикаре очень скоро и легко пробуждаются ощущения величия, чувства удивления и благоговения, которые уносят его за пределы видимого к невидимому и вечному. Он боится приступить к своему соотечественнику, который вышел победителем из борьбы с враждебным племенем; он благоговеет пред ним, как пред носителем высшей, неземной силы. Для него и по настоящее время поэт есть святой, мудрое слово есть откровение высшее. Для него мирный незнакомец, ищущий приюта среди его кровожадной семьи, есть посланник божий, есть личность священная и неприкосновенная. Во всех этих фактах мы видим, как могущественно движет волею человека чувство достоинства и совершенства, — чувство, которого мы напрасно доискивались бы в душах животных.
Точно, для сознания дикаря Бог по преимуществу представляется в образе существа страшного; но это, во–первых, потому, что чувство страха невыделимо из ощущений величия, безмерного достоинства и из чувства благоговения; во–вторых, потому, что он, всего скорее, верует в Бога как защитника правды и карателя неправды. «Метателя грома и молний» дикарь боится не так и не потому, как и почему он боится тигра, льва или своего мстительного врага. В последних случаях им овладевает эгоистический страх просто за свое фактическое существование; в первом — рождающийся из упреков совести страх за недостойное, не достигающее своего назначения существование. Здесь действует нравственное чувство, которое говорит человеку, что он не таков, каковым он должен быть по воле Бога.
Это же нравственное чувство дает высшее достоинство и тем стремлениям к счастию, которые в своем непосредственном качестве были бы явлением чистого эгоизма. Человек не хочет, чтобы его счастие и несчастие, радости и страдания были случайным делом мертвых вещей: какое право имеют они награждать и наказывать его? Такого счастия нельзя заслужить, нельзя сделаться достойным; такого несчастия нельзя оправдать из недостоинства человека, из его несоответствия высшему идеалу жизни. Человек хочет быть не просто счастливым для него небезразлично, как и откуда происходит его счастие, есть ли оно следствие общего бессмыслия нетей или же состояние, которое сообразно с его достоинством. Таким же образом он приходит к вере, что его страдания суть или следствия его нравственного несовершенства, или же, если они неизъяснимы из этого начала, они осмысляются и оправдываются высшею разумною волею, которая признала их необходимыми. Когда негр на берегах Миссисипи испускает последний вздох в когтях тигра и поднимает погасающий взор к небу, то этим движением он выражает безусловную преданность в высшую правящую волю: он не может страдать тупо, как животное, не может остановиться на болезненных ощущениях как таких; он ищет примирения и успокоения в истолковании и в осмыслении своей несчастной судьбы, в темном чувстве высшего, неведомого ему порядка.
Наконец, если представим, что и дикарь задает себе вопросы, откуда пришел он и куда пойдет, — вопросы о начале и конце своей жизни, что, вероятно, и он видит, как эти вещи изменчивы, как жизнь в них и среди их недостаточна, незаконченна, несовершенна, и соответственно с этим образует предположение о творении мира, о происхождении вещей и 0 положении человека в их системе, то мы таким образом будем иметь довольно полный ряд оснований, которые рождают религиозное чувство и в которых так ярко высказываются зачатки целесообразного миросозерцания. Стремление человека к счастию, и, по преимуществу, к счастию как к выражению достоинства и совершенства, стремление к нравственному примирению и совершенству, наконец, вопросы о начале и цели существования, — вот носители, хранители и воспитатели религиозного чувства в человеке, если бы только можно было представлять его отрешенно от всякого предания и от исторического воспитания.
Повторим еще раз наши теоретические соображения, которые получат другой оттенок при виде указанных нами фактов.
Что человек находит удовольствие в религиозном миросозерцании, что он находит удовольствие в деятельности, сообразной с истинной оценкой вещей, следовательно, и в пожертвовании своим личным интересом и личным счастием за начала, за убеждения, это совершенно справедливо. Но в этих случаях, как легко видеть, стремление к удовольствию стало уже чем‑то другим, чем‑то отличным от стремления к личному интересу и личному счастию или вообще стало чем‑то отличным от эгоизма: разве можно сделать понятным, что и самоотвержение есть эгоизм и бескорыстная, жертвующая любовь есть эгоизм? Тогда пришлось бы нам сказать, как сказал Бэль о Боге пантеистов, что эгоизм, переодевшись турком и австрийцем, ведет войну с самим собою. Когда выводят псе нравственное и достойное в человеке из эгоизма, то при этом под видом опытной методы скрывается такое же априорное построение вопросов практической философии, какое Гегель открыто и сознательно применил в своей логике для вывода всех форм и начал человеческого знания с его беспредельным содержанием. Наука не согласилась с Гегелем, чтобы из чистого бессодержательного мышления или из простого стремления мыслить могли возникнуть все понятия, все категории, все формы и начала знания с его разнообразным содержанием; но так же она не может согласиться, чтобы из простого стремления наслаждаться могли возникнуть все формы и все начала нравственно–духовной жизни человечества. Как там стремление мыслить, так здесь стремление наслаждаться должны подчиниться отношениям и условиям совершенно для них посторонним, чтобы в первом случае произошли познания, а во втором — нравственная доблесть и религиозность. Как человек не удовлетворяется простым логическим потоком своих мыслей, но хочет еще, чтобы они были сообразны с истинным ходом вещей, в противном же случае он признает их заблуждением, так он не останавливается на фактически достигаемом удовольствии, но хочет еще, чтобы оно было сообразно с истинной оценкой вещей; в противном случае он считает свое удовольствие преступным и испытывает за него внутреннее беспокойство или упреки совести. Это стремление человека к достойному, сообразному с истинной оценкой вещей или деятельность его под идеями и идеалами будет понятна для нас только тогда, когда мы при изъяснении человеческих поступков будем принимать в расчет не эгоизм, а фактически существующее устройство человеческого духа, который, с одной стороны, представляет уже для непосредственного наблюдения очень сложную систему деятельностей и состояний далеко не равного достоинства для целей сознательной жизни и который, с другой стороны, стоит в необходимых, не зависящих от его эгоистического стремления к наслаждению связях с миром пещей и с. миром человеческим. Как при этих условиях, которые никогда не могут быть исчерпаны схоластической методой, построивающей все виды человеческой деятельности из одного начала, человек, начинающий свое существование в области животного эгоизма, воспитывается мало–помалу до нравственности и религиозности, мы не будем изъяснять здесь. Но для примера мы приведем в сокращенном виде изъяснение этого предмета, которое попалось нам в одной старинной психологии и которое, по нашему мнению, заслуживает внимания и в настоящее время.
«Каждое существо, — говорит эта психология, — стремится по своей натуре поддерживать бытие свое. А так как разум ничего не может предписывать противного натуре, то и он повелевает, чтобы каждый стремился к тому, что для него полезно. Добродетель есть польза или есть сила человека достигать того, что ему полезно». Вот положения, которые на первый раз отзываются грубым защищением эгоизма и его безусловного владычества над человеческою жизнию. Однако психология продолжает: «Но действовать сообразно с разумом — значит делать только то, что вытекает из необходимого устройства нашей природы, если взять ее саму по себе. И так как страсти происходят из зависимости этой природы от случайных внешних влияний или так как они основываются на неясных и смешанных понятиях, несообразных с разумом, то действовать сообразно с разу мом—значит освобождать себя от страстей, и стремиться все к большему совершенству, свойственному нашей собственной природе». Здесь, как видим, эгоизм отрицает себя и переходит в аскетизм, стремление к собственной пользе уступает место стремлению к нравственному совершенству, нравственной свободе и к торжеству над страстями.
Далее: «Так как из предыдущего видно, что совершенствование человека зависит от совершенств его разума, то действительное благо человека состоит в истинном знании: все, что содействует истинному знанию, есть добро; что препятствует ему — каковы в особенности страсти — есть зло. Искать собственной пользы, торжествовать над страстями, стремиться к нравственной свободе, достигать совершенства, достойного нашей природы, познавать истину, — вот лестница, по которой поднимается человек до своего назначения.
Наконец, так как истинное знание изъясняет все вещи и их порядок из их вечного начала или из их безусловной причины, то познание Бога в себе и в Его откровениях в этом мире есть для человека высшее благо и высшее совершенство. На этой ступени он достигает того светлого настроения духа, которого не могут возмутить никакие несчастия, потому что только удовлетворяя этой страсти или потребности богопознания, он может окончательно искоренить в споем духе все низкое и недостойное, все рождающее треноги и несчастия. Человек, который находит опору себе в Боге, получает силу, добродетель и совершенство, сообразные с достоинством своей природы и не сокрушимые никакими случайностями жизни».
Как видим, эта психология определяет постепенное возвышение человеческого духа от эгоистических стремлений до нравственной, вызывающей на самоотвержение деятельности и до религиозного миросозерцания, основываясь на наблюдении фактического устройства человеческого духа и на исследовании о том, какое удовлетворение, какое наслаждение сообразно с этим устройством или какое наслаждение достойно человека. На этот пункт собственно мы и указываем в ней: потому что и в предыдущих исследованиях мы старались оправдать положение, что человек препобеждает эгоизм, по мере того как он стремится к наслаждению не просто за его физическое качество, но еще требует, чтобы оно при этом качестве соответствовало его идеалам, его представлениям о достойнейшем образе жизни, насколько эти представлениясложились в нем из познания его собственной природы и ее положения в системе вещей. Но все эти идеалы, все эти представления о достойнейшем образе жизни связаны, как мы показали в предыдущей статье, с целесообразным рассмотрением этого мира. Итак, целесообразный взгляд на мир есть ближайшее предположение, из которого, по нашему мнению, изъясняется происхождение так называемых естественных религий, не имеющих, как мы видели, своего положительного источника в чувстве страха, в чувстве зависимости и в эгоистическом стремлении человека к счастию. Если, по учению Канта, представление целесообразности в устройстве мира служит вспомогательным или руководящим понятием в науке, то и предыдущие исследования показывают, что ту же самую роль играет это понятие и в области религии.
Мы не будем долго останавливаться на нравственном доказательстве бытия Божия, потому что в общем и целом око тесно связано с доказательством физикотеологическим. Как нее вещи суть необходимые и бессознательные органы божественных целей, так человек есть орган божественной цели, свободный и сознательный. Первая мысль лежит в основании доказательства физикотеологического, последняя — в основании доказательства нравственного.
В самой простой форме это доказательство требует бытия Божия для возможности нравственного поступка вообще. Нравственный поступок происходит тогда, когда мы определяем себя к деятельности по сознанию долга. Пока наши поступки суть простые следствия предшествующих им условий и причин, они так же не подлежат нравственной оценке, как падение камня, движение планет вокруг Солнца, возрастание организма и т. д. В этом случае мы могли бы только сказать: с нами будет то, что будет, мы будем всегда делать то, что сделают причины и условия, которые определяют с необходимостью изменения наших чувств, мыслей, намерений. Между тем сознание долга или сознание того, что мы должны делать, прямо исключает этот необходимый механизм причин и условий. В нравственном отношении мы не говорим о том, что будет, что сделается по силе слепых условий, — мы убеждены, что мы можем определять действительность идеей, можем делать то, что должно делать. Это нравственное сознание свободы и долга, — будет ничтожным призраком, если не допустить божественного мироправления, если не признать, что и бессознательные движения мира вещей имеют нравственное значение, имеют смысл и достоинство для целей духа. Стремление человека к самоусовершенствованию заключало бы в себе внутреннее противоречие, если бы оно не сопровождалось верою, что внешние обстоятельства, изменяющие его характер, наклонности, страсти, мысли и намерения, зависят от воли святого Бога или что мир определен к бытию и сохраняется в нем высочайшим разумом по тем безусловным идеям, которые составляют существо человеческого духа как нравственной личности. Сообразно с этой нравственной верой в бытие Божие человек рассматривает свое настоящее положение среди мира явлений, которые служат для него источником страданий и радостей, то искушают его добрую волю, то неожиданным благотворным влиянием возбуждают его на подвиги правды и любви, —рассматривает все случайности своей счастливой и несчастной жизни как дело божественного провидения, все посылающего ему для его блага, для его нравственного воспитания и совершенства.
Для полноты заметим здесь, что нравственное доказательство, которое доселе совпадало с физикотеологическим, выступало еще в двух формах неравного достоинства: 1) человечество рассматривает нравственные предписания как заповеди Бога, — и это совершенно сообразно с тем безмерным достоинством, какое имеет нравственный поступок в сравнении с событием чисто физическим, как и, с другой стороны, это оправдывается фактическим существованием совести, которой упреки и одобрения не зависят от произвола человека, но имеют значение высшего, судящего голоса. «Совесть есть голос Божий в человеке», «Бог есть судья нравственной жизни человека» — эти убеждения находим мы у самых древнейших народов; 2) идея верховного блага как единства нравственного совершенства и счастья рождает веру в Бога как совершителя гармонии между нравственным достоинством человека и всецелым удовлетворением его чувственно–духовных потребностей. В этом последнем смысле раскрыл нравственное доказательство Кант в своей «Критике практического разума». Сочинитель «Лексикона» применяет эти же самые идеи для доказательства бессмертия души. Он говорит: «По идее нравственного совершенства не только требования нравственного закона безусловны, но так же безусловно требование гармонии между внутренним и внешним бытием, между нравственными совершенствами духа и случайным, не разумным действием чувственной природы или, частнее, между добродетелью и счастьем. Но представляется ли и эта идея гармонии полною и законченною в кругу настоящей жизни? Не видим ли мы, что нравственная доблесть часто томится в нужде и скорби, напротив, низость наслаждается всеми благами мира; что расчетами самого грубого и жестокого своекорыстия часто гораздо скорее достигают благополучия, нежели самою разумною и благожелательною деятельностью, — словом, что нравственное достоинство далеко не достигает здесь полной гармонии с внешнею средою жизни. И не в одних только злоупотреблениях человеческой воли заключается причина этой дисгармонии; она происходит и от слепоты вещественной природы: волны моря равно топят и животных и людей; огонь одинаково пожирает и иссохшее былие и произведения гениев». И так далее. Нам кажется, что этот образ мыслей несогласен с самыми простыми фактами человеческого сознания. Мы уже выше сказали, что требование счастья и само по себе служит сильным мотивом веры: человек обращается к Богу как к избавителю от скорбей и несчастий, он видит в Боге хранителя своей собственности, своей семьи, своего здоровья, своего благополучия. Точно, очень рано заменяется в человеке стремление к счастию стремлением к достойному счастию, и тогда человек развивается под идеей блага, которое слагается из гармонии между нравственным совершенством и благополучием. Но и в этом случае он не смотрит на счастье как на что‑то прибавляемое к нравственному совершенству от вне и случайно: напротив, для него само нравственное совершенство есть элемент счастия, есть содержание, без которого никакое счастье не сделало бы его счастливым. Таким образом, в идее верховного блага вовсе нет того дуализма между добродетелью и счастием, на который мы сейчас указали. Это мы выясним более, если спросим, точно ли существует в человеческом духе потребность «гармонии между нравственными совершенствами духа и случайным, не разумным действием чувственной природы»? Едва ли даст на этот вопрос положительный ответ тот, для кого сущность нравственно–добрых поступков заключается в бескорыстном, неэгоистическом исполнении требований правды и любви. С «случайным, не разумным действием чувственной природы» личность истинно нравственная не будет вступать ни в какую сделку. Такая личность, напротив, придет. к вере или к убеждению, что это действие чувственной природы не есть случайное и не разумное, что эта природа не враждебна нравственным стремлениям человека, что, как творение премудрого и святого Бога, она служит самым удобным средством для нашего нравственного развития. Таким образом, мы опять возвращаемся к телеологическому доказательству, которого не раскрыл Кант до степени доказательства нравственного только для того, чтобы оставить место для своего искусственного учения о гармонии между добродетелью и счастием как основании нашей веры в бытие Божие. Пока человек считает свое счастье и несчастье состояниями, которые рождаются «случайным, не разумным действием чувственной природы», до тех пор он находит счастье и избегает несчастий хитростью или уменьем и искусством заставить вещи служить своим желаниям, своим личным целям, С пробуждением нравственного самосознания он хочет быть счастливым не посредством хитрости, а посредством разума, он хочет не вынуждать свое счастие у вещей, а получить его как следствие деятельности разумной, сообразной с смыслом вещей и с своим положительным назначением. Что это человеческое понятие о достойнейшем н совершеннейшем образе жизни ведет к вере в Бога, без которой оно во внешних опытах не имело бы достаточных оснований, что, в частности, человек легко признает в случайном счастии и неожиданном несчастии распоряжения высшей воли, которая то награждает, то испытывает его, что, наконец, он видит суд Божий уже здесь, на земле, в овоих страданиях и несчастиях и не относит его только к вечности, — это общеизвестные факты, которые изъясняются сами собою из предыдущих замечаний.
Доказательства бытия Божия космологическое, физикотеологическое и нравственное представляют единство— они проникнуты одною мыслию, которую легко заметить, если сравнить их по содержанию. Космологическое доказательство говорит, что необходимо допустить безусловное; доказательство физикотеологическое продолжает, что это безусловное не есть вещь или система вещей — субстанция или определенная сумма атомов, но что оно есть разум, есть мысль, есть то, по силе чего вещи не просто существуют, но еще и оправдывают свое существование; наконец, нравственное доказательство учит, что эта мысль имеет не только внешнее существование в вещах мира, но и внутреннее, сосредоточенное само на себе, что она владеет не только миром, но и собою, существует не только для постороннего наблюдателя, но и для самой себя, — словом, что безусловный разум есть безусловная личность, есть дух, знающий о себе и свободный, — дух, к которому мы относимся не как изменения к своей причине, а как дети к отцу, относимся как свободные и нравственные личности. Итак, мы получаем наконец мысль о Боге, которая, по–видимому, должна бы удовлетворять сознанию. После этого естественно спросить: что же делает доказательство онтологическое, какую задачу преследует оно? Оно хочет ни больше ни меньше, как пресечь всякую возможность сомнения в бытии Божием; оно доказывает, что сомневаться в бытии Божием так же невозможно, как невозможно сомневаться в том, что дважды два четыре, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым и т. д. Что Бог существует, или есть, это положение признается в онтологическом доказательстве аналитическим, го есть таким, в котором предикат с безусловною очевидностью и необходимостью вытекает из субъекта: бытие Божие так же дано в понятии о Боге, как в числах 2 + 5 дано необходимо число 7, в числах 2X 10 дано необходимо число 20 и т. д. Как видим, задача, которую хочет решить онтологическое доказательство, необыкновенная. Если бы оно достигало своей цели, то нам пришлось бы признавать сомневающихся в бытии Божием или отрицающих это бытие сумасшедшими или тупоумными; потому что как же иначе смотреть на того, кто отвергает или сомневается в очевиднейшей истине, какова, напр., истина математическая, что дважды два составляют четыре, два и три составляют пять и т. д. Действительно, сам Анзельм Кентемберийский, изобретатель этого доказательства, указывал уже на слова Давида: рече безуменъ въ сердц своемъ: несть Богъ (Пс. 13, 1). Однако же мы знаем, что в средние века служители католической церкви сожигали неверующих на кострах или осуждали их на виселицу, но не думали заключать их в богадельни и употреблять средства для их выздоровления.
В самой простой форме онтологическое доказательство явилось у средневекового мыслителя Анзельма Кентемберийского Но уже и у него оно приняло два напра вления, которые имели влияние особенно на судьбу картезианской и лейбницианской философии. Всесовершеннейшее существо не может существовать только в мысли, потому что существующее и в действительности и в мысли есть совершеннее того, что существует только в мысли. Итак, если бы всесовершеннейшее существо было только в мысли, то оно не было бы и всесовершеннейшее, не было бы то, что оно есть, или идея всесовершеннейшего существа распадалась бы от внутреннего противоречия. И далее: хотя во всех других случаях иное дело представлять предмет и иное — представлять, что он существует, однако это различие нельзя применить к мысли о Боге; потому что как из двух существ то, которое не может не быть (которого бытие необходимо безусловно), совершеннее того, которое может не быть (которого бытие случайно, которого небытие возможно), то с мыслию о всесовершеннейшем существе дана необходимо мысль о его безусловной необходимости. Итак, здесь с мыслию, с идеей необходимо соединяется бытие мыслимого; из идеи Бога как существа всесовершеннейшего следует необходимо, и притом непосредственно, прямо, аналитически, что Бог существует: essentia Dei, говорили схоластики, involvit ejus existentiam.
Декарт замечает против первой части этого доказательства, что оно не достигает своей цели. Из него следует пс то, что Бог существует, а только что я должен представлять Бога существующим; потому что собственно только одного этого условия достаточно для того, чтобы идея всесовершеннейшего существа не заключала в себе внутреннего противоречия. Идея всесовершеннейшего существа требует только, чтобы я представлял это существо действительным, но это мое представление нисколько не доказывает бытия Божия, хотя оно в настоящем случае остается без внутреннего противоречия. Однако же сам Декарт устраняет это затруднение только тем, что поставляет процессы чистой мысли в решительную зависимость от процессов бытия. Идея (idea) имеет свою достаточную причину в предмете (ideatum). Отсюда следует, что чистое мышление, развивающееся в ясных и раздельных представлениях, утверждает нечто о предмете не по своей психической или субъективной необходимости, а по силе понуждения, лежащего в натуре самого предмета. Когда мы представляем Бога существующим, то к этому понуждает нас не наше мышление, которое избегает противоречий во всяком представлении, следовательно и в представлении о Боге, но понуждает необходимость самой вещи, то есть бытие Божие заставляет меня представлять Бога существующим и делает невозможным представление о несуществующем Боге. Анзельм нуждался в переходе от субъективной мысли к ее действительному предмету и, по мнению Декарта, не мог совершить этого перехода. Напротив, по взгляду Декарта, мышление, развивающееся в ясных и раздельных представлениях, определяется природою действительных предметов, и потому все, что мышление находит в понятии предмета, необходимо существует в самом предмете. Когда из идеи треугольника я вывожу следствие, что сумма его углов равна двум прямым, то с этим вместе я непосредственно уверен, что всякий треугольник, данный в действительности, вне мышления, имеет это свойство или что необходимость моего представления совпадает с необходимостью бытия. Но также я нижу ясно и раздельно, что в идее всесовершеннейшего существа заключается мысль о его необходимом бытии и что именно в этом состоит замечательное различие между этой идеей и всеми другими идеями, которые заключают в себе мысль о бытии возможном; отсюда я делаю вывод, что бытие так же необходимо принадлежит к натуре или к сущности Божией, как к натуре или к сущности треугольника сказанное свойство, что сумма его углов равна двум прямым.
Из этого учения, что в Боге бытие неотделимо от сущности, Спиноза извлек ближайшее следствие, что мы не имеем основания приписывать бытие вещам конечным. То, что неотделимо от сущности Божией, не может принадлежать тому, что не есть сущность Божия. Таким образом онтологическое доказательство бытия Божия привело к результатам, которых не мог предвидеть благочестивый Анзельм: оно доказывало слишком много, не только то, что Бог есть, но и то, что есть только Бог.
Сам Декарт чувствовал, что его доказательство отличается от анзельмова не столько само по себе, сколько тем значением, какое дал он мышлению вообще. Поэтому впоследствии он внес в это доказательство представление о causa sui, которым надеялся изъяснить, как и почему с сущностью Божиею нераздельно бытие. «На первый раз, — говорит он, — можно согласиться, что всесовершенному существу свойственно по меньшей мере бытие возможное, как и всем другим вещам, о каких только мы имеем ясные идеи. Но так как мы не можем представлять, что бытие Бога возможно, не представляя вместе беспредельного могущества Божия, то мы убеждаемся, что всесовершеннейшее существо может существовать своею собственною силою, и отсюда заключаем, что оно действительно существует от вечности: ибо ясно как день, что то, что может существовать собственною силою, существует всегда». Здесь бытие Бога выводится не из общей идеи всесовершенного существа, а из частной идеи беспредельного могущества Божия. Беспредельное могущество Бога открывается в том, что Он вековечно полагает свое собственное бытие или полагает в бытии свою собственную сущность, есть ens a se, causa sui. Эту мысль Декарта Спиноза развил также с неотразимою логичностью в учении, что бесконечное полагает только бесконечное, из бесконечного следует или происходит только бесконечное в бесконечных видах и оттого происхождение конечного из бесконечного, творение конечных вещей немыслимо и невозможно. Так простая мысль Анзельма, которую этот мыслитель назначал по преимуществу для людей не ученых, не философствующих, легла наконец в основание самых смелых и глубоких теорий метафизики. Бакон учил, что природу мы познаем лучом прямым, а Бога — лучом преломленным. Философия картезианская утверждала, напротив, что только Бога мы познаем прямым лучом, что только о Боге мы имеем познание ясное и совершенно достоверное. Как легко видеть, это учение о совершенстве нашего богопознния также вытекало из онтологического доказательства бытия Божия.
Это доказательство являлось в различных более или менее значительных видоизменениях, на которые мы укажем здесь.
) Идея всесовершеннейшего существа заключает в себе необходимое бытие его. Хотя обыкновенный предрассудок говорит, что вещь тем труднее осуществляется, чем она совершеннее, однако в истине между совершенством и бытием находится положительное отношение. Когда мы станем отнимать мысленно в вещи ее совершенства, то мало–помалу мы уничтожим наконец и самое бытие ее; потому что, отрицая то, что она есть, мы наконец должны будем отрицать и ее всецелое существование. Поэтому и бытие имеет степени, соответствующие совершенству вещи. Сущность условная обладает и бытием условным, она может быть действительною только тогда, когда есть для этого причины и условия. Сущность безусловная обладает и бытием безусловным; е нет нужды дожидаться, пока посторонние условия и причины сделают ее действительною; она есть сразу и непосредственно. Как сущности несовершенные имеют бытие возможное, так существо всесовершенное обладает бытием необходимым: то, что не может не быть, совершеннее того, что может не быть.
) В идее Бога мы мыслим соединение всех реальностей: Бог есть ens realissimum. Итак, бытие, как одна из реальностей, необходимо принадлежит к существу Божию. Если бы сущность, соединяющая в себе все реальности, была не действительна, то по меньшей мере можно бы представить, что она есть в действительности. Итак, мы имели бы две идеи об одной и той же сущности, и, однако же, одна из этих идей содержала бы в себе более реальностей, нежели другая, хотя эта последняя, по предположению, заключает в себе все реальности.
) I) идее Бога мы мыслим единство всего положительного. Всякое отрицание есть ограничение, которое невозможно в существо безграничном. Бытие как нечто положительное, как положение неотделимо от сущности Божией: небытие как отрицание, как ограничение немыслимо в существе безграничном.
) Бытие Бога или невозможно, или необходимо. Оно было бы невозможно или по внешней причине, или по внутренней. Но причина внешняя, которая отрицала бы бытие всемогущего существа, немыслима. Внутренняя причина должна бы находиться в самом существе Божием или существо Божие должно бы заключать в себе внутреннее противоречие. Так, невозможен круглый квадрат или квадратный круг, потому что в этих понятиях содержится внутреннее противоречие. Но такое противоречие немыслимо в существе всесовершенном, — в существе, которое соединяет в себе все реальности, все положительное без малейших ограничений. Итак, бытие Божие необходимо.
Конечно, во всех других случаях между бытием невозможным и бытием необходимым лежит еще бытие возможное. Но если мы исследуем, почему во всех этих случаях понятие заключает в себе только возможное, а не необходимое бытие своего предмета, то откроем основу этого явления в том, что здесь понятие выражает только элементарное, существенное, однородное и общее одному предмету с другими, а подлинное бытие предмета состоит в определенной и совершенно частной форме, какую принимает это общее, существенное и однородное многим предметам в этом частном случае. Здесь нужен переход от общего к частному, от родового к индивидуальному, от внутреннего ко внешнему, от сущности к ее этому, а не другому явлению: понятие как выражение общего, существенного, родового не указывает тех обстоятельств, которые дают частную, индивидуальную форму этому общему и существенному; поэтому понятие во всех таких случаях содержит только бытие возможное, а не необходимое. Но в идее Бога нет такого перехода от общего к частному, от основных элементов к их сочетанию и обособлению в той или другой форме, от однородной сущности к ее разнородным явлениям в частных экземплярах, от единства внутреннего содержания ко множеству его внешних видов и особей. Поэтому в идее Бога дано необходимое бытие Его: essentia Dei involvit ejus existentiam.
Мы видим, что философы потратили много сил и остроумия на развитие и оправдание онтологического доказательства бытия Божия. Тем не менее легко удостовериться, что это доказательство есть плод искусственной католической мысли, которая не может устоять пред судом здравой логики! Во–первых, что означают выражения: Бог есть causa sui, ens a se, ipse se ipso prior, — выражения, которые внесены в это доказательство как вспомогательные понятия? Если эти понятия развивает такой здравый мыслитель, как Декарт, то в его системе они получили место вследствие недостаточного разделения между основанием знания о предмете и причиною бытия его. Декарт говорит: «Нет такого предмета, о котором нельзя было бы спросить, почему он существует. Я могу спрашивать таким же образом и о Боге не потому, что он нуждается в какой‑нибудь причине, чтобы существовать, но потому, что самая беспредельность его природы есть причина или основание, вследствие которого он не нуждается ни в какой причине для своего существования». Декарт должен бы сказать: беспредельность Божия есть основание, из которого я знаю, что Бог не нуждается в причине. Но как только он смешал это основание знания с причиною бытия, то уже необходимо должна была родиться мысль, что беспредельность Божия или всемогущество Божие есть в самом деле причина бытия Божия и что Бог таким образом есть causa sui. Такого место родины этого странного понятия, которое повторяет сочинитель «Лексикона» в выражениях, что идея бесконечного сама себя вскрывает и определяeт, что она сама себе служит и доказывающим, и доказываемым и т. д. Мы уже видели, какую роль играет оно в философии Спинозы. В последствии времени это же понятие привело Шеллинга к мистическому различению в Боге основы и следствия, — того, «что в Боге не есть Он сам», и того, что в собственном смысле должно назвать действительным, существующим Богом. Каким образом удалось немецкому философу заглянуть в самое лоно Божие и подсмотреть там внутренние элементы, — подсмотреть (простите, читатели, за выражение) внутренний механизм божественного существа, мы не будем изъяснять здесь. Достаточно, впрочем, видно, что без causa sui он не зашел бы так далеко. Гегель хорошо понимает, что в понятии causa sui заключается внутреннее противоречие; но это был единственный на свете мыслитель, который по боялся противоречий. «Лексикон» говорит: «Гегель утверждает, что противоречие принадлежит к самому существу бесконечного», то есть то самое противоречие, которое заключается я causa sui. Вся его система есть не что иное, как решительное развитие онтологического доказательства и понятия о causa sui. Это последнее легко узнать в главнейших категориях этой системы, каковы: саморазвитие, самоположение, самоотрицание идеи; также в главнейших положениях, каковы, например, что «безусловная идея противополагает себя себе же самой и в этом самопротивоположении осуществляет могущество своего единства с собою» («Леке», том второй, стр. 42) или что безусловное «самому себе предпосылает себя как посредство или условие своей собственной жизни» (стр. 169); наконец, легко узнать в ходе и строении всей диалектической методы, которая оправдывает мысль не свидетельством опыта, не анализом, не наведением, а требованием, чтобы эта мысль отрицала себя, но бывала вне и прежде себя, чтобы потом она отрицала это отрицание и таким образом приходила бы к самой себе. Как‑то не верится, чтобы простая мысль католического богослова легла в основание таких крайних теорий, которые рассматривают мир только как место, где безусловное упражняет и усовершает свои силы и где мы напрасно искали бы конечных существ с определенною долею самобытности и индивидуальности, И однако же это не подлежит сомнению. Католиче ское миросозерцание вообще, и в особенности разбираемом здесь доказательстве бытия Божия, хотело отделить человека от всего живого, открытого для чувств, от всего естественного, чтобы принести его Богу как. ветхозаветную жертву, которая соответствует своему понятию только тогда, как умирает. И вот история совершает свой суд над этим схоластицизмом, который был так далек от живого духа христианства. Системы Спинозы, Шеллинга и Гегеля на основании той же самой мысли учат, что Бог есть не более как предлежащая нашему взору и ощущаемая внутри нас жизнь, что он есть не более как корень, основа и источник всего естественного, всего здешнего, всего того, что для католической мысли казалось нечистым, недостойным, противным и враждебным христианству.
Новейшая философия очень просто указывает на логическую погрешность, сокрытую в представлении causa sui. — В нем так же мало смысла, как в выражениях, каковы: тяжесть тянет саму себя, вода мочит и поит саму себя, огонь светит самому себе и согревает самого себя, давление давит само себя. Шопенгауэр говорит, что в понятии causa sui заключается contradictio in adjecto; это понятие предполагает, что прежде есть то, что есть после; оно, прибавляет Шопенгауэр, напоминает того австрийца, который, надев кивер и крепко застегнув его, должен был потом прикрепить на его верхушке аграф, но как его руки не досягали, то он ухитрился стать на стул, чтобы достать верхушку кивера. «Но лучшую эмблему этого causa sui, — заключает Шопенгауэр, — представляет барон Мюнхгаузен, который, как только лошадь, на которой он ехал верхом, стала тонуть, подхватил ее своими ногами и тянул вверх лошадь и самого себя, взявшись за свою косу, переброшенную на лоб».
Онтологическое доказательство бытия Божия не могло развиться в греческой философии, потому что философия греческая ничего не знала о метафизике как науке, построяемой из чистых понятий или a priori. В своем «Органоне» Аристотель ставит положение, которое как будто нарочито направлено против онтологического доказательства. «Бытие, — говорит он, — никогда не принадлежит к существу вещи». Только в ту пору, когда философы надеялись познать существо вещей не из них самих, не из их откровения во внешнем и внутреннем опыте, а из логических комбинаций и отвлечений, могло родиться это мнимое доказательство, в котором, как в самом ярком примере, открываются не естественные притязания так называемого чистого мышления, будто бы способного из себя и от себя постигать сущность предмета и даже удостоверять нас в бытии его. Сочинитель «Лексикона», следуя Гегелю, утверждает, что это доказательство стало возможным только тогда, когда «христианство возвело взор человека к миру высшему»; он забывает, что для Гегеля мир высший и мир отвлеченного мышления есть одно и то же. Интересно в некоторых отношениях выслушать самый текст его. «Подобное доказательство, — говорит он, — не встречается у древних дохристианских мыслителей, потому что философия древнего мира руководствовалась еще преимущественно непосредственным доверием в соответствие между мыслию и действительностью; скептицизм же, выступивший после цветущего состояния древней философии, направлен был преимущественно против достоверности чувственного познания. Только с того времени как христиански) полнело взор человека к миру высшему, явственно разграничилось сознание о бытии видимом, наблюдаемом чувствами — и мыслимом, доступном только внутреннему созерцанию. Отсюда мало–помалу образовался вопрос: в чем состоит истинная действительность и действительно ли то, что выступает из пределов чувственного мира? (Этот вопрос был везде и всегда, где и когда только возникала философия, потому что иначе ей и существовать было бы не для чего.) Он многообразно выразился в искусстве и в жизни новых времен; но самое резкое разделение между миром чувственным и умственным в области философии проведено критическою философиею Канта. Между мыслителями христианских времен первый Анзельм высказал в определенной форме онтологическое доказательство как плод этого нового направления философии». Но если сейчас сказано, что это новое направление философии и целого мировоззрения особенно резко обозначилось «критическою системою Канта», то мы вправе ожидать, что Кант будет сочувствовать онтологическому доказательству и будет защищать его. Между тем известно, что ничего такого не было. Кант особенно сильно доказывал, что это онтологическое доказательство есть школьная игра понятиями, не имеющая никакого научного достоинства.
«Бытие никогда не принадлежит к существу вещи» — эту мысль, которую, как мы видели, сознавал уже Аристотель, противопоставляет и Кант онтологическому доказательству. Бытие не есть признак или содержание субъекта суждения, но так же оно не есть «совершенство» субстанции. Нельзя сказать, чтобы в представлении о Боге заключалось сознание Его бытия таким же образом, как в представлении треугольника заключается сознание равенства суммы его углов двум прямым. В этом геометрическом положении я присоединяю к субъекту Предикат, который имеет свое определенное содержание и который поэтому входит как признак в понятие субъекта. Но когда я говорю: Бог есть, или существует, то здесь я не присоединяю к понятию субъекта никакого нового признака, никакого нового содержания: понятие о Боге остается то же самое, буду ли я утверждать или отрицать бытие Божие, подобно тому как треугольник всегда имеет названное свойство, все равно, будет ли он существовать в моей фантазии или в действительности. Таким же образом несправедливо полагают, что если бы совершеннейшее существо не было действительно, то оно не было бы и совершеннейшее. Если к сущности, которой недостает только одного совершенства, прибавим бытие, то от этого она не получит совершенства, которого в ней не было; и наоборот, если бы мы сомневались в действительности предмета, обладающего всеми совершенствами, то этим мы не отрицали бы пи одного из его совершенств: мы только высказывали бы этим, что все его совершенству даны для нас только в идее, только в мысли, а не в действительности. Так, сто талеров воображаемых и сто действительных имеют одно и то же содержание или — выражаясь языком в этом случае употребительным — имеют одну и гу же сумму совершенств или реальностей. Бытие есть чистое положение без всяких степеней. Вообразите, что существуют две веши; из которых одна безмерно совершеннее другой. Различаясь совершенствами, эти вещи нисколько, однако же, не различаются бытием. О вещи самой совершенной мы говорим, что она есть. О вещи самой несовершенной мы так же говорим, что она есть. Как в первом случае мы признаем бытие независимо от совершенства, так в последнем признаем это бытие независимо от несовершенства. Итак, бытие не может быть выводимо аналитически из понятия о том, какую сумму совершенств имеет рассматриваемый в данном случае предмет. Из чистого мышления или из простого представления совершенств предмета мы не можем удостовериться в том, что он существует. Для достижения этой цели необходимо перейти в область опытов и воззрений и здесь удостовериться в бытии предмета или непосредственно, или же при посредстве соображений и умозаключений из данных опытов. Все остальные доказательства бытия Божия развиваются именно на этой светлой почве опытов и потому‑то они имеют значение и достоинство не только для школы, но и для жизни; потому и изобретены они не каким‑нибудь схоластическим доктором, а были известны всегда и везде, где только были люди, верующие в Бога.
Мир с ближними как условие христианского общежития
Когда животные обнаруживают противоположные желания, они необходимо приходят во взаимную вражду, истребляют друг друга — или достигают своих желаний погибелью других, или сами погибают. Человек, как нравственная личность, не подчинен этой необходимости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на жизнь и смерть. При всякой встрече противоположных желаний и интересов он должен обращаться к нравственным требованиям справедливости, которая укажет ему, где и когда его желания незаконны, где и когда они противоречат благу его ближнего и благу общему. При высшем нравственном развитии он повинуется еще заповеди любви, которая внушает ему жертвовать своими личными выгодами для блага других, для блага общего. В справедливости и любви заключаются самые прочные условия для водворения мира между людьми, для основания общего дружества и братства между ними. И так те, которые пробуждают в человеке эти нравственные требования, суть по преимуществу миротворцы. Вот почему человечество в своем историческом многотрудном образовании так высоко ценит своих нравственных воспитателей, которые полагали лучшие основания для общежития людей и вносили в общество ясные понятия о правде, о долге, о взаимном уважении: во имя их оно основывало целые государства, оно чтило в них миротворцев, оно чтило их за то, что эти люди выводили полудикие толпы на путь мирной, правильной и сообразной с человеческим призванием гражданственности.
Если и говорят иногда, что человеку враждовать естественно, то при этом открыто ссылаются на явления, замечаемые в природе невоодушевленной и между животными. В этой области слепых сил и слепых влечений мы в самом деле видим постоянную борьбу и вражду. Только мы не думаем, чтобы и человек был осужден на подобную слепую деятельность. Он смотрит вперед, заглядывает в будущее, рассчитывает заранее последствия своих поступков и потому может во всяком разе избирать путь лучший, сообразный с благом общим или с благом многих; ему нет надобности избирать первое направление, какое только представляется ему по случайным обстоятельствам; такое отсутствие выбора и оценки и тупое повиновение силе обстоятельств противоречило бы его смыслящему, светлому и разумному духу. Посмотрите, с другой стороны, на телесный состав человека, так ли он устроен, чтобы человеку жить в борьбе и вражде. Его члены так нежны, так легко уступают всякой внешней силе, что наш род давно бы исчез с лица земли, если бы он, подобно животному, жил нравом силы й насилия и не находил в науке, искусствах и в своих нравственных требованиях хранителей своего земного существования. Нужды человека так разнообразны, так многосложны, его назначение, указанное ему Богом, так велико и требует таких разнообразных средств, что только в мире и живом союзе с другими людьми, только в человечестве, где он трудится для всех и все для него, может он сделаться тем, чем он должен быть по воле Божией. Поэтому законодатель, который мудрыми учреждениями и постановлениями успокоивает волнующееся общество, правитель, который силою доброй воли и светлым умом пресекает злоупотребления, грозящие нарушить общественный мир, отец семейства, умеющий связывать детей своих узами взаимной дружбы и любви, служитель церкви Христовой, прекращающий словом живого убеждения зачинающуюся вражду между людьми, совершают дело благотворное для человечества; они — миротворцы, их дела угодны Богу и сообразны с его волею.
В древности, когда люди так открыто и чистосердечно высказывали свои ближайшие, нужды, обыкновенным приветствием при встрече человека с человеком было желание мира; мир тебе, мир вам, — говорили встретившиеся странники вместо нашего здравствуй или доброго здоровья. Этим приветствием один человек как бы говорил другому: «Я пришел к тебе не как враг; не с злым умыслом, будь спокоен, я не оскорблю тебя, не возмущу твоего мира». Но, как бы ни изменялись человеческие обычаи, желание мира и стремление к миру составляет нравственную нужду всякого человека. Человек всего охотнее живет там, где наибольше людей, и всего охотнее делает то дело, которое имеет достоинство или цену для наибольшего числа людей. Если бы враждебные отношения были ему естественны, он стремился бы к жизни одинокой; так хищный ворон не любит общества, он вылетает на ловлю добычи и затем остальное время проводит одиноко на неприступных скалах или на вершинах снежных гор, где его взор почти не встречается ни с чем живым, вызывающим на сочувствие, на общительность. Человек чувствует живую потребность восполнять себя другими людьми, восполнять себя не только в отношении материальном, но еще более в отношении духовном. Его способности душевные так сильны, что неразумная природа не может достаточно наполнить и занять их своими впечатлениями, и, с другой стороны, сам он чувствует такую сильную потребность обнаруживать свои душевные состояния и переносить их в мир внешний, что невоодушевленная природа и в этом отношении представляет для него слишком тесное поприще; она повинуется его воле и его искусству тупо и безучастно, она не входит в его положение, она не может быть одно с ним. Человек испытывает нравственное влечение к человеку как для того, чтобы от его слова и от его мысли получить внутренние возбуждения, питать и воспитывать ими смою душу, так и для того, чтобы в свою очередь открывать ему свою душу, свои мысли, желания, радости и страдания. Здесь мы имеем так называемое чувство человечности, которое дает нашему роду особенное, высшее значение среди других воодушевленных существ этого мира и которое оскорбляется вообще враждебным отношением одного человека к другому. Чувство это, из которого рождаются нравственные цветы общительности, искренности, откровенности, простоты, участия и сострадания к несчастным, воспитывается правильными влияниями науки, живых примеров, особенно же истинною, теплою религиозностью, для которой все доброе не только добро, но и священно, и кто воспитывает других в этом определенном нравственном духе, тот трудится для примирения людей и для укрепления живого союза и благотворного общения между ними. — Таким образом, поприще, открытое для подвига миротворения, очень широко. Не только действия, касающиеся непосредственно общей пользы, скрепляют взаимный мир людей; всякое ваше слово, всякая ваша мысль могут успокоивать человеческие страсти; нередко один кроткий взгляд, одно спокойствие в движениях и словах ваших погашают вражду, которая уже начиналась между вами и людьми, с которыми вы имеете дело. Как вообще в нравственной жизни, так и здесь главное зависит от доброй воли, от ясной решимости и от правильного душенастроения. Во всяком положении и во всякой деятельности вы можете бросать семена мира, которые если не всегда приметны для взора людей, то всегда, однако же, будут видимы всеведущим Богом как чистые зачатки общего блага.
Не все одинаково способны водворять мир и доброе согласие между людьми: наши страсти очень часто рождают вражду там, где внешние обстоятельства представляют самые незначительные поводы к ней. Предста–иим себе, что два брата не согласны с третьим по вопросу о разделе собственности. Смотря по своим душевным качествам, каждый из них будет поступать в этом случае различно. Одни, может быть, увидит в требованиях сиосго брата открытое и намеренное оскорбление своих прав, найдет в нем своего врага, будет бесчестить его, как человека своекорыстного, жадного, готового на все дурное, лишь бы присвоить себе часть чужой собственности. Но также может быть, что другой признает несправедливые требования своего брата простым следствием недоразумения, запутанности самого дела или следствием неопределенных понятий брата о пределах прав своих; в таком случае он постарается достигнуть своей цели мирными взаимными объяснениями и не перейдет от простого несогласия к положительной вражде. Очевидно, что в нравственном отношении этот последний характер развит гораздо правильнее, нежели первый: он обнаруживает разумное самообладание и уважение к чужому достоинству, тогда как первый действует под влиянием страсти и находит злонамеренность, жадность и оскорбление своих прав там, где пока существует только несогласие, только недоразумение; все остальное, все Достойное в чужом лице стало невидимо для его взора; для него существует только враг, а не человек, не ближний, не брат. Так, большею частию вещи и люди представляются нам в таком свете, какой мы бросаем на них из глубины нашей души: для несветлого взора все мрачно, для злого сердца все зло. Откуда у вас раздоры, спрашивает апостол Иаков, откуда и распри? Не оттого ли, что вожделения ваши воюют в членах ваших? (Иак. 4, 1.).
Вообще мир с людьми требует, как необходимого условия, чтобы человек был в мире с самим собою или чтобы он имел внутренний душевный мир, который достигается самообладанием, торжеством над страстями, послушанием голосу совести, особенно же деятельною преданностию в волю Божию. Ежедневные опыты показывают, что человек, увлекающийся страстями, везде находит поводы к вражде с людьми, которые окружают его; мало этого, он даже сердится на вещи, с которыми он обращается, люди и вещи представляются ему как враги, которые посягают или на его спокойствие, или на его счастие; ему хотелось бы, чтобы и люди и вещи мгновенно передвигались и изменялись сообразно с его капризами и страстями. Но особенно безотрадное явление представляет человек, когда он преследует цель действительно достойную, но в то же время слепо увлекается самолюбием и своекорыстием. Это служение Богу и мамоне в одно и то же время, на одном и том же месте есть источник всякого фанатизма, так гибельного для общего мира и для общего блага. Вы встречаетесь с человеком, который отвергает ваши убеждения, бесспорно дорогие для вашего сердца. Вы хотели бы защищать эти убеждения, обратить неверующего на путь истины: что может быть достойнее этого дела? Но если при этом ваша душа кипит гневом, ненавистью и злобою, если вы хотели бы низвести огонь с неба на противника истины, если вами овладевает фанатизм, —не обманывайте себя и других; эти порывы эгоизма, эта ненависть к ближнему рождаются в вашей душе не из любви к истине и к великому делу, а из страстного увлечения теми личными интересами, которые случайным образом связались для вас с защищаемой вами истиной или с защищаемым вами делом. Кто убежден, что истина не есть ни его собственность, ни его привилегия, а дар Божий, посланный и посылаемый всему человечеству, кто знает, что святая ревность по делу Божию вызывает на любовь, на самоотвержение, на терпение, на забвение себя и своих мелких интересов ради великого дела, тот не станет защищать эту истину и это дело враждою и ненавистью: эти орудия годятся только для защиты того, что исключает нас из союза людей, а не того, что нас вводит в этот союз и делает нас живыми членами одного Богом правимого и Богом просвещаемого человечества. Иисус Христос принес человечеству мир; в Своей предкрестной молитве Он молил Своего Отца небесного об одном: да ecu едино будутъ: яко же Ты, Отче, во Мне и Азъ въ Тебе, да и ти въ насъ едино будутъ (Ин. 17, 21). Итак, единство всего человечества, полное, безусловное единство его под одним Богом, в одной вере, в одной мысли, под одним законом, в одном благе, в одном совершенстве — такова высочайшая цель, указанная человеческому роду его Искупителем. Между тем история этого же рода показывает, как часто люди религию Христову, религию мира и примирения, религию жертвующей и всепокрывающей любви обращали в источник нового разделения и новой взаимной вражды. Что значит это? Откуда эта вражда в царстве мира? Откуда эти плевелы среди пшеницы? Злой дух сеял и сеет их на полях сердец человеческих; самолюбие, своекорыстие, мелочные страсти делают человека недостойным служителем Христовой истины и расторгают тот мир между людьми, который должен бы необходимо рождаться между ними из живой веры в Бога и из всецелой преданности в Его волю. Церковь Христова молится о мире всего мира и о всецелом умиротворении человеческого рода во Христе Иисусе, и действительно, мы видим, что необходимо особенное содействие Божие, чтобы человечество, разрозненное, распавшееся, волнуемое враждебными и противоречащими друг другу интересами, достигло мира, единства и стало одним семейством Отца небесного.
Все наши поступки, все наше поведение с ближними должны быть управляемы верою, что Иисус Христос призвал весь человеческий род к единству под единым Богом. Кто перевел эту веру из простой мысли в живое содержание своего духа, из головы в сердце, тот во всяком человеке встретит своего, близкого, знакомого, родного, брата. Несогласия и столкновения с людьми, неизбежные в жизни, не погасят в нем ощущения этого духовного родства людей, следовательно, не погасят в нем правды и любви, которые представляют общие и общегодные основания для водворения между людьми мира и братского общения. В этом нравственном состоянии человек уничтожает резкое расстояние между собою и своими ближними, уважает человеческое достоинство во всяком лице, уважает чужие права и исполняет свои обязанно сти, делается способным жертвовать, прощать и пикры иать чужие слабости любовию во имя Христово и таким образом вносить мир и единство в сердца и во взаимные отношения людей при каждой встрече с ними, — вносить словом, примером, искренним советом, бескорыстной услугой, как и вообще тем нравственным влиянием, которое скорее можно испытать и чувствовать внутренно, нежели замечать, как внешний поступок. Блажени миротворцы, потому что и для этого, по–видимому легкого, подвига требуется упорная борьба с самолюбием, торжество над страстями, свободное послушание совести, особенно же — деятельная любовь ко Христу и полная преданность в Его волю.
Язык физиологов и психологов
В настоящее время физиология имеет очень заметное влияние на ход и характер общего образования и довольно сильно определяет наши ежедневные суждения о жизни, ее явлениях и условиях. Говорят, например, о физиологии общества, о физиологии известного литературного или политического кружка, о физиологии нравов. Этим предполагается, что физиологические понятия, благодаря современному развитию этой науки, получили значение категорий очевидных и простых, — категорий, которые осмысляют для нас пестрые явления жизни. Соответственно этому, каждый образованный человек чувствует ныне потребность знакомиться по крайней мере с главнейшими основаниями и общими выводами физиологии. Образование, которое доставляет человеку возможность толковать на досуге, в обществе снисходительных друзей, об истории, литературе, политике, о народностях, —-это образование, обогащающее нас общими местами из различных наук, признается уже недостаточным: оно хорошо для наполнения наших досугов легкою и приятною болтовней, но оно не годится для жизни. По мере того как цивилизация вносит в наши ежедневные отношения порядок, правильность и смысл, по мере того как простор жизни непосредственной, не рассчитывающей, движущейся наудачу стесняется, по мере того как потребность ясно сознанного плана в жизни и деятельности чувствуется настойчивее и настойчивее, каждый образованный человек приходит к убеждению, что нужно прежде всего изучить свои естественные потребности, нужно изучить самые первые заповеди, которые предписала нам природа в устройстве нашего телесного организма и нарушение которых наказывается страданиями п безнравственностью. Здравый смысл древних греков высказался в убеждении, что для достижения всего лучшего человек должен приобресть ясное познание о самом себе, о своих силах, талантах и слабостях. Только, сообразно с идеальным строем Всего греческого образования, требование самопознания выразилось в греческой науке исследованиями о предметах, непосредственно касающихся человеческой воли, человеческого характера, его достоинств и отношений. Что такое добродетель, добро, что такое справедливость, счастье, красота, дружба, — вот ближайшие предметы, входившие в круг самопознания. Само собою видно, что если б эти и другие понятия, в которых даны нам идеалы лучшего человеческого существования, мы выяснили себе до степени математической очевидности, то все еще жизнь поставляла бы тяжеловесный вопрос о средствах и условиях, которые необходимы для осуществления этих идеалов. Итак, нужно еще знать эти условия и средства. Не всегда, конечно, существуют они на поверхности человеческого сознания, так чтоб их можно было видеть сразу и без труда и пользоваться ими по первому вызову обстоятельств; часто приходится искать их не в человеке, а в его природе, не в его сознательной сфере, а в его телесной организации. Фальшивые тоны в характере человека, страстность, неспособность владеть собою или хладнокровие, простирающееся до тупости и полного отсутствия энергии, мягкость и доброта, доходящая до низкой уклончивости перед требованиями долга, или грубость и жесткость, неспособная входить в положение другого, трусость городского жителя и глупая отвага полудиких племен, — все это явления, которых естественные или привитые зародыши очень часто скрываются в телесной организации и в ее историческом воспитании и перевоспитании. Люди не без смысла говорят о благородной крови, о наследственных достоинствах и слабостях, об изжившихся поколениях, говорят о детях, в жилах которых перестала течь кровь отцов их: телесный организм имеет историю; под влиянием благоприятных или дурных обстоятельств он изменяется, образуется и преобразуется с течением поколений, хотя справедливо, что его история не имеет таких широких размеров, как история жизни душевной; она более лоходит на ручей, который принимает различные направления и в своем течении то делается богаче водою, то высыхает, тогда как история человеческого духа есть море, разливающееся и бросающее свои волны во всех направлениях. Дикие народы, которые стояли на низшей степени образования, всегда чувствонали сильную зависимость человека, его духа, его пилидии и всего, что в нем дурно или хорошо, от его телесного устройства, от того, что в самом человеке еще не есть человек; они предполагали, что в самом же человеке действуют очень часто другие, также личные, добрые или дурные существа; они убеждались, что жизнь человека и его состояние определены судьбою, то есть необходимостию без основания и без правила. Эту необходимость без основания и без правила естественные науки превратили в систему общих и понятных законов. Физиология в особенности развивает многозначительное для воспитания лиц и народов убеждение, что и в области телесной жизни человеческое искусство, которое на практике оказывается тожественным с свободою человека, может сделать многое, что и здесь оно может пользоваться общими законами природы для достижения личных, свободно поставляемых целей человеческой жизни. Раскрывая перед нами то, что сделала из человека природа, а не личный произвол, физиология даст нам средства пользоваться делом природы для успеха наших человеческих дел, для исполнения наших сознательных планов и намерений. Как художник для воспроизведения на полотне изящного образа принимается за средства вовсе не изящные и отдается работе чисто механической, так человек, занятый вопросами общего образования, стремящийся дать смысл и правильность своему душевному развитию, чувствует необходимость изучать общие законы человеческого тела, знакомиться с теми средствами и препятствиями к своему развитию, которые находятся уже в его телесном устройстве. Физиология, наука о жизни, делается для него потребностию жизни; он будет изучать ее если не в качестве специалиста, то по нуждам человека.
Льюис говорит: «Нет научного вопроса, который бы для человека был важнее вопроса об его жизни. Нет знания, на необходимость которого чаще указывали бы ежедневные случайности, как знание процессов, в силу которых мы живем и действуем. Человек постоянно подвергается опасности преступить законы, нарушение которых может повлечь за собою целые годы страданий, может быть причиною утраты сил, преждевременной смерти. Люди, проповедующие гигиенические реформы, проповедуют в пустыне, потому что они обращаются к публике, которая не понимает законов жизни, законов настолько же точных, как и законы тяготения или движения. Даже печальный опыт наших ближних не может послужить нам уроком, если мы не будем понимать начал, лежащих в основании его. Если один человек страдает от действия испорченного воздуха, то другой выносит этот воздух без видимого вреда для себя, а третий заключает из этого, что все это — дело случая, и совершенно полагается на эту случайность; но если б он понимал начала, на которых основана эта случайность, то он не предавался бы на волю судьбы, и его первая попытка плавать не окончилась бы кораблекрушением».
Но освободить человека от власти случайностей, принудить или научить его не отдаваться на «волю судьбы наука сумеет только при двух условиях: во–первых, когда она сама сделается независимою от владычества случайностей и, во–вторых, когда она перестанет составлять привилегию меньшинства. Первое условие требует от нее основательности и научной истины, второе — популярного, общепонятного изложения. Первое зависит от солидной учености, второе — от искусства, которое вообще служит естественным посредником между жизнию и наукою. Только при помощи искусства излагать науку просто и ясно, передавать другим ее выводы на языке общепонятном высшая зрелость отдельных умов становится общим достоянием.
Само собою попятно, что соединение этих условий и требований в одном лице дело нелегкое; у нас иной литератор объявляет в слух всего грамотного мира, что он поставил задачею своей жизни популяризовать науку, и действительно он популяризует ее, но уже так, что делает ее пошлою, наполняет ее болтовнёю, которая, пожалуй, может прогонять скуку, только не невежество. Вместо того чтобы поднимать грубый, неразвитый смысл до определенных и правильно развитых представлений науки, такой популярный ученый вносит в самую науку представления, которые оказываются грубыми и глупыми даже для целей обиходной, уличной жизни. Популярность в изложении науки есть искусство, которое приобрести нелегко, есть талант, развитие которого не обходится без труда и умственных усилий. В этом отношении мы с особенным удовольствием указываем нашим читателям на «Физиологию» Льюиса, в которой так хорошо примиряется общедоступное изложение с научным достоинством. Эта «Физиология» есть сочинение, как говорит ее автор, «действительно приноровленное к понятиям людей, имеющих только общее образование», и в то жо время она представляет живой интерес для ученого физиолога и психолога. «Я думал, — говорит Льюис, — что было бы нечестно каким бы то ни было путем способствовать к распространению ошибок, после того как сам усердно трудился для того, чтобы добиться истины. Все, к чему я считал себя обязанным, — это изложить беспристрастно и факты и мнения, распространенные между физиологами, и, когда мне казалось, что эти мнения не могут быть приняты, показать причины, на основании которых они должны быть отвергнуты. Поэтому критика играет значительную роль в моей книге, и в ней есть много оригинального».
В самом деле, два тома «Физиологии» Льюиса заключают в себе много оригинального. Выводы, к которым приходит Льюис, часто решительно противоречат воззрениям лучших современных физиологов. Кроме. знатока физиологии, мы видим в нем мыслителя, который хочет оправдывать свои положения из начал общих, ил и философских. Наконец, особенно много изъяснений, предположений, задач и вопросов предлагает он для психолога. Почти весь второй том его сочинения занимается исследованием физиологических явлений в их ближайшей связи с явлениями и состояниями душевной жизни. Чтоб убедиться в этом, стоит только взглянуть на оглавления различных частей этого тома. Вот они: Мышление и чувствование. — Мозг и умственная деятельность. — Наши чувства и ощущения. — Сон и сны. — Свойства, переходящие от родителей к детям. — Жизнь и смерть. В нашем критическом обозрении мы будем касаться главным образом психологического содержания льюисовой «Физиологии». Вопросы о душе, ее изменениях и состояниях, также вопросы об отношении душевных явлений к телесному организму и к его различным частям слишком тесно связаны с многочисленными вопросами о нашем существовании и нашей цивилизации, и, может быть, вследствие этого они поднимают целый ряд страстей и предубеждений, которые очень часто не дают места спокойному и терпеливому изучению законов душевной жизни. Скажите иному ученому пошлое и невинное положение, что душа существует; он отскочит от вас, как от зачумленного. Скажите ему такое же пошлое и ничего не значащее положение, что человек есть живой организм, чувствительный механизм или что‑нибудь в этом роде; он почтит вас именами, каковы: светило науки, представитель современной мысли и т. п. Очевидно, что то и другое положение может быть глупым или может иметь свой добрый смысл смотря по тому, кто, как и почему высказывает его: как вещи в природе, так наши мысли в голове получают свое значение, свой вес только из отношений. Этим они отличаются от предрассудков, от веры, от лозунга партий. Партия, например, справляется только о том, что вы думаете, а наука — о том, что и как вы думаете; там рассматриваются ваши мысли как форма ваших желаний или тенденций, а здесь — как знание и понимание дела. Вопросы о душе, вопросы, которых медленное разъяснение в области науки не удовлетворяет людей много желающих и мало думающих, сделались в нашей современной литературе знаменем, по которому каждая партия с глупою легкостию узнает своих и открывает противников. При таком положении науки самый ясный и отчетливый ученый рискует быть непонятым или перетолкованным. За примерами ходить недалеко. Льюис, которого мы намерены изучать, уже испытал эту судьбу в нашей литературе, уже переродился на невозделанной почве русской журналистики: партия, ученая или неученая, успела приурочить его к своему знамени. Дело, как догадывается читатель, состоит в следующем.
Во второй книжке «Современника» за текущий год г. Антонович поместил рецензию на «Физиологию» Льюиса, рецензию, которая имеет своею целью оправдать давно явившиеся в свет и, может быть, уже забытые публикою статьи г. Чернышевского об антропологическом принципе в философии. Когда я написал критические замечания на эти статьи, г. Чернышевский отвечал только некоторыми нелестными для меня прозвищами да еще указаниями на свои добрые желания или на свое направление, что, как я показал выше, совершенно сообразно с духом партий, уважающих вообще не знание, а намерения; поэтому я думаю, что ученое оправдание воззрений г. Чернышевского было бы делом очень нелишним. Может быть, и его теория имеет средства осмыслить себя, средства, которые доселе остаются неизвестными ее противникам. Но, во всяком случае, рецензия чужой книги, написанная с такою частного, а не общенаучною целию, может быть встречена предубеждением и недоверием. Понятно, что где идет дело о защите дорогой личности от тяжелых упреков, там не только Льюис и его «Физиология», там все силы мира должны служить нам, поэтому люди всегда смотрят подозрительно на те случаи, когда мы приурочиваем свой маленький интерес к общему делу. В статье г. Антоновича является мое имя, и является с теми же прозвищами, которые уже известны публике из бойких статей г. Чернышевского; мы находим в ней тот же тщательно составленный разрядный список философов, с их разделением на старых и новых. Г. Антонович объявляет теперь ученому миру домашнюю тайну редакции «Современника»: «Русский вестник» и Юркевич давно уже отнесены к разряду старых философов. «Мы, — откровенничает г. Антонович, —отнесли их обоих к старому типу, не называя их, впрочем, по именам». Да, я не был так счастлив, как г. Лавров, который при невыгодной отметке идеалист попал, однако же, в первый разряд. «Мы, —говорит г. Антонович, — причислили его, однако, не к старым, а к новым философам». Я мог бы жаловаться на некоторые несправедливости ко мне со стороны начальства редакции «Современника», потому что как прежде г. Чернышевский сделал спои заключения обо мне, не читая моих статей, так теперь г. Антонович не хочет справляться, верна ли моя философия или нет. Он говорит: «Прав ли г. Юркевич, верна ли или нет его философия, об этом мы не скажем ни слова» — и, однако же, определяет, что я знаю «одни только семинарские тетрадки», и ставит меня в список «каббалистов». Видимо, тут присутствует какой‑то особенный порядок, о смысле которого нельзя догадаться. Может быть, этот порядок и хорош. Может быть, надобно приучить публику к вере в суждения «Современника», приучить ее к скромности и послушанию. В настоящее время даже молодые люди стали как‑то слишком критически заглядывать в литературные мистерии, стали доискиваться в них смысла. Это, по справедливому замечанию г. Антоновича, противники «Современника». «Во всех случаях, — говорит о них г. Антонович, — прежде всякого другого действия они справляются с «Современником», чтобы непременно стать в оппозицию с ним», «кажется, — продолжает свои жалобы г. Антонович на современное вольнодумство, — они и читают „Современник"собственно для того только, нельзя ли найти в нем каких‑либо погрешностей или промахов, а все другие книги читают с единственною цели о отыскать в них что‑нибудь такое, чем бы можно было уколоть и задеть „Современник"». Заметим для политы того печального образа, что под этими противни ками г. Антонович разумеет не «Отечественные мни ски», не «Русский вестник», нет, он говорит прием» о «многих»; зло, следовательно, пошло дальше отдельных редакций. Да, ваша правда, г. Антонович, мы живем в критическое, в дурное время: люди везде подмечают «погрешности и промахи», как вы основательно жалуетесь. В «Современнике» особенно отыскивают они много погрешностей и промахов, но это делают они уже без всякой особенной причины.
Из неопределенного множества противников «Соврёменника» г. Антонович выделяет «Отечественные записки» и «Русский вестник», чтобы сказать им, в частности, горькое слово правды, вечные законы которой они попрали. В «Отечественных записках» когда‑то было совершенно случайно приведено коротенькое место из «Физиологии» Льюиса, место, говорившее против г. Чернышевского и, по–видимому, доказывавшее, что я знаю не одни семинарские тетрадки. В «Русском вестнике» было сказано несколько слов в оправдание этой цитаты. Публика наша не дозрела до того, чтобы взвесить всю тяжесть вины, заключающейся в указании этих журналов на коротенький текст льюисовой «Физиологии»: да, я утверждаю, что она еще не дозрела до этого. Припомните же вы, как сказал бы г. Чернышевский на моем месте, вы, милые мои, вы, тупоумные, дрянные пошляки, — повторяй), так взываю к вам не я, а взывает так г. Чернышевский на моем месте, — припомните же, как жестоко некогда наказал Зевс–громовержец Прометея за то, что этот дерзкий похитил маленькую искру небесного огня и отдал ее простому смертному, припомните это, и вы, может быть, поймете, сколько дерзости совершили те журналы, похитив бессмертную искру льюисовой мысли и отдав ее не г. Чернышевскому, а простому смертному, каков Юркевич. Г. Антонович и гневается, и плачет за Льюиса. Противники «Современника» уронили честь Льюиса, заставили усомниться в его достоинствах как физиолога, записали его в ученики Юркевичу… «Мы, — возглашает г. Антонович, — считаем своею обязанностию защитить Льюиса от нареканий, бросающих тень на его физиологическую репутацию, и смело говорим, что противники «Современника» наклеветали на почтенного ученого, утверждая, что он может служить подпоркою философии г. Юркевича».
Я заявляю читателям эти высокие стремления г. Антоновича с неподдельною радостию, заявляю как патриот, которому дорога честь его великого отечества. Если английская образованная публика узнает, как много значит у нас Льюис, как высоко, безмерно высоко ставим мы его имя, как дорожим мы его понятиями, как тщательно предохраняем мы их от ложных толкований, если все это она узнает, тогда — в этом нельзя сомневаться—она перестанет называть нас скифами, полудиким племенем Европы. «Да, — скажет мистер Бэкль, вдумываясь в это явление, — я правду сказал: исторические роли народов переменяются. Было время, когда дикие сыны Аравии лучше понимали, выше ценили и глубже уважали Аристотеля, нежели Европа, наследовавшая всю цивилизацию древнего мира».
Убедив других или, может быть, только самого себя, что взгляды Льюиса на жизнь и ее условия согласны с философией «Современника», г. Антонович заключает: «После этого, подумайте сами, любезные читатели, какими комплиментами мы могли бы угостить противников «Современника», как удобно могли бы поглумиться над их ученою проницательностию и каким свистом могли бы проводить все их разглагольствования о Льюисе и г. Юркевиче—и имели бы на это полное право. Но… невольно возбуждается какая‑то жалость к противникам, когда видишь их совершенное бессилие и безответность и сознаешь на своей стороне все превосходство силы и всю правоту своего дела».
Может быть, читатели и не подумав, а так, сразу, согласятся с вами, г. Антонович, что вы особенно могли бы поглумиться и посвистать. Этими способностями вы обладаете несомненно. Но внимательный читатель может призадуматься и прийти в удивление, замечая, как широка духовная натура этого самоновейшего философа. В то время как его душа кипит гневом иа противников «Современника», во время душевной бури, грозящей разрушением, среди этой самой бури негодования возбуждается в той же самой душе тихая «какая‑то жалость». Как это возможно? — спрашивает призадумавшийся читатель. Как возможно соединение в одной и той же душе в одно и то же время таких противоположностей, как громы. гнева и мелодия жалости, как черная туча негодования и светлый луч мягкосердечия? Одно из двух: или такое существо, способное молчать в то именно время, когда оно же само говорит, способное оставаться на одном и том же месте в то именно время, когда оно же само ходит, есть редкий психологи ческий экземпляр, или г. Анононич напустил на себя и этот гнев, и эту жалость.
После этого общего обзора душевных настроений, с какими г. Антонович подверг рецензии «Физиологию» Льюиса, я позволю себе войти в разбор этой, может быть замечательной, рецензии. Если уже раз судьба связала меня с Льюисом, если Льюис стал невинным поводом к тому, что г. Антонович еще раз повторил те суждения и отзывы обо мне, какие сделал г. Чернышевский, и повторил будто бы с указанием ученых оснований, то я считаю себя вправе отвечать г. Антоновичу, тем более что г. Антонович говорит о безответности противников «Современника» и этим как бы сам вызывает на объяснения. Конечно, моя муза не умеет ни петь, ни смеяться, ни ликовать, это недостаток ее; зато она будет рассказывать или докладывать.
Во–первых, как удостовериться, что Льюис разрабатывает науку в том же направлении, какому следует философия «Современника»? «Об убеждениях ученого, — отвечает г. Антонович, — надобно судить не по отдельным фразам или отрывкам, но по самой сущности, по всему строю его воззрений». Итак, нужно узнать самую сущность, весь строй льюисовых воззрений. Это требование очень разумно. Но при этом дознании нужно, как думает г. Антонович, брать во внимание еще одно очень важное обстоятельство. «Англичане, — говорит он, — народ церемонный и этикетный до щепетильности; они свято уважают то, что принято, благоговеют перед мнениями, освященными стариною, с трудом отказываются от укоренившихся преданий и обычаев, хоть бы в них все было основано на предрассудке». Так как эта жалкая особенность английского характера существует и у Льюиса, то нужно в нем хорошо различать то, что он говорит из церемонности, этикетности, щепетильности, что он утверждает из уважения к предрассудкам толпы, от всего того, что он принимает как ученый знаток физиологии. Так как, повторяем, Льюис имеет эти недостатки английского характера, то — замечает г. Антонович — «и у Льюиса встречаются двусмысленные фразы, которые могут дать повод думать, будто бы он сходится хоть бы, например, с Юркевичем». Жаль, что ученые переводчики не обозначили этих двусмысленных фраз, которые поставляют английского физиолога в невыгодное для него соседство со мною и мешают ему стать поближе к философии «Современника», Естественно было ожидать, по началам ученой добросовестности, что сам г. Антонович укажет нам, что в «Физиологии» Льюиса написано церемонным, связанным предрассудками англичанином и что он предлагает нам как свое научное убеждение. Так как г. Антонович счел за лучшее не делать этих указаний, то ясные правила, которые он поставил для руководства при оценке «Физиологии» Льюиса, не только оказываются бесполезными, но они еще могут оправдывать самый неосновательный произвол в толковании Льюиса. Например, Льюис говорит: «Чтобы мы когда‑нибудь проникли тайну души, это очень невероятно…» (Т. II. 73); «Что такое мысль — этого мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем…» (Т. II. 65); «Очень вероятно, что животные не способны думать последовательно о чем‑нибудь, не связанном с непосредственно действующими на них впечатлениями» (Т. II. 77). Или, например, Льюис допускает «коренное различие» между химией, физиологией и психологией. Ссылаясь на пустые правила, о которых мы уже -онорили, г. Антонович может сказать: «Понимаем, Сэр, вы англичанин, вы церемонитесь и щадите предрассудки толпы. «Современник» доказал в статьях об антропологическом принципе в философии, что только тупые головы находят таинственное и непонятное в душевных явлениях; он доказал, что задачи психологии решает физиология, которая за то отдает свои задачи химии; он доказал, что собака, например, убегает при виде поднятой палки вследствие совершенно отвлеченных, построенных в формальный силлогизм соображений. Ваши выражения, сэр, приведенные выше, двусмысленны, что бы там ни говорили противники «Современника» — ваши клеветники тож — об их ясности. Если посмотреть на самую сущность ваших воззрений, то они сходятся с философией «Современника», частные положения которой вы, сэр, только что имели случай выслушать и оценить». И таким образом каждый Антонович может в «Физиологии» Льюиса находить только то, что он пожелает найти или что будет согласно с философией «Современника». Остается, следовательно, бросить все правила и положиться на личную ученость рецензента, на его личное знание физиологии вообще и понимание «Физиологии» Льюиса в частности. Опыты сейчас научат нас, как надобно думать о степени умственного развития и учености г. Антоновича, «Психология, —говорит Льюис, — наука о душе, физиология— наука о жизни. Все признающие психологию наукой признают также, что задача ее состоит в разъяснении законов мышления, сущности души и ее свойств. Эта наука может — я следую мнению тех, которые думают, что она должна, — искать средств (т. е. пособий) исследования в физиологических законах, так же точно, как и наша физиология ищет помощи у химии; но результаты, добытые ею как независимою ветвью знания, не могут быть подводимы под основные правила физиологии: о годности или негодности их нельзя заключать по тому, подходят ли они под физиологические законы или противоречат им» (Т. II. 2).
Я спрашиваю читателя, ясен ли этот текст и нуждается ли он в пояснении? Лично мне кажется, что он прост, ясен, прозрачен насквозь. Г. Антонович почему‑то находит необходимым «разъяснить» его. «Понятия Льюиса, — говорит он, — об отношении между физиологией и психологией можно лучше разъяснить себе представлением того отношения, какое существует, например, между акустикой, учением о звуке, и между музыкой, учением о мелодии и гармонии. Акустика изучает отдельные звуки и тоны (sic), так сказать, элементы музыки, а сама музыка изучает разнообразные сочетания их, указывает и разъясняет порядок, в котором должны следовать, и те законы, по которым должны соединяться отдельные звуки, чтоб из них oбpaзoвaлaςь приятная для слуха мелодия и гармония. Так точно физиология изучает первичные психические акты, так сказать, основные элементы, а сочетание их, например ассоциация представлений, действие отвлечения и умозаключения, принадлежит уже психологии».
Акустика названа наукой об отдельных звуках и тонах, музыка—наукою о сочетаниях этих тонов. Сообразно с этим сравнением простые положения Льюиса, что психология — наука о душе, физиология — наука о жизни, мы вынуждены изменить таким образом: физиология есть наука об отдельных явлениях жизни, как акустика— наука об отдельных звуках; психология же есть наука о сочетаниях этих явлений жизни, как музыка — учение о сочетаниях тонов. Таким образом, «разъяснение» г. Антоновича приближает Льюиса на один шаг к философии «Современника» и вместе взваливает на Льюиса одну очень крупную глупость. Психология будет, по Льюису, наукою о сочетаниях отдельных явлений жизни, о сочетаниях соков б лимфу и кровь (это мелодия и гармония), хрящей — в кости, тканей — в органы. Или мы делаем натяжки? Или сравнение не ведет к этим нелепостям? Музыка занимается сочетанием того содержания, которое по частям изучает акустика. Психология занимается сочетанием того содержания, которое по частям изучает физиология. Так или иначе?
В полном согласии с приведенным выше «разъяснением», г. Антонович утверждает решительным тоном: «Для Льюиса душа есть синоним жизни: в этом вся сущность и разгадка его воззрения». Как догадался г. Антонович, что таково именно воззрение Льюиса, он не открывает нам. Мы читали уже два раза, что по Льюису физиология есть наука о жизни, психология —· наука о душе. Теперь г. Антонович взваливает на нас обязанность еще раз перевести эти определения на следующий язык: физиология есть наука о жизни, психология— наука о синониме жизни. Очень понятно, почему г. Чернышевский отверг психологию и свел ее к физиологии. Умный человек не станет заниматься такою глупою наукой, какою оказывается психология на взгляд г. Антоновича.
Продолжая разъяснять тот же ясный текст Льюиса, г. Антонович говорит: «В человеке, кроме явлений органических или, как говорится, кроме животной жизни, мы замечаем еще особые психические явления, отличные от первых».
— Чем вы занимаетесь, м. г.? — спрашивает меня г. Антонович.
— Изучаю явления органические, — отвечал я.
— А, понимаю, — подхватил г. Антонович, — явления органические или, как говорится, животную жизнь.
— Так точно, животную жизнь трав, растений, — прибавил я, видя, что г. Антонович, как деревянный божок сибирских тунгусов при жертвоприношении, не разбирает, что ни поднеси ему, связку ли мху, питательного для оленей, или кусок оленя, питательный для тунгуса.
Я боюсь, впрочем, не навязал ли я г. Антоновичу того, о чем он вовсе не говорил. Его мысль я надеюсь передать с особенною ясностию следующим образом: «В человеке, кроме изменения, нарастания и питания тканей или, как говорится, кроме чувства боли и удовольствия, кроме способности представлять и воображать, мы замечаем еще особые психические явления, отличные от норных».
Что здесь мы имеем дело не с погрешностью типографского станка, а с философией «Современника», на это существует убедительное доказательство. Льюис говорит: «Химики, разлагая органические вещества, при всех своих исследованиях ни разу не наткнулись на что‑либо, что можно было бы назвать исключительно органическим, то есть на что‑нибудь составленное из элементов, не встречающихся в телах неорганических. Никто никогда не находил, чтоб элементы органических тел по разъединении разнились от элементов тел неорганических; из этого было выведено неизбежное заключение, что так как тела органические отличаются от неорганических не своими составными элементами, но только расположением и сочетанием этих элементов, то явления исключительно свойственные телам органическим должны зависеть от этих особенностей в расположении» (Т. 11.345).
Г. Антонович переписал весь этот текст; надобно думать, что он понял, о чем говорит этот текст. Говорит он о различии между телами неорганическими и органическими, утверждает, что те же элементы неорганические, вступая в особенные сочетания, дают тело органическое. Или не об этом говорит текст, который привели мы? Итак, как сказал я, г. Антонович переписывает весь этот текст, потом, намекая иронически на одно мое выражение в статье против г. Чернышевского, восклицает: «Что за мифология такая? одни и те же качества, одни и те же элементы обнаруживают такие резко различные явления, как неорганические и животные!»
Так видите ли, как г. Антонович примиряет Льюиса с философией «Современника»: прием его очень незатейлив. Льюис говорит:
— Органическое тело отличается от неорганического только особенным сочетанием и расположением тех же неорганических элементов.
— Точно так, — спешит высказаться г. Антонович, — именно так, вы, сэр, сказали правду: животная жизнь, то есть ощущение, представление, воображение, память, — все отличается от неорганических тел только особенным сочетанием и расположением тех же самых неорганических элементов.
— Но я говорю, — возражает Льюис, несколько сконфуженный, — я говорю об органических явлениях, то есть о растительных клеточках и тканях. Видите ли: химики находят в организмах соли, металлы, минералы и все такое неорганическое. Я вам сказал, что физиология есть наука о жизни, а психология — наука о душе. Я поставил самые ясные признаки органических явлений: это питание, рост, размножение (Т. II. 355). А слагать из солей воображение, память…
— Не беспокойтесь повторять, сэр, — отвечает г. Антонович, видимо, чувствующий на душе что‑то праздничное, — я вас совершенно понял: органические явления или, как говорят, животная жизнь, то есть ощущение боли и радости, понимание, фантазия, гнев, подлость, — все эти явления слагаются из тех же самых элементов, из каких и тела неорганические; только неорганические элементы, например, соли, металлы и проч., вступают в этом случае в особенное сочетание, принимают особенный порядок и расположение. Не так ли, сэр?
Итак, сомневаться нечего. Каковы бы ни были понятия г. Антоновича, они представляют замечательное единство: одно другим поддерживается, оправдывается и объясняется. Они оказываются частями одного целостного воззрении. Притом он так сжился с ними, что серьезно воображает их и у Льюиса.
В моей статье «Из науки о человеческом духе» я доказывал, что учение г. Чернышевского о непосредственном, безусловном превращении количественных отношений в качественные, величин в содержание есть мифология на почве естествознания. Я показал, каким образом философские анализы Локка, Юма и Канта сообщили математическую очевидность положению, что это превращение количественных отношений в качественны возможно только под условием зрителя и в среде зрителя; иначе, прибавлял я, природа творила бы нечто из ничего. Г. Антонович уверяет теперь, что сам я превратил в этом случае количество в качество «только посредством фокуса». С этим можно согласиться, если все, чего г. Антонович не понимает, есть фокус, а между тем я показал, что этот фокус принадлежит Локку, Юму, Канту и всей европейской философии. «Льюис, — прибавляет г. Антонович, — рассуждает об этих вещах иначе». Как же именно? Г. Антонович приводит текст, который мы уже читали, текст, который говорит единственно об элементарном сходстве тел неорганических и органических; г. Антонович воображает находить в этом тексте опровержение будто бы выдуманного мною «фокуса» и, как мы уже слышали, восклицает иронически: «Какая мифология!»
Между тем я подозреваю, что физиолог Льюис очень хорошо знаком с философским значением мысли, которую г. Антонович называет моим «фокусом». Факт, ни котором основал г. Чернышевский свою веру в непосредственное превращение количеств в качества, был следующий: вода при разных обстоятельствах бывает льдом, жидкостью и паром; «в этих состояниях одно качество принимает форму трех качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие. Г. Антонович повторяет в своей рецензии этот текст и оправдывает его тем способом, на который мы только что указали. Льюис, на которого г. Антонович ссылался для изобличения меня в искусстве изобретать фокусы, говорит: «Малообразованному слушателю показалось бы нелепостью (фокусом), если бы ему сказали, что пальцы не осязают того предмета, к которому они прикасаются. Только психолог может понять, что жар находится не в огне, твердость— не в камне, звук — не в ударе грома» (Т. II. 251, 252). Итак, видите, г. Антонович, где, по взгляду Льюиса, подлинное место этих качеств. Только «малообразованному зрителю» кажется, что эти качества существуют в самих вещах. Только вам, г. Чернышевскому и вообще людям «малообразованным» кажется, что вода так‑таки в своем подлинном элементе (как вещь в себе, по Канту) превращается в лед, в жидкость, в пар. Льюис говорит вам, что твердость и холод существуют не в глыбе льда, прозрачность —- не в жидкости, темнота — не в парах, что, следовательно, вода приняла эти качества только в среде зрителя, а не в своем подлинном элементе.
Г. Антонович приводит текст Льюиса (Т. II. 349), говорящий о зависимости целостной жизни организма от самостоятельной жизни органических клеточек, находит в этом ясном тексте опровержение мысли, которую он назвал фокусом, и оканчивает следующею торжествующею иронией: «Вы с ума сошли, мистер Льюис — должны сказать после этого противники — «Современника», — вы стараетесь связать жизнь с явлениями неорганического мира (клеточки г. Антонович относит к неорганическому миру, как этого можно было ожидать уже после того, что мы нашли у него выше), рассматриваете только чувствующий организм и забываете зрителя и деятеля, которого указывает вам ваш учитель, г. Юркёвич».
И таким образом г. Антонович, желая изобличить мгия и вымыслах, в мифологии, каждый раз обращается в того мифологического героя, который, по сказанию древних греков, при каждой попытке поймать богиню обнимал облако, с тою только разницею, что г. Антонович, стараясь поймать Льюиса, каждый раз обнимает своего друга г. Чернышевского. Мы видели, что Льюис не забывает зрителя, что он принимает за истину фокус, открытый в моих понятиях г. Антоновичем. Весь мир качеств он объясняет не из количественных отношений, но… как вам кажется, г. Антонович, из чего этот физиолог объясняет мир качеств? Вы изучили Льюиса, вы так хорошо поняли его, поняли самую «сущность» его воззрений, скажите же, из чего он объясняет мир качеств? «Малообразованному зрителю покажется это нелепостию» или фокусом. Итак, я не буду пока говорить об этом.
Я распространился о понятии изменения или превращения количеств н качества не потому, что г. Антонович относит меня, «Отечественные записки», «Русский вестник» к фокусникам и чувствует себя особенно торжествующим над противниками «Современника» в этом важном вопросе, — нет, рецензия г. Антоновича уничтожает целиком всю европейскую философию и ее лучшее содержание, а Льюису приписывает тот грубый, необразованный смысл, который слагается из сырого материала разных представлений, происшедших без нашего ведома, без нашего анализа, и который пробавляется наивною верой в вещи и в способность вещей переменять свои качества.
«Читатели, — говорит г. Антонович после изъяснений, которые привели мы выше, — вероятно, уже начинают убеждаться в том, что между Льюисом и г. Юрке–вичем лежит непроходимая бездна, что бы там ни толковали противники „Современника"».
В борьбе с этими противниками г. Антонович опирается на особенное, для меня совершенно новое логическое начало. Как мы уже не раз видели, Льюис находит «коренное различие» между химией, физиологией и психологией. Раскрыв свою мысль об этом предмете с совершенною ясностию, Льюис заключает: «Если читатель согласится с тем, что сказано, то для него должно бытѵ ясно, что все трудолюбивые усилия последних лет, относящиеся к важному вопросу о пище, остались бесплодны или около того, потому что это, собственно, бы ли только химические рассуждения о физиологии» (Т. I. 51).
Переписав текст Льюиса, говорящий «о коренном различии» между химией, физиологией и психологией, г. Антонович продолжает: «На этот отрывок противники «Современника» указывали с торжеством… Не знаем, как вы, читатели, а мы не находим тут никакого подтверждения воззрениям г. Юркевича. Действительно, о самостоятельности психологии сказано, но из всех рассуждений о самостоятельности разных наук у Льюиса в результате выходит не внутреннее чувство, не чудный деятель (см., однако же, выше), а просто только заключение, что достоинство пищи нельзя определить химически. Противники «Современника», выписывая этот отрывок, должно быть, нарочно пропустили это заключение, чтобы скрыть от читателя смысл рассуждений Льюиса».
Эти замечания предполагают, что «смысл рассуждений» автора можно понять не из общих и постоянных начал, каких он держится, а из их частного и случайного применения, во–вторых, что общее начало оправдывает наше суждение только об одном частном случае. Если, например, из общего начала, что тяжесть тела зависит от его массы, Льюис извлекает заключение, что цвет не условливает тяжести, то г. Антонович не позволяет противникам «Современника» па основании того же начала признавать независимость тяжести тела от его фигуры. Из различия между химией и физиологией Льюис заключает о невозможности определять качества пищи химически. Из учения о «коренном различии» между физиологией и психологией, разделяемого Льюисом, противники «Современника» извлекли заключение о невозможности определять качества душевных явлений физиологически. Г. Антонович находит, что они таким образом скрыли «от читателя смысл рассуждений Льюиса». На логические начала в этом случае я указываю потому, что и в прежней статье подвергал я логику «Современника» специальному изучению. Если б я не боялся наскучить читателям, я показал бы, что г. Антонович воспроизводит здесь силлогизм г. Чернышевского, располагающийся по следующей формуле: «А тесно связано с X, А есть В; из этого следует, что X не может быть ни С, ни D; ни Е». Впрочем, еще надобно подождать, пока г. Антонович не изобличит меня в том, что я не понял высокого достоинства этой формулы.
Несправедливо и то, что Льюис из общих замечаний о различии между химией, физиологией и психологией извлек только замечание о невозможности определять качества пищи химически. Он пользуется этими замечаниями на пространстве двух томов своей «Физиологии»: «Дыхание не есть процесс чисто физический или химический, не есть простое горение или окисление», «пища не есть простое топливо», «животная теплота не есть следствие горения», далее, «существуют особенные законы жизни, которые не могут быть выведены ни из физики, ни из химии», наконец, «о годности или негодности психологических теорий нельзя заключать по тому, подходят ли они под физиологические законы или нет». Видите ли, какие заключения получает Льюис из учения о «коренном различии» названных наук. Заметьте особенно, что он признает независимость психологии от контроля физиологии. Льюис трезвый мыслитель: для него душа не есть синоним жизни. Ученый, который выряжается: «органические явления или, как говорят, жизнь животная» и пр., далек от Льюиса, от физиологии, от здравого смысла; он должен бы предоставить другим, хотя бы то и противникам «Современника», рассуждать о Льюисе, его «Физиологии» и его воззрениях.
«Г. Юркевич, —рассуждает тем не менее наш рецензент, —не может понять, как физиология осмеливается проникать в психическую сторону жизни. А между тем Льюис относит ощущения к предметам физиологии и в своей книге действительно рассматривает не только ощущения, но и другие психические акты». О себе я не стану говорить, могу ли я понять или нет, как физиология осмеливается объяснять ощущения. Но действительно, Льюис относит ощущения к предметам физиологии: в этом г. Антонович наконец не ошибся. Но тот же Льюис утверждает: «Никогда никакой анализ нерва не прольет света на чувствительность…» (Т. I. 49), «человек может знать непосредственно только свои собственные ощущения» (Т. II. 150), «чувствование есть нечто совершенно субъективное» (Т. II. 201). Странен этот Льюис, и очень странен: то относит ощущение к предметам физиологии, то утверждает, что оно дано только для внутреннего чувства и не дано для физиологического опыта. Может быть, и я писал против «Современника» подобные странности. Предоставляю г. Антоновичу логадаться я чем же тут дело.
А догадливость г. Антоновича выше всякого сомнения: догадливость всегда составляет результат солидного умственного труда, умственной практики, зрелой мысли. Например, Льюис в нескольких главах второго тома своей «Физиологии» доказывает, что в животном организме все действия произвольны. «Мы не признаем, — говорит он, — никакого существенного различия между действиями произвольными и непроизвольными. Все они произвольны». Г. Антонович сумел найти в «Физиологии» Льюиса учение, «что все психические действия непроизвольны» («Совр.» II. 235).
Когда г. Чернышевский изъяснял бегство собаки при виде поднятой палки из того, что собака строила отвлеченный силлогизм и убеждалась таким образом в необходимости бежать, я заметил, что подобные явления и в собаке, и в человеке изъясняются не из логического мышления, а из механического потока представлений и из рефлективных движений организма. В противоположность с физиологами, отделявшими группу рефлективных движений от группы движений произвольных, Льюис доказывает, что все движения в организме животного рефлективны. Доказательство этого положения, обобщающего закон рефлективных движений, тянется на расстоянии целых глав. «Мы, — говорит Льюис, — старались доказать, что как произвольные, так и непроизвольные действия рефлективны» (Т. II. 185). Г. Антонович, который знает всю сущность лыоисовых воззрений, сумел найти в физиологии Льюиса отрицание закона рефлективных движений: «Теория рефлекса не имеет основания, — говорит г. Антонович, воспроизводя в вольном стиле учение Льюиса, — и рефлективных действий нет» («Совр.» II. 244—245). Это воображаемое открытие доставило г. Антоновичу случай порадоваться за г. Чернышевского, которого я изобличал в незнании законов психического механизма и законов рефлективных движений.
«Убедитесь же теперь, — говорит г. Антонович, обращаясь ко мне, —что «ваш сочинитель» (разумеется г: Чернышевский) знал про эти открытия, но ему было известно, что эти открытия опять закрыты, что закон рефлективных движений потерял свое значение и отвергается физиологами».
Закон рефлективных движений, повторяю я, получает у Льюиса общее значение вместо частного, какое обыкновенно допускают физиологи. Этот закон изъясняет, по Льюису, не только движения, каковы: чиханье, рвота, судороги, кашель и подобные, но также движения, которым предшествует намерение. «Мы, — говорит Льюис, — старались доказать, что как произвольные, так и непроизвольные действия рефлективны» (Т. II. 185).
«Душа, — так излагает самую сущность своих воззрений Льюис в переводе г. Антоновича, — душа есть синоним жизни. Жизнь есть динамическое состояние организма. Жизнь есть продукт организации, а не организация продуктов жизни, как уверяет г. Юркевич (sic). Как ни различны группы жизненных явлений, но все они составляют продукт организации: вот ε чем вся суть, а там называйте себе явления какими угодно именами, хоть теми даже, какие употребляет Юркевич».
Юркевич, считаю долгом предупредить вас, г. Антонович, употребляет в этом случае имена, выражающие самую сущность дела, но неприятные, каковы, например: осязательное невежество, очень осязательное, или стоящее нис всякого сомнения незнание обиходных вещем п. физиологии, пли еще редкий дар природы при встрече с самыми простыми понятиями сбиваться, спутываться, теряться в нелепостях. Итак, не полагайтесь на Юркевича. Если об Юркевиче вы уже раз и навеки составили мнение, успокоивающее вас, то помните, по крайней мере, естественных противников «Современника». Эти противники бросаются на вас, чтоб употребить ваше излившееся из сердца выражение, «как голодные волки», бросаются, вероятно, воображая, что имеют дело с существом бессильным, немощным, неспособным противиться им. Вы знаете, милостивый государь, здешний земной, подлый порядок, вы знаете, что «у сильного всегда бессильный виноват». Поэтому или прячьтесь от ваших противников, или вооружайтесь на них, прячьтесь за фразы, декламации — в этих дурных местах никто вас и искать не станет, — вооружайтесь особенно глумлением и свистками. Только заклинаю вас всем, что дорого для вашего организма и его синонима — о душе говорить с вами я не смею, — заклинаю вас всем этим, не полагайтесь ни на Льюиса, ни на его «Физиологию». Это тяжелое оружие не годится для вашего тощего организма. Признайтесь — за естественные слабости краснеть нечего, — ведь вы не в силах вооружать себя здравым мышлением, действительным пониманием, знанием…
«Ну, — утешает себя г. Антонович, — — а при этом можно еще жить на свете» («Совр». II. 266).
— Как вы себя чувствуете? — спрашивает доктор больного.
— Плохо, — отвечает больной, — голова болит нестерпимо.
— В какой части?
— В передней.
— Это ничего, — успокоивает доктор, — это пройдет. Впрочем, какая боль, острая или тупая?
Больной молчит; он затрудняется обозначить качество боли.
— Чувствуете ли вы, — спрашивает доктор, желая помочь больному в самопознании, — что в голове будто стреляет, или просто чувствуете тяжесть, будто туда кто‑нибудь свинцу наложил?
— Давит, гнетет, тяжело, как свинец, — отвечает больной после непродолжительного внимания к своему душевному состоянию.
При этом доктор всматривается больному в глаза и находит, что они помутились: движение их медленно, вяло, тупо, они не имеют обыкновенного блеска.
— А больше ничего не чувствуете? — продолжает доктор.
— Ничего. Только какая‑то усталость. Ноги тяжелы, руки тяжелы, все тяжело. Да еще вот аппетита не имею.
Доктор посмотрел язык больного, пощупал пульс и исследовал кожу в разных местах тела. Язык оказался сухим, кожа также сухая, без испарины; удары пульса были неправильны.
В этой диагностике язык физиолога и психолога служил для одной и той же цели. Тот и другой язык выражал одно и то же состояние больного организма. Если бы наши ощущения были тоньше, определеннее и раздельнее, то можно бы развить психологическое учение о распознавании телесных болезней. Сухость кожи и языка, неправильное биение пульса, мутные глаза, — все эти состояния и их органические условия необходимо выражаются в соответствующих ощущениях, и по присутствию этих ощущений мы могли бы с достоверностью заключать о болезненном состоянии тех или других телесных органов. Внешнему наблюдению доктора открыты изменения только на поверхности живого тела; о болезни частей внутренних он вынужден делать догадки, предположения, всегда соединенные с опасности) ошибки. Ощущения тонкие, определенные, резко обозначающиеся руководили бы его лучше, нежели телесные данные. Язык психологов выражал бы ясно и вполне здоровые, и болезненные состояния телесного организма.
Если бы, напротив, доктор мог наблюдать живое тело так, как мы наблюдаем наши машины, если б он был в состоянии обозревать непосредственно каждую часть, каждый орган, все ткани и системы живого тела, тогда он не имел бы надобности справляться о душевных состояниях больного, о чувствах боли, острой или тупой, о чувствовании усталости, тяжести и т. д. он просто и непосредственно видел бы, какой телесный орган поврежден и как он задерживает и сбивает с правильной дороги движения и отправления остальных частей тела. В таком случае язык физиологов был бы лучшим и полным выражением здоровых или болезненных состоянии тела.
Им то, ни другое предположение не оправдывается в действительности. Ощущения паши, особенно те, которые происходят от различных состояний организма, каковы, например, чувство тупой или острой боли в голове, чувство усталости или тяжести, так неопределенны и слитны, являются они в таких разнообразных сочетаниях, что положиться на них при распознавании телесных болезней нет никакой возможности. С другой стороны, как ни далеко подвинулось в настоящее время физиологическое и анатомическое изучение тела, все же доктор может наблюдать в живом теле только наружные перемены, и по этим неполным данным он вынужден делать заключения о состоянии внутренних частей тела, — заключения, которые ни в каком случае не могут иметь притязания на непогрешительность. Поэтому врач пользуется для достижения своих целей совместно и языком самосознания, и языком физиологии: о характере болезни он делает догадки в одно и то же время как физиолог и как психолог. Так и во всех других случаях для достижения наших целей на практике мы соединяем средства самые разнородные, средства, которые по своему качеству, по своим постоянным свойствам могут не иметь между собою ничего общего. При встрече, например, с какою‑нибудь опасностью человек мыслит и действует, то есть производит перемену в положении своих представлений и в положении окружающих его вещей, также он в то же время критикует, об суживает и отдается авторитету, следует совету друзой, поддерживает в себе мужество вместе и расчетом, и надеждою, и знанием, и верою. В деле и для дела мы совокупляем средства, взятые из различных мотивов; тут нас интересует не логичность, не последовательность, а успех.
Но для науки эта практика не может служить руководящим правилом. Если политика, основанная на начале: divide et impera, считается ныне дурною, то наука овладевает миром вещей тем лучше и тем скорее, чем более разделяет она. Наука должна брать каждое явление отдельно, должна определять и изучать прежде всего особенные качества каждого явления. Справедливо, что это аналитическое направление науки не удовлетворит всем нуждам духа; мы стремимся сообщить нашим познаниям единство, мы ищем одного целостного взгляда на окружающие нас явления; отрывками, частями несвязанных познаний мы недовольны. Вещи спокойно лежат в пространстве одна подле другой или изменяются, но все же в порядке последовательном, так что для всякого изменения есть своя очередь. Но понятия о вещах сходятся в нашем одном, нераздельном сознании и вступают здесь в отношения согласия или противоречия, общего и частного, стремясь таким образом построиться в одну систему, в одно знание о мире явлений. Тем не менее если единство или целостный взгляд на вещи сложился у нас так, что он мешает нам различать особенные качества каждого частного явления, то мы получаем то призрачное знание, в котором, бесспорно, мы сознаем единство понятия, но не имеем уже никакого определенного представления о разнообразных признаках, составляющих его содержание. Очень часто, например, психология начинала свои исследования предположением, что душа составляет сущность телесного организма, что тело есть инобытие духа, его внешность, есть самый дух, только ставший видимым, что глаз, например, есть не что иное, как организовавшаяся душевная потребность видеть, ухо — организовавшаяся душевная потребность слышать, желудок — организовавшаяся потребность самосохранения и т. д. Также очень часто физиология основывалась на предположении, что телесный организм есть источник душевных явлений, что душа есть самое тело, только ставшее внутренним, что мышление есть функция голов Ного мозга, зрение — функция зрительного нерва и т. д. В разные времена шла ожесточенная борьба за истину одного из этих положений, и это доказывает, что дело тут касается взгляда, который затрагивает различные интересы человека и его образования. Однако же об ученом, который на основании одного из этих предположений хочет построить положительную науку, можно сказать, что он начинает с конца. Предположение, что жизнь нашего тела и жизнь нашего духа есть одна и та же жизнь, нисколько для нашего наблюдения не сокращает огромного расстояния между качествами явлений душевных и телесных. Поэтому психологи и физиологи, понимающие значение науки, прежде всего заботятся не о слитии этих явлений в одной общей теории, но о правильном разделении их и об изучении тех отношений, в которых они даны для непосредственного наблюдения. Задача эта только для поверхностного ученого может казаться легкою.
Декарт, которого простые и ясные анализы имели могущественное влияние на развитие европейской философии, рассматривал человеческое тело как машину, которая имеет все условия и средства для того, чтобы ходить, есть и дышать. Он полагал даже, что первый крик ребенка после рождения, его жесты и гримасы, искание грудей, — все это может происходить без участия души, из одного телесного устройства, потому что и в последующей жизни часто происходят подобные явления или против воли, или бессознательно. В этом учении, которому Декарт неосновательно давал значение метафизического взгляда, заключается прямое указание на ту методу исследования, которая резко разграничивает ведение физиологическое от психологического. Духовное начало обнаруживает свою деятельность в стремлениях, чувствованиях, мыслях, — вот круг душевных явлений, данных в опыте. Духовное начало из этих элементов созидает науку и искусство, созидает семейство, общество, историю, — вот организмы, сущность которых есть духовное начало. Нужно ли еще предполагать, что это же самое духовное начало, которое строит эти высшие организмы, есть вместе источник и организма телесного, что как в последствии времени оно создало науку и искусство, так в часы своего бессознательного существования оно занималось изобретением и построением нервов, костей, мускулов и всех частей своего тела? Во всяком случае, это предположение отличается такою смелостию, что наука опытная не может основаться на нем. С другой стороны, по взгляду Декарта, тело есть машина, только нарочито устроенная, то есть машина, которая происходит не из случайной встречи физических деятелей. Действительно, современный физиолог находит в животном теле молотки, рычаги, клапаны, цедилки, заслонки, веревки, режущие ножи, трущие жернова, капиллярные сосуды, химические реторты; только все эти снаряды подчиняются здесь общему плану, каждый из них помещается на особенном месте и в особенной системе, каждый из них находится к остальным в отношениях раз навсегда определенных, будем ли мы брать во внимание пространство, время или способ и размеры деятельности этих механизмов. Наконец, декартово объяснение крика, жестов и гримас ребенка в первые месяцы жизни прямо указывало на присутствие закона рефлективных движений, — закона, который открыт так поздно вследствие трудности отрешиться от воззрений жизненных, поэтических, от понимания явлений в целостном и единичном образе.
Такие умы, как Боэргав, сразу оценили достоинство декартова учения. Но большинство в Англии и во Франции находило в этом учении сухость и безжизненность. «Декарт разделяет то, что природа соединила, Декарт видит в теле машину мертвую, без археев, без жизненных духов, без животворящего эфира, без жизненной силы. Его философия противоречит нашему ежедневному чувству», — таковы были общие воззрения против этой разделяющей методы.
И действительно, с этою методой, как и со всеми научными методами, которые поставляют человека в более или менее искусственное положение, особенно не мирится одно чувство, живое, глубокое, многозначительное. В ежедневной жизни и деятельности мы вносим изменения нашего тела в круг нашей личности и поставляем их в самое внутреннее отношение к нашему я, к нашей ни с кем не разделяемой чувствительности. Разрез на моей руке есть не просто предмет моего наблюдения, как разрез, происходящий на стене или на коре дерева; нет, он чувствуется как боль, как страдание души, как мое внутреннее изменение. Движение моих ног не есть только случай, который я замечаю подобно тому, как замечаю движение воды в ручье: оно открывается мне как ряд чувствований и изменений моей непосредственной душевной жизненности. Таким образом, наше тело входит в содержание нашего я подобно тому, как входят в это содержание наши мысли, чувства и желания. Мы чувствуем себя как одно живое существо. Сообразно с этим и в понятии «жизнь, живое, жизненность» обыкновенный смысл соединяет все, что греет и затрогивает наше чувство, все, чем мы можем наслаждаться только в его целостном, неразложен–ном существовании.
Нет сомнения, что это чувство одной нераздельной жизненности, чувство, которое служит могущественнейшим двигателем нашего образования, не может удовлетвориться изучением явлений души и тела по той резко разграничивающей методе, которой начала указывает Декарт. Но едва ли надобно замечать, что вообще ни одна положительная наука не имеет намерения исследоваать мир вещей с той высшей и безусловной точки зрении, на которую поставить нас стремится это глубокое чуство. Кто не отличает и этом случае задач метафизики от аналитического изучения явлений, тот открывает психологию положениями вроде того, что душа, как мы знаем ее из нашего непосредственного опыта, есть сущность тела или, наоборот, что тело, как мы знаем его тоже из нашего обыкновенного опыта, есть сущность душевных явлений.
«Физиология» Льюиса интересует нас прежде всего как попытка провести в научном анализе первое из двух воззрений, на которые мы сейчас указали. Льюис доказывает, что разделение нервов на два рода, на нервы чувствительности и нервы движения, допущено физиологами совершенно произвольно, что, напротив, «нервы обоих родов возбуждают чувствительность» (Т. II. 27). Он утверждает далее, что также не имеет основания принятое физиологами различие между головным и спинным мозгом, — различие, состоящее будто бы в том, что только мозг головной есть центр чувствительности и сознания, а спинной мозг будто бы только управляет движениями и положениями тела. Льюис доказывает, что и «спинной мозг есть центр чувствительности» (Т. II. 211) или, как он выражается вообще, что чувствительность есть свойство всех нервных центров (Т. II. 69). Таким же образом он находит, что нет основания различать в животном организме движения непроизвольные и произвольные. «Все движения, — говорит он. — произвольны. Сознательность составляет ис точник всех их» (Т. II. 172). Во всех этих положениях, которые на взгляд физиолога так парадоксальны, проходит слишком явственно учение, что душа есть сущность и источник органических явлений тела. Впрочем, Льюис не скрывает своего взгляда на отношение души к телу. Доказав, что «душа одушевляет все тело и что от нее зависят все движения тела», Льюис прибавляет: «Если бы нам сказали, что принять такое положение значит возвратиться к учению Шталя, наш ответ состоял бы в следующем: мы должны следовать логике, мм должны идти туда, куда логика ведет нас. Тот, кою беспокоит мысль о возврате к прошлому, тот, кто Не расположен поверить, что все явления, совершающиеся в чувствительном организме, имеют один общий источник, одну сродственную сущность, одно общее имя — дух, имеет полную свободу попытаться составить себе какое‑нибудь другое убеждение, которое было бы не только приятно для него, но и объясняло бы факты лучше нашего» (Т. II. 189—190). Итак, дух есть общий источник всех явлений, совершающихся в чувствительном организме, он есть общая сущность этих явлений. Если Льюис приписывает способность возбуждать ощущения всем нервам, если он считает чувствительность свойством всех нервных центров, если в сознательности находит он источник всех движений животного организма, то эти положения были нужны ему для того, чтобы дух и на самом деле, то есть в физиологическом опыте, оказывался сущностию тела и источником всех телесных изменений. Шталь учил: «Душою дышат легкие, душою сокращается сердце, вращается кровь, варит желудок. Душа выбирает из пищевой смеси потребные для организма материалы и удаляет негодные. Душа есть жизнь тела». Льюис утверждает: «Дух есть сущность органических явлений тела и источник их; все движения в органическом теле происходят из сознания и произвола». Точно, здесь мы имеем одно и то же учение об отношении души к телу, и Льюис имел основание сослаться на Шталя как на представителя того взгляда, который, по мнению Льюиса, особенно хорошо изъясняет явления жизни.
Я позволю себе вспомнить здесь о г. Антоновиче и об его усилии доказать, что «сущность воззрений Льюиса» согласна с мнениями его почтенного друга г. Чернышевского. Льюис учит: «Душа есть сущность телесной организации». Г. Чернышевский докладывает:
«Напротив, телесная организация есть сущность и источник душевных явлении». Какое согласие! «Я веду ноу с моим братом за обладание Миланом, — говорил один герцог. —Что же? Это значит, что я согласен с ним: и он хочет владеть Миланом, и я хочу владеть Миланом». Вообще, г. Антонович владеет талантом находить сходства: в науке Льюис сходен с г. Чернышевским, в искусстве Тургенев сходен с г. Аскоченским, в жизни Евгений Базаров совершенно похож на своего скромного и простого отца, да и в природе — душа, если помнит читатель, есть синоним жизни, а это значит, что она так же похожа на телесную организацию, как Льюис на Чернышевского и так далее. Философ «Современника» живет в мире полного безразличия, живет в мире, где белое и черное, достойное и пошлое, мысль души и испарина кожи — все равно, где что ни дай, все выходит как и другое. Так на празднике Вакха у древних греков все лица превращались в одинаковые обра Так в мистической сфере средневекового алхимика духи: нн\чд и духи земли принимали одинаковый вид волнующегося тумана. Так, по пословице, ночью все кошки кажутся черными. Мышление г. Антоновича постоит одно и праздников Вакха, и сферы алхимика, и темной ночи. Но вниманию читателя представляется еще одно обстоятельство. Скромный автор статей об антропологическом принципе в философии отозвался ρ Фихте–младшем с полнейшим презрением; он выразил–ςВ, что этот философ имеет такое же значение в вопросах науки, как г–жа Павлова в поэзии. Но вот Льюис пытается оправдать физиологическими анализами учение о душе как источнике телесной жизни, учение, которое сам же он находит у Шталя и которое, как это известно очень многим, имеет сильных и ученых защитников в Карусе и Фихте–младшем. Г. Антонович защищает вышеупомянутые статьи своего почтенного друга и обращается за помощью к Льюису, обращается к Льюису, которого взгляд на отношение души к телу совершенно совпадает с учением Фихте–младшего. Тут мы, видим Немезиду, которая карает нашу наглость и. невежество. Мы ищем помощи у богов, которых мы отреклись и над которыми наругались публично. Г. Антонович куда как высоко ставит Льюиса! Это так и должно быть, потому что его почтенный друг, которому Льюис будто, бы может не стыдясь протянуть руку, стоит очень высоко на лестнице наших русских умов.
В сравнении с Льюисом оказывается ничтожным даже Либих, который роняет себя пред нашим философом учением о целесообразности явлений органической жизни. Особенно же, по мнению г. Антоновича, к чести Льюиса служит то, что этот физиолог отрицает жизненную силу. Да, Льюис не объясняет явлений жизни из целей, Льюис не признает жизненной силы. «Это мой почтенный друг или сам бог, сам Бюхнер», — так думает г. Антонович. Что сказать на это? Сказать можно, что все это правда. Если дух есть источник и сущность органических явлений человеческого тела, если дух есть жизнь тела, то жизненная сила оказывается ненужною и ее место уже занято. Льюис не объясняет явлений жизни из целесообразного устройства организма. Такое объяснение было бы нужно, если бы Льюис предполагал, что эти явления не находятся во власти духа, что дух не есть источник их; тогда пришлось бы производить органическое тело или из случайного сочетания физических условий, как делают это материалисты, или признать с Декартом нарочитое устройство, то есть то, что Либих называет целесообразностию. В развитии и оправдании своего основного взгляда Льюис очень последователен. Дух есть источник телесных явлений, поэтому целесообразное устройство тела и его органов должно быть результатом, а не основанием жизни. По Аристотелю, например, цель есть главный двигатель организма. Для Льюиса этот двигатель есть дух, или чувствительность, ощущение (Т. II. 137); целесообразное же устройство не источник, а результат движения. Льюис признает целесообразность в явлениях жизни, как признавал ее Либих или Декарт. Он говорит, например: «Как чудно приспособлены, прилажены друг к другу части этого целого, которое мы называем организмом»; он согласен, что «приспособление частей сложного организма определяет их деятельность» (Т. II. 134). Но он не ограничивается этим представлением целесообразности; он идет дальше Декарта и Либиха. «Чувствительность, ощущение, — говорит он (Т. II. 136), — составляет необходимую часть механизма, главную пружину часов, топливо паровой машины. Без ощущений деятельность организма невозможна». Коротко различие между учением Декарта, Либиха и Льюиса состоит в следующем. Декарт видит в теле целесообразно устроенную машину и находит источник этого устройства в непосредственной творческой воле. Либих объясняет эту целесообразность из жизненной силы, вследствие чего организм отличается от человеческих машин еще особенным характером жизненности. Льюис находит источник этого устройства в духовности, которая и есть сущность тела. Декарт говорит о машине разумно устроенной, но мертвой; Либих — о машине разумно устроенной и живой; Льюис —о машине разумно устроенной и чувствующей. «Я признаю, — говорит он, — что организм есть механизм, но механизм чувствительный: в этом жизненном механизме каждый зубец есть ощущение» (Т. II. 164). Льюис пишет эти слова курсивом, конечно, для того, чтоб обратить на них особенное внимание читателя.
Итак, в физиологии Льюиса мы имеем воззрение целостное, — воззрение, которое не отступает ни пред какими последствиями, сколько бы ни противоречили они общепринятым понятиям физиологов и психологов. «Все явления, совершающиеся в организации человека, имеют один общин источник, одну сродственную сущность, одно общее имя — дух» (Т. П. 190). Все действия в человеческом организме произвольны, и «сознательность составляет источник всех их» (Т. II. 172). «В организме не может совершиться никакое действие, в основании которого не лежало бы какое‑нибудь ощущение» (Т. II. 164). Организм есть чувствительный механизм (Т. II. 164). А это не только означает, что в основании каждой деятельности организма лежит какое‑либо ощущение (Т. II. 164), что «ощущение составляет необходимую часть этого механизма, главную пружину этих часов» (Т. II. 136), что все действия организма «определяются импульсом управляющих ими ощущений» (Т. П. 137), — нет, этим выражается мысль еще более смелая, именно что «те жизненном механизме каждый зубец есть ощущение» (Т. II. 164). Мы видим, что далее идти некуда при развитии этих положений. В полном соответствии с основным своим взглядом на отношение души к телу Льюис доказывает, что все нервные нити имеют способность возбуждать чувствительность нервных центров и что поэтому принятое физиологами разделение этих нитей на нервы чувствительности и движения произвольно; далее, что чувствительность принадлежит не одному головному мозгу, а есть свойство всех нервных центров; в–третьих, что рефлективные движения происходят не в элементе физиологическом, но в элементе психическом, происходят не так, будто физиологическая перемена в одном нервном центре отражается на другой центр и производит в нем также физиологическую перемену, —нет, на этот другой центр рефлектируется не физиологическое изменение центра первого, а его психическое, сознательное состояние ощущения. Итак, Льюис не думает противоречить самому себе, утверждая, что в нашем организме все движения рефлективны и вместе все они произвольны, сознательны.
Льюис ссылается на древних и находит, что при вопросе о духе и его отношении к жизни тела древние были ближе к истине, чем новые. Теорию, которая в душе находит источник телесной жизни, развил в древности Аристотель, и развил с ясностию и отчетливостию, которые свойственны гению и которые доставили его взглядам на душу и жизнь тела беспримерное исторические значение.
Для непосредственного наблюдения органическое тело представляется как бы на краю пропасти, в которой волнуется и несется вдаль, без цели и без смысла, быстрый поток сил физических и химических; В каждую минуту стройное тело не только готово оборваться в этот поток, разложиться в нем на мертвые элементы и исчезнуть без следа, но оно действительно обрывается в этот поток ежеминутно. Только как при походке мы с каждым движением ноги падаем, но тут же сразу и встаем, так в телесном организме совершается постоянное обновление тканей, которые непрерывно уносятся химическим потоком. Простой смысл, которого, впрочем, вопросы о жизни интересуют не менее, чем выспреннего метафизика, спрашивает прежде всего: кто тут занимается подновлением, постоянным, непрерывным, ежеминутным? Не мы же сами, существа мыслящие, чувствующие, фантазирующие, занятые наукою, службою, искусством, мелочами дня, борьбою с людьми, — не душа же наша, которая не может сказать по совести, чтоб она когда‑нибудь занималась обновлением органических тканей, превращением пищи в кровь и перемещением крови из вен в сердце, в легкие, опять в сердце и отсюда в артерии? Кто же занимается всем этим? Жизненная сила, отвечали всего охотнее; жизненный гений, отвечает Гумбольдт. Эта сила не позволяет, чтобы простые вещества следовали своему непосредственному, естественному желанию; она ограничивает их прирожденные права, их химические наклонности и страсти, она заставляет их отказываться от многих сочетаний, в которые они непременно вступили бы, если б им предоставить полную свободу заявлять свои химические симпатии и антипатии. Очевидно, однако же, что этот ответ служит только описанием самого вопроса. Пока мы не знаем, что такое жизненная сила, до тех пор положение, что жизненная сила строит живое тело, будет иметь следующий смысл: телесную жизнь строит то, что строит ее. Задача была найти того внутреннего деятеля, на существование которого, по–видимому, так настойчиво указывают внешние явления органической жизни и который пока называется неопределенным именем жизненной силы. В наших опытах есть единственный случай, где мы встречаемся с внутренним деятелем. Мы разумеем душу, которая известна нам не под туманным именем внутреннего деятеля, но известна по своим действительным качествам. Если мы воспользуемся этим единственным познанием внутреннего, чтобы наполнить существующим содержанием общее понятие жизненной силы, то мы будем вынуждены признать, что жизненная сила есть душа.
«Душа, — говорит Аристотель, — есть первый источник формы или первое начало формы физического тела, имеющего жизнь в возможности: а тело это есть оттого органическое». От души зависит, почему живое тело есть не сумма безразличных частей, а система органов, из которых каждый имеет в экономии жизни свое особенное назначение. Такое тело, которого масса превратилась в систему, а части в органы, мы называем органическим. От души зависит то, почему одно живое тело есть сплетение клеточек, другое имеет мускулы и нервы, почему одно тело имеет четыре ноги, другое — две ноги и две руки; душа есть источник этих форм.
На основании опыта Аристотель различает душу питающую или растительную, чувствующую или животную, разумную или человеческую. Эти представления повторяются с различными видоизменениями до нашего времени. Душа растительная дана для физиолога в органической клеточке, душа животная — в мускульном и нервном волокне. Сообразно с тем же порядком мыслей различали философы силу воспроизведения, которая становится предметною в клеточке, раздражительность, которая воплощается в мускуле, и чувствительность, которая делается предметною в нерве. Все это качества души как жизненной силы тела, качества души, поскольку она образует тело. Мы увидим, что этот язык не годится для современной психологии и физиологии, однако же заметим, что происхождение клеточки, раздражительность мускульного волокна и чувствительность нерва остаются и доселе явлениями не объяснимыми из начал точного естествознания.
Учение Аристотеля, что душа составляет жизнь тела, получило особенное видоизменение в начале настоящего столетия, с одной стороны, под влиянием философских идей Шеллинга, а с другой — вследствие быстрого развития химии и обширного изучения органической и животной жизни. Под микроскопом вы видите плавающую в жидкости инфузорию, видите математическую точку, впрочем живую и ощущающую. Если в развитом животном теле один орган служит для питания, другой для отделения, третий для дыхания, опять другие органы для движения, то наше животное принимает пищу и выделяет ненужные элементы, дышит и совершает движения посредством одного и того же органа, который есть оно само, есть вся эта видимая нами точка. Орган души и тело животного совпадают здесь. Вы не различите здесь душевной жизни, заключенной в теле и потом уже открывающейся постороннему наблюдателю в деятельности некоторых нарочно для этого устроенных органов. Вы не найдете здесь такой души, которая, покоясь в теле, приводит по временам в действие то один, то другой орган тела, рождая этим в наблюдателе убеждение, что душа есть нечто само по себе и тело есть нечто само по себе и что душа распоряжается своим телом, как механик машиной. Вместо этого различия и разделения вам открывается здесь одно существо, одна чувствующая масса, открывается чувствительность проектированная, принявшая пространственную форму, чувствительность организованная. «О самых ощущениях наших, — замечает Льюис, — можно сказать, что они организуются в нас» (Т. II.· 136). Ощущение и его орган — это не две различные вещи; орган есть самое ощущение, только сложившееся в пространственную форму. «В жизненном механизме, — говорит Льюис, — каждый зубец есть ощущение» (Т. II. 164). Зубцы механизма построены не из какого‑нибудь постороннего для души материала, они суть самые эти ощущения. Сообразно с этим изучение животной жизни убеждает нас, что телесные органы животного, зубцы механизма, вполне соответствуют его ощущениям, его душевным качествам или что тело животного есть самое верное зеркало души его. Так, еще Аристотель выражался: «Насекомые имеют жало, потому что они имеют гнев»; или: «Растения не имеют органов произвольного движения, потому что им недостает сильных желаний, которые могли бы взманить их на перемену места». Душа и тело есть одно существо, только раз это существо рассматривается само в себе, в другой раз оно представляется в явлении природы. «Если, —говорит Карус, — мы уже хотим разделять душу и тело, то мы должны сказать: в человеке можно различать внутреннюю идею, идею его существа, и схему или отражение этой идеи в явлении природы». «Человек состоит из души и тела… значит ли это, —спрашивает Карус, — что человек состоит из души да еще из фосфора, извести, серы, железа, кислорода, соды, азота и т. д.? Ведь все это субстанции, которые рассеяны в окружающей нас природе в тысяче разнообразных форм? Кто сказал бы, что радуга состоит из дождевых капель и прекрасных цветных дуг? Как радуга есть свет солнца, отраженный на дождевых каплях и разложившийся в них, так человеческая организация есть идеи духа, отраженная на физическом и химическом потоке вещей, и разложившийся в нем пространственный образ. Там капли дождя, здесь элементы тела подвержены ежеминутной смене, приходят и уходят, текут безостановочно. Существование постоянное, прочное и ровное имеют только отражения, только образы, там солнца, здесь духа. Тело, повторяем, есть образ духа, есть отражение духа и его качеств на вещах физических и химических».
Мы не будем следить далее за этою теорией, которая получила особенное развитие у Каруса. Мы коснулись ее здесь только потому, что хотя Льюис резко и ярко ставит ее главные понятия, однако он не развивает их из общих оснований, не возводит к общим началам. Льюис предпочитает держать нас в области фактов, которых пестрый вид рассеивает мышление. Своему смелому учению, что дух есть жизнь тела, он дает характер безразличной фактической истины. Как эмпирический исследователь, он просто рассказывает, что вот как оно есть на самом деле, что вот какое обстоятельство, вот какой факт находит физиология: «Дух есть источник органических явлений, дух есть сущность тела». А затем он уже не спрашивает, что же означает этот факт, что означает это обстоятельство, откуда происходит это фактическое отношение. «Философичнее — гово, рит Льюис, — рассматривать жизнь как первичный факт». Если это значит, что было бы глупо спрашивать как делается жизнь, если это значит, что жизнь не изготовляется в мастерской природы с помощию особенных механизмов, как изготовляются на наших фабриках шёлковые ткани, что только изменения, процессы или явления жизни могут быть объясняемы из механических влияний, но что постоянные основания этих изменений и процессов сами не зависят от физического механизма, не состоят в его власти, потому что механизм никогда не бывает творцом, а только разве служителем творческой идеи, —то такой взгляд на жизнь как на первичный факт совершенно философичен. Какой‑нибудь Бюхнер, например, просто себе рассказывает, как начинает делаться жизнь силами общего механизма природы, как на поверхности движутся и играют живые существа, словно марионетки, тогда как за кулисами всю эту игру производит механизм, который один наслаждается истинным бытием, один имеет значение первичного факта. Но Льюис вовсе не развивает своего взгляда на дух и жизнь. Он говорит об особенных законах жизни (Т. I, стр. 50), о законах жизненных (Т. I, стр. 306), как будто и в самом деле он открыл такие законы. Химия не находит в организме никаких особенных веществ, кроме тех, которые разлагаются на простые неорганические вещества, а законы жизни суть только ее общие явления, — явления, в основании которых лежат законы физических и химических изменений. Вот почему физиология остается на том пути, который указан был Декартом, и изучает тело как простой механизм, целесообразно устроенный. Льюис хочет ввести в оборот понятие «чувствительного механизма», но если чувствительность и содержащееся в ней знание составляют, по Льюису, главную пружину телесного механизма, то ему следовало бы объяснить, что же собственно механического остается в этой машине. Она строится, приводится в движение, заводится чувствительностию или внутренним знанием. Когда внешние механические голчки действуют на нас не своим непосредственным качеством тяжести, плотности и т. д., но входят как представления в наше внутреннее знание и уже в этой форме влияют на них, тогда деятельность, определенная и условленная этим знанием, будет не механическая, а разумная, сознательная. Льюис очень последовательно утверждает, что сознательность есть источник всех действий и движений человеческого организма. Только могут спросить его: что же собственно механического остается в таком знающем, чувствующем, мыслящем механизме? Это дает нам повод оглянуться на ту методу, которая изолирует круг душевных явлений и противопоставляет ему также замкнутый круг механических движений. Вот это воззрение в следующих кратких положениях.
Хотя в опыте ощущение души и движение членов тела даны совместно, однако их не связывает никакое фактическое условие, наблюдая которое мы могли бы сказать: вот причина, почему ощущение делается пространственным двигателем, вот причина, почему качество ощущения приобретает силу количественной массы, силу рычага, винта, пружины. Некоторые психологи различали в душе способность представлять, чувствовать, желать да еще способность приводить в движение члены тела. Хотя признанием такой способности ничего не объясняется, однако оно основывается на весьма естественном предположении, что движение членов есть особым круг явлений, не имеющий ничего общего с представлениями, чувствованиями и желаниями, что между намерением идти и выполнением этого намерения нет аналитически понятного отношения. 2) Как превращение пространственных изменений нерва в ощущение, знание и сознание немыслимо и невозможно, так и, наоборот, немыслимо и невозможно превращение ощущения, знания и сознания в пространственное изменение нервов двигательных и отсюда в движение членов. Как ни варьируйте в мышлении или в каких‑нибудь экспериментах ощущение, представление, намерение, вы не найдете в них тех физических условий, которые необходимы для всякого пространственного двигателя и которые делали бы из ощущения «главную пружину» механизма нашего тела. 3) Итак, совершаются ли движения тела вслед за намерениями души или без этих намерений, во всяком случае причины и условия их должны быть те же, какие вообще объясняют для нас пространственное движение масс, то есть должны быть механические.
Но теперь возникает вопрос: какая же судьба связала механические изменения тела с намерениями нашей души? Возникает этот вопрос отчасти оттого, что мы не хотим наперед доискаться, какая судьба разделяла эти явления, да и действительно ли разделяла их эта неиз вестная нам судьба? Кто выяснил себе, что мы не обладаем способностию знания непосредственного, интуитивного, безусловного и что наше пбзнание явлений движется не в том направлении, в каком природа рождает эти явления, тот догадается, что эта разделяющая судьба лежит в условиях нашего опытного познания, а не в вещах. Мы уже выше заметили, что Декарт неосновательно присвоил своей методе значение метафизическое. Когда естествоиспытатель говорит о целесообразности в устройстве тела, то этим он обозначает простое явление на поверхности жизни, явление, об основаниях которого он предоставляет спорить философам.
Философ «Современника» уничтожает Либиха перед Льюисом за то, что Либих видит в строении организма присутствие плана и целесообразности. Не знаю, что подумал бы он о Карле Фохте, который в своих «Физиологических письмах» почти на каждой странице пользуется телеологическими объяснениями и так часто приходит в удивление при виде мудрого и глубоко рассчитанного устройства телесной организации. Конечно, он записал бы его на первый раз в разряд старых философов, хотя Карл Фохт куда какой материалист! Когда дикие племена Патагонии находят у подножья скал каменные ножи и клинки и благодарят духа пещеры, который, по их убеждению, заготовляет для них эти орудия, желая доставить своему любимому народу победу над врагами, то г. Антонович не только полагает, что благодарность духу пещеры происходит у этих народов из суеверия и незнакомства с законами природы, но полагает также, что и самые ножи — не ножи и клинки — не клинки.
Итак, мы имеем здесь дело с общим языком механической физиологии. Язык этот выражает определенно одну мысль, именно что строение тела и его органов определяется теми законами общей механики, которые с таким успехом применяются к постройке наших машин, различных инструментов и снарядов, что, например, устройство руки определяется законами рычага, устройство глаза—: законами камер–обскуры и т. д., а какой зодчий дал телу эту форму или из каких начал она происходит — эти вопросы разделяют философов, а не физиологов.
Но если такое простое и непритязательное значение соединяется в физиологии с представлением тела как целесообразно устроенного механизма, то само собою понятно, что для философии остается здесь открытое поле исследований, что для философии представляется здесь задача найти то единство человеческой жизни, о существовании которого настойчиво говорит наше непосредственное чувство. Бенеке, достигший в психологии, может быть, всего, чего можно достигнуть в этой науке с помощию строгой эмпирической методы, учит, что, когда одно и то же содержание возбуждается до степени сознательности, оно есть явление жизни душевной, когда же это содержание познается нами не непосредственно, не в самосознании, не в самочувствии, а посредством наших внешних чувств, оно есть часть или система телесная. В этой простой мысли вы имеете и объяснение единства человеческой жизни, и указание основания для Данных в опыте различий между явлениями душевными и физиологическими. Доказывая единство человеческого существа, Бенеке с тем вместе представляет на вид, что, сколько мы ни изменяли движения цррва, сколько бы мы ни утончали их, мы не получим ничего похожего на ощущение и содержащееся в нем знание; и наоборот, сколько бы мы ни видоизменяли ощущение и содержащееся в нем знание, мы не получим ничего похожего на массу и ее механических двигателей. Тому же, впрочем, учит и Льюис: «Никогда никакой анализ нерва, — говорит он, — не прольет света на чувствительность» (Т. I, стр. 49). Если никакой анализ нерва не приводит нас к факту чувствительности, то не менее труден и обратный путь, й науке, которая имеет своим материалом лишь данные внешнего опыта, которая остается на почве механики и химии, не остается ничего другого, как держаться своей точки зрения и воздерживаться говорить о чувствительном механизме, об ощущении, которое есть пружина и зубец этого механизма, о намерении, которое есть пространственный двигатель тела.
Г. Антонович, сказав, что «душа есть синоним жизни и что различные группы жизненных явлений составляют продукт организации», заключает: «Вот в чем вся суть, а там называйте себе явления какими угодно именами». Это значит, что если единство человеческой жизни мы обозначим именами, каковы «чувствительный механизм, ощущение, составляющее зубцы этого механизма, топливо этой машины» и т. д., то этот добродушный мыслитель, готовый вступить во всякую сделку, честную или нет, лиШь бы достигнуть мира и единства, согласен будет и на эти выражения. Но он не замечает, что. в этих, выражениях физиология превратилась в. психологию и что Льюис, на которого он почему‑то возложил свои надежды, сыграл с ним злую шутку.
. Нас поражают громадные явления окружающей нас природы, мы погружаемся в их созерцание охотно и легко. Воображение любит измерять беспредельные пространства неба и чудовищный объем тел, которые летают в этих пространствах быстрее легкой ласточки. Глаз приковывается к образам то прекрасным, то величественным, которые представляет звездная ночь, волнующееся море, восход и закат солнца, густой лес, ровная степь, бесконечная даль. Мысль преследует ряд причин, которые все более и более раскидываются, идут во всех направлениях и во все стороны и мало–помалу теряются в неизвестных для нас сферах бытия. Согласно с этим и наше чувство находит во внешней природе явление жизни беспредельной, бьющей ключом в бесчисленное множество отверстий, разливающейся в неисчислимых потоках, — жизни, которая есть все во всем, все обнимает, все рождает, все держит. В сравнении с громадностию, величием и жизненностию форм внешней природы как незначительным, миниатюрным и бесцветным должно показаться то явление внутри нас, которое составляет основную форму нашей человеческой жизни и которое мы называем чувствительностью! Чувствительность — это, по–видимому, что‑то простое, бедное; взор не чаруется при виде этого феномена, воображение не отдается созерцанию его форм и перемен. Мы чувствуем, что нам тепло или холодно, мы чувствуем жажду, голод, насыщение, горький вкус на языке, тошноту под ложечкой, беспокойный зуд в коже, позыв ко сну, — как все это незначительно, как все это пошло!
И однако же то, почему мир вещей получает для нас значение, почему в нем существуют для нашего созерцания формы и образы, поражающие нас своим величием и красотою, почему из этих форм и образов впечатлевает на нас какая‑то особенная жизненность, —· последнее, говорим, условие для явления этих удивительных форм и образов есть наша простая чувствительность. Мы предполагаем обыкновенно, что пока во сне наши глаза закрыты, то целый мир прекрасных форм, цветов, блесков, теней, с их бесконечными переливами и разнообразною игрой, стоит готовый, ожидая, чтобы, когда наши веки откроются, поразить наш взор; мы предполагаем обыкновенно, что в нашем сознании он только повторяет свое бытие, которое он имеет уже независимо от силы чувствительности. Но простой анализ убеждает нас, что этот мир форм, красот и блесков не стоит перед нашими закрытыми глазами как готовый и совершившийся факт, что до встречи с нашею чувствительностию он существует только как сумма стимулов бесформенных, бесцветных, — стимулов, которых ближайшая натура и подлинное качество неизвестны нам и которые только на почве ощущения превращаются в мир форм, очертаний, красок, блесков. Может быть, нигде философия так не противоречит общему представлению, но зато нигде она не имеет и такого бесспорного права, как при разрешении этого вопроса об основаниях и условиях мира явлений. Вот почему исследование о том, что такое чувствительность, откуда взялась она в живом теле, при каких условиях она возникает, какие принимает формы, это исследование представляет для физиологов, психологов и философов особенные интересы. Если люди ученые и мыслящие расходятся во взглядах на жизнь человека, на его развитие и цивилизацию, то это главным образом зависит от тех представлений, какие составляют они себе об основаниях и источниках чувствительности.
Самые грубые опыты удостоверяют нас, что головоспинной мозг находится в непосредственной и ближайшей связи с явлениями чувствительности, что этот тянущийся веревкою мозг есть как бы гомерическая золотая цепь, посредством которой Зевс обнаруживает свою силу и на которой он держит и поднимает всех остальных богов мира. Кто хочет отличать здесь существующий факт от его неизвестной, предопытной истории, тот не будет спрашивать далее, каким образом в этой цепи начинает обнаруживаться сила Зевса, каким образом в мозгу начинает являться чувствительность. Как везде, так и в настоящем случае вопрос о том, каким образом нечто начинает быть или являться, не может быть решен с научною достоверностью. Если очень часто при механическом изъяснении явлений природы мы и воображаем, будто мы узнали самое начало явления, будто мы подсмотрели происхождение того, что прежде не существовало ни в какой форме, ни в каких элементах, то мы забываем, что в этом случае мы имели уже це лый ряд условий, из которых происходит явление, и что спрашивая о начале его, мы на самом деле искали только последних дополняющих условий, при содействии которых явление приняло свою окончательную форму. Так, говоря, например, что печень вырабатывает желчь, физиолог выражает этим только свое знание о последних условиях, которые изменили уже существующие элементы и сообщили им форму названных явлений. Но попытайтесь поставить в физике вопросы вроде следующих: каким образом нечто не имеющее массы начинает быть или делаться массою, каким образом нечто непротяженное начинает делаться протяженным, из каких непространственных элементов состоят пространственные вещи? Вы видите, что эти вопросы о начале выводят нас за пределы всякого возможного опыта. Теперь, кто спрашивает о происхождении чувствительности из элементов, которые пока еще сами по себе не чувствительны, тот высказывает этим только неопределенную и плохо понятую потребность метафизического знания, — потребность, которой не удовлетворяют ни опыты физиологические, ни анализы психологии. Конечно, нам было бы желательно доискаться, каким образом начинает быть дух, как иной физик задумывается над вопросом, каким образом начинает быть материя. Но опыты молчат упорно, когда мы приступаем к ним с этими вопросами. Поэтому философы, которые хотели не столько доставить нам полное знание о существе вещей, сколько внести определенность и ясность в понятия, применяемые нами к изучению явлений, останавливались на факте, который далее был не объясним, именно на факте, что как, например, протяженность характеризует явления внешнего опыта, так чувствительность характеризует явления опыта внутреннего, что как все способное сделаться предметом нашего опыта в мире внешнем должно быть дано в пространстве или в пространственных отношениях, так и содержание наших внутренних опытов может существовать для нас, для нашего наблюдения только в элементе чувствительности. Этот взгляд господствует в истории философии под различными частными определениями.
Кому, впрочем, не известны попытки, деланные в наше время для разрешения вопроса о начале чувствительности с помощию обыкновенных физиологических опытов? «Мысли, — говорит Фохт, — находятся к мозгу в таком же отношении, как желчь к печени или моча к почкам». «Мозг, —; замечает Молешотт, объясняя ФохТа — так же необходим для рождения мыслей, как печет, для приготовления желчи и почки для выделения мочи». «Как нет желчи без печени, — говорит Бюхнер, надеясь исправить небольшую, по его мнению, неточность в выражениях Фохта, — как нет мочи без почек, так нет мысли без Мозга: душевная деятельность есть функция мозговой субстанции». В этом физиологическом языке особенно привлекает незнакомого с делом читателя необыкновенная простота объяснения; рождается приятное чувство, что задачи, затруднения, собственно, и не существует здесь; все дело оказывается так просто и так ясно. «Итак, — заключает читатель и почитатель Бюхнера, — ларчик отворяется просто и старые философы попусту ломали свои умные головы».
Мозг должен изготовлять чувствительность и мышление или выделять эти продукты, как печень изготовляет желчь, как почки отделяют мочу. Но так как печень изготовляет желчь не из ничего, а из элементов уже существующих, так как почки выделяют мочу не из ничего, а из смеси уже готовой, то не худо бы поискать, из каких уже существующих элементов мозг изготовляет, из какой уже существующей смеси он выделяет чувствительность и мышление. Если мы можем указать на элементы желчи прежде их явления в виде желчи, то также не худо бы препарировать мозг и проследить в нем элементы чувствительности до появления их в виде чувствительности. Теперь, когда с этою ученою це–лию выступите вы из области самосознания в мир мозговой субстанции, вас сразу и без всякой подготовки встретят материальные качества цвета, запаха, плотности, массы, протяженности, вам представятся извилины и пространственные движения определенного вещества, — словом, все, что так знакомо вам из рассмотрения вещей отдаленных от вас и лежащих вне вас. Вы недовольны этою встречей, вы надеялись найти во время путешествия по стране мозговой субстанции зачатки, зародыши, элементы или кусочки чувствительности, надеялись найти хотя отрывки того непространственного движения, которое вы знаете из игры вашей фантазии, из потока ваших представлений, надеялись подсмотреть или пощупать материальную смесь, которая деятельностью мозга превращается в боль, в радость, в глупую или умную мысль, как, например, деятельностью- печени определенная материальная смесь превращается в желчь. Задачу кажется, поставили вы ясно и честно, но самый тщательный анализ «мозговой субстанции» не подвигает вас ни на один шаг к ее решению; самые микроскопические элементы деятельности мозга так же не похожи на чувствительность, на радость, на глупость, как и его большие массы. Бюхнер успокоивает вас, повторяя на каждой странице своей брошюры «Сила и вещество»: «Это пока еще не открыто, анализ пока еще не показал, как это происходит, однако не подлежит сомнению, что оно именно так происходит». «Старые философы» между тем замечают вам, что в вашей неудаче никто не виноват, кроме вас самих, что вы поставили задачу честно, но неясно. Изучая голосовые органы и их мозговые центры, вы решились не только подсмотреть их определенные положения и пространственные движения, но еще думали найти в них элементы звуков, тонов, музыки. Вы не обратили внимания на то, что звуки, тоны, музыка, — все это существует не в голосовых органах и изменениях их, а в вашей чувствительности, которая возбуждается этими изменениями. Итак, упорный опыт опять отбросил вас в страну чувствительности и самосознания. По безотчетной привычке, которая навязывается вам физиологическими опытами, вы все еще хотели бы сказать, что чувствительность «изготовляется» мозговою субстанцией. Так как с привычкой бороться трудно и наше мнимое мышление большею ча–стию есть воспроизведение связей между представлениями не логическое, а основанное на привычке, то вы можете пользоваться и этим языком. Только едва ли вы и теперь скажете, что самосознание «изготовляется» мозгом, как желчь — печенью, потому что элементы желчи даны прежде их переработки деятельностию печени: в желчи вы находите в другой раз и в другой форме то, что вы наблюдали уже вне ее; но тут, в самосознании, вы не застаете тех элементов, которые так впечатлевали на вас при изучении мозга. Если оно вышло из деятельности мозга, то, во всяком случае, вы видите, что от его выхода не осталось никаких следов, что мост позади его уничтожен. Вы убеждаетесь вообще только, что деятельность мозга условливают формы чувствительности; но тут вам приходится спросить кантовым тяжелым языком: каким же образом эти условия условливает свое условное? В самом деле, в этом вопросе заключается вся сущность дела. И если вы не захотите сделаться выспренним метафизиком, то вы возвратитесь к случаю, на который однажды вы уже наталкивались именно вы скажете, что мозг «изготовляет» мышление не так, как печень желчь, а так, как движение голосовых органов «изготовляет» звуки и тоны, то т ι, мозг изготовляет мышление, поскольку его деятельность уже застает чувствительность как явление с вашей точки зрения необъяснимое. Следовательно, вопрос о том, как начинает быть дух, остается для физиолога и психолога не разрешенным. И тот и другой по необходимости предполагают его.
Льюис пользуется языком более счастливым. Чувствительность не изготовляется мозгом, нет, она, по мнению физиолога, есть свойство нервного узлового вещества (Т. II. 19). Это свойство зависит от тканей головного и спинного мозга, а не от их соединения в различи ные формы или от их анатомического размещения; и так как нервные центры не различаются строением тканей, так как «в мозгу головном, продолговатом и спинном находится одна и та же общая им ткань» (Т. 11. 18), то отсюда заключает Льюис, что чувствительность есть свойство всех нервных центров (Т. П. ()У). Как прежняя психология предполагала, например, что воля есть общая и далее не определяемая душевная способность или душевное свойство и что частные желания происходят, когда эта способность возбуждается различным образом, так; по взгляду Льюиса, ощущения цветов, тонов, запахов, тепла, боли и т. д: происходят, когда общая и далее не объясняемая чувствительность нервных центров возбуждается различными стимулами. Частные, определенные и различные ощущения суть от правления нервных центров, а чувствительность, ровная, одинаковая, не распадающаяся на разные качества; составляет, как мы сказали, общее свойство, общую принадлежность этих центров (Т. II. 19, 27, 82, 95 и др.). Может быть, мы увидим, что и Этот язык представляет свои неудобства, однако же не подлежит сомнению, что он ставит физиолога в выгодное положение по крайней мере в одном очень важном случае. Льюис не тешит нашей фантазии повестью о том, как мозг «изготовляет» или «выделяет» чувствительность и сознательность, как материальные процессы, совершающиеся в мозгу, превращаются в психические и каким образом физические и химические изменения мозговой субстанции начинают делаться ощущением, болью, радостью, сознанием, духом. Льюис предполагает, что чувствительность есть существующий факт, данный вместе с животного организацией, данный сразу и непосредственно, данный без всякой истории, как простое свойство известных частей ее. Чувствительность есть свойство нервных центров, она есть нечто свое для них, а не отдаленное последствие материальных изменений мозга. Если внешние стимулы рождают ощущения красок, тонов, запахов и т. д., то они могут это потому только, что застают в животной организации готовую чувствительность, застают наперед данный «психический элемент» и своими влияниями возбуждают его. Сообразно с этим Льюис смотрит на факт чувствительности как на явление, историю и происхождение которого не может рассказать никакой физиологический анализ (Т. I. 49). Он находит только, что в животном организме «элемент чувствительный и элемент механический чудным образом связаны между собою» (Т. II. 136).
Но зато ни физиолог, ни психолог не могут согласиться с учением Льюиса в том, что и нервные волокна имеют особенное, также простое свойство, которое Льюис предлагает назвать нервностию. Нервность, говорит он, просто означает свойство, присущее нервному волокну, свойство, вследствие которого волокна эти, будучи раздражаемы, возбуждают сокращение в мышце, отделение в железке, ощущение в узловом центре (Т. II. 15). В другом месте он называет это свойство «способностию» нервных нитей и замечает, что способность эта удерживает «один и тот же основной характер», каковы бы ни были отправления нервных волокон. Если в одном случае деятельность нерва возбуждает, например, ощущение света, в другом производит сжатие кулака, в третьем — поток слез, то эти совершенно различные отправления делаются возможными только потому, что разные стимулы, раздражая нервы, «приводят в деятельность» их нервность, всегда удерживающую свой основной характер. Этим учением Льюис прежде всего хочет сказать, что нервы не суть простые проводники, передающие впечатления от оконечностей центрам и переносящие душевные возбуждения из центров на оконечности, что, напротив, они «имеют собственную силу» (Т. II. 11). Когда нерв раздражается внешним стимулом, то он «не передает этого раздражения нервному центру, в нем возбуждается его собственная нервность», и эта‑то нервность возбуждает чувствительность центра. (Т. II. 16). Отсюда Льюис объясняет, почему непосредственное действие впечатлений на головной и спинной мозг не производит ощущения, почему ипцегпш этого мозга можно щипать, резать, разры-, не производя в животном заметной боли. Чувствительность, полагает он, «возбуждается к деятельности нервностию нервов» (Т. II. 16, 20) как особенною силою. Эту нервность он сравнивает с пистоном на курке ружья, как чувствительность сравнивает с порохом. «Курок действует сначала, пистон дает искру, а искра производит вспышку пороха» (Т. II. 16). Сперва раздражается нерв, это раздражение вызывает искру нервности, которая наконец производит вспышку чувствительности. Когда же головной и спинной мозг мы раздражаем непосредственно, щипля или разрывая его, то это походит на то, как если бы курок действовал без пистона: вспышка чувствительности не произойдет в этом случае.
Хорошо ли, однако же, это объяснение? Мы видим, что здесь материальные впечатления отодвигаются далеко на задний план, что они не могут и не смеют сами по себе возбуждать чувствительность мозга, что для их грубой натуры «чувствительный элемент» недоступен. Они должны поджидать, пока в нерве возбудится особенная сила, нервность, которая одна имеет привилегию возбуждать чувствительность мозга. Если животное не ощущает, когда его мозг щипать или колоть, если только раздражение, передаваемое нервною нитью, рождает ощущения, то нервная механика объясняет этот факт из того, что внешний стимул должен подступить к нервному центру в определенной форме, какую он может принять только в нервном волокне. Внешнее впечатление, как сырой материал, должно быть изменено и переработано механическою деятельностию нерва: одни элементы впечатления должны быть исключены совершенно, другие должны принять форму, может быть, простейшую; влияние одних должно ослабеть, а влияние других — усилиться на протяжении нерва. Все это — обстоятельства, совершенно понятные из общих начал механики, из учения о передаче сил и о их превращении по мере вступления в новую среду действия. Глаз, например, мог бы оказывать нам услуги не только как оптический снаряд, но и как чувствительная, осязающая часть нашего тела. Только впечатления, которые рождали бы ощущение осязания и таким образом возмущали бы или и совсем уничтожали бы представ ления красок, исключаются особенным устройством того органа и его противодействиями. Во всяком случае, волны эфира доходят до нервного, центра не своею целостною натурой, а скорее теми последствиями, какие они могут произвести в зрительном нерве. Так клавиш не передает струне уже совершившегося движения, но развивает в ней ряды дрожаний, условленные ее особенным устройством, и собственно эти‑то дрвжания рождают в нас ощущение тонов. Льюис ни слова не говорит об этом объяснении, которое обходится без учения о нервности. С чувствительностью, с ее качествами и формами мы хорошо знакомы из внутреннего опыта, но когда Льюис предполагает в нервах еще особенную силу, то в этом случае он не может сослаться ни на какой опыт. Впрочем, так как Льюис учит, что чувствительность возбуждается первностию нервов и в свою очередь возбуждает ее (Т. II. 70), далее, что эта нервность возбуждается стимулами как физическими, так и психическими (Т. II. 20), наконец, что они служат посредником между нервными центрами при переходе одного ощущения в другое (Т. II. 47), то мы имеем основание полагать, что в этом взгляде повторяется ка–русово учение о замкнутом нервном токе и о его движениях то к центру, то к окружности, то по линии центров, соединенных нервными нитями. Нечего и прибавлять, как настойчиво входят эти предположения в психологию, которая видит в душе жизненную силу тела, и как верен Льюис в этом случае своей общей мысли. Мы вполне согласны с ним, когда он говорит, что его «новые воззрения принадлежат к системе совершенно замкнутой во всех своих частях» (Т. II. 19).
Дальнейшее обозрение оригинальных выводов Льюиса мы соединим в два отдела, из которых к первому отнесем мы его исследования об ощущении и его формах, а ко второму — его теорию телесных движений. В том и другом случае мы считаем необходимым предпосылать общие замечания, потому что иначе трудно следить за разбросанными анализами льюисовой «Физиологии». Итак, прежде всего нас должен занимать вопрос об ощущении.
Когда мы поставим этот вопрос, когда мы пожелаем знать, в каких частных формах и видах выступает общая чувствительность, какие из этих форм первоначальны и какие принадлежат последующему развитию душевной жизни, наконец, по каким законам они связы. ваются и изменяются, то на все эти вопросы о происхождении и судьбе душевных явлений история философии дает несколько ответов, правда, не согласных, но зато довольно определенных и способных заинтересовать внимание образованного читателя.
Так как в развитой душе все желания и все приятные или тяжелые чувствования происходят в сознании или падают в область представлений, так как мы не можем желать того, чего не представляем или не сознаем, не можем досадовать на человека или любить человека которого не знаем, то из этого факта развитой жизни можно вывести заключение, что основная форма чувствительности есть представление, — то нейтральное, спокойное представление, в котором заключаются простые качества красного, синего, желтого, также различные тоны запахи и так далее и в котором еще нет ни стремлений, ни приятных или неприятных чувствований. Душа, говорили картезианцы, есть вещь мыслящая или представляющая, как тело есть вещь протяженная. Учение что, которое господствовало в обширной картезианской школе, развивается и поддерживается в наше время последователями Гербарта; оно особенно интересует нас здесь в двух отношениях. Во–первых, стремления и приятные или болезненные чувствования не происходят прямо и сразу из физиологических возбуждений: они обозначают различные положения представлений, происходят из их встречи, давки, взаимной толкотни и смешения. Нейтральные представления, вступая между собою в сложные отношения равновесия или неравновесия, то тянут, то стесняют друг друга и таким образом рождают явление желания или отвращения, боли или удовольствия. Во–вторых, так называемая бессознательная душевная жизнь есть явление не первоначальное, а последствие дальнейшего развития и осложнения. Первая форма чувствительности есть сознание, представление — этот ровный свет, который так знаком нам из внутреннего опыта, но который не поддается описанию. Тени, возмущения света и затмения происходят оттого, что представления заслоняют друг друга, сильнейшие из них то не дают слабейшим светить всею полнотою своих лучей, то сообщают им движимость, сопровождаемую светорассеянием, то прогоняют их совершенно «за порог сознания». Так мало–помалу образуются состояния души полусознательные и бессознательные, так мало–помалу оседает то тёмное дно душевной жизни, из которого к удивлению наблюдателя выныряет при благоприятных обстоятельствах необозримое множество воспоминаний, познаний, идей, желаний и чувствований. Итак, вся эта бессознательная жизнь опять не происходит из физиологических источников прямо, непосредственно и сразу. Телесные раздражения рождают, во всяком случае, представления, увеличивают их сумму, а остальная душевная жизнь с ее неровностями и холмами, холодом и теплом, светом и темнотою вырастает на почве ровных, гладких и сухих представлений, как богатая жизнь земной коры держится на твердом граните.
Физиолог, который счел бы полезным следовать атоллу порядку мыслей, поставил бы для своей науки очень серьезные задачи. Всякую деятельность какого‑либо органа чувств, которая рождает не только представление качества, но и чувство боли или удовольствия, он должен бы считать за сложную и разложить этот, по–видимому один, орган на соответствующее множество органов действительных. Также если после раздражения нерва мы испытываем просто боль или удовольствие, то это служило бы для физиолога признаком, что в нерве встретились два или многие процессы, которые в первом случае нарушают нормальную жизнь нерва, останавливая, например, его питание, прерывая в нем правильный обмен веществ или выводя его частички из обыкновенного равновесия, а во втором —особенно благоприятствуют его жизнедеятельности. Вообще, задача физиолога состояла бы в следующем: 1) найти те общие и одинаковые условия, вследствие которых каждый возбужденный нерв должен бы обогащать наше сознание нейтральным представлением; 2) указать те прибавочные и изменчивые условия, по силе которых очень многие нервы, как только они раздражаются, вызывают в сознании чувствования и стремления. Не только физиологи и психологи, но и педагоги, может быть более других, нуждаются в решении этих вопросов. Им приходится часто унимать излишнюю чувствительность или стремительность ребенка. Им приходится замечать, что сильное развитие этих форм душевной жизни нередко мешает пробуждению ясного, отчетливого и спокойного понимания, здорового и крепкого смысла, светлого, соображающего сознания. А между тем как природа поставила большой мозг на верху всех остальных мозгоних мест, так и педагогия должна поставить мышление н здравый смысл на верху всего душевного развития.
В теории ощущений Льюис держится, однако, других приемов. Он предлагает нам чисто зоологическую классификацию умственных отправлений (Т. II. 62). Он хочет различать элементарные состояния чувствительности от ее форм высших и зрелых (Т. И. 40—66). Это метода постепенного развития, —метода, которая бесспорно представляет огромные удобства при опытном изучении душевных явлений.
Мы не знаем, какие представления о вещах, какое мировоззрение могут иметь полип или моллюск. Но что они чувствуют, когда им хорошо или Дурно, когда им приятно или больно, что они чувствуют бытие свое (Т. II. 62), ощущают себя или свое положение непосредственно, без понятий и представлений об этом бытии и положении, —в этом, кажется, нет возможности сомневаться. Мы не имеем понятий, которые могли бы характеризовать всю простоту и всю непосредственность той формы жизни, которая выражается в удовольствий и боли. С эмпирической точки зрения ясно одно, именно что нет уже никакой возможности сочинять удовольствие и боль, в которых обнаруживается простейшая форма чувствительности, что животное может не иметь воображения, памяти, представлений о вещах, но что оно необходимо должно чувствовать себя по своим приятным или неприятным состояниям. И человеческое дитя в первые месяцы овоей жизни находит в ощущениях приятных или болезненных то непосредственное знание вещей, без которого самые горячие заботы матери были бы бесполезны. Неприятное чувство, происходящее от сухости губ и рта, открывает ему тайну сосания; приятное ощущение распространяющейся теплоты учит его прижиматься к телу матери. Не имея представлений о вещах и их пространственном положении, не взвешивая обстоятельств, а только повинуясь простому жизне–чувствованию, дитя делает то, что соответствует потребностям его организации. На низших ступенях зоологической лестницы удовольствие и боль заменяют для животного все расчеты, все соображения, заменяют и логику, и опытность, и знание, и искусство; они составляют единственную стражу организма"и открывают ему средства к самосохранению. Можно даже предположить, что когда в этих животных патологические состояния удовольствия и боли слабеют и приближаются к то му пункту, на котором в нашей жизни возникает форма спокойного представления вещей, форма знания безучастного и «безличного» (Льюис), — к пункту, на котором энергические ощущения цветов, тонов, запахов сменяются бесцветными и непахучими представлениями или мыслями о цветах, тонах, запахах, — то эти особенные существа, не имея возможности держаться, дышать и чувствовать себя в этой стране без воздуха, без всяких действительных впечатлений и возбуждений, теряют все признаки душевной жизни и делаются простыми растениями. И человек думает о себе, что он призван в этот мир не для того, чтобы мыслить о нем, а чтобы пожить. И о человеческом мышлении одна древняя система говорила, что с постепенным его пробуждением мы так же постепенно умираем, то есть обнаруживаем себя не в тех формах непосредственного самочувствия, непосредственных удовольствий и душенастроений, которые составляют первичный факт чувствительности. Во всяком случае, как зоология указывает на тысячи животных организаций, которые при дурных обстоятельствах умирают и с первыми влияниями теплоты и влаги оживают, так и психология имеет основания предполагать, что душевная жизнь на ее низших ступенях вовсе не есть явление непрерывное: она слагается из состояний самочувствия, между которыми помещаются движения растительности неодушевленной, не чувствующей ни боли, ни удовольствия.
Льюис отличает особенную низшую ступень сознательности, которую он называет системною, потому что она происходит от постоянного возбуждения общей чувствительности органическими изменениями тела. К этой системной сознательности «относятся те ощущения, которые возникают в целой системе, главным образом вследствие органических процессов, и составляют самые массивные, самые широкие элементы чувства бытия. Существование этой сознательности мы должны принять и у самых простейших животных» (Т. II. 62). Наш физиолог выражает, в сущности, ту же самую мысль, которую мы сейчас раскрывали, именно что ряд приятных или тяжелых ощущений, поток непосредственных, беспредметных душенастроений составляет первую форму чувствительности. Только он пользуется языком, который взят из наблюдения развитых организаций. Элементы, например, нашего приятного или неприятного настроения, нашего «чувства бытия» слагаются из ошущений возбуждаемых различными системами тела: чувство голода, жажды насыщения вызывается состоянием органов и систем питания; чувство силы или. бессилия, напряженности или вялости — органами движения и состоянием мышц; настроение светлое или мрачное говорит о преобладании крови артериальной или венозной; чувство свежести, легкости и энергии находится в связи с просторным, не задержанным, не подавленным дыханием. Между. тем надобно иметь в виду, что первоначально состояние этих систем выражается в душевной жизни единственно рядом удовольствий и страданий, различными степенями приятных или неприятных насту роений и что с этими настроениями вовсе не связывается в первые минуты жизни предметное представление определенных качеств, характеристичных для тех ощущений,., которые происходят в нашей уже развитой душе от особенно организованных чувств зрения, слуха, осязания и т. д. Когда, например, голод мы отличаем от, жажды, то это нам удается только потому, что вследствие образования эти неприятные ощущения связались (ассоциировались) у нас с представлением предметов которые, входя в организацию, унимают их, да еще οтчасти потому, что мы научились локализировать их по различным частям тела: голод чувствуется будто бы в желудке, а жажда будто бы в горле. Но в самом голоде ив самой жажде нет откровения о пище и питье, нет никакого инстинктивного знания (Т. I. I). Дитя в первые месяцы жизни не чувствует ни голода, ни жажды, оно испытывает просто неприятные состояния. Только. после того как эти состояния соединяются с определенными представлениями пищи и питья, дитя, начинает чувствовать не просто боль, а голод или жажду. То же самое надобно сказать и обо всех системных ощущениях; характеристичными, качественно различными стали они вследствие дальнейшего развития душевной жизни, а первоначально они были только различные степени удовольствия и боли. Даже специальные органы чувств, каковы: зрение, слух, осязание и т. д., органы, которые доставляют развитой душе представления нейтральных качеств, производят в «чувствительности» ребенка только потоки приятных или неприятных состояний. Мы не отрицаем, что организация, которая наделена этими органами, возбуждает и в первоначальной чувствительности определенные, качественные представлениями находим недостаточною ту психологическую теорию, которая надеется из сложения и сочетания различных беспредметных удовольствий и настроений души, из какого‑то оседания или отвердения этих подвижных состояний вывести аналитически представление определенного качества, знание определенного содержания. В нашей развитой душе определенное представление сопровождается определенным чувством нашего бытия, определенным наг строением души. Мыслящий человек преследует отношения, данные в содержании или в качестве представлений, отдается, как говорят, предмету, делу, забывая о самом себе. Человек менее развитой, повинующийся непосредственной чувствительности, хватается за пробудившееся приятное настроение: он наслаждается. Оба они выступи ли из одного пункта, но один из них двинулся в область логическую, другой — в область патологическую. Теперь ясные опыты удостоверяют нас, что в чувствительности ребенка качественные представления заявляют себя не как мысль, а как жизнь, не как свет, а как теплота. Искры представления или знания действительно вспыхивают и в его душе, в этом отношении изложенная нами теория основательно характеризовала душу как нечто мыслящее или представляющее; только опыт показывает, что эти искры знания мгновенно гаснут, и дитя чувствует не свет их, а только приятную теплоту, которую они разливают в его организации. Тем с большим правом мы должны предположить этот случай в низших животных организмах.
Мы описали здесь душевное состояние, которое испытываем мы каждый день в формах более или менее осложненных во время крепкого и здорового сна. Очень дельные, но несколько разбросанные замечания Льюиса о сне (Т. II. 292—314) дают мне повод остановиться на этом явлении, тем более что в нем, как я сейчас заметил, характеристически выступают первичные формы чувствительности, формы, ясное представление которых так необходимо для физиолога.
; Вечером, когда нас клонит ко сну, мы, как играющие дети, отдаемся случайному потоку представлений и движениям фантазии, вольным, механическим, не управляемым постоянными и ясно осознанными идеями, или целями. Деятельность, сообразная с определенными целями и развивающаяся по определенному плану, деятельность, которая так характеризует созревшее, полное сознание, теперь неудается вам; она требует усилия и борьбы, требует рассчитанной передвижки, перетасовки наших пред ставлений и образов фантазии; а вечером, после дневных работ и хлопот, мы не чувствуем ни охоты, ни способности к такой деятельности. Мало–помалу эти вольные, бродящие без плана и наудачу представления теряют всякое предметное значение и обращаются в источники наших разнообразных настроений. В минуты, когда мы засыпаем, они блестят, как искры, которые в то же мгновение гаснут и только изменяют температуру наших чувствований. Во время крепкого и здорового сна мы погружаемся, таким образом, в первичную и неразвитую форму чувствительности, в непосредственное, беспредметное самоощущение. Совокупность этих состояний Льюис назвал системною сознательностию и сосредоточил в ней чувство нашего бытия. От деятельности органических систем питания, обращения крови, дыхания и т. д. мы получаем стимулы постоянные, действующие во всякое время, в состоянии бодрствования и сна и потому возбуждающие в нас чувство бытия и тогда, когда мы не противопоставляем себя и ясном и разделяющем сознании миру вещей, — чуство нашего бытия, которое в последнем случае будет иметь характер непосредственности, далее не поддающийся описанию. Так же основательно Льюис предположил, как мы видели, это непосредственное чувство бытия, это самочувствие у самых низших животных. Во сне человек следует той философии, которой держится бодрствующий полип и моллюск. Он избирает положение удобнейшее, и будет ли оно прилично или безобразно, серьезно или смешно, будет ли оно приятно или неприятно для постороннего наблюдателя, наконец, выражает ли оно хорошие или дурные инстинкты, — обо всех этих особенностях позы, физиономии, этикета и человечности спящий не беспокоится. Признаки близкого пробуждения обозначаются возвратом к той детской, вольной игре представлений, к тем бессвязным грезам, которые уже с вечера являлись на границе между сном и бодрствованием.
В физиологии и психологии долго повторялось мнение, что во время сна восстановляется и исправляется питание тканей, которое было более или менее нарушено сознательною деятельностию. Льюис отвергает это мнение, он доказывает, что «уподобление и разрушение тканей происходит непрерывно», что поэтому «разрушение их не приостанавливается во время сна» и что вообще «сон вызывается не необходймостию в возобновлении тканей»; он ссылается на замечание Валентина, что зимняя спячка животных сопровождается явного утратой веществ во всех тканях (т. II. 304, 307). Но вместе с этим он находит, что сон содействует «восстановлению ослабевшей энергии мозга и мышц» (293), что во сне мозг и органы чувств «приобретают вновь ту молекулярную целость или молекулярную полярность, от которой зависит энергия их деятельности» (306). Если этот физиологический язык дает понятия, не вполне примиренные между собой, то также не совсем удачно пользуется Льюис и языком психолога при объяснении того же самого явления. Раз говорит он, что сон есть отдых, что утомление дня побеждается ночным сном и что мы просыпаемся укрепленные (304), а в другом месте замечает, что «сон не зависит от какой‑либо потребности в отдыхе, потому что он преобладает у лиц, не нуждающихся в отдыхе, не утомляющих себя» (307). Мне кажется, что надобно отличать сон как нормальную смену бодрственной жизни от сна, который есть следствие особенных состояний организации. Обыкновенный сон, по крайней мере, освобождает наше тело от насилия и неестественного положения, которое оно испытывает, преследуя в бодрственном состоянии цели искусственные, отдаленные, задуманные и всегда больше или меньше стесняющие его непосредственную жизнедеятельность. Сон благоприятен для питания уже- потому, что во время сна мы не препятствуем отправлениям питания, которые не находятся в зависимости от нашего произвола и расчета. Иначе было бы непонятно, почему сон есть отдых, почему мы пробуждаемся укрепленные и почему во сне «восстановляется молекулярная целость» органов чувств и органов произвольного движения. Животные пробуждаются из зимней спячки похудевшими, это правда; но не следует забывать, что продолжительная зимняя спячка не избавляет этих животных от потребности засыпать ежедневно после определенного времени, проведенного в состоянии бодрствования. Даже, говоря строго, и зимняя спячка не противоречила нуждам питания, потому что продолжительный сон, недеятельность органов чувств и мышц произвольного движения, пониженное дыхание и т. д. служили для животного единственным средством к сохранению теплоты, без которой его питание прекратилось бы совершенно; свой запасный жир животное расходовало на топливо, а между тем недеятельность его была причиною того, что, с одной стороны, прежние ткани изнашивались медленно, а с другой, бедное подновление этих тканей из старых запасов организации оказывалось достаточным для целой жизни, сонной, погруженной в обморок. Природа н этом случае, как и во всех других, поступает очень экономически, расчетливо и даже скупо, но промахов она не делает. Промахи начинаются только там, где пробуждается соображение и сознательный расчет. И человека клонят ко сну ощущения сильного холода (Т. II. 301). Дремота, начинающаяся во время оцепенения от стужи, невообразимо сладка. Только человек не должен следовать запросто этому указанию непосредственных чувствований: сон, вызываемый ощущениями холода, может быть вреден для отправлений питания, может даже покончиться смертию. Укажем также на сон, который одолевает нас в жаркой и удушливой атмосфере или после сытного обеда, после значительного употребления спиртных и наркотических веществ. Во всех этих случаях сон может быть сообразен и несообразен с целями питания, может быть полезен и вреден для организма смотря по тому, как относились к общей экономии жизни те причины, которые произвели его. Надобно вообще помнить, что в человеке и потребность сна часто бывает нажитая, вызываемая искусственными средствами и что поэтому нельзя считать каждый сон за состояние, в котором восстановляется молекулярная целость организма.
Самую общую физиологическую причину сна Льюис находит в легком приливе крови к сосудам мозга и органов чувств (306); при этом он замечает, что «усталость наводит сон не сама по себе, но обусловливая застой крови» (307). Это последнее положение мы должны перевернуть, чтобы достигнуть ясности и примирить Льюиса с самим собой. Не усталость обусловливает застой крови, а, наоборот, застой крови есть условие или телесный стимул усталости как состояния душевного. Причиною сна должен быть прилив, застой или вообще ненормальное состояние крови в мозге, органах чувств и мышцах произвольного движения. Спят, собственно, эти части организма. Этот прилив, застой, неправильное размещение крови могут происходить от обстоятельств очень разнообразных и даже противоположных, каковы холод, жар, сытный стол, спиртуозные напитки, наркотические вещества, напряженная дневная работа, влияние впечатлений однообразных и оттого задерживающих живой обмен веществ и т. д Но очевидно, что, если бы физиологическая перемена, которая произошла в состоянии крови, не сказалась особенным неприятным чувством— усталостью, — мы не придумали бы сами прервать сообщение с внешним миром, мы не догадались бы, что пора закрыть глаза, оставить органы движения в покое и предаться какому‑то неизвестному сну. Мы вполне согласны с Льюисом, что «сон во всяком случае есть отдых»; но мы не можем следовать за ним далее, когда он, противореча самому себе, утверждает, «что сон не зависит от потребности в отдыхе, потому что сон преобладает у лиц, не нуждающихся в отдыхе, не утомляющих себя». Очевидно, что и у этих лиц застой крови или ее венозное качество должны сказаться тем же неприятным ощущением усталости, какое деятельный человек испытывает к концу своего рабочего дня. Пред наступлением сна от какой бы то ни было частной физиологической причины человек чувствует себя неспособным соображаться с общим ходом вещей и с указаниями отчетливого мышления; дело, которое доселе выполнялось легко, оказывается тяжелым и требующим нарочных усилий; движение членов, происходившее само собой, не может более совершаться без намеренных, рассчитанных импульсов воли; комбинации представлений, сообразные с определенными задачами науки или жизни, даются все с большим и большим трудом; сознательно поставленные цели, которых мы достигали, оказываются далее недостижимыми. Во всех этих случаях дано чувство трудности, препятствия, задержанной деятельности, усталости. Быть сознательным, действовать на. вещи посредством воли и сноситься с ними посредством ясных представлений, — все это стало для человека неприятностию, тяжелым бременем. В чувстве усталости сказалось несоответствие между формами бодрственной жизни и «системною сознательностию» или чувством нашего бытия. Но в то время, как мы испытываем глубокую нерасположенность к жизни, управляемой сознанием, расчетом, произволом, к жизни, которая заявляет себя преследованием задуманных, заданных целей, в то самое время, по мере уменьшающейся самодеятельности и самообладания, поднимаются приятные ощущения как бы из другого края душевной жизни, подступают волны непосредственных вриятных настроений, — волны, в которых тонет предметное сознание. Закрытие органов чувств, недеятельность мышц произвольного движения, йрекращенйе соображающей, судящей сознательности, — положительная, существенная, это — одностороннее преобладание «системной сознательности», это — поворот к форме чувствительности алементарной, первичной, младенческой, это —жизнь в простых непосредственных душенаетроениях, в беспредметном самочувствии.
Итак, во сне односторонним образом проявляется та же самая жизнь, которая и в бодрственном состоянии известна нам из нашего общего чувства. Тысячи впечатлений, выходящих из различных внутренних частей нашей организации, возбуждают в каждое мгновение «чувствительный элемент» и рождают в нем необозримое множество ощущений. В этих органических ощущениях мы, однако же, не получаем знания о частях и частичках нашей организации, о цвете, крови, о длине мускульных волокон, о положении кишок, о свойстве лимфы, о качестве находящихся в желудке веществ; в этих ощущениях не дано нам представление определенного качества или содержания: они существуют в нас только кик источники различных, в частности изменчивых, но в целом непрерывных чувствовании и настроений, как источники общего чувства нашего бытия. На этом общем чувстве нашего бытия, как на подвижном грунте, вырастают частные формы сознательности. Душа, говорил Лейбниц, есть словно какой‑то океан, в котором сокрыто неисчислимое множество самых темных ощущений, и определенные понятия подобны островам, выныряющим из этого океана. Во сне, прибавим мы, эти острова опять покрываются волнами общего чувства. Если предполо–жим, что количество душевной жизни отмерено нам природою раз навсегда, что это количество не изменяется, тогда математическая аналогия сделала бы для нас понятным, что с расширением вола общего чувства число определенных сознательных форм должно уменьшаться и, наоборот, возрастание этих форм в числе произведет упадок непосредственного самочувствия. Опыты, по–видимому, оправдывают это предложение.
Мы обозначили форму чувствительности, первую в зоологическом или биологическом отношении. Вместе же с этим мы положили прочное основание для разрешения вопроса о том, что надобно разуметь под именем бессознательных ощущений. Об этих бессознательных ощущениях Льюис написал целый трактат (Т. II. 39— 62), трактат, в котором он изобличает современную пси хологию в неверном взгляде на этот предмет, объясняет открытый им «новый закон чувствительности» (Т. II. 47) и излагает начала, которыми он руководствуется при своем учении о психическом произволе и психическом контроле (Ί\ II. 165—170) и также при определении общего отношения между явлениями жизни душевной и отправлениями нервной системы. Мы остановимся пока, на его учении о бессознательных ощущениях.
Во–первых, Льюис доказывает, что выражение- бессознательные или несознанные ощущения чрезвычайно как неточно. «Мы принимаем, — говорит он, —что иметь ощущение и сознавать его —это одно и то же; но иметь ощущение и обращать на него внимание — это две вещи разные» (Т. II. 44). «Иметь ощущения и сознавать ощущения, — говорится в другом месте, — это одно и то же Иметь ощущения и знать, что мы их имеем, — это две вещи разные. Знание невозможно без сознательности; но сознательность может существовать без знания и часта существует» (Т. II. 40). «Мы не должны, забывать различия которое существует между ощущать и замечать». (44). «Для возбуждения ощущения достаточно связи нерва с его узлом» (117—118). «Везде, где нерв возбуждает, узел, является чувствительность» (ощущение.) 4119). Между тем замечать ощущение или обра, тать на него внимание можно только тогда, когда ощущение, уже возбужденное в нервном узле, рефлектируется на головной мозг. «Луч света, действующий на оп-., тический центр, должен возбудить иную форму чувствительности, чем та, которая возбуждается его действием на. большой мозг чрез посредство оптического центра; в. первом случае свет ощущается, во втором он замечается»). Это отношение между ощущением и замечанием, или вниманием, определяется, по Льюису, следую? щим. новым законом чувствительности: «ни одно ощущение не замыкается само в себе; оно должно разрешиться или в какое‑нибудь вторичное ощущение, или в импульс к движению. В большинстве случаев и то и другое имеет место» (Т. 11. 46, сравн. 169). Итак, новое ощущение, которое уже произошло в каком‑нибудь центре, рефлектируется на головной мозг — тогда мы замечаем это ощущение, тогда обращаем на: него внимание. Внимание, есть ощущение вторичное, или. рефлективное. Известно, например, что человек, у которого поражен спинной мозг, не чувствует более никаких других внутренних потрясение когда колоть жечь, или щипать части его тела, соединенные с нервными центрами, лежащими ниже пораженного места. Льюис думает, что этот человек имеет ощущений, но что он не замечает их. «Повреждение спинного мозга, — говорит он, — уничтожает в частях, лежащих ниже того места, в котором он поврежден, способность передавать головному мозгу чувствительные впечатления» (Т. П. 223). Поэтому вообще он хочет отвергнуть бессознательные ощущения и поставить на их место ощущения не замеченные (J4). Он уверен, что «иметь ощущение и сознавать его — это одно и то же», но только думает при этом; что можно не заметить того ощущения, которое мы сознаем во всяком случае.
Хорош ли, однако же, этот язык и облегчает ли он объяснение фактов, им обозначаемых? Ногу у человека, У которого поврежден спинной мозг, Колют, щиплют, прижигают. Когда его спрашивают, больного ли ему, чувствует ли он боль, он отвечает, что он ровно ничего не чувствует (222). Льюис между тем полагает, что этот человек имеет ощущение боли и сознает его, но ие замечает его (ср. 44) или что он имеет ощущение боли и сознает его, но не знает, что имеет его (ср. 40). Хорош ли этот язык, повторяем? Можно ли вообще скатать с Льюисом, что «сознательность может существовать без знания и часто существует» (40)?
Пример человека, у которого поражен спинной мозг, выступает несколько из ряда, и потому мы пока оставим его и приведем более обыкновенные примеры, с помещик» которых Льюис хочет выяснить свой Мысль. «Мельничное колесо, — говорит он, — шум которого сначала так докучен, перестает наконец возбуждать наше внимание. Впечатления на нерв слуха продолжаются, но, хотя мы и слышим их, мы перестаем о них думать: рефлективные чувствования не возбуждаются более. Обыкновенно думают, что мы перестаем их слышать, переставая сознавать, что мы их слышим; но это очевидно неверно. Пусть это колесо разом остановится, и тотчас же в наших ощущениях произойдет соответствующее изменение, и это изменение может быть так сильно, что если остановка колеса произойдёт в то время, когда мы спим, то оно разбудит нас. Если бы ощущение звука прекратилось, то прекращение самого звука не разбудило бы нас» (49—50). «Может случиться, что: мы уснем и время проповеди. Звуки голоса слышны, но мало–помалу мы перестаем различать слова. Возбуждаются ли в нас какие‑либо ощущения в это время? Мы не слышим, но не действуют ли на нас звуки? Легко доказать, «То они действуют. Если читающий замолчит и если наш сон не очень крепок, то мы проснемся тотчас же„. Или пусть читающий, не возвышая голоса, спросит: «Вы спите?», и мы тотчас же вскочим, широко раскрывая глаза и говоря; «Ничуть не бывало» Или пусть он произнесет какую‑нибудь фразу, легко возбуждающую рефлективные чувствования, что‑нибудь вроде: «Почтальон пришел» или «Здесь, кажется, что‑то горит», и мы тотчас же вскочим» (51, 52). Когда мы слушаем оркестр и не можем следить раздельно за отдельными инструментами, обыкновенно говорят, что мы их не слышим. «А между тем ничего не может быть вернее того, что мы их слышим. Стоит одному из этих инструментов замолчать в самом разгаре crescendo, и гром других инструментов не помешает нам ясно заметить какую‑то разницу» (44).
Выше мы показали, что в наших ощущениях надобно различать две стороны:, во–первых, знание определенного качества или содержания и, во–вторых, то состояние, то настроение общего чувства, которое следует за таким знанием. Ощущения бессознательные суть те, которые служат только источниками различных настроений, а не источниками знания. Это самая низшая степень сознательности, где ощущения являются, так сказать, не лично, не своими определенными качествами, а только своим влиянием на движение общего чувства. Как ни просто это замечание, оно очень осложняется, когда мы обратим внимание на два обстоятельства.. Первое из них состоит в том, что ни теоретические соображения, ни физиологические опыты не дозволяют нам приписать всем нервным волокнам совершенно одинаковые силы, благодаря которым все они содействовали бы рождению ощущений одинаково ясных и определенных. Справедливо, что недостаток внимания очень часто бывает причиною того, что некоторые внутренние состояния не существуют для нашего сознания. Но ипохондрик следит за ощущениями, происходящими от изменения внутренних частей тела, слишком внимательно, и все же он замечает только различные виды давления, гнета, тяжести, боли, то есть замечает результаты этих ощущений в общем чувстве, а не специальное содержание их или качество. Нерв возбуждает более или менее ясные ощущения смотря по тому, как подступает стимул к его периферическому разветвлению, в каком состоянии находится в данную минуту его питание, коротким или длинным путем доходит он до своего центра, обвешан ли он ганглиями, или же он тянется везде в чистом виде и т. д. Когда психология называет некоторые чувства высшими, то в этом случае она не думает расходиться с физиологией. При самых сильных душевных потрясениях представление элементарных тонов и красок остается одинаковым, имеет ясность и определенность сознания, не возрастающую в степени; перемены в образе жизни, изнеженность или огрубение организации обнаруживают самое ничтожное влияние на качества этих представлений. Но как сильно различные обстоятельства изменяют чувствительность кожи, пальцев, органов вкуса, в особенности же состояния общего чувства! Для человека, тело которого огрубело, целые ряды ощущений из этого обширного отдела или вовсе не существуют, или же они делаются ему известны в тупой, общей, нераздельной чувствительности. Указывая на это различие в отправлениях нервов, мы, однако же, не должны терять из виду одного общего для всех нервов закона, именно что нерв подает повод к ощущению только тогда, когда происходит перемена в его деятельности. Наши нервы находятся в непрерывной деятельности вследствие стимулов, получаемых ими от движения крови и обмена веществ. Но эта непрерывная деятельность не рождает ощущения, пока не происходит в. ней никакой перемены. Если теперь и внешние стимулы таким же. образом возбуждают нерв к деятельности постоянной, одинаковой и непрерывной, то мало–помалу эта деятельность перестает рождать ощущение, которое возникает тотчас, как только. в той же деятельности произойдет перемена. Даже при нашем развитом сознании мы можем сделать опыт, которым подтверждается этот закон Когда мы уставим глаза в ровную, не имеющую разностей синеву неба и изберем положение такое, чтобы в поле зрения не падали никакие другие предметы, ни даже части нашего тела, то после некоторого времени мы перестаем сознавать ощущение синего неба, и рее это бесконечное поле лазури Обратится в состояние какого‑то общего, беспредметного чувства. Мы спим в экипаже, пока он катится, и пробуждаемся, когда он остановится. Мельник спит, пока мельница стучит, и пробуждается, как только стук затихает. Говорят, что мы привыкаем к постоянным впечатлениям и оттого не чуствуем их. Это правда; только это означает, что нерв приспособился к определенному состоянию возбуждения, что равновесие его частиц, которое сначала было нарушаемо этим возбуждением, восстановилось несколько в другой форме и в других пропорциях и что эта новая форма равновесия уже не возмущается теми впечатлениями, под влиянием которых они произошли. Здесь мы видим, что привычка ив самом деле есть вторая природа, есть природа, приспособившаяся к обстоятельствам."Мельник не слышит шума мельницы, как он не чувствует жесткости постели, на которой он спит, не чувствует жесткости пищи, которою он питается, не чувствует зуда в глазах, которые ежеминутно набиваются мучною пылью, и т. д. И наоборот, как только мы хотим поддержать в нервах способность к ощущениям, мы не позволяем им отдаваться одинаковой деятельности. Так во время обеда мы располагаем блюда по степени их лакомства. Так оратор начинает речь спокойно и даже тихо и оканчивает громким и потрясающим голосом. Сюда же относятся всё правила опытности и науки, предохраняющие нас от ранней усталости в течение занятий и от ранней старости в течение жизни. Второе обстоятельство, на которое мы хотим указать здесь, состоит в том, что как душевная жизнь развитого человека, так и душевная жизнь пожившего на свете червяка имеют определенные, сложившиеся формы"; и потому если даже существуют все физиологические условия для того, чтобы произошло ощущение, то всё же новое ощущение должно протесниться в эти формы, должно как‑нибудь пристать к ним или зацепиться за чтобы Достигнуть — полной сознательности. Душа не есть tabula rasa, в душе остаются следы и направления её историй и ее образования, и поэтому для сознательности ощущений могут возникать препятствия со стороны самих психических форм. Но Льюис нигде не говорит об этих сложившихся формах как"об условиях, которые то препятствуют, то содействуют сознательности нового ощущения. Между тем из постоянных опытов vы знаем, что в душевной жизни, как в организованном обществе, одни представления стоят выше, другие ниже, а ещё другие, может быть, на самом дне; одно действует энергичнее, другое — слабее, а третье, может быть, заметно только по переменам в движении других представлений. Последний случай особенно часто открывается самонаблюдением. Вновь возникающие ощущения не дают знания о своих качествах, а только обнаруживают Себя влиянием на ускорение или замедление уже господствующего потока наших представлений, то поддерживают, то задерживают деятельность памяти и воображения. Имя или обстоятельство, которое вы не могли припомнить, несмотря на все ваши усилия, в другое время приходит вам на память само собою, без вашего вызова и ожидания. Вы уже хотели высказать известную мысль и только приудержали ее на несколько минут сообразно с планом рассказа, но когда пришла пора, вам не удается припомнить эту мысль, она исчезла из сознания. Ваше сознание иногда расширяется, иногда суживается, ваше мышление иногда оказывается свежим, живым, проникающим, охватывающими сильным, иногда — вялым, тяжелым, несообразительным. Все эти неожиданные перемены «течении ваших представлений зависят от условий, сокрытых для непосредственного сознания. Незначительные, в частности несознаваемые ощущения, накопляясь мало–помалу, обнаруживают свою силу над течением ваших мыслей. Как во внешнем опыте так и в Опыте внутреннем непосредственному сознанию открываются целостные результаты, а не частные факторы. Надобно также хорошо заметить, что в случаях, которые сейчас привели мы, целостные результаты новых ощущений сказывались только формальною переменой в движении мыслей, — а не переменою самого содержания их. Это последнее явление происходит большею части» только тогда, когда новое ощущение оказывается сообразным с Нашими настоящими стремлениями; интересами и занятиями. Нельзя думать серьезно, что мы так и изменяем содержание наших мыслей по первой воле впечатлений; этого нельзя сказать даже о жизни полипа или моллюска. Ощущение, которое имеет все условия, необходимые для ясности и сознательности; но которое будет противоречить преобладающему интересу душевной жизни, вынырнет на поверхность сознания и тотчас же потонет, тотчас же оттеснится назад ходом господствующих мыслей и стремлений. Правда, что многие из случайных и несообразных с планами жизни ощущений вторгаются в наше сознание слишком настойчиво, вторгаются с такою силой, которая может или прерывать, или подавлять наши сознанные стремления и развития мыслей. Но для уничтожения; их влияния, для низведения их до степени бессознательности мы; люди, имеем огромные средства как- в нашей цивилизации, так и в Нашем личном образовании., Наши дома наша одеж да, употребление огня, искусственная подготовка пищи облегчающая наше пищеварение, изготовление различных летучих и пахучих веществ, употребление машин и двигателей, заменяющих усиленное напряжение мускулов, и т. д., — все это средства цивилизации, предохраняющие нас от случайного натиска резких ощущений, которые иначе вторгались бы во все наши чувства, все это условия нашей умственной свободы, нашей независимости от слепого влияния вещей на наше сознание. Также наше личное образование, наш сложившийся характер, господствующая предрасположенность к определенному образу действий и занятий, привычки, наклонности, страсти, убеждения, — все это формы, которые не дают свежим ощущениям вступать в сознание запросто н приобретать привилегию полной сознательности за то только, что в физиологическом процессе были достаточные для этого условия; все это как бы особенные, происшедшие из образования органы чувств, которые открывают доступ в сознание ощущениям, которые уже видоизменились или которые по своему первоначальному Содержанию соответствуют нуждам, задачам и стремлениям развитой душевной жизни. Ни в каком случае нельзя сказать с Льюисом, что иметь ощущения и сознавать их — это одно и то же, или что для происхождения сознательного ощущения достаточно влияния нервного волокна на нервный узел. Все это, может быть, и относилось бы к душе, которая пока еще есть tabula rasa, но все это нисколько не объясняет душевной жизни, которая уже имела какую‑нибудь, хотя бы и самую неблестящую, историю. И телесная организация воздействует на внешние стимулы не только сообразно с своим постоянным устройством, но также сообразно с своею изменчивою историей: одинаковое раздражение нерва производит различные, далеко не одинаковые перемены в нервном центре смотря по тому, какие изменения испытал организм, какую историю пережил он. Мы ничего больше не хотим, как только признать силу этого условия при объяснении форм и изменений душевной жизни.
Так как здесь мы не можем обозреть очень разнообразных положений, какие может иметь ощущение в нашем сознании, то мы окончим наше исследование двумя замечаниями, которые опять будут представлять общие, руководящие начала.
Во–первых, окружающий нас мир мы истолковали очень разнообразно и обратили его в сумму знаков или себя влиянием на ускорение или замедление уже господствующего потока наших представлений, то поддерживают, то задерживают деятельность памяти и воображения. Имя или обстоятельство, которое вы не могли припомнить, несмотря на все ваши усилия, в другое время приходит вам на память само собою, без вашего вызова и ожидания. Вы уже хотели высказать известную мысль и только приудержали ее на несколько минут сообразно с планом рассказа, но когда пришла пора, вам не удается припомнить эту мысль, она исчезла из сознания. Ваше сознание иногда расширяется, иногда суживается, ваше мышление иногда оказывается свежим, живым, проникающим, охватывающим;- сильным, иногда—вялым, тяжелым, несообразительным. Все эти неожиданные перемены в течении ваших представлений зависят от условий, сокрытых для непосредственного сознания. Незначительные, в частности несознаваемые ощущения, накопляясь мало–помалу, обнаруживают свою силу над течением ваших мыслей. Как во внешнем опыте так и в опыте внутреннем непосредственному сознанию открываются целостные результаты, а не частные факторы. Надобно также хорошо заметить, что в случаях, которые сейчас привели мы, целостные результаты новых ощущений сказывались только формальною переменой в движении мыслей, а не переменою самого содержания их. Это последнее явление происходит большею части» только тогда, когда новое ощущение оказывается сообразным с нашими настоящими стремлениями; интересами и занятиями. Нельзя думать серьезно, что мы так и изменяем содержание наших мыслей по; первой воле впечатлений; этого нельзя сказать даже о жизни полипа или моллюска. Ощущение, которое имеет все условия, необходимые для ясности и сознательности; некоторое будет противоречить преобладающему интересу душевной жизни, вынырнет на поверхность сознания и тотчас Же потонет, тотчас же оттеснится назад ходом господствующих мыслей и стремлений. Правда, что многие й в случайных и несообразных с планами жизни ощущений вторгаются в наше сознание слишком настойчиво, вторгаются с такою силой, которая может или прерывать, или подавлять наши сознанные стремления и развития мыслей. Но для уничтожения их влияниям для низведения их до степени бессознательности мы, — люди, имеем огромные средства как- в нашей цивилизации, так и в Нашем личном образований, Наши домашняя одеж да, употребление огня, искусственная подготовка пищи,, облегчающая наше пищеварение, изготовление различных летучих и пахучих веществ, употребление машин и двигателей, заменяющих усиленное напряжение мускулов, и т. д., — все это средства цивилизации, предохраняющие нас от случайного натиска резких ощущений, которые иначе вторгались бы во все наши чувства, все это условия нашей умственной свободы, нашей независимости от слепого влияния вещей на наше сознание. Также наше личное образование, наш сложившийся характер, господствующая предрасположенность к определенному образу действий и занятий, привычки, наклонности, страсти, убеждения, — все это формы, которые не дают свежим ощущениям вступать в сознание запросто н приобретать привилегию полной сознательности за то только, что в физиологическом процессе были достаточные для этого условия; все это как бы особенные, происшедшие из образования органы чувств, которые открывают доступ в сознание ощущениям, которые уже видоизменились или которые по своему первоначальному содержанию соответствуют нуждам, задачам и стремлениям развитой душевной жизни. Ни в каком случае нельзя сказать с Льюисом, что иметь ощущения и сознавать их — это одно и то же, или что для происхождения сознательного ощущения достаточно влияния нервного волокна на нервный узел. Все это, может быть, и относилось бы к душе, которая пока еще есть tabula rasa, во все это нисколько не объясняет душевной жизни, которая уже имела какую‑нибудь, хотя бы и самую неблестящую, историю. И телесная организация воздействует на внешние стимулы не только сообразно с своим постоянным устройством, но также сообразно с своею изменчивою историей: одинаковое раздражение нерва производит различные, далеко не одинаковые перемены в нервном центре смотря по тому, какие изменения испытал организм, какую историю пережил он. Мы ничего больше не хотим, как только признать силу этого условия при объяснении форм и изменений душевной жизни.
Так как здесь мы не можем обозреть очень разнообразных положений, какие может иметь ощущение в нашем сознании, то мы окончим наше исследование двумя замечаниями, которые опять будут представлять общие, руководящие начала.
Во–первых, окружающий нас мир мы истолковали очень разнообразно и обратили его в сумму знаков или символов для наших мыслей, чувств, ожиданий, стремлений. Тоны, как тоны, мы слышим, может быть, только тогда, когда настраиваем наши инструменты или делаем акустические опыты. В речи человека они интересует нас как знаки мыслей; в оркестре мы интересуемся целостным эффектом, а не каждым тоном порознь. Этот целостный эффект, полную волну тонов мы и сознаем ясно и определенно. Когда же мы хотим получить ясные и сознательные ощущения от одного какого‑нибудь инструмента, то, пожалуй, при некотором напряжении и при навыке мы можем успеть в этом; только уже мы не будем сознавать эффекта, производимого оркестром. Мельник, который обыкновенно не слышит шума своей мельницы, оказывается необыкновенно чутким ко всякому новому стуку или скрипу машины, а также и к полному прекращению шума: эти изменения особенна интересуют его, они служат для него знаками того, что в положении мельницы произошла какая‑нибудь важная перемена. Так объясняется обстоятельство, что мельник и нечувствителен, и чуток к звукам мельницы (Т. II. 50).
Во–вторых, всякое свежее воззрение дает ощущения, которые только в последующем воспоминании поставляются в прочную связь с нашими остальными мыслями и которые до этого воспоминания составляют зыбкое, летучее, мгновенно исчезающее содержание нашего сознания. Когда мы делаем наблюдения, то в этом случае мы не отдаемся простому, неопределенному зрению; каждое свежее ощущение мы тотчас же воспроизводим по определенному плану, принимаем в общее понятие, и только в этом общем понятии ощущение достигает ровной и полной сознательности. Сообразно с преобладающими в нашем мышлении схемами, категориями и формами, также сообразно с стремлением его понимать разбросанные частные представления по определенному плану или в определенном единстве мы скорее, легче и яснее сознаем нераздельный образ вещи, нежели ее пестрые свойства, скорее целое, нежели его части. Тут нечего возражать общими соображениями вроде того, что все части и частички вещи посылали от себя стимулы на наш зрительный нерв, что, следовательно, они были ощущаемы и сознаваемы. Эти, может быть, бесчисленные стимулы сделали свое дело: они были источником той свежести и жизненности чувственного воззрения, от которой не осталось никаких следов в нашем ясном, вполне сознанном представлении;, о. вещи. Итак; эти стимулы условливали только особенное состояние общего чувства в то время, когда мы получали впечатления непосредственно от вещей, но они не рождали в нас ясных и сознательных ощущений. s Таким образом, мы обозначили, хотя в общих чертах, различные степени бессознательности и сознательности ощущений. Самую низшую ступень занимают ощущения, рождаемые элементарною деятельностию нервов во время сна, — тою деятельностию, которую они обнаруживают и в нашем раннем детстве. Ощущения, происходящие от нормального изменения внутренних частей тела, условливают общее настроение души, а не сознание определенных качеств. Далее, специальные органы чувств представляют очевидную постепенность относительно способности рождать ясные ощущения. Но вообще, как только и внешние стимулы, подобно внутренним, делаются постоянными и непрерывными, следовательно, как только производимые ими потрясения нервов перестают иметь для этих нервов значение перемены, ощущения не возникают. Если от физиологии обратимся к психологии, то здесь несомненные факты доказывают, что есть ощущения, заявляющие себя только формальным влиянием на поток наших мыслей, что при самых благоприятных физиологических условиях содержание ощущений остается или несознанным, или не ясно сознанным, как только оно не соответствует преобладающему стремлению душевной жизни, ее сильным интересам, занимающим ее мыслям, сложившимся в ней формациям; далее, что в очень многих случаях мы сознаем ощущения не по их простым качествам, а только как случайные знаки чего‑нибудь другого, как случайные указания на то, что главным образом интересует нас; наконец, что полную, неспособную возрастать более сознательность имеют ощущения, которые захватываются нами в ясные образы, понятия, категории. Сознательность, как cвет, который уже не может быть светлее, принадлежит только логически развитым понятиям, а все другое содержание нашего знания не имеет этого равного и одинакового освещения.
Сам Льюис приходит к предположениям, которые мы доселе раскрывали, и только не дает им того веса, какой они имеют. Мельника перестает наконец дразнить и беспокоить шум мельницы, потому что, говорит г Льюсе, «ощущение, его смешалось со всеми теми ощущениями, которые образуют наше общее сознание» (50). — Когда в оркестре замолчит один инструмент, «гром других инструментов не помешает нам ясно заметить какую‑то разницу» (44). Итак, стук мельницы действует только на общее чувство мельника. Какая‑то разница, замечаемая нами в оркестре, когда замолчит один инструмент, относится, без сомнения, к целостному впечатлению игры, к целостной волне ощущений, а не к сознанию отдельных тонов. Льюис говорит, что мельник не обращает внимания на стук мельницы и что этот стук не беспокоит его. То же надобно сказать и о человеке, который заснул во время проповеди. Он не обращал внимания на то, что говорил проповедник, и слова проповедника не беспокоили его. Но действительно, всякое явление в нас или вне нас мы сознаем или свободно, потому что обращаем на него внимание, или невольно, потому что оно беспокоит нас, насильственно вторгается в круг наших представлений и мешает их течению. Если ни то, ни другое не ртносится к мельнику и к человеку, который спит во время проповеди, то остается совершенно непонятным, каким еще особенным способом первый слышит и сознает стук мельницы, второй слышит и сознает слова. проповедника. Мы согласны с замечанием Льюиса, что эти ощущения заявляют себя в общем чувстве; но именно на этом основании мы отвергаем его положение, что иметь ощущения и сознавать их — это одно и то же: в общем чувстве не дано сознания цветов, тонов, запахов, общим чувством мы не слышим, не видим, не обоняем. Впрочем, мы скоро убедимся, что для Льюиса это очень серьезный пункт, что приписывая всем ощущениям ровную и одинаковую сознательность и доказывая, что эта сознательность может еще не иметь никакого отношения к нам, к нашему вниманию, к нашему сознанию, доказывая, что мы еще можем не замечать того, что уже сознаем мы, Льюис остается верен своим основным взглядам на явления физиологические и психологические и на их взаимное отношение. Если в чем мы не можем отказать Льюису, так это в логической последовательности, которая не боится никаких революций в области опытных познаний. В настоящее время это, без сомнения, редкое качество.
«Ни одно ощущение не заканчивается само в себе; оно должно разрешиться или в какое‑нибудь вторичное ощущение, или в импульс к движению. В большинстве случаев и то и другое имеет место» (46). Такав новый закон чувствительности. Если брать его в общем значе нии, — то это одна из бесспорных истин естествознания. Ощущение, как и всякое явление, не имеет в себе самом своего начала, но также оно не имеет в себе самом и» своего конца, следовательно, оно не замыкается само в: себе ни с той, ни с другой стороны: оно есть событие, возникшее из определенных условий, и есть условие возникающих из него событий. Так, мы уже выше показали, что ощущение или изменяет наше чувство, или производит формальное влияние на течение наших мыслей, или обогащает нас новым знанием. «Ощущения, — говорит также Льюис, — возбуждают другие ощущения, идеи порождают новые идеи» (171). Только, чтоб этот новый закон чувствительности был плодотворен для объяснения явлений душевной и органической жизни, нужно еще показать, какие обстоятельства понуждают ощущение разрешиться в разные, отличные от него явления, почему ощущение переходит здесь в движение членов тела, там — в ощущение вторичное, а в большинстве, случаев в то и другое. Льюис полагает, что «ощущение Обыкновенно разрешается путем удобнейшим» (48), и доказывает, что этот–удобнейший путь есть во всяком случае физиологический. Там, где «мышечное сокращение представляет легчайший, удобнейший путь исхода для ощущения, всякий стимул производит рефлективные действия» (47—48). Но может статься, что по связи нервных узлов для ощущения удобно будет возбуждать не нерв движения, а какой‑нибудь нервный узел, и тогда 1 оно разрешится не в рефлективное действие, а в новое, «во вторичное» ощущение. «Это рефлективное чувство-! вание может, в свою очередь, разрешиться в действие или еще в Другое чувствование» (47, 169). «Вторичное ощущение, — замечает при этом Льюис, —я называю рефлективным чувствованием, желая указать на сходство его как физиологического процесса с рефлективным действием» (47).
— Если закон чувствительности, представленный Льюи–сОм, и можно назвать новым, то задачи, которые он должен бы порешить, далеко не новы. В физиологии с дав- них пор делаются попытки привязать каждое ощущение, каждое представление, каждую идею, вообще все направления, положения и формы нашего сознания к оп–рёДедаениьш нервным центрам, как различные деяТель — НОети«их носителям. В начале нашего — столетия"Ѣёп–ский фйзйоло Галль развил теорию (краниологию, органологию или френологию), которая для каждой психической формы указывала соответствующий орган в головном мозге. Он предполагал, что моральные и умственные способности прирождены человеку, как инстинкты животных, и, с другой стороны, что головной мозг не есть общий орган животной жизни, но что он представляет сумму отдельных и самостоятельных органов, из которых каждый носит в себе определенную форму душевной жизни. Таким образом, душа будет иметь различные способности, наклонности и страсти, будет обнаруживать различные моральнее и интеллектуальные качества, будет рассуждать глупо или умно, Действовать честно или подло смотря потому, какие мозговые органы развиты и какие нет или какие из этих органов выросли вследствие того, что к месту, где они расположены; притекали достаточные питательные средства, и какие не выросли или не доросли вследствие бедного притока питательных веществ к их"месту. Ученик Галля Шпурцгейм развил органологию до подробностей, которые даже на первый взгляд должны показаться странными. Нму удалосіі, например, найти особенные мозговые органы для ліобни к детям, для побуждений к воровству, к убийству, также мозговые органы, от которых зависит явление спеси, тщеславия, справедливости, надежды, религиозности, веры в чудеса и т. д. Он был слишком счастлив в своих наблюдениях и находил, например, что матери, которые убивали своих детей или вытравляли зародыши, не имели на черепе шишек, соответствовавших органу любви к детям и, значит, Не имели самого органа. Также черепа воров и убийц никогда не представляли ему возвышений, которые свидетельствовали бы о том, что в их мозгу помещались когда‑то органы справедливости, общительности и т. д.
В наше время это учение брошено; оно размещало формы душевной жизни на мозгу, как на ландкарте, и приписывало самостоятельный характер таким внутренним явлениям, которые выходили из осложнения и видоизменения немногих основных представлений, чувствований и стремлений. Какой особенный мозговой орган нужен, например, для побуждения к воровству, для любви к детям, для чувства справедливости? И если одна умная общественная мера, например постановление, которое обеспечивает собственность и свободный труд, или даже, постановление относительно продажи пина и устройства кабаков, уменьшает число воров и увеличивает число честных работников, то, без сомне ния, никто не станет воображать, что такая мера произвела перемену в мозговых органах. Теория, которая говорит, что один человек рождается вором, другой — справедливым, третий — набожным, ничего не объясняет; она считает простым произведением природы то, что происходит только вследствие связи многих действительно простых элементов и что исчезает без следа, как только эта связь разрешается. Наша душевная жизнь в своем начале очень бедна, проста и неразнообразна: только воспитание, образование, развитие, зависящее от ее взаимнодействия с внешним миром, рождает те многочисленные и сложные формы, которые мы находим в зрелой душе и которые поэтому не изготовляются особыми мозговыми органами.
Но и в наше время физиологи и психологи убеждены, что различные части мозговой массы играют неодинаковую роль в судьбе душевной жизни. Даже обыкновенный смысл,, по–видимому, знает, что в мозгу есть органы, от развития которых зависит особенное совершенство тех или других душевных способностей. Высокому челу мы приписываем большие умственные дарования. По складу головки новорожденного ребенка бабушки стараются предсказать его будущее душевное развитие и определить количество совершенств и счастия, которыми он будет пользоваться. Поэт, прежде чем знакомить нас с характером и страстями овоего героя, описывает нам его физиономию, указывает на особенности, которые выдаются 6 устройстве его головы и лба, дает нам насмотреться на него, предполагая, что наружность героя, формы его головы и лба сами собою указывают на То, какова должна быть душа героя и каких действий можно ожидать от него в течение романа. Но если от этой обычной символики мы обратимся к исследованиям физиологии о значении различных частей мозга для душевной жизни, то здесь мы не найдем ни одной теории, которая заслуживала бы общее одобрение. Правда, общую территорию мозга разделили физиологи довольно согласно на несколько провинций; так, когда дело идет об уме, о способности соображать положение и изменение внешних вещей, почти все голоса говорят о переднем большом мозге как об органе этой способности. Но в попытках,, указать определенную роль другим частям мозга или Привязать другие душевные деятельности к определенным органам мы встречаем разногласие, которое, поводимому, доказывает или то, что время для разрешения этого «опроса еще не пришло, или что этот вопрос и те может быть решен удовлетворительным образом. Воззрения на этот предмет, отличающиеся законченностию и полнотою и заслужившие общую известность, принадлежат Карусу и Флурансу.
Карус находит, что три первичные, или зародышные, мозговые шарика составляют, с постепенным развитием, переднюю массу мозга или полушария, среднюю или четверохолмие, и заднюю или мозг малый. Сравнительная анатомия и физиология убедили его, что первая часть служит органом представлений, познания, воображения; вторая — органом образовательной деятельности души и общих жизнечувствований, в которых отражги ется эта деятельность; наконец, малый мозг есть орган побуждений, влечений, инстинктов, пожеланий, особенно полового вожделения. Определенный строй душевной жизни каждого отдельного лица зависит от того, в какой мере развиты у него эти органы и насколько один из них преобладает над другими. Но это же физиологическое обстоятельство разделяет и целый человеческий род щ три большие расы: кавказскую, монгольскую и эфиопскую. Народы кавказские, «дневные», исторические, мыслящие, художественные, призванные, по–видимому, к беспредельному совершенствованию, отличаются хоро шо развитым передним мозгом. Народы эфиопские, «ночные», увлекаемые необузданными инстинктами и страстями, не поднимающиеся до самообладаниядо разума и человеческой гражданственности, имеют своим характеристическим признаком преобладающее развИ; тие малого мозга. Как господствующим развитием средних частей мозга, так и средним достоинством отличаются народы монгольские, «сумеречные», создавшие Срединное царство, способные к упорному труду, к искусству и знанию, но не обнаруживающие тех высших, идеальных порывов духа и тех доблестей характера, которые дают особенную цену истории кавказской породы.
Флуранс надеялся решить вопрос о значении различных частей мозга для душевной деятельности на основании точных физиологических опытов. Он сносил у животных различные части мозга постепенно и таким образом лишал их то одной, то другой душевной способности. Из таких опытов он убеждался, что большой мозг есть исключительный орган ощущения, воли и всех инстинктов, мозг малый есть орган, согласующий мышечные движения приводящий их в равновесие, какое необходи мо, для того, чтобы животное могло стоять, ходить, летать и т. д.; наконец, мозг продолговатый есть настоящий орган жизни: в нем помещается как бы жизненный узел, с разрушением которого животное умирает мгновенно. Вообще, говорит Флуранс, «большой мозг чувствует и хочет; продолговатый мозг и спинной мозг исполняют, мозжечок согласует». Подробное изложение и разбор выводов, сделанных Флурансом из своих наблюдений, можно найти у Льюиса (86—120), который, впрочем, не соглашается с этим физиологом уже потому, что Флуранс, как и большая часть физиологов, не в каждом наудачу взятом нервном центре находит способность ощущения и сознательности.
Личные свой наблюдения и основанные на них воззрения Льюис сокращает в следующих положениях. «Отправления продолговатого мозга, — говорит он, — состоят в содействии дыхательным и многим другим рефлективным действиям. Отправления мозжечка остаются до сих пор не определенными. Отправления мозговых полушарий состоят в умственной деятельности и душевных движениях» (124). Итак, во всяком случае, мозговые полушария нужно бы считать органом всех форм и явлений сознательности, как это и утверждает большинство физиологов. В другом месте (96) Льюис сводит к умственной деятельности и душевным движениям все психические явления, помещая в первой группе ощущения, воззрения и идеи, а во второй — ощущения, инстинкты, или позывы, и душевные движения. Но если органом всех этих форм он считает мозговые полушария, то казалось бы, что уже нет возможности приписывать всем нервным центрам способность ощущения, и сознания. Однако же Льюис замечает, что все три части мозга, которые мы назвали выше, обладают чувствительностию, что все они должны считаться органами духа, что все они содействуют общей сознательности, наконец, что, и все остальные части нервной системы представляют другие, особенные формы сознательности (124), Противоречие, заключающееся в этих положениях, можно бы устранить замечанием, которое так знакомо психологии идеализма и которое само собою навязывается тому, кто убежден, что душа есть жизненная сила тела. Как нельзя серьезно, утверждать, что тело, есть сумма органов и ничто. более, как в теле, кроме органов, имеющих нарочитое. отправление и резко отличающихся, друг, от друга, есть еще основная, не разложенная на особенчеловек отправились в одно время за город, на дачу; все глаза, какие тут были, получали впечатления роскошной растительности, разнообразной игры красок и охотно останавливались на лучших ландшафтах; все носы втягивали в себя ароматический запах цветов; все уши были приятно возбуждаемы неопределенною музыкой насекомых; кожа доставляла всем ощущения воздуха мягкого, теплого, располагающего к неге. Все получили одинаковые впечатления, все имели одинаковые начальные пункты для деятельности фантазии или мышления. Однако же мысли и мечты у них пошли по направлениям, различным до бесконечности. Один стал думать об урожае, какого можно ожидать в этом году, вспомнил неурожаи прошлых годов, принял участие в положении земледельческого люда в России, задумался над отношением этого класса к классу промышленному, отсюда перешел к политической экономии, начал сравнивать разные теории и, может быть, порешил поверить их на фактах или применить их к особенным условиям русского быта. На лице эти мысли выражались отпечатком спокойствия и серьезности. Другой стал рисовать в своем воображении контраст между жизнию сельскою и городскою, пришел даже в легкую досаду от того, зачем обстоятельства заставляют его жить в городе, где столько гіыли и книг, где нет ни свежего воздуха, ни свежих людей, где так беспощадно трутся друг о друга самолюбия и где вся жизнь есть толкотня, тревога, война всех против всех, война за деньги, за чины, за связи, за выгодные места, вспомнил вергилиевы «Георгики», вспомнил мечтания Руссо и почти согласился с этим философом, что человек мыслящий, человек городской есть испорченное животное. Результатом этих размышлений было выражение лица несколько грустное и усталое. Третий вспомнил прежние встречи, и мечтал о счастливой будущности, и эту тему варьировал на тысячу ладов, оплодотворяя ее неисчислимым множеством представлений. Лицо его было светлое, даже улыбающееся. Можно ли сказать, что все эти процессы были условлены. возбуждениями физиологических органов? Во–первых, в каждом из трех случаев свежие ощущения вызывали мечты и мысли, сообразные с прошедшею историей человека, с его интересами» занятиями, общественным положением. и образованием. Следовательно, ощущения разрешались здесь в мысли путём, удобнейшим в отношении психологическом, а не физиологическом. Без этой передвижки ощущений по путям, удобнейшим в отношении психологическом, художественное воспроизведение характеров, которые во всех Положениях и при самых различных обстоятельствах оказываются верны самим себе ив которых свежие ощущения вызывают мысли и чувства, всегда сообразные с их постоянными стремлениями и интересами было бы необходимо признать древнейшею и новейшею ложью поэзии; Во–вторых, если бы каждое из необозримого множества представлений, которые поднимаются в сознании по поводу немногих свежих ощущений, происходило вследствие прямого и непосредственного возбуждения мозгового центра, тогда для самой бедной души понадобилась бы масса мозга, которая своею вели» чиной, быть может, равнялась бы Альпам. Согласитесь только, что каждый нервный центр есть величина пространственная, и попробуйте сделать в вашем воображении приблизительное исчисление, какое пространство понадобилось бы для мозга, который заключал бы в себе центры для всех «умственных процессов и душевных движений», для всех представлений, воспоминаний, фантазий, идей, также для всех страстей, наклонностей, душевных потрясений, стремлений, желаний, намерений, планов деятельности и наслаждения. Из того, что существуют центры, возбуждением которых условливаются специальные ощущения красок, тонов и т. д., мы не можем заключать, что есть такие же особенные мозговые центры для суждений, понятий, умозаключений. Оптический центр поможет вам образовать представления об определенном числе цветов; но вы можете исходить все углы мира, смотреть и наблюдать все и везде, и этот Центр не обогатит вас знанием ни одного нового цвета. Также если ваше ухо различает ныне двенадцать октав тонов, то эту же самую сумму знаний оно будет доставлять вам и всегда, как бы ни поднялось ваше умственное развитие. Итак, знание, данное в этих ощущениях, отмерено вам в определенном числе постоянным устройством мозговых органов, и в этом отношении гениальная голова ничем не отличается от головы обыкновенной: как число центров и их устройство, так и сумма представлений, зависящих от их раздражения, равны в той и другой голове. Ничего подобного нельзя сказать о воспоминаниях, фантазиях, мыслях, о способности комбинировать ощущения, судить о них, сравнивать их одно с другим и т. д.; человеческие головы, которые, конечно, устроены по одному и тому же типу, разнятся здесь до бесконечности, и умственные процессы того же человека в позднейшую пору его развития так не похожи на умственные процессы, которые совершались в нем во время душевной незрелости, что это различие пришлось, бы объяснять из совершенного преобразования мозга, если бы мы все еще хотели считать эти процессы за мозговые ощущения. Но мы видим здесь, что этим процессам недостает всех тех качеств, которыми отличаются элементарные представления, зависящие от возбуждения нервных центров.
Возьмите и еще два состояния: с одной стороны, ощущение зубной боли, холода и жара, с другой — мысль о зубной боли, о холоде, о жаре. В первом случае вы испытываете органическое потрясение, вы не знаете, куда вам деваться от пытки, причиняемой этими ощущениями; не справляясь с физиологией, вы убеждаетесь, что эти душевные состояния зависят от возбуждении мозга. Но когда вы имеете только мысли об этих ощущениях, думаете о них, изучаете их, вы хорошо знаете, что от мысли о зубной боли вам не больно, мысль о холоде не холодна, мысль о жаре не жжет вас. Вы находитесь в области простого и безучастного знания, куда не простирается потрясение, свойственное ощущению, и где. нет ничего патологического. Ежедневные опыты доказывают, что это знание теряет все свои характеристические качества, как только нервные центры начинают предлагать ему свои услуги. Когда к нашему воспоминанию и мышлению присоединяются возбуждения, мозга, тогда воспоминание и мышление превращаются в ощущение и в воззрение. Так происходят ложные видения, фантасмы, галлюцинации. Под этим же условием и во сне представления превращаются в настоящие образы, которые как бы стоят перед нами, будто действительные вещи. К состоянию мечтаний, видений, галлюцинаций человек приближается каждый раз, как только его телесный организм испытывает сильное и ненормальное возбуждение,; мозговые центры, приходя в деятельность, переводят общие понятия на частные образы, из мыслей делают вещи,, из ожиданий действительные события. Человеческий род, которого благополучию, конечно, нельзя позавидовать, нашел в этом физиологическом. факте источники отдыха и успокоения от неблагодарной борьбы с упорною, действительностью. Можно всегда дожить некоторое время в таком мире, какой необходим для нашего счастия, Можно в самом деле видеть,, как. наши, жела ния исполнились, как наши надежды совершились; для этого стоит только возбудить до значительной степени деятельность нервных центров, и тогда простое содержание наших мыслей предстанет нам более или менее отчетливо в форме вещей и наши ожидания окажутся осуществленными. Нет нужды прибавлять, что как нравственность, так и расчет на счастие прочное протестуют против такого рода удовольствий, покупаемых ценой здравого и светлого сознания.
Справедливо, что никакой гений не может приобрести знания, данного в элементарных ощущениях, если мозговые центры своим возбуждением не представят душе повода к порождению этого знания. Справедливо, что если элементарное ощущение не Дано, Не навязано нам возбуждениями мозга, то вымыслить его, как‑нибудь построить его мы не можем. Участие нервных центров в происхождении этого элементарного знания выше всякого сомнения. Но уже то замечательное обстоятельство, что из ощущений, возникающих в душевной жизни, мы построиваем мир вещей, раскинутых во внешнем для нас пространстве, должно быть объясняемо из особенного внутреннего соотношения ощущений, а не из возбуждения нервных центров. Мы не будем объяснять здесь, как вообще мы знаем о пространстве и почему мы видим вещи в пространстве, тогда как в наших ощущениях нет ничего пространственного. Довольно заметить, что представление пространства не происходит в нас прямо и непосредственно от физиологических возбуждений, как, например, происходят ощущения красок и тонов. Всякое ощущение имеет различные степени напряженности: цвет может быть ярче и бледнее, тон — выше и ниже. Это самая характеристическая черта всякого знания, которое мы приобретаем вследствие возбуждения нервных центров. Но представление пространства не имеет ровно никаких степеней; пространство не может быть дано нам в степени сильнейшей или слабейшей, не может"потрясать нас более или менее, не может раздражать или притуплять приимчивость нашего глаза. Кто не занят Специально философией, тот может найти в этом факте достаточное доказательство того, что представление пространства не происходит в нас, подобно ощущениям, из действия внешних стимулов на наши органы чувств и, следовательно, из возбуждения нервных центров или что это представление не есть «мозговое ощущение», но что его условия лежат в области психических или умствен вещи остался ясным и постоянным; мы хорошо знаем, что одна и та же вещь, которая не изменилась и не заменилась другою вещью, хотя красный цвет оказался на той стороне, где прежде был синий, а кривые Линии поместились там, где прежде были линии прямые и т. д. Что же тут оставалось постоянного и неизменяемого в то время, как все, что было ощущаемо и видимо, все разнообразие качеств передвигалось в разных направлениях? Оставалось постоянным, неизменяемым незримые отношения частей вещи, оставалось постоянною, неизменяемою неощущаемая математическая пропорциональность в положении этих частей. Кант называет эту пропорциональность априорною схемой чувственного (воззрения, выражая этим очень верную мысль, что эту схему не могут породить нервные центры и происходящие от них «мозговые ощущения» и что она есть форма, принадлежащая чисто умственному процессу. А между тем это незримое отношение частей вещи, эта неощущаемая пропорциональность их положения и составляет существенный, главнейший элемент нашего чувственного воззрения. Громадное и разноцветное здание, которое вйделй вы в натуре, вы узнаете на плане, хотя рисунок может быть величиною с табакерку и хотя он написан черным карандашом; узнаете вы потому, что остался неизменяемым главнейший элемент воззрения, осталась Неизменяемою определенная пропорциональность в положении и отношении частей его. Таким же образом вы узнаете знакомую вам песенку, будет ли она спета на низших или на высших тонах, скорее или медленнее, нежели как ее спели вам в первый раз. «Мозговые ощущения», которые вы получаете в настоящем случае, вовсе не те, какие вы получили, когда впервые слушали песенку: не те тоны, не те и промежутки времени, протекающие между тонами. И однако же вы хорошо знаете, что это та же самая песенка, знаете потому, что формальные отношения тонов и также формальные отношения промежутков; времени остались неизменны. Этот случай показывает"нам, что и форма времени не Навязывается нам деятельностию нервных центров и «мозговыми ощущениями». Дитя в три, четыре года слышит тоны очень хорошо, однако же музыки оно не слышит, музыкой оно не наслаждается, не интересуется: пустые интервалы между тонами не суть ощущения, также и определенную пропорциональность в течение этих интервалов слышать нельзя; -рут требуется развитие и знание, которое было бы спо собно, пробегать расстояния между тонами, не наполненные ощущениями, измерять эти пустые расстояния определенною единицей времени и таким образом построивать и воспроизводить не слышимое, не ощущаемое отношение тонов. В настоящем случае, как и в том, когда. мы огромное и разноцветное здание узнаем в миниатюрном и бесцветном рисунке, главным элементом нашего чувственного воззрения оказывается сознание закона, по которому построивается вещь, сознание постоянных отношений между частями вещи, сознание способа их взаимной связи; вот почему простая перемена ощущений еще не вынуждает нас признать, что мы видим вещь другую или что мы слышим песенку другую.
Мы занимались, может быть, слишком долго физиологическим учением о том, что умственные процессы суть мозговые ощущения и что они происходят, когда возбуждаются нервные центры переднего мозга. Мы показали, что в тех случаях, где это возбуждение бывает, умственный процесс сразу превращается в ощущение, которого качества хорошо известны нам и которое не имеет ничего сходного с мышлением, воспоминанием, С умственным знанием. Также мы хотели доказать, что делать топографическое размещение мыслей на поверх ности мозга и заставлять их встречаться, соединяться, сходиться и расходиться на каких‑то физиологических путях сообщения, для всего этого нет ни. физиологических, ни психологических оснований. Наконец, анализом чувственного, воззрения мы хотели определить границы очевидно отделяющие мозговые ощущения от умственных процессов, и здесь мы встретились с психологическим учением, которое доказывает, что уже и наше обыкновенное воззрение идеально. Во всех этих случаях мы хотели рассматривать ощущения с той точки зрения, с которой мы обыкновенно смотрим на все окружающие нас вещи. Если деятельность мозга раз содействовала, рождению ощущений, то можно бы подумать, что эти ощущения и сами имеют способность, рождать, именно, рождать новые явления, душевной жизни. Говорим, что этот взгляд мы считаем выше всякого сомнения, когда дело идет об изъяснении явлений, данных во внешнем опыте. Итак, следует предположит., что. происшедшие ощущения, вступая между собою во внутренние связи, в различные отношения взаимнодействия, произведут; явления, которых не могли породить возбуждения нервных центров, деления, которые уже никак не подходят под понятие «мозговые ощущений. Совокупность таких явлений, которые не нуждаются непосредственно в особенных мозговых центрах, известна под именем умственных процессов. Льюис очень хорошо знает, что «мозговые ощущения» дают содержание, недостаточное даже и для того; чтобы построить из него представление о вещи. Он говорит, что «пальцы не осязают того предмета, к кото рому они прикасаются» (251), что дитя, получая совершенно нормальные ощущения, не в состоянии построить из них образ вещи, потому что «оно не понимает еще идеи внешности» (251). Способность относить ощущения к различным местам вещи основывается, по его мнению, не просто на том, что эти места возбуждают в нас различные ощущения, но еще и на особенном знании этого различия. А этим само собою предполагается, что мы инеем не только знание, данное в ощущениях, но еще и знание об этих ощущениях, или что в нас не только производится мозговыми возбуждениями изменение ощущений, но еще существует знание об этом изменении. Он даже находит основательным назвать умственные процессы безличными (252, 96). Итак, для Льюиса есть в актах видения, слышания и т. д. элементы знания, отличающиеся от «мозговых ощущений», есть умственные процессы безличные, то есть зависящие не от случайных положений, возбуждений и ощущений человека, в κοτομ ром они происходят, а от общих свойств и законов образования душевной жизни. Эту мысль мы и развивали в предыдущих замечаниях, указывая на различие между умственными процессами и мозговыми ощущениями. Если: тем не менее Льюис сливает эти два разряда явлений, если умственные процессы он объясняет из возбуждений мозга, то, с одной стороны, его общая мысль о ду; хе как источнике телесных явлений дает этому учению смысл далеко ие тот, какой оно имеет вообще в физиологии, а с другой — он находит в нем средство для оправдания своего смелого взгляда на соотношение душевных состояний с движениями и деятельностями организма.
А что взгляд этот действительно смелый, видно из следующих совершенно категорических положений. «Мы, — говорит Льюис, — не признаем никакого действительного, никакого существенного различия между действиями произвольными и непроизвольными. Все они произвольны. Сознательность составляет источник всех их» (172). Если некоторых движений мы не можем на чинать или прекращать по нашему произволу, то это происходит оттого, что «при обычном течении жизненных процессов не. представляется никакой надобности контролировать их». (188). «Мы не научились контролировать их, хотя мы и могли бы до некоторой степени подвергнуть их нашему контролю» (там же). «Если б ежедневные потребности нашей жизни были таковы, что для удовлетворения их мы должны бы были останавлиа деятельность своего сердца, то мы научились бы контролировать ее» (там же). Льюис указывает на людей, которые по произволу ускоряли и замедляли биения своего сердца, также замечает, что были особы, которые, лишившись рук, выучивались писать, шить и рисовать пальцами ног своих, или еще особы, которые выучивались двигать ушами, жевать жвачку, потеть–по произврг лу. Как действия, считаемые непроизвольными, способны подвергаться контролю, так и наоборот, действие» подчиняющееся произволу, может происходить совершенно непроизвольно. Мигание представляет превосходный пример этого: оно может совершаться и намеренно, и непроизвольно. Кроме того: «Каждый знает, что действия произвольные вследствие их постоянного повторения становятся, до некоторой степени непроизвольными и называются в таком случае автоматическими» (188). Ни физиологического, ни психологического различия нет между теми и другими, действиями: и те и, другие «зависят от ощущения»;(189), и те и другие способны подвергаться контролю (185). А контроль возможен только потому, что в животном возбуждаются рефлективные ощущения–Ощущения так быстро следуют друг за другом, что прежде чем успеет совершиться одно прямое действие, возбуждается другое действие, которое не допускает того, чтобы совершилось первое действие, контролирует его. «Ощущения возбуждают другие ощущения, идеи порождают новые идеи; исходом одной из этих идей может быть действие контроля». «Если собаке придавит хвост человек, которого она не знает, она взвизгнет и тотчас же обернется, чтоб укусить того, кто ее мучит. Но если случится, что хвост будет придавлен хозяином собаки или человеком, которого она любит, собака, завизжит, вскочит, может быть, даже обернется, чтоб. укусить, но она не.. укусит; если даже и схватит зубами за руку, она все‑таки вовремя остановится. Этот контроль, животного над своими действиями часто проявляется весьма трогательным образом н то время, как у собаки вынимают из ла пы занозу боль возбуждает рефлективные действия, пбуждаст собаку повернуть голову к руке оператора; но вместо того чтоб укусить, благодарное животное лижет чту руку» (169<—170>). «Но сила контроля, способность воздерживаться от некоторого рода действий ограничена и не может противостоять первоначальному стимулу, достигшему известной степени напряженности» (171). «Наша способность к произвольной деятельности есть результат воспитания», которое устанавливает прочную связь между ощущениями и движениями (181)! Маленькое дитя, страдающее от боли, барахтается и кричит. Но когда его тело случайно сделает движение такое, которое облегчает эту' боль; то дитя продолжает только это движение! Таким образом оно научаемся связывать известные ощущения с некоторыми движениями, и «движения становятся подлежащими контролю тех Ощущений, которые существуют одновременно с ними». Для происхождения способности произвола, способности управлять движениями сообразно с целию и контролировать их, «нужна помощь случайное гей, опыта, ошибок», потому что «и? существует никакой прирожденной связи между различными чувствованиями и движениями, относящимися к каждому определенному случаю» (177, 178). То же надобно сказать и о движении, которое контролируется не ощущением, а воспоминанием или идеей. Наша способность начинать или останавливать действие вследствие какой‑либо мысли основывается опять на связи, которая установилась между действиями и ощущениями й которая пребывает в памяти или есть овязь идеальная. Но «предположение, что эта идеальная связь придает действию, зависящему от него, характер 'произвольного действия, характер, противоположный 'характеру действий, зависящих от связи первого рода, не выдерживает критики» (182). «Идея ли составляет исходную точку или ощущение, во всяком случае в результате получается возбуждение известного центра и ответ на это возбуждение, выраженный в известном действии: Мы'не можем отделить некоторые действия от всех остальных; и назвать их произвольными на том оснований, что действия эти зависят от связи чувствований, ''Потому что все действия зависят от ощущения; от души зависят все движения, а не некоторые только» (189).
Мы изложили учение Льюиса о произвольных движениях членов тёла сколько возможно возможно тщательно и однако же мы не достигли совершенной ясности. Раз Льюис объясняет возможность произвола из рефлективных, или вторичных, ощущений, которое не дают первичным ощущениям разрешаться «движения и таким образом контролируют эти движения, и другой раз этот произвол происходит у него мало–помалу, из соединений чувствований и движений, происходит из воспитания, между тем как в первые минуты жизни нет постоянной связи между ощущениями и движениями. Раз основание произвола оказывается исключительно физиологическим, в другой раз — исключительно психологическим, зависящим от того, что случайные опыты и ошибки детства, а также и движения, устраняющие боль и усиливающие приятные ощущения, удерживаются в памяти «еще с первых мгновений умственной жизни» (178).
В этом последнем случае Льюис руководствовался психологическими идеями английского мыслителя Бена (Ваш), и нечего доказывать, что объяснение возможности контроля или самообладания из рефлективных ощущений и из способности их уничтожить деятельную силу ощущений первоначальных более соответствует его общему физиологическому взгляду, нежели объяснение этого явления из психического воспитания и постепенного образования связей между ощущениями и движениями. Выше мы видели, что, по мнению Льюиса, все нервные центры способны рождать ощущения и что все ощущения сознательны. Если же все движения организма зависят от ощущений (189), то следует сказать, что «сознательность составляет источник всех их» (172). Но еще Льюис доказывал, что только на рефлективные ощущения мы обращаем внимание, следовательно, необходимо предположить, что и движения, рождаемые этими ощущениями, будут также подлежать нашему вниманию, будут иметь характер действий рассчитанных, управляемых или контролируемых сознанною целью. И как всякое ощущение может разрешиться в ощущение вторичное, то понятно сразу, что всякое движение может сделаться произвольным, что мы могли бы контролировать все движения, если б имели в этом особенную нужду.
Несколькр раз упоминает Льюис, что ни физиология, ни психология не могут открыть в движениях произвольных, или подлежащих контролю воли, ни одного элемента, которой бы не встречался в действиях непроизвольных (173—169). Если говорят, например, что движения такого‑то аппарата подлежат контролю, потому что в нем находятся мышцы произвольного движения, та Льюис считает это не за объяснение, а только за описание того же факта, сделанное в других выражениях. «Мышцы,;-— говорит он, —называются мышцами произвольного движения, потому что они подлежат контролю» (166). Однако же, заметим мы с своей стороны, опытная физиология вовсе не так учит об этих мышцах; она находит, что они как устройством, так и отношением к нервам действительно отличаются от мышц движения непроизвольного. У первых под микросколом заметны тонкие поперечные полоски, которых не встречаем в мышцах, не подлежащих влиянию воли; эти последние представляют устройство сравнительно простейшее, соответственно простому и однообразному отправлению, которое они совершают в организме и которое не видоизменяется; не осложняется, не затрудняется произвольными задачами сознания. Сравните, например, работу, исполняемую мышцами желудка и большей части кишок, с работою, которую исполняют мышцы наших рук. Мышцам рук приходится поднимать большие тяжести, быстро изменять свои сокращения, напрягаться неестественно, и все это по капризу воли, который не имеет никакого отношения к нуждам питания целого организма этих же самых мышц. Мышцы желудка и кишок сегодня делают то что делали они вчера и что будут делать завтра; они не только не подлежат возбуждениям неестественным или насильственным, но и свою обыкновенную работу выполняют соответственно нуждам своего собственного питания. Все эти обстоятельства показывают, что мышцы непроизвольного движения ушли еще очень недалеко от устройства и отправления некоторых тканей в растении, которые под влиянием механического и химического раздражения также изменяют свою длину и обнаруживают нечто похожее на сокращения. Если, далее, физиологи замечают, что поперечно–полосатые мышцы никогда в нормальном состоянии не развивают всей своей силы, потому что их чрезмерному сокращению противодействуют соседние части, и что, напротив, некоторые простые мышечные ткани не имеют в этом отношении ника кой преграды, если наконец оказывается, что мышцы первого рода весьма неудобно воспринимают механические раздражения, непосредственно их поражающие, и что лростые мышечные волокна более чувствительны к подобным механическим раздражениям, — то все это разности, которые считать незначительными нет никакого основания. В мышцах произвольного движения есть способность сокращаться по требованию воли далее тех пределов; которые указаны им нуждами питания; они устроены так, что охотно отвечают на легкие стимулы воли, а не на грубые механические раздражения. В испуге вы можете поднять тяжесть, какой вы не поднимаете в спокойном состоянии духа, можете сделать прыжок, некого прежде вы никак не могли сделать. Это необыкновенное действие было бы невозможно для вас, если бы душевное состояние испуга не находило надлежащего органа -в запасных силах поперечно–полосатых мышц, в силах, которые при нормальном течении жизни связаны противодействием соседних частей тела, или если б: эти мышцы ничем не отличались от. мышц движения непроизвольного, как это утверждает Льюис. И если только во время этого необыкновенного развития мышечной силы не изломились и не вывихнулись кости ваших рук и ног, то страдание и повреждение вы ощутите, скот рее всего в желудке, которого мышцы не имели запасных сил, чтобы противодействовать ненормальному возбуждению, распространившемуся на подчиненные им части тела и на них самих. Аристотель, называет руку органом души. Если вспомним, что мышечные волокна от продолжительной недеятельности увядают и делаются рыхлыми, — то мы найдем вероятным, что мышцы нашей руки, если б они- не получали достаточных возбуждений от произвола души и совершали только движения, вызываемые обыкновенным обменом веществ, очень скоро; потеряли бы свое настоящее строение и ту силу, которая теперь развивается в них вследствие произвольных движений. Но здесь представляется нам еще другое обстоятельство, которое указывает на физиологические основания произвола.
Если человек и без психологического знания убежден, что его воля свободна, что он мрг бы и не делать того, что сделал он в данное время, и, напротив, мог бы сделать то, чего он не сделал в это время, то в основании того убеждения лежат некоторые физиологические факты, которые достаточны, по крайней мере, для того, чтобы породить и укрепить в человеке представление о действиях, зависящих от выбора, — представление о действиях, которые могут быть совершаемы так или иначе, в различных направлениях и видоизменениях, по собственному усмотрению человека. Наша голова так прикреплена к туловищу, что может описывать дугу спереди назад почти в 172". Верхняя конечность руки может дег лать полный круг; предплечие, сгибаясь, описывает дугу в 140°; ручная кисть делает 120°—160°; первый сустав большого пальца 95°; первые суставы пальцев 90°, вторые 120° и третьи также 90°. Бедро сгибается наперед на 135°, назад на 42°, а поворачивается на 180°. При сгибании и выпрямлении составляется дуга коленным, суставом около 150°, а спиною в 75°. Возьмите также во внимание, что нашим голосом мы можем сделать. гамму от 2 до 2 72 октав возьмите в расчет различные положения, которые может принимать наш язык, наши губы, глаза, движущиеся как в своих орбитах, так, и вместе с головою. Теперь, все эти члены в каждую минуту имеют одно какое‑нибудь совершенно определенное положение; все другие положения их. остаются как возможности, которые пока не осуществлены, но которые могут быть, осуществляемы по намерению, расчету или произволу души; потому что—-и это в настоящем случае главное обстоятельство — для питания организма, для обмана веществ н теле все эти чрезвычайно разнообразные положении названных органов безразличны, по крайней мере до известной степени и на известное время, а с другой стороны, постоянный обмен веществ сам по себе не заставляет эти органы совершать все движения, какие только возможны для них. Мне одинаково де больно и мое чувство жизни не потрясается, подниму ли я руку ниже или выше, положу ли я ее на коленях или протяну, чтобы достать перо, отодвинуть свечу и т. д. Внутри возможностей, исполнение которых, повторяю, не связано непосредственно с состоянием органического питания, движется наш произвол, и, напротив, там, где новое положение члена оказывается невозможным вследствие боли, возникающей при первой попытке дать члену эти положения, то есть там, где против нашего намерения протестует чувство жизни, существуют естественные пределы нашей произвольной деятельности. Эти пределы можно раздвигать далее и далее привычкою упражнением, самообладанием, но уничтожить их совершенно нельзя; они настают тем скорее, чем непосредственнее связан известный. орган с жизненными, оправлениями тела., Так, мы очень мало можем изменять по произволу ритм дыхания, потому что внезапно возника ющая боль подавляет наши намерения уклонять дыхательные органы от их обыкновенного, постоянного положения и движения, которое предписывается им общею экономией организма. От физиологических отношений, на которые мы указали здесь, и зависит прежде всего наш взгляд на наши собственные поступки и па поступки других людей. Когда представлялась нам физиологическая возможность достигнуть определенной цели, которая сильно интересует нас и данное время, и мы однако же достигли ее, мы жалуемся в этом случае на себя, журим себя, обвиняем себя за несообразительность, рассеянность, забывчивость. Вам нужна редкая книга, которая, как вам известно, есть у одного из ваших приятелей. Вы сейчас бы поехали к нему, Но какие ни–будь обстоятельства не позволяют вам отлучаться из дому ни на минуту, а послать некого, На другой день после того, как вы вспомнили о книге, заехал к вам приятель ваш. Он начал рассказывать вам о таких интересных вещах, которые поглотили все ваше внимание; вы рассуждаль спорили горячились. Наконец ваш приятель взглянул, на часы, пожал вам руку и уехал. Минут через пять вы вспомнили о сочинении, и тут‑то вы начинаете досадовать на самого себя за рассеянность, за оплошность за το,, что потеряли удобный, случай достать сочинение пожалуй хлопнете себя по лбу и назовете себя телятиной, как гоголевский почтмейстер, который таким образом казнил себя публично за свою несообразительность. Вообще, вините вы самого себя, жалуетесь на себя когда для достижения вашей цели представлялась, физическая возможность, которою, однако же, вы не воспользовались. Вы жалуетесь на дурные обстоятельства, когда вы, испытали все средства, которые представляются вам органами тела и их возможными деятельностями, и при всем этом цели вашей все‑таки не достигли. Как ни сильно видоизменяются эти отношения вследствие постепенного образования человека и многовекового образования человечества, они прежде всех других условий дают смысл словам, каковы: произвол, выбор, контроль, свобода. Органы пищеварения, например, принимают псе положения, какие возможны для них по устройству организации: тут нет таких возможностей, которые не исполнялись бы под влиянием постоянно действующих органических стимулов. Между тем наши руки, голова, губы, глаза, язык, ноги не принимают всех возможных для них положений, находясь единственно под влиянием органических стимулов. Некоторые из этих возможных пи устройству тела положений исполняются только благодаря тому, что на органы, которые мы сейчас назвали, действует непонятном для нас образом намерение души, расчет, наше соображение, наш каприз, наш произвол. Этот произвол прекращается там, где положение органа определяется стимулами органическими и где вследствие этого против нашего намерения как‑нибудь изменить это положение протестует организм болью й страданием.
Льюис говорит: «Контроль воли вовсе не зависит от того, какие мышцы входят в cocтав аппарата, совершающего движения» (167). Мы видим, что физиологические данные навязывают другое убеждение: аппараты, повинующиеся произволу, находятся в особенном отношении к целой экономии организма и к общему чувству жизни. Но Льюис также утверждает, что наша способность к произвольной деятельности есть результат воспитания, что не существует никакой прирожденной связи между различными чувствованиями и движениями, что эта связь есть произведение совершенно случайных встреч между некоторыми ощущениями и действиями, наконец, что в нашем теле есть деятельности непроизвольные лишь потому, что мы не научились контролировать их, так как в этом «не представляется никакой надобности» (188). В этой теории ассоциаций, бесспорно, есть стороны истинные, вполне сообразные с действительностию, и однако же предыдущие наши замечания об органах произвольного движения наперед дают чувствовать, что теория эта частию не полна, а частйю она прилагается к объяснению фактов очень рано, ранее, нежели это сообразно с указаниями физиологии. Кто же сомневается в том, что ощущения овладевают определенными движениями посредством ассоциаций, которые вырастают, крепнут и делаются отчетливыми вследствие случайных опытов и горьких ошибок? Но все же»ти ассоциации не суть нечто безусловное; их направление обозначается уже физиологическим устройством и различием телесных органов. Мы не утверждаем этим, что каждое частное ощущение находится в прирожденной связи с тем или другим движением, но мы полагаем, что вообще всякое ощущение разрешается в движение путем удобнейшим в физиологическом отношении. Это положение мы оспаривали, в то время как его защищал Льюис; мы доказывали, что оно не объясняет нам потока представ лений. Теперь мы хотим защищать это положение против льюисова учения об ассоциациях между ощущениями и движениями — об ассоциациях, которые будто бы происходят совершенно случайно и которые будто бы не подготовляются нисколько физиологическим устройством. Ощущения, говорим мы, разрешаются в движения путем удобнейшим в физиологическом отношении. В некоторых породах животных путь этот устроен так хорошо, что животное не нуждается ни в воспитании, ни в печальной опытности для того, чтобы владеть своими членами по произволу. Цыпленок выбегает из яйца довольно бойко, опешит к свету и клюет зерна, хотя и не всегда попадает во время первых опытов. Жеребенок через час после рождения следует за матерью и безопасно ходит между обрывами. «Молодой бизон, — рассказывает Кювье—едва родился, как встал на ноги и пошел почти бегом, не натыкаять, по всем углам своего хлева и двигался так, как будто бы он по опыту знал все места». Некоторые животные почти не имеют детства, а детство большей части из них весьма короткое и то наполненное не печальными опытами, а резвыми играми, в которых изобличается большое умение животного владеть членами тела. Правда, человеческое дитя не пользуется такою счастливою гармонией между ощущениями и движениями; ему нужна помощь ошибок, случайностей и опытности; оно «научается» только мало–помалу управлять движениями членов по произволу. Так говорят опыты. Но опыты же убеждают нас, что когда мы научаемся говорить, то мы не изобретаем ни одного простого гона, что опытности и воспитанию мы обязаны только разнообразнейшим сочетанием й осложнением движений голосовых Органов, между тем как движения простейшие совершаются этими органами с первых мгновений жизни. «Если, — говорит Льюис, — очень маленькому дитяти что‑нибудь причиняет боль, то дитя барахтается и кричит, Это все, что оно может сделать» (177). Да, это все, это круг явлений очень определенный. Воткнется ли булавка в ножку, в ручку, в лицо, в спину, дитя отвечает одинаково барахтаньем и криком, то есть движением рук, ног и голосовых органов. Если бы в первые дни жизни уколом булавкой следовало в теле ребенка раз необыкновенное выпотение, в другой раз смех, в третий бурчанье в желудке, быстрое отложение жира в некоторых частях, внезапное превращение крови венозной в артериальную а иногда пожалуй барахтанье и крик, тогда да можно было бы утверждать, что владычество ощущений над некоторыми органами движения зависит единственно от воспитания и не облегчается первоначальным физиологическим устройством; Между тем надобно полагать, что и мы, изучающие физиологию и психологию, отвечаем на каждую; внезапную и сильную боль на к дитя в первые месяцы жизни, прежде всего криком и. движением рук и ног: так мало преобразований произошло в связи наших ощущений с движениями вследствии воспитания и печальных опытов; Беспорядок движений, делаемых ребёнком объясняется главным обрааом из, того, что дитя еще не имеет знания о вещах, с другой стороны, что его тело, мягкое, водянистое, поддерживаемое большею, частию хрящами, легко вовлекается всею массой в круг движений, совершаемых руками, ногами, голосовым органами; тем не менее его ощущения разрешаются в движения органов постоянно и вообще втом же направлении, в каком они разрешаются и у взрослого человека. Прежде всякого воспитания и прежде всякой опытности ощущения рождают движения в тех органах в которых оказываются возможности различных положений не: исполняющиеся под влияниям постоянно действующих органических стимулов. Это общий закон. В различных животных типах такие органы могут быть неодинаковы. В сильном гневе человек сжимает кулак, дикообраз поджимает иглы своей кожи, посылает из своего хвоста электрический удар, обезьяна–мандрил отделяет из своего тела извержения, которыми она бросается в неприятеля и которые получает она при; первой надобности. Как на этих примерах мы видим, что искусство творческой природы впервые дало определенным ощущениям власть над определенными органам, тай и вообще следует признать, что настоящие, и притом совершенно прочные, основания человечности положены уже в нашем физиологическом устройстве, а не вырабатываются сначала случайными опытами. Всякое душевнее движение высказывается в развитом человеке скорее всего и легче всего посредством слова, таким же образом в ребенке —посредством крика. Это, конечно, не случайность. Вы замечаете, по крайней мере, что голосовые органы долее всех других могут работать по расчету души, не уставая и не рождая в душе неприятных ощущений, то есть не испытывая значительных потрясений, вредных, для их питания и для общей экономии тела; и вследствие этого физиологического обстоятельства человек выходит животным словесным вот почему; если можно так выразиться изобрел он язык слов и а не язык жестов или гримас. Человеческое искусство только ражвивает, осложняет и делает более определенными те от ношения между ощущениями и движениями, которых первее элементарные и неизменяемые основания уже заключаются: в его природе. Льюие объясняет ненроиз вольность некоторых движений из того, что контролировать их мы не научились, так как для этого не представляется никакой надобности. Но точно ли не представляется надобности? Было бы но худо, если бы желудок по нашему усмотрению извергал пищу, которая, как мы уа наем после ее приема, заражена ядовитыми веществами. Выло бы не худо, если бы кишки по первому нашему желанию выпускали причиняющие боль вещества, как рука выпускает при первой надобности стакан. Однако же когда вы проглатываете кусочек булки, то в горле вы еще чувствуете его присутствие; а затем, поступая а желудок, он перестает существовать для вашего., ощущения; только по воспоминанию вы знаете о нем. Попробуйте же, научитесь же действовать вашим произволом на положения и движения этого куска, о ко тором ничего не говорит вам ни ваше непосредственное ощущение, ни ваше предметное, внешнее знание. Бели бы вам удалось это, тогда вы точно таким же образом научились бы передвигать во внешнем мире тела, который, вы не видите и не осязаете Хотя нужда контролировать внутренние части тела бывает настойчива, однако физиологическое устройство отказало нашим расчетам, во власти над этими частями. Действуют; ли тут: основания идеальные; вследствие которых с человека сняты постоянные заботы о пищеварении, чтоб он мог направить свое сознание и свою сознательную деятельность на вещи на мир на нрвственное усовершенствование себя самого и других, или же это устройство было неизбежно только физчески, мы не решаем здесь. Впрочем, мы заетили выше что все достижения, какие возможны для внутренних частей тела, исполняются исполняются сами сабой под влиянием постоянных органических стимулов. Поэтому если бы ощущение боли, которое испытывает дитя когда например, уколоть его руку булавкою рефлектировалось бы на эти части то оно вызвало бы движение уже не сообразное с устройством телатаким образом боль разрешалась бы в другую боль, что, конечнобыло бы не очень выгодно для сохранения жи выих существ. При существующем устройстве боль разрешили движением рук; ног, голосовых органов и т. д., движением, которой само не рождает новой боли. Заучивать эти движения, усовершать их на основании опытности, ассоциировать их определеннее с известными ощущениями в самом деле необходимо для ребенка, потому что они, пока совершаются в надлежащих пределах, не сказываются непосредственному жизнечувствованию никакими особенными потрясениями: о них дитя должно знать в форме предметных образов, с ними оно должно знакомиться как с предметными изменениями, которые не докладывают о себе посредством ясных и резких ощущений. По всей вероятности, у животных ощущения относятся к движениям далеко не так, как в человеческом организме. Если цыпленок выбегает из яйца, если жеребенок в течение двух часов приобретает столько опытности, что ходит очень хорошо по обрывам, если вообще животное или вовсе не нуждается в поспит к ни, или же нуждается в очень немногих опытах дли того, чтобы подчинить органы движения своему произволу, то что, по–видимому, доказывает, что у животных различные положения и движения этих органов резко обозначаются во внутреннем чувстве специальными ощущениями и что вследствие этого животное ходит хорошо, не дожидаясь, пока в его душе сложатся предметные образы движений, исполняемых ногами. Физиологи не раз высказывали мнение, что у некоторых животных система симпатического нерва обладает чувствительностию и что животное оказывается чутким к тем внутренним состояниям тела, которые совершенно закрыты для человеческого сознания. Мнение это было принимаемо за основание при объяснении инстинктивных деятельностей и искусства животных сохранять свое существование, не думая и не соображая, не различая тщательно вещей, их качеств и отношений. Эти условия сделали бы для нас понятным, почему животное, с одной стороны, созревает скоро, а с другой, не развивает предметного создания, так отличающего человеческую душу. Его сознание и его расчеты, можно бы подумать, заняты теми задачами питания, которые, по нашему устройству, сокрыты для нашего непосредственного знания. Его контролю подлежат те внутренние органы, которые мы не можем контролировать, какая бы надобность ни представлялась в этом.
На первых страницах второго тома своей Физиологии Льюис обезразличил все нервные нити учением о нервности как общем свойстве всех нервов; он также обезразличил все нервные центры учением о чувствительности как их общем свойстве. Эти две мысли легли в основание его системе, которая очень согласна сама с собою, но не согласна с опытами и фактами. О системе симпатического нерва Льюис не говорит ни слова, хотя этот нерв особенно заинтересован в деле, которое теперь мы разбираем; он управляет растительными отправлениями организма. Кто не может обойтись при объяснении органических явлений животного тела без жизненной силы, тот мог бы поместить ее в ганглиях, как Льюис помещает чувствительность в центрах голово–спинного мозга. Как этот мозг управляет действиями сознательными или животными (fimctlones animales), так система ганглий управляет действиями бессознательными или жизненными (functiones vitales). В человеческом организме эта система или вовсе нечувствительна, или же она имеет чувствительность тупую, общую, неопределенную, во всяком случае не поднимающуюся до предметного сознания. Мы ничего не знаем во внутреннем чувстве об обмене веществ, о движении соков, о напряжении, разложении и подновлении тканей. Может быть, у ясновидящих, которые иногда так обстоятельно рассказывают о том, что происходит внутри их тела, эта система находится я каком‑нибудь особенно возбужденном состоянии и делается чувствительною в значительной степени. Притом известно, что она соединяется ς мозгом отдельными нитями. Можно представить себе организм, в котором система эта будет иметь какие‑нибудь легкие особенности в устройстве или в отношении к мозгу: тогда в человеке или будет обнаруживаться общее стремление к наблюдению за состоянием и деятельностию внутренних частей тела и таким образом будет существовать в нем естественное предрасположение к ипохондрии, или он получит и действительную способность управлять по произволу каким‑нибудь отдельным органом, который помещается внутри тела. Так объяснялись бы факты, на которые ссылается Льюис, именно что были люди, которые могли жевать жвачку, потеть по произволу, ускорять и замедлять биения своего сердца и т. д. Но эти факты, с одной стороны, подходили бы под общий закон, который мы доселе раскрывали: условия, облегчающие контроль, и в настоящем случае были бы прежде всего Физиологические а с другой обозначали бы уклонения организма от постоянного обычая которому следует телесная и душевная жизнь человека.
Но вообше как наши ощущения имеют различные степени сознательности так и физиологические условия, которые подчиняют некоторые органы нашему произволу представляют ряд восходящий. В нашем теле есть органы которые действую только под влияние постоянных органических стимулов; есть органы положение которых произвол, души условливает только общим неопределенным образом; далее, органы, в которых, по намерению души происходит круг движений хотя определенный, но крайне ограниченный как по пространству, так и по времени; наконец, органы, которые, как руки й голосовые органы, могут быть названы по преимуществу органами души. Впрочем, Нет такого органа, который был бы безусловным и беспристрастным исполнителем движений, предписываемых ему произволом души, и который, совершив определенное, иногда слишком большое число действий, сообразных с этим произволом, не протестовал бы против психического насилия и не отказался бы повиноваться ему, чтоб отдаться жизни растительной и совершать монотонные движения, требуемые непосредственными нуждами питания. Мистика жалуется на то, что, нащ дух, бодрый, не устающий желать, связан слабостию тела, которое отказывает ему в достаточных услугах, а практическая философия требует, чтобы мы воспитывали и развивали в себе только такие желания, которые были бы сообразны с средствами. Физиология с своей стороны также могла бы показать, чтовоспитываяст в этом естественном направлении сообразно с физиологическими физиологическими условиями нашего тела, мы не сделаемся ни атлетами; ни канатными плясунами и что особенное развитие тонкости и силы мускульных движений не может быть принято за идеал человечности уже потому, что такой идеал направлял бы наш произвол, частию на такие места тела, особенно же на такие положения их, которые далеко не имеют значения лучших и послушнейших исполнителей наших желаний и которые более служат нуждам питания, чем нашему произволу.
Мы показали, почему мы не согласны признать Льюисом мышцы и органы движений пройзвольййх и непроизвольных безразличными в физиологическом отношении. Если наш физиолог утверждает еще что и психология не может найти различия между этими действиями что и эта наука не в состоянии указать на элемент который отличал бы движения произвольные от непроизвольных то нам приходится разве жаловаться на неясную постановку задачи которую нужно бы решить здесь и на збивчивость языка которым пользуются физиологи и психологи при описании разных, видов, душевной деятельности. Во первых, вопрос произвольных и непроизвольных деятельностях ничего общего с философским вопросом о свободе во ли, хотя У, нас и, поняли Льюиса так, будто бы он трактует об этой метафизической проблеме, Вопрос о свободе воли; говорит не об отношении деятельностей к желаниям или намерениям, а об отношении, желаний или намерений к их основаниям, к их определяющим условиям когда движение, действие или поступок вытекает не обходимо из желания, из намерения, мы называем этот поступок, это действие, это движение свободным или произвольным: за такие поступки, которые совершаем мы потому, что мы желали их, мы несем ответственность пред нравственным чувством и пред судом людей. Но теперь можно еще спросить: если свободным или произвольным называем мы поступок, который произошел необходимо из нашего намерения из нашего желания то самое намерение самое желание из которого выходит свободный поступок определено ли необходимостию своими условиями, есть ли оно необходимое произведение, достаточных причин, есть ли оно необходимое последствие предшествовавших ему процессов или жн это желание это намерение свободно, то есть тоесть произошло оно из своих, прнуднтельных условийи и причин и как выразился. очень характеристически Кларк в письме и Лейбницу изспособности души начинать безусловно? вобразите случай, которого, конечно, нельзя встретить в действительности, именно что человеку предстоит выбор, между двумя видами деятельности и что эти виды деятельности одинаковы во всех отношениях, одинаково разумны, одинаково полезны, одинаково нравственны и так далее. Очевидно, что, представляя себе такие деятельности, размышляя о них, человек не найдет никакого основания предпочесть одну из них другой. Он будет находиться, прд влиянием мотивов совершенно равносильных. Если бы тем не менее он выбрал один из этих способов деятельности, пожелал одного из них предпочтительно пред другим, то в этом случае его воля оказалась бы пободною, в ней обнаружилось бы присутствие какой‑то способности начинать безусловно. В этом случае, хотя его свободный поступок был бы необходимо определен его желанием и выбором, однако самое желание, самый выбор был бы действием без причины, без условий, действием безусловным; это был бы тот абсолютный акт, о котором так часто говорят философы. Повторяем, что этот метафизический вопрос о свободе воли не имеет ничего общего с исследованием о свободе воли не имеет ничего общего с иследованием опсихологическом различии между деятельностями и движениями произвольными и непроизвольными.
Второе замечание, как мы сказали, должно относиться к языку физиологов ий психологов. Для физиолога всякая деятельность, которая служит ответом на какой угодно психический стимул, есть уже произвольная, он противопоставляет ей непроизвольные действия, которые получают свое начало в возбуждениях органических или растительных. Было бы основательнее различать в целостном организме действия растительные (vitales) и живогные (animales), и и последней области — действия непроизвольные н произвольные. Льюис отвергает все эти различия. В организме животном все действия происходят из ощущений; сознательность есть общий источник их; все они произвольны (72—89). С этой точки Зрения физиология не может говорить о деятельностях растительных в отличие от деятельностей животных, а психология не должна выделять деятельности произвольные и противопоставлять их непроизвольным. По общепринятому мнению, — Говорит Льюис, — действие называется произвольным, когда побуждение к нему является вследствие сознательного представления цели, которая должна быть достигнута этим действием; и если мы скажем, что произвол есть деятельность, определяемая ясною, определенною идеей, то мы довольно точно выразим общепринятое мнение (67): Льюис доказывает, что это мнение неверно, потому что, с одной стороны, действия могут Совершаться вследствие определенных идей и между тем Действия эти будут непроизвольны; а с другой стороны, действия могут быть произвольны, хотя совершаться они будут не вследствие какой‑нибудь определенной идеи, а просто вследствие ощущений. Первое из этих положений Он оправдывает Примером: когда мы Твердо решаемся и даем слово нашему приятелю не моргать в То время, как он будет приближать свой палец к нашему глазу, и, однако же, моргаем, как толь ко палец действительно приближается. Это мигание, говорит Льюис, вызвано идеей, идеей опасности, а обыкновенно оно считается действием непроизвольным. Второе положение оправдывается фактами вроде того, что если пощекотать только что проснувшегося человека, то в результате ощущения, которое он получит, будет или то, что он попросит нас оставить его в покое, или же то, что он пустивам подушкой в голову (7). Здесь мы имеем действия, обыкновенно признаваемые произвольными, а между тем они произошли просто вследствие ощущения. Множество примеров, приводимых Льюисом,, к видимому, доказывают, что из двух деятельностей, определенных одним и тем же мотивом, одна может быть такая, которую обыкновенно считают произвольною, а другая может иметь характер, вследствие которого ее обыкновенно признают непроизвольною, и наоборот, деятельности, зависящие от условий различных, могут оказаться такими, которые общепринятое мнение находит или одинаково произвольными, или одинаково непроизвольными. Таким образом Льюис убеждается, что эти подвижные, как бы ускользающие из рук различившего не объясняют, что наука не находит ни одного элемента, которым бы отличалось действие произвольное от непроизвольного, и что строгий анализ считает все возможные наши действия только за ответы организма на стимулы, возбуждающие его нервные центры (89).
Строгий анализ считает наши действия ответами на стимулы, а это, без сомнения, значит, что строгий анализ видит в наших действиях действия своих причин, видит действия, происшедшие из своих условий, из своих источников. Но эта формальная истина ничего здесь не объясняет. Она очевидна сама по себе, очевидна без строгого анализа, и общепринятое мнение, различающее действия произвольные и непроизвольные, знает и охотно признает эту формальную и общую истину. Льюису бессознательно предносится метафизическое учение о свободе воли, и вот он усердно противопоставляет ему формальное учение о всеобщей зависимости действий от своих причин или условий. Только, выше мы показали, что здесь идет дело вовсе не об этом; мы спрашиваем, почему некоторые действия, которые имеют свои полные принудительные причины, общепринятое мнение считает произвольными и делает человека ответственным за них? Есть ли в этих действиях, которые, во всяком случае, суть ответы организма на стимулы, особенный психичеСкий элемент отличающий их от действий непроизвольных? Или: так как все действия суть ответы оргаизма на стимулы, то не ли в некоторых стимулах такого особенного элемента который зависящие от них действия делает произаольными? На эти яснее вопросы мнение общепринятое, тоесть с давних пор господствующее в психологии дает ответ простой, но вполне удовлетворительный. Если не для физиолога, то для психолога очень понятно различие между ощуением представлением или идеей или желанием хотением намерением. Не ве ощущаемое представляемое или мыслимое есть уже желаемое. Когда действие служит, ответом на. стимулу: а–стоядаий из хотения, желания намерения то действие вне есть произвольное. Вы мигнули глазом когда, приятель ваш поднес свой палец к нему, хотя вы имели решительное намерение не мигать Положим, что. Это миганье, как думает Льюис, произошло от идеи опасности, но все же ему не предшествовало намерение или желание жмурить глаза в то время, как палец приятеля будет приближаться к ним, все же это закрытие глаз не есть действие, которое совершилось потому, что вы хотели совершить его. В сущности, это вызванное идеей, но вместе невольное миганье есть один из случаев, доказывающих, что мы не всегда имеем силу исполнить наше намерение, не всегда имеем силу совершить действие, которое мы избрали. Пока мы взвешивали в мысли силу впечатления какое произведет на наш глаз палец приятеля, мы наедялись и потому решились удержаться от мигания, но когда произошло впечатление действительное свежее, сила его оказалась гораздо боль, глаз последовал своей многолетней привычке и наше намерение оказалось не исполненным. Это все равно как еслибы мы решились поднять тяжесть но при первой попытке отказались от нашего намерения, потому что тяжесть была не по силам. Для психолога также понятна разность между наличными силами души и теми намерениями, желаниями расчетами, которые могут соответствовать и не соответствовать этим силам. Пример миганья, приведенный Льюисом, повторяется в жизни иногда в формах очень трагических. Человек проклинает свою, страсть, хочет освободиться от нее, имеет твердую решимость не поддаваться и, однако же, как только представится действительное побуждение отдается ей слепо, отдается ей, несмотря на то, что она губит его и что он знает об этом. Такой человек, по выражению Сенеки видит то, что лучше, и делает то, что хуже.
Ощущение, представление, идея может разрешиться в действие без нашей воли, без нашей решимости. Чело–Век дрожит, от холода, пыхтит от жара чихает от щекотанья в ноздрях, кашляет от неприятных ощущений в горле, мигает от зуда в глазах, вскрикивает от внезапной боли, — все это действия, которые происходят и в детском организме и которые, следовательно, вывиваются ощущениями с помощию условий чисто физиологических. Мать послышала,; что ее старший сын: умер; она издает стон и роняет из рук ребенка, который получает рану в висок и умирает; Человек вскрикивает и дрожит в испуге от пожара, который вспыхнул в его доме. В досаде человек рвет па себе волосы. Тоска отнимает у человека аппетит и напряженность мускулов. В припадке сильного гнева он наносит пощечину человеку, оскорбив- тему его, и тут же, приходя в себя, не может дать себе отпета;, как он это сделал в душевном волнении; вызванном представлением, отчаянного и безвыходного положения, он схватывает нож и перерезывает себе горло. Все это примеры действий которые зависят. от ощущений, представлений, идей, но которые возможны только в, человеке взрослом, имеющем сильные интересы, страсти, наклонности и т., д. Действия этого порядка происхрдят, из мотно. которые сразу, непосредственно, не дожидаясь особенной оценки со о стороны человека, овладевают его сознанием и заставляют его сделать то, чего он не сделал бы, если б он был в состоянии взвешивать и избирать. Мотивы эти как бы опустошают создание вытесняют из него мгновенно все другие представления которые могли бы противодействовать их влиянию; человек забывает себя, забывает то, что сообразно с постоянным и общим планом его жизни; он не может опомниться, как уже он совершил преступленье, которое, быть может, разрушит его счастие навсегда. Практический смысл народов и юридические науки тщательно работают над определением справедливой меры, в какой надобно вменять человеку преступления, совершаемые им во время сильных душевных потрясений, испуга, гнева ит. д. Большею частию оказывается, что в это время преступление совершилось не свободно, не намеренно, чтооно не было замышляемо или было, как говорят не умышленно. В самом деле, легко заметить, что некоторые, мотивы, хотя состоят они из ощущений,. представлений идей, действуют на человека с силою почти объективною, ffaf; действует, например, камень, который всегда и везде обнаруживает одну и ту же силу давления. Отделить в поступке все, что произошло из таких мотивов— нелегко; однако же это необходимо для того, чтобы наш суд о человеке был точен.
Но как здоровый организм выдерживает давление камня, а слабый падает под его т&жестью, так и сила воли или сила характера открывается прежде всего в способности останавливать и задерживать непроизвольные действия, которые помимо наших желаний готовы последовать за состояниями душевных потрясений. Человек, который развил в себе сильную волю, сильный характер, имеет способность самообладания, и сознание этой способности рождает в нем веру в свободу воли. Он считает свою волю свободною, потому что он чувствует в себе силу действовать только по мотивам, которые он взвесил, признал, одобрил, избрал, по мотивам, на которые он взвесил, а с другой стороны, чувствует в себе силу останавливать действия, которые следуют без его выбора из механического влияния представлений на орган движения. Здесь мы получаем понятие о действиях, которые имеют характер свободных в высшем или в строгом смысле слова; а свободна ли воля, из которой происходят эти действия, вопрос этот опять остается в стороне.
Итак, и деятельности, зависящие от психических стимулов, представляют постепенный ряд, в котором элемент произвола становится все сильнейшим и значительнейшим. Полную сознательность мы приписали представлениям, которые развились до формы логического понятия. Вполне свободною оказывается деятельность, происходящая из мотивов, которые были взвешены, избраны, призваны и одобрены в спокойном, владеющем собою сознании. Способность к такой деятельности есть идеал, который весьма редко достигается действительным развитием воли и образованием характера; Часто наши действия следуют или просто из ощущений, помимо нашего желания, или из таких желаний, которым не предшествовал сознательный выбор, но которые родились из случайной встречи представлений или из игры фантазий, б ежедневной жизни мы различаем хотение и прихоть, или каприз. Также весьма часто деятельность оказывается свободною только со стороны средств, которые избрали мы, а не со стороны целей, которые на вязываются нам постоянными или периодическими нуждами организма и невольным потоком представлений. Наконец, почти всегда от сознательного выбора, от нарочитого взвешивания мотивов зависят только начальные и основные направления деятельностей, а подробности в их развитии мы предоставляем исполнять психическому потоку представлений и зависящим от него автоматическим движениям телесных органов. Все это случаи, в которых, говоря словами Льюиса, элементы произвольности и непроизвольности перемешаны в одном и том же действии. Все это случаи, где выбор, одобрение, решимость определяют только некоторые формы сложного действия, которое во всех остальных частях исполняется механическими деятелями, существующими в душенном образовании и телесном устройстве.
Льюис замечает, что действия произвольные вследствие частого повторения делаются непроизвольными и совершаются автоматически. Это не подлежит сомнению; но это не доказывает, что в действиях произвольных нет особенного элемента, который отличал бы их от действий непроизвольных. Пока девушка учится петь, танце вать и играть, она контролирует каждое движение своих ног, горла и пальцев. После продолжительной практики она совершает эти действия автоматически, поет, играет, танцует, не думая и почти не обращая внимания на положение своих членов. Это такое явление, на котором главным образом основывается возможность сильного и богатого душевного образования. От выбора, от произвола, от сознательной решимости будет зависеть только начало названных деятельностей; позволительно думать, что девушка, хотя играет, поет, танцует автоматически, однако начинает эти действия произвольно, — да еще соображение и расчет она будет направлять на главные формы действия, чтобы доставлять им все большее и большее совершенство. Чем автоматичнее совершается деятельность, тем более наш произвол контролирует то, что имеет особенную важность в этом действии и что придает ему все большую и большую цену. Пока мы учимся писать, мы не думаем о том, что мы пишем. Когда же мы достигаем того, что наша рука пишет автоматически, тогда вся наша сознательная деятельность, все расчеты и все виды оценки сосредоточиваются на мыслях, которые мы хотим изложить на бумаге: мы не развлекаемся тогда обязанностями контролировать бесконечно разнообразные и мелкие движения руки; мы отдаемся исполнению дела; которое мы считаем главном и существенном. Таким образом чем? обширнее делается Круг движений автоматических, тем более деятельность, в полном смысле произвольная, направляется На преследование высших интересов и достижение достойнейших целей. Во всяком случае, то самое обстоятельство, что произвольные действия выполняются наконец автоматически, могло бы доказывать физиологу, что элемент воли есть стимул так же действительный, как й простое Ощущение: этот элемент обнаружил на систему движений влияние до того сильное, что- с течением времени движения эти повторяются сами собою и механически как: раз в: том порядке, какой сначала принимали они неохотно, принимали только вследствие особенного контроля воли.
МыНе думаем, что наши замечания, как они ни длинны, сокращают расстояние между языком психологии и языком физиологии. Определения вроде того, что ощущение есть ответ нервного центра на внешний стимул, что действие есть ответ телесных органов на стимул внутренний, также что действие, подлежащее контролю, есть ответ телесного органа на ощущение мозговое- все такие определения долго будут являться в физиологии как достаточно ясные, и основательные. Физиолог смотрит на вещи которые подлежат его изучению о стороны. Он видит в них явления, которые; существуют в пространстве и изменяются во времени, не имея никакого отношения к нашему сознанию. В этих вещах ровно ничто не изменяется от того, знаем ли мы о них или нет. Наше знание по отношению к ним посторонний зритель, а не элемент, В котором они существуют. Следуя этой привычке чисто объективного наблюдения, при: изучении душевных явлений, физиолог видит в ощущениях, представлениях, идеях процессы или изменения; которые существуют не во внутреннем элементе, а существуют просто, как и все вещи на свете, в определенном пространстве и в определенное время. С этой точки зрения он находит понятным, что чувствительность есть свойство нервных центров, что ощущение есть возбужденное состояние этих центров, что различные душевные деятельности размещаются по различным частям мозга, что одно ощущение разрешается в другое, что ощущение может быть пространственным двигателем руки, ноги и т. д. Хотя Льюис, как мы не раз видели, очень хорошо понимает особенность психических явлений, которые, го воря вообще суть формы положения и состояния сознания и которые вне этого элемента не существует, как‑нибудь на манер вещей и их процессов, однако мы имели случай убедиться, что и он часто отдается физиологическим привычкам, часто смотрит на психические явления, как на какие‑то нематериальные вещи, которые, пожалуй, мог бы·. непосредственно видеть и посторонний зритель, если б ему удалось подступить к местам, где. находятся. Отсюда у него тот физиологический язык которым психолог не всегда может пользоваться. Все влияние этого физиологического взгляда обнаруживается: в учении Льюиса о чувствительности спинного мозга в его теории рефлексивных движений. Общие относя–циеся сюда положения уже известны нам: чувствительность есть свойство каждого нервного центра, следовательно, и спинного мозга. Все действия или движения рефлективны; но так как ощущения составляют источник их то рефлектируется не физиологическая перемена нерва чувствительности на нерв движения, нет, на этот нерв рефлектируется ощущение, которое происходит, в,. Нервном центре, когда возбуждает его физиологическая перемена нерва чувствительности. Внешний Стимул раздражает нерв чувствительности, это раздражение передается нервному центру и возбуждает его чувствительность, которая вследствие этого делается ощущением. Это: рщу–едеиие рефлектируется на нерв двигательный и разрешается таким образом в движение телесных органов. Но в какой мере эти положения достоверны или сомнительны, какие выгоды или неудобства представляют они для психологии, к каким общим воззрениям на жизнь телесную й душевную предрасполагают они, —-асе это вопросы очень сложные. Они могут послужить предметом особой статьи, а теперь увлекли бы нас слишком далеко от предположенной задачи.
Разум по учению Платона и опыт по учению Канта
(Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета. 12–го января 1866 года)
Мм. Гг.!
Когда художник воздвигает колонны у величественного здания, он находит несообразным с требованиями вкуса, чтобы каждая из колонн была доведена только до сиоего пространственного конца. Он хочет и самый этот конец как нибудь сделать или построить: он обозначает или выражает тот конец особенными изваяниями, на которых невольно останавливается взор, не обрываясь внезапно в пустоту или в другой порядок явлений, несоизмеримый с прежним, и которые как бы собирают вместе черты идеи, воодушевлявшей художника во время работы, и освежают его творчество, угрожавшее истощиться под гнетом однообразной деятельности.
Может быть, подобное художественное чувство руководило просвещенными учредителями обычая заключать пройденный год учебных занятий и начинать ряд трудов нового года торжественным собранием членов университета и просвещенных граждан. Потребность осмотреться и нравственно освежиться, собраться с духом, свести к единству разрозненные стремления, наконец, воодушевиться обзором отдельных действий, сходящихся в одно гармоническое целое, — не в этом ли заключается вообще источник большей части праздников и всех годовщин, на которых прошедшее обозревается светлым взором, чтобы вдохнуть мужество для трудов будущего?
Правда, что единство и гармоническое соотношение наук далеко не так легко обозревать, как обозревает архитектор свои работы. Чем долее живет человечество, тем многочисленнейшие задачи сознает оно и настойчивыми нуждами побуждается к их научному разрешению. мгтаашия раздробляется на многочисленные лучи отразил по учению Платона и опыт по учению Канта дельных наук; способы ученого исследования делаются все разнообразнее и специальнее; различные отрасли знания так обособляются по предметам и методам, что остается почти только одна вера в их действительный союз и в их согласие относительно последних целей, которые ими достигаются. Но зато науки имеют ту особенность, что по своему положительному содержанию они не имеют прошедшего, что их образ есть вечно юный, настоящий, нестареющийся, как разум, которого они суть младшие и лучшие дети. Медицинский факультет тщательно изучает Гиппократа, математический — Евклида, юридический — римское право, историко–филологический— Софокла и Платона; все это изучается не вследствие исторической любознательности, но вследствие ясного убеждения, что там, н глубокой древности, где впервые замялась три научного образования, сделаны человеческим разумом егибнущие приобретения.
Еще важнее то обстоятельство, что художник, воздвигающий здание науки, всегда налицо, всегда пред нами. Это— дух человеческий, и мы можем спросить его, какими основными убеждениями он руководствовался при построении той или другой науки.
Два И только два основных убеждения возможны для духа, насколько он открывает свою деятельность в познании и изучении явлений. Одно из них состоит в том, что ему, как духу вообще, присущи начала, делающие возможным познание самой истины; другое — в том, что ему, как духу человеческому, связанному с общим типом человеческой телесной организации, присущи начала, делающие возможным только приобретение общегодных сведений. Вне этих убеждений остается поле для скептицизма, который, разрушая науку, должен, чтобы быть в согласии с Собою, сомневаться и в том, что он разрушает науку, и таким образом безвыходно вращаться в недомыслимом круге, отрицая свои собственные положения.
По особенному свойству этих двух убеждений, необозримый мир опытов распадаётся пред лицом зрителя на две формы. Каждая из этих форм имеет совершенно особенное значение; каждая из наук, смотря по сбоим принципам, должна относиться к Одной из этих форм, содержанием которой будет определяться ее удельный вес в общем образовании человека·..
Именно, когда нам, все ученые говорят единогласна, что мы познаем только явления, то еще остается неопределенным в каком смысле изучаемый круг предметов есть явление в той ли, что чистый разум или разум сам по себе не находит этих предметах полного осуществления своих мнений о подлинном бытии и вследствие того видит в них только подобия и неясные образы того, что существует в истине; или в том, что наблюдаемое качество этих предметов условлено фирмами нашего чувственного созерцания, так что эти предметы Суть не феномены сущности, но феномены нашего сознания первый взгляд развит в образцовом для всех времен Совершенстве Платоном в его учении о разуме и об идеях, btoj рой — Кантом в его учении об опыте. Первый различает между предметамй, как они даны в опыте, и предметами, как они даны в разуме; второй между предметами, ка к они даныв нашем субъективном взгляде, й предметами; как они есть сами по себе или в самой натуре вещей. Первый находит возможным знание истины, второй толькознание общегодное.
В продолжение тысячелетий господствовало в философии платоническое учение о разуме. В наше время оно стало неясно вследствие глубокого, но вместе и сбивчивого учения кантова об опыте и его условиях, и можно сказать, что относительно вопроса о началах и сущности науки вся история философии разделяется на две неравные эпохи, из которых первая открывается Платоном, вторая Кантом.
В настоящей беседе не было бы уместно обозревать во всей полноте оба эти учения, в которых сосредоточено все; что делает положение различных наук неясным; в особенности же значение их в общей системе человеческого образования неопределенным. Но достаточно всмотреться в основные черты того и другого учения для того, чтобы различать вообще, какая из наук или при какой обработке имеет практическое значение руководства или системы общегодных сведений и какая из них, напротив, проникнута более или менее требованиями и началами общей истины.
Удовлетворение, которое мы испытываем, когда познаем вещи на основании опытов, есть факт общеизвестный. Не только образы вещей напечатлеваются в сознании, но и порядок, в каком эти образы воспоминаются и соединяются, есть данный приготовленный самыми опытами а не полагаемый самодеятельным, рискующим заблуждаться мышлением; мы судим так, а не иначе, по–ому что так, а не иначе мы. видели ответственность за истину иди ложь. наших суждений падает на: опыт который диктовал нам эти суждения. Если бы в этом смысла опыт, был единственным источником наших лоанадвй,. то все: науки: имели. бы характер повествовательный и. описательный. Положение, что все наши познания суть дарыопыта,, имеет судьбу: всех общих мест, которые нам ничего не говорят, или говорят очень глубокие истины для. того, кто умеет понимать их. Нет воззрения нет оа та, который н, е мог бы и не должен бы быть разложем на понятия. Опыт дает познании, которых годность единственно, зависит от строгости анализа. Уже эти два обще известные действия отбрасывают нас из области опыта. а область разума. Так, тот, кто утверждал бы, что он стоит в прямом положении благодаря своим ногам, сразу попил бы настоящий смысл этого факта, как только ему пришлось бы иены гать, что при керном потемнении соэг нация или смысла ноги отказывают ему в услугах и оа падает на землю. Рождение науки начинается не с воспоминания, а с анализа фактов; зрелость ее возраста обозначается способностию вывода частных явлений из их общих оснований. Эти действия принадлежат разуму; исполнение их совершается по всеобщему, неизменяемому законодательству разума; из области знания мы выключаем все личное, и предлежащий нам мир мы обсуживаем и изъясняем по началам мира мыслимого, как по его образцам, —мира, который существует только в разуме и для разума. В этом заключается простая сущность платонического учения об идеях. В наше время оно окруже но те большим мраком, чем более сделались неясны для- нас лаши собственные представления относительно разума ы смысла его законов.;.
Общий чллоеческий смысл и идеи. Весь Теэтет» посвящен развитию положения, что ощущение, происходящее от возбуждения телесных органов чувств, есть са мое бедное неуловимое и изменчивое состояние, что не оно: есть. снова общего смысла человеческого и что, на против, этот общий смысл имеет свой прочный корень и сверхчувственных идеях, которые познает душа сама по себе. То, что мы ошущаем с помощью телесных органов чувств, не существует нигде и никак вне той зыбкой черти, ни которой встречаются страдание ощущающего ли ци и действие ощущаемого предмета. Как от одного и того же напитка здоровый Сократ получает ощущен и? сладкого и приятного, а больной •— ощущение горького и неприятного, так и вообще следует ска зать что ощущение есть беспредметное изменение н что они гсгь только для чего‑нибудь, или чрез что‑нибудь, иди н отношении к чему‑нибудь Общий смысл, находящийся в связи с вещами, выступает за пределы этого призрачного мира ощущений, который, хотя есть единственное данное в познании, тем не менее далеко еще не есть опыт. Итак, спрашивается, каким образом возможен опыт и соответствующий ему здравый смысл?
«Скажи мне, — спрашивает Сократ Теэтета, — не отнесешь ли ты к телу всего, посредством чего ты ощущаешь теплое и жесткое н мягкое и сладкое? или к чему‑нибудь другому?
Теэт. Ни к чему более.
Сокр. Не решишься ли ты признать также возможным, чтобы то, что ты ощущаешь посредством одной способности, было ощущаемо посредством другой, например, чтобы ощущаемое посредством слуха было ощущаемо посредством зрения или ощущаемое посредством зрении было бы ощущаемо посредством слухаТе а т. Как же можно не решиться?
Сокр. Итак, когда ты мыслишь что‑нибудь о двух таких ощущениях, то, конечно, при этом ты будешь познавать в них нечто не посредством иного, отличного от двух первых телесного органа, также и не посредством одного из этих двух органов.
Тезт. Справедливо.
Сокр. Но вот о тоне и о краске не думаешь ты, всего прежде, одного и того же, именно что они существуют?
Те эт. Без сомнения.
Сокр. И что каждое из ни есть отличное от другого и то же самое для самого себя? Тезт. Как же иначе?
Сокр. И что оба вместе они составляют два, а каждое само по себе есть одно? Т еэт. И это так.
Сокр. Можешь ли ты также познать, не подобны ли они друг другу или подобны? Те эт. Вероятно, могу.
Сокр. Посредством чего же мыслишь ты об них все это? Потому что нн посредством слуха, ни посредством зрения нельзя принять то, что есть общее в этих ощущениях. Впрочем, сделаю и еще пояснение того, о чем говорим мы. Если бы возможно было исследовать оба эти ощущения относительно того, солоны ли они или нет, то ты сумел бы сказать, чем именно ты исследовал это и что такой орган, очевидно, не есть ни зрение, ни слух, но что‑то другое.
Те эт. Как же не сказать. Это была бы способность вкуса.
Сокр Ты дал прекрасный ответ. Какая же способность открывает тебе как во всех ощущениях, так и в этих то общее, но силе которою ты говоришь об них: есть, нет и все то, о чем мы сейчас спрашивали? Для всех этих познаний какие укажешь ты телесные органы, посредством которых то, что и ни с ощущает, ощущало бы все это?
Течт. Ты говоришь п бытии и небытии, сходстве и несходстве, о том же самом и отличном, об одном и о прочих числах в этих вещах. Явно, что также о равном н неравном и обо всем, что с ним связывается, ты мог бы спросить, посредством какой из частей тела душа ощущает все это?
Сокр. Превосходно, Теэтет, выводишь ты; именно. я спрашиваю обо всем этом.
Те эт. Однако, Сократ, клянусь Зевсом, что я не могу сказать ничего, разве то, что, как мне кажется, нет никакого особенного телесного органа для этих вещей, как есть органы для тонов и красок; но очевидно, что душа сама по себе усматривает общее во всех вещах.
Сокр. О мой прекрасный Теэтет, а не безобразный, как сказал Феодор: потому что кто говорит прекрасно, тот прекрасен и хорош. Но мало того, что ты красавец, ты еще сделал мне услугу, избавив меня от обширных объяснений, если только для тебя очевидно, что душа нечто познает сама по себе, а другое — посредством спо собностей тела. Это именно и было мое мнение, и я хотел, чтобы оно было и твое.
Теэт. Но действительно я так думаю.
Сокр. К какому же из двух этих разрядов отнесешь ты бытие? Потому что оно преимущественно связывает ся со всем.
Теэт. Я отношу его к тому, что душа познает сама по себе.
ощущениях. Впрочем, сделаю и еще пояснение того, о чем говорим мы. Если бы возможно было исследовать оба эти ощущения относительно того, солоны ли они или нет, то ты сумел бы сказать, чем именно ты исследовал это и что такой орган, очевидно, не есть ни зрение, ни слух, но что‑то другое.
Теэт. Как же не сказать. Это была бы способность вкуса.
Сокр. Ты дал прекрасный отпет. Какая же способность открывает тебе как по псе χ ощущениях, так и в этих то общее, но силе которою ты говоришь об них: есть, нет и все то, о чем мы сейчас спрашивали? Для всех этих познаний какие укажешь ты телесные органы, посредством которых то, что и нас ощущает, ощущало бы все это?
. Теэт. Ты говоришь о бытии и небытии, сходстве и несходстве, о том же самом и отличном, об одном и о прочих числах в этих вещах. Явно, что также о равном и неравном и обо всем, что с ним связывается, ты мог бы спросить, посредством какой из частей тела душа ощущает все это?
Сокр. Превосходно, Теэтет, выводишь ты; именно, я спрашиваю обо всем этом.
Теэт. Однако, Сократ, клянусь Зевсом, что я не могу сказать ничего, разве то, что, как мне кажется, нет никакого особенного телесного органа для этих вещей, как есть органы для тонов и красок; но очевидно, что душа сама по себе усматривает общее во всех вещах.
Сокр. О мой прекрасный Теэтет, а не безобразный, как сказал Феодор: потому что кто говорит прекрасно, тот прекрасен и хорош. Но мало того, что ты красавец, ты еще сделал мне услугу, избавив меня от обширных объяснений, если только для тебя очевидно, что душа нечто познает сама по себе, а другое — посредством спо собностей тела. Это именно и было мое мнение, и я хотел, чтобы Оно было и твое.
Теэт. Но действительно я так думаю.
Сокр. К какому же из двух этих разрядов отнесёшь ты бытие? Потому что оно преимущественно связывается со всем.
Теэт. Я отношу его к тому, что душа познает сама по себе.
Сокр. И подобное и неподобное, и то же самое Ή другоеТеэт. Да.
Сокр Но бытие того н другого, также то, что'©н» такое, еще их противоположность друг с другом и сущность этой противоположности душа усиливается опрем лить сама по. себе, передумывая все это и сравнивая одно с другим. '
Те эт."Без сомнения» Хотя приведенное здесь учение Платона 0 том, что душа сама по себе знает многое, было направлено напротив современного сенсуализма, однако его непосред «т'аеткН содержание касается вопроса о возможности–опыта н ой основах здравого человеческого смысла. Многие ощущения, совершенно несоизмеримые по своему действительному качеству, делаются соизмеримы дл разума, потому что Они соединяются в идеях бытия, того же и"другого, — в идеях, которые душа знает сама по себе; и только вследствие этого единства или вследствие того, что душа сама по себе находит в них общее, возможен тот ежедневный опыт, в котором мы различаем вешя и изменения, находим Их существующими, сходными, раз-' личными, тожественными'и т. д. Единство сознания, ко-' шрре, обнимает все свои состояния и. которое, мы должны предположить во всяком чувствующем существе, далеко не- изъясняет возможности здравого человеческого смысла которого основание заключается только в истцнещ непосредственно знакомой духу и применяемой им к ера в-, нению ощущений. Встреча представлений в одном нераздельном сознании была бы достаточна, чтобы образоввать безразличную к истине мехаяическу юассоциацию, в силу которой эти представления могли бы только вызывать, безразличную к истине механическую ассоциацию, себя из сознания; но всякое различие, полагаемое здравым» смыслом между есть к не есть, между тем же я другим, всякая форма предметности и истины есть собтвенное дело души, руководящейся знанием сверхопыт–пых. идей. Только тогда, когда протекающие ощущения соединяются не просто в существующем сознании о бытии ил"и небытии словом, в сознании общего, тогда происходит здравый'смысл и о/шт,"как две соответствующие стороны одного и того же процесса или как свет и его отражение на мутных волнах ощущений.
,/Длатон не отказывает здравому смыслу в истине. и не ставит науки и философии в отрицательное отношение к нему, как это делал Парменид, по мнению которого общий смысл) совершенно противоположен разуму и который называл людей вообще дв'уголовыми существами, то есть существами, обреченными на противоречащие и ложные взгляды. Когда души, по изъяснению Платона «причастная смыслу и ги р мои и и», обращается своим сознанием к чувственному и когда правильность движения всего изменяемого проникает всю душу, то в ней происходят достоверные и истинные мнения и убеждения (происходит здравый смысл). Когда же она обращается к мыслимому н когда она познает его в правильном круговороте неизменяемого, тогда происходят в ней разум и знание (Т\щ. 37Ьс). Здравый смысл и разум так же относятся между собою, как мир подлунный н мир звездный. Предположение правильности изменений чувственно данного космоса есть первоначальная форма здравого смысла. Предположение неизменяемости сверхчувственного космоса -т- первоначальная форма разума.
«Если, как думают некоторые, здравый смысл ничем не отличается от разума то мы, — — говорит Платон, — были бы вынуждены признать, что все, что мы замечаем посредством тела, есть первобытная н достовериейшая истина. Но мы должны считать их за два рода, потому что они произошли отдельно и имеют неодинаковое свойство. В самом деле, один нз них"про исходит чрез ученье, другой — чрез непосредственную уверенность; одни всегда опирается на отчетливые основания, другой — безотчетен; один не изменяется от непосредственной уверенности, другой — послушен ей; одно- му надобно почитать причастными всех людей, а разуму причйстны боги, человеческий же род что‑то мало (Тт. 5с). Принадлежащие здравому смыслу «истинные мнения, пока они остаются па месте, — суть прекраеттч.?
дело, и они производят все доброе; но они не хотят оста–нлтьсн долгое время на месте, онн убегают из человеческой души, и вот почему онн имеют не много цены, пока кто не свяжет их знанием основания… Когда они так бывают связаны, то сперва онн обращаются в познания, а потом делаются неизменяемы» (Меп. &7е).
Таким образом, хотя здравый смысл и соответствующий ему опыт возможны вследствие истины идей, которую душа знает сама по себе, однако истина, приобретаемая здравым смыслом, непрочна и изменчива, как чувственные явления, с которыми он находится в связи: она не свободна от неверности самой себе и не защищена от софистики, которой мнения не любят оставаться долго на месте.
Человеческое слово и идеи. Так же мы не оставляем почвы здравого смысла, имеющего свое основание в идеях, когда спрашиваем о возможности и сущности человеческою слова. Возможность слова основывается, по Пла-»ну. им предположении неизменяемого содержания знания. Защитники учения о безусловном изменении всего существующего встречают первое опровержение со стороны сущности человеческого слова.
Сокр. Если, как, по–видимому, говорит опыт, все находится в движении, то каждый ответ, к чему бы он ни относился, всегда будет казаться правилен, скажут ли они (г. е. защитники вышеупомянутого учения), что нечто есть так и не так или, пожалуй, что нечто так и ие так бывает. Это бывает употребляется здесь, дабы мы не принуждали их стоять на своем слове.
Ф со дор. Ты правду говоришь.
Сокр. Правду, исключая того, Феодор, что я употребил слова так и не так. Между тем слово так некстати здесь, потому что оно уже не обозначало бы движения; равным образом и слово не так, потому что и оно не есть движение, но те, которые держатся названного учения, должны бы придумать какое‑нибудь другое выражение; теперь же онн не имеют слов для своей мысли и разве только могли бы сказать: нечто бывает не так н не иначе, но бывает никаким образом. Эти ничего не определяющие слова были бы для них наиболее кстати»).
По Софисту», когда наблюдения не сведены в умственное единство или в общее понятие, также пока из рода не выделен вид в значении самостоятельной и единичной сущности, то для всех таких случаев невозможно и слово (267а, 267с). Слово означает не то, что дано в ощущении, но единое и общее или идею, означает Содержание не данное, но мыслимое по своему тожеству н по своей всеобщности. Согласно с этим Платон говорит: Относительно каждого множества, которому даем мы одяо и то же имя, мы привыкЛн полагать одну особенную идею» фе гер. X, 596а).
Уже здесь следует заметить, что для Платон.? идея имеет до сих пор значение формальное или логическое, его она не есть откровение высшей сущности вещей, но чень хорошо знакомое здравому смыслу и положительным наукам требование единства, неизменяемости и общегодности определений, требование, которое выражает сущность разума и без исполнения которого ни здравый смысл, ни опыт, ни слово, ни положительные науки невозможны. Там, где это требование исполняется мнимым образом, мы получаем слово, в сущности на имеющее никакого значения, как, например, слово оермо, Моторс для ученого ботаника ничего не означает. Там, где оно вовсе Не исполняется, мы йе имеем никакого названия, как, например, для означения того, что есть общего в двух цветах, красном и синем, мы не имеем слова. Вообще метафизическая истина идей или разума есть чисто формальная, насколько она относится к переработке опыта, доставляющего содержание знанию. По оригинальному мнению Платона, формализм разума происходит оттого, что мы, как дремлющие, считаем подобное истинной сущности не за подобное, но за самую сущность (V, 476с), другими словами, что существенную и внутреннюю для разума веру в истину и действительность мы Переносим на окружающие нас явления и потом, естественно, ожидаем от них откровения истины. Тем не менее все миросозерцания, которые делают невозможным человеческое слово, должны быть отвергнуты наперед как ложные и несовместимые с формальными требованиями разума. Таково миросозерцание элейнев и мегарнев, с одной стороны, н миросозерцание Гераклита и софистов—с другой. Элейское учение, что все вещи суть одно, простое,, недействующее и пребывающее в вечном тожестве с собою содержание, несовместимо с фактом языка, что при суждении о вещи мы употребляем имена существительные (буйрата) и глаголы. следовательно, всегда отличаем от вещи ее действия {Зорп.. 26е). Софистическое, выродйвшево и гирккдктоэой теорил мира учение, что все изменяете, пгически, поставляет человека в невозможность иметь какуюбы: то ни было речь.; В тот момент, когда мы ив–эивдем вещь, она уже стала другою, она уже ускользнул от., нас, и, сделалась не. такова, как мы ее назрел»:,(Кга. 539с). Вести беседу с философам» этого рода ив», воамождо как с людьми, которых жалит оаод, потюиу.: что, подобно своим сочинениям, и они мечутся сюда и туда, стоять же на слове, отвечать на вопросы, такие предлагать, вопросы спокойно и в порядке они соаер шенно неспособны, и неспособность эта превосходит всякую меру; потому что эти люди не имеют нн малейшего покоя. Когда спросишь их о чем‑нибудь, они вынимаю?, словно стрелы из колчана, загадочные фраз» стреляют ими; когда же пожелаешь узнать смысл этих фраз, то тебя поразит выстрел других неслыханных фра», и с ними ты никак не сладишь. Таковы же они и относн–тчльио друг друга: они особенно заботятся, чтобы ничего и было прочного ни н их словах, пи в их головах, пола–гаку как мне кажется, что по крайней мере это учение есть. нечто прочное; но в свою очередь и против него она ведут ожесточенную войну и всячески ниспровергают его» Форма отвлеченного мышления и идеи. Мы имеем основание. отличать логическую правильность мыслей от их истины, но основание это заключается единственное н^кювершеяствах и различной ограниченности разума, а не в его положительной натуре. Сам в себе, в своей втрв шейной. всеобщности разум есть разумение или знаки истины, и правильность мыслей есть непосредственно их истина. Нигде так ярко не было развито это понятие о разуме как в платоническом учении об идеях: Черты этой: логики следует обозначить здесь……
Форма понятия. В понятии мы мыслим нечто. Оста<-вим: случай и личный, повод, по которому мыслим мы это нечто, оставим личное чувственное воззрение, отрешимся: от места и времени, от здесь, и теперь, — потому что вое эти определения касаются положений мыслящего субъекта, а не мыслимого понятия, для которого все равно, какое; лицо, где, когда и но какому поводу мыслит его. Итак, возьмем содержание этого понятия само по себе, отдельно, как то, что оно есть. Таким образом мы полу» -; чим:. определение, что идея есть единая, тожественная–с собою, и общая. сущность, и притом сущность, мысли мая так например, идея красоты есть единая, и. общая сущность прекрасного). Так, в идее четыреугольника мы мыслим.
и, созерцаем мы их только в мышлении и Возьмите определеннее представление и понятие–Первое изменчиво по различию опытов и привычек каждого;"последнее неизменяемо, оно всегда есть то же самое, есть одинаковое для всех разумов; первое есть факт в личном сознании, последнее — незыблемый и верный самому себе. образец. Первое принадлежит индивидуальному мьпнк лению, второе — всеобщему разуму; действительность первого зависит от состоянии субъекта, действительноеть второго заключается единственно в нем самом, тс есть в- его мыслимости. Идея есть неизменяемый и вечный образец по отношению к тому, что дано в опытах и прел–ставленник. Она не существует ни на каком живом существе, ни нл нгбе, ни ни земле, но пребывает сама в себе или в мысленном месте, потому чттт в? сь способ ее бытия состоит в том, что она есть содержание, — созерцаемое правителем души, разумом | Так как каждое понятие существует только однажды, гак. как от многократного положения его в мышлении оно ие делается другим, то идея для каждого рода одна (2а, Пе гер. X, 597с).
Только частное и индивидуальное происходит и исче зает. ббщее не может нн происходить, ни разрушаться Этот человек произошел, и после некоторого времени он разрушится. Но человека вообще, самого человека, еди ную и общую сущность человека не может сотворить никакое всемогущество: идея ни происходит, ни исчезает, она есть вечная истина. Не идеи определяются действиями й творчеством живого субъекта, но, наоборот, действия и творчество живого субъекта определяются идеями. Так, художественная деятельность человека определяется идеей вещи, которую он предполагает сделать. Так, Бог творит мир, взирая на идеи; как на первообразы вещей (Тип. 28а). Истины нельзя и сотворить, — ни изобрести: ей свойственно вечное есть.
и мышление лица есть только стремление познать идею.
Форма суждения. Если переведем слово еТбод буквально, чрез вид, и если возьмем платоново учение, что и опыте данная вещь есть настолько, насколько она причастна идее то получим следующие логические и метафизические определения; Всякое явление есть настолько, насколько оно причастно виду.
Невозможна в мире явлений такая вещь, которая не подходила бы под общее определение разума.
Идея есть предикат в каждом познаваемом предмете как субъекте.
Субъект мыслится н есть только посредством предиката. Сущность каждой вещи состоит в тех идеях, или гфеднкатах, которым она причастна. Вне их вещь, субъект есть Итак, учение о безусловных вещах, например, об ато–мпх или вообще о таких безусловных субъектах, которые есть как бы по естественному, первобытному, следовательно, ничем не оправданному праву и которым свойственно бытие само по себе, не мотивированное требованиями истины, — такое учение реализма не может быть допущено в системе разума.
В субъекте суждения представляются многие видимые и случайные веши чувственного мира, в предикате — один простой, общий к неизменяемый предмет разума.
Так как в каждом предмете опыта есть только часть идеи (отсюда причастие), то он более или менее подобен идее, а не тожествен с нею, и, следовательно, идея есть го, чем должен быть предмет, есть идеал или первообраз для развития и совершенствования предмета.
Предметы, данные в опыте, оказываются явлениями пред взором разума, который знает то, что должно быть.
Соединимость многих субъектов в одном и том же предикате возможна, потому что каждый субъект имеет только часть идеи, например, каждая музыка, каждая женщина имеет только эту или ту красоту, а ие красоту вообще. На этом основывается необходимость процесса или изменения, которое иначе не мыслимо. Изменение есть вечное искание истины и добора Наконец, соединимость многих предикатов, или идей, и одном субъекте возможна вследствие разумного, и/и мыслимого, отношения между идеями, по силе которого одни идеи не сообщаются между собою, как противоположности, которые исключают себя взаимно, напротив, другие иДеи совмещаются между собою» потому что одна из них имеет часть в другой. Мир, в котором или все соединялось бы со всем, или ничто ие соединялось бы ни с чем, невозможен по существу идей и их связи.
. Здесь может фыть полезно заметить, что для понимания Платонова учения о разуме и смысле его логических форм необходимо перенестись в положение, соответствующее тому, какое принимает физик, когда он изучает законы двии$ения тел. Фнзик отрешаетсн от всего мира н воображает себя в пустом пространстве, где движению тел не препятствует ни среда, ни трение; также в движу щихся телах он выключает мысленно сотрясаемость частей и эластичность их связи, наконец, выделяет нх способность превращать одну силу в другую. Подобным же образом необходимо для понимания Платона отрешиться от всех феноменальных состояний мышления, от привычек субъекта, от его личной опытности, от различной степени напряженности при размышлении и т. д. и смотреть только на то, что должно быть мыслимо о предмете. Этот идеальный пункт, до которого субъект стремится подняться на основании и из круга своих личных опытов, есть истина, есть идеи. Она существует ддя общего разума. Она выражает ие то, что мы можем испытать о вещи, но то, что есть в семой веши или что есть самая вешь, истинно–сущее; Тким образом, разум или ь действительности, или по своим тенденциям есть созерцание метафизической истины, созерцание идей.
с. Форма силлогизма. Силлогизм по своей первоначальной форме соединяет низшее понятие с высшим на основании среднего. В таком силлогизме, которого вся сущность состоит в подчинении понятий, указывается основа для нашего познания связи между низшим и высшим понятиями, но не причина, родившая эту связь. Притом он всегда имеет значение условное, потому что годность посылок только предполагается, но не рассматривается как достоверная истина. Но в особенности следует иметь в виду, что две посылки силлогизма сопоставляются эмпирически или что низшее понятие вносится в объем среднего не вследствие логического понуждения, но единственно на основании опыта и воспоминания. Итак, он не есть форма спекулятивного мышления, которое относится к бытию вообще или к отвлечённому понятию бытии и которое поэтому движется от идей чрез идеи к идеям, но — форма здравого смысла. У Платона мы находим форму Для спекулятивного мышления, —форму, которая, как он сам предполагает, может показаться странною. Он спрашивает: Справедливые справедливы не по причине ли справедливости? не так же ли мудрые по причине мудрости? и не по причине ли добра все Доброеесть доброе? и разве не по причине красоты/все прекрасное есть прекрасное?» Таким же образом, например, в Федоие»: Прекрасные вещи делаются прекрасными от прекрасного, и великое дел а стел великим от величины, и малое мало от малости» В том же- месте изъясняется основание эгого непривычного для нас образа мышления. Сократ после неудачной попытки познать веши чувственным взором решился прибегнуть к мыслим и в них созерцать истину вещей: Он не согласен, чтобы тот, кто созе|)н; ает вещи в мыслях, созерцал их более неверно, нежели тот, кто созерцает их в фактах Но в каких мыслях? Основываясь каждый раз на мысли, которую я считаю наифвнчайщек»), я признаю истинным. все, что кажется мне согласно с нею, будет ли это причина иди. все другое, если же что несогласно с ней, тб я признаю неистинным». Эта наикрепчайшая мысль есть начало тожества и общее понятие как его исполнение -Никогда. противоположное не будет противоположно самому себе, или никогда вещь не должна быть противоположна самой себе. Этому достовернейшему началу удовлетворяет только единое, общее и всегда равное самому себе содержание идеи, потому что идея есть всегда одно и то же одним и те ах же образом). Итак, только в мыслях, которые согласны с указанною наикрепчайшею мыслию, только в идеях можно созерцать истину вещей. Они составляют особенный вид оснований не познанный прежними философами, которые изучали только материальные основания явлений. Именно, — говорит Сократ, — я думаю, что если есть что‑нибудь другое прекрасное, кроме прекрасного самого по себе, то оно прекрасно не но чему иному, как только потому, что оно причастно того. прекрасного. Это же самое я утверждаю и обо. всем. Й не знаю и не могу понять тех других, искусственно придуманных причин; но если кто говорит мне, что нечто прекрасное есть таково, потому что оно имеет или пре красный цвет, или прекрасную фигуру, или что‑нибудь подобное, то я все это оставляю, потому что во всем другом я теряюсь, утверждаю же просто, бесхитростно, а мо жет быть и глупо, что прекрасное в вещи происходит не от чего другого, как или от присутствия того прекрасного, или от общения с ним, или от способа связи с ним, как нибудь иначе называемого, —этого я не решил еще; но и решил то, что все прекрасные вещи делаются прекрасны от прекрасного. Такой ответ будет самый несомненный как для меня, так и для другого». Итак, общение вещи с идеей есть причина того, почему вещь есть такая, а не иная. Но для избежания очень опасного этом случае недоразумения следует помнить, что Сократ называет идею одним из видов причинности Здесь в особо и пост и открывается нам сущность платонизма.
Реализм во всех своих видах надеется познать сущность вещи, отделяя от нее все ее положения в системе пещей и отличая самую вещь с ее первобытными, ничем более не определенными свойствами от всех таких поло женин. Идеализм, отрицая самую возможность таких первобытных вещей, изъясняет, напротив, всю их сущность из того разумного положения, какое имеет каждая вещь в системе мира Это разумное положение определяется степенью участия пещи в идее, следовательно, тем местом, какое вещь занимает как один из членов деления общего понятия. Какую часть общего понятия осуществляет вещь, это можно узнать за подлинно из систематического разделения этого понятия на его виды, на виды видов и так далее, до тех пор пока п значении одного из таких видов не будет получена вещь, подлежащая нашему рассмотрению. В этом состоит метафизическое основание наклонности нашего разума к разделению понятия или к систематической классификации. В этом же состоит спекулятивная метода мышления в отличие от силлогистической. Тогда как в силлогизме требуется подводить ни инее понятие под высшее, в спекулятивной методе предполагается непосредственное развитие понятия до тех форм, которые даны на пещах или в вещах и которых фактическое существование будет таким образом превращено н разумное; или то, что есть, будет изъяснено из того, чю должно быть по требованию идеи. Вышеприве денные отражения, так в особенности свойственные Платону, например, что все вещи делаются прекрасны от красоты, получают теперь очень определенный смысл. Никакая игра действующих причин не могла бы сделать этих вещей прекрасными, если бы определенная красота их оказывалась невозможною по содержанию общей идеи красоты или если бы эта определенная красота не была мыслимая часть, мыслимый вид в этой общей идее. Могут ли решить задачу спекулятивного мышления собственно наши силы и основательно ли Платон методу, изъясняющую все явления чрез разделение общего понятия, предпочитает другим методам изъяснения, — это другой вопрос. Но требование разума, как требование, остается истиной и при самых неблагоприятных обстоятельствах, и пока мы при наших попытках научного изъяснения явлений говорим о единстве и об общем, пока мы соглашаемся на то, что полагается необходимо, говоря словами Сократа, с наикрепчайшею истиной, хотя бы в этом случае опыт и оставлял нас, до тех пор мы инстинктивно признаем истину спекулятивной методы как фирмы чистого разума: потому что весь дух этой методы состоит в убеждении, что действительное определяется мыслимым. Силлогизм, самый обыкновенный прием всякой науки, основывается на этом же убеждении. Требованием подведения вида под род он предполагает рациональную систему вещей, в которых мыслимому содержанию общего понятия принадлежит действительное значение. Что содержится в общем понятии или в идее, то должно быть в различной мере и в вещах, которые причастии этой идее. Что есть прекрасное само по себе, то должен быть в известной мере и предмет опыта, насколько он причастен идее красоты. Это необходимо предполагается силлогистическим мышлением, и эта самая мысль выражается Платоном в оригинальных определениях: нечто бывает прекрасно по причине самой красоты, нечто бывает добро по причине самого добра и т. д. Но здесь мы не имеем и следов того странного учения, что идея сама себя осуществляет, что она есть свои собственный исполнитель 6 мире явлений, — учения, которое так много повредило новейшему идеализму. Как мы видели, Сократ определенно говорит об идее как о причине и о тех агентах механического мира, без которых эта причина не может быть причиною. Вечная истица lie есть сила (она трости сокрушенной не преломит), она есть истина и этим исчерпывается все ее бытие: essentia ojua Involvit ejus existentiam; поток вещей повинуется ее требованиям вследствие предопределения творческой воли, которая полагает этот мир как исполнительную власть по отношению к идее как власти законодательной.
d. Общее рефлекса. Вездеприсутотвие этой истины таково, что, по учению Платона, в мире явлений нет такого ничтожного предмета или факта, который не был бы осуществлением определенной и общей идеи. Парменид спрашивает Сократа (Farm. 130b—е.): — Все ли нужно разделять таким же образом, например, что есть идея справедливого самого по себе (вΐόος αδτο καΦαυτο), прекрасного и доброго и всех таких вещей?
— Вез сомнения, — отвечал Сократ.
— Далее, есть ли идеи человека вне пае и вне всех существ, который таковы, как мы, есть ли сама по себе идеи человека, или огня, или воды?,..,
— г- Об этих предметах, Парменид, — сказал он, — я часто сомневался, утверждать ли и касательно их то же, что и о прежних, или что‑нибудь другое?,;
— Но относительно вещей, Сократ, которые, пожалуй, могут показаться нелепыми, как, например, волосы, грязь, нечистоты или что‑нибудь другое, столь, же презренное, и ничтожной, так же. ли ты недоумеваешь, следует ли утверждать, что и для каждой из таких вещей есть отдельная идеи, что есть идеи, отличная от этих самых вещей, которые мы можем брать руками, или этого утверждать не следует?
— Не следует, никак не следует, —отвечал Сократ, — эти вещи таковы и есть, как мы их видим; а чтобы еще была идея их—допускать это нелепо. Правда, что, меня уже и прежде беспокоила мысль, не утверждать ли обо всех вещах одно и то же; но потом, когда я доходил, до названных выше вещей, то я убегал от них из страха, чтобы, не потеряться в безвыходной болтовне. Напротив, доходя до тех пещей, касательно которых цы сейчас утиерждплн, что они имеют идеи, я с любовию останав–лннаюсь на них и обращаюсь с ними, — 01 Как же ты еще молод, Сократ, — заметил Парменид, — -· философия еще не столько завладела тобою, сколько она, по моему убеждению, завладеет, когда ты ни одну из таких вещей не будешь считать маловажною. А теперь ты еще уступаешь предрассудкам люде"й вследствие твоей молодости.
Предрассудкам людей уступают и те толкователи Платона, которые при слове идея непосредственно вспоминают образцовые формы существования, обозначающие жизнь высшую, совершеннейшую и идеальнейшую. Приведенное место, признающее идеи для всех, даже незначительных, вещей, замечательно тем именно; что оно отвлеченным и пустым общностям рефлекса усвояет метафизическую истину. То не существует и не может существовать, что не дает этим абстракциям предметного значения. Во–первых, общее, как общее, есть определяющая норма того, что существует. Никакое насилие вещей не может сделать из всего все, не может превращать все во все, и это не потому, чтобы вещи имели несокрушимое зерно абсолютной реальности, но потому, что каждая вещь может принять только те изменения и положения, которые совместимы с ее общим понятием. Впрочем, это учение заключается уже в приведенном выше определении идеи как причины. Во–вторых, не только то общее понятие, которое определяет существенное значение вещи и системе мира или выражает сущность вещи так, какова она должна быть в безусловном разуме, но и случайное, по нашему произволу сделанное отвлечение, всякая наудачу схваченная общность не есть ничего не значащий субъективный прием нашего мышления. Мир, который бы не дозволял таких рефлексивных понятий и не давал бы им, значения, не был бы истинный. Мы получаем лучи света от солнца; но еще мы получаем рефлексивные лучи От вещей, впрочем потому, что вещи освещены солнцем. Точно таким же образом наши рефлексивные общности относятся к той общей и единой идее, которая выражает неизменяемую сущность вещи в общем разуме. Единственно на возможности этих случайных отвлечений основывается гибкость научных метод и способность разума двигаться при познании вещей самыми разнообразными путями, не изменяя требованиям истины. Единственно на возможности этих отвлечений основывается то, что от каждой идеи, следовательно и от каждой науки, лежит открытый путь к целостному миросозерцанию для мужественного и неустающего исследователя (Men. 81с). Наконец, если данный предмет мы мыслим раз как тот же самый, потом как другой, если, например, мы можем сказать об нем в одном отношении, что он есть, в другом — что Он не есть (Soph. 254), то вся эта диалектика, необходимая в каждой науке, не есть призрак и оболь щение только вследствие предметной истины категорий рефлекса.
Откровение высшей сущности вещей и идеи. Доселе мы знаем, что идеи имеют значение в системе вещей формальное, не своим содержанием, а тем, что они суть единое, неизменяемое, общее и первообразное для мира явлений. Но уже и прежде встречалось предположение, что, само содержание идей есть то, от чего вещам принадлежат бытие и определенные свойства, В этом содержании идей мъ! имели бы откровение высшей сущности вещей, Приступая к изложению этой стороны платонова учения о разуме, мы Должны заметить, что здесь; встречаются недоразумения, которых устранение необходимо для правильного понимания этого учения.
Пока определяют платоническую идею как постоянное в смене явлений, как единое н равное самому себе в разнообразии и противоположностях бытия, как вечное н негибпущее н противоположность с исчезающими явлениями, до тех пор очевидно, что этому требованию удовлетворяет й каждая материалистическая система атомизма. Правда, что Платон называет идею; ουσία, даже.
ουσία όντως ούσα (как бы: действительность действительно действительная. — Pliaedr. 247с). Но какой же ученый, вдумывающийся в язык своей науки не знае что,αιοιος ovoiu, atTt υντως ον, ύνιως δντα и т. д. или что понятия сущность, существующее само по себе и т. д. суть чисто формальные и что именно здесь и требуется знать еще то нечто, то содержание, которому. принадлежит существенное, самобытное, вечное бытие. То, чему принадлежит; такое постоянное и самобытное, бытие, есть идеи, есть общая истина. Если реализм, надеется достигнуть истины в мыслях разума, пригоняя их к представлению вечного бытия вещей (атомов), то идеализм, напротив, это мнимое вечное бытие вещей сводит на истину, разума.. Идея есть истинно–сущее Таково, учение Платон., Сообразно с этим предметы, опыта оказываются имеющими «истинного бытия, или явлениями,. потому что в. своей непосредственности они не мыслимы; они навязывают нам противоречащие представления об, одном и том же; нам, говорит Платонприщлось бы краснеть пред самими собою от стыда, если бы мы стали утверждать,, что они есть это, а не другое (Tim. 49с). Но если немыслимое не существует, то следует признать, наоборот, что нее мыслимое существует, есть.
Этим существует, есть, δντως ον, άвι όν далеко не обозначается тот способ бытия, какой мы приписываем вещам за их действия и страдания или живым субъектам за их силы и за их способности испытывать свою особенную, индивидуальную судьбу. Идеям не свойственна сила, которой существенны интенсивность и энергия, стремление в неопределенную даль или к разумной цели, они суть именно эта разумная цель, вечно равная самой себе, пребывающая в вечном покое вне мирового процесса вещей или, как говорит Платон, пребывающая в месте внемирном (Phaedr. 247с). Идеям свойственно и бытие идеальное, и, чтобы повторить здесь, схоластическое essentia ejus involvit ejus existentiam, неосновательно перенесенное на живой субъект, применяется во всей строгости к идеям. Их вечное бытие состоит единственно в их истине. Для Платона ουσία И άλвΌвα суть тожественные понятия (Thcaet. 186(1). Как только души созерцают сущее (то ov), они по этому самому созерцают истину, питаются и наслаждаются истиною (Phaedr. 247с). Как только мы мыслим нечто (τ\), то ему всегда и необходимо принадлежит бытие, потому что «невозможно высказать его отдельно, как бы обнаженным и отчужденным от бытия» (Soph. 237d). «Познающий познает ли что‑нибудь или ничто? — Познает что‑нибудь. — Существующее или не существующее? — Существующее, потому что как бы он мог познавать не существующее?» (De rep. 476е). Как для геометра в построяемости фигуры заключается все бытие ее, так для Платона в познаваемости идеи дано все ее существование. Итак, если говорят, что идея есть субстанциальное, да еще в смене явления, и что она единственная действительность, то эти выражения до того заслонят истинное учение Платона о разуме, что следует сделать, соответственно этой терминологии, совершенно обратные определения: идея нё есть что‑нибудь действительное, а только мыслимое (vo»ltov), (Tim. 48е); она есть образцовая форма действительности (ibid.), а не самая действительность; она также не есть единственная действительность, как, например, гармония и красота музыки не есть единственная действительность тонов, которые могли бы существовать: без гармонии и красоты. Как геометр не усомнился бы в истине своих построений, если бы они нималёйше не осуществлялись в пространственных комбинациях вещей, так разум не отверг бы ни одной из своих вечных истин, если бы они вовсе не отражались в смене явлений или, что то же, если бы этот мир был всецело материален. Геометр получил бы только убеждение, что этот мир построен не существом, знающим геометрию; разум осно–рательно предположил бы, что этот мир не произошел от существа, знающего истину.
Вообще историки недостаточно взвешивают учение Платона в «Софисте», где философ, признавая Парме нида отцом истинной философии, решается, однако же, касательно вопроса о бытии совершить отцеубийство и доказать, что бытие не есть безусловное, независимое, простое положение, без степеней, без разностей, без отношений и что, напротив, оно находится в полной зависимости от своего содержания, так что часто бывает необходимо соединять бытие с небытием (24lb) или считать несуществующее существующим в определенном отношении и существующее несуществующим в определенном отношении (241(1), и, наконец, необходимо вообще согласиться, что к й ж дни идея но многих отношениях есть ив бесконечно многих других отношениях не есть (256е), Только в реализме категория бытия есть так независимая, простая н коснея, что вообще с ней ничего нельзя предпринять и что вследствие этого все содержание наших мыслей и опытов должно быть насильственно преобразовано и искусственно переработано до таких простых определений, которые совпадали бы с роковой простотой и монотонностию идеи бытия. Какую, например, ломку в наших головах и опытах следует предпринять, чтобы необозримое множество существ, одушевленных и прекрасных, и чтобы все отношения мира, поражающие нас присутствием порядка, замысловатости и непосредственной жизненности, пригнать к простому и бедному бытию безразличных атомов. То, что, по убеждению разума, особенно достойно бытия, должно оказаться, призраком; напротив, то, что составляет безразличное условие для всякого мира, должно быть признано истинно–сущим. По учению Платона, бытие не есть такое безусловное и безотносительное положение. Как движение бывает различно смотря по различию свойств и отношении того; что движется, так бытие имеет различные степени (потенции у Шеллинга): оно есть положение, принимающее различный. смысл смотря по содержанию, о котором мы говорим,,. что оно есть, В каком, смысле говорится, что идеи есть истинно–сущее, это мы видели.
. Именно, хотя справедливо, что идеи суть общее и; что, следовательно, бытие постоянное и неизменяемое принадлежит общему, однако Платон не имел мысли новейшего идеализма, что общее есть то, что суть собственно вещи. Общее, идея; истина есть вечное, не произведенное субъектом содержание разума. Бытие же способных к действию и страданию живых существ есть тайна Божествейного творчества, есть, следовательно; такое безусловное положение, которое не исчерпывается их познаваемостью, и Тимей может только описывать й повествовать, каким образом благой Бог творит эти существа, взирая на идеи, как как на образцы, следовательно, творит сообразно с истиной; Царство идей, образцов или вечной истины, далее, царство существ разумных, призванных познавать эту истину и питаться ею (Phaedr. 247с) и, наконец, призрачное существование всего телесного, или ноуменон, реальное и феноменон, — таковы три метафизические сферы в учении Платона о бытии. Идеи имеют субстанциальность далеко не в том смысле, будто они суть источники действий и движений в мире; но они субстанциальны в том значении, что космос, который есть сын Божий и Бог (Tim. 92с), должен исполнить всякую правду, лежащую в идеях, чтобы наслаждаться совершеннейшим существованием: они находятся в непосредственном и первоначальном отношении к разуму, как его субстанциальная истина; так что мир идей есть «род истинного знания»; боги космоса, созерцающие идеи, питаются разумом (νδ) и знанием (ibid.), и весь космос состоит из ανάγχв и νους (Tim. 48а), Наконец, вся идеология произошла из сознательного стремления Платона развито до полной истины учение о разуме.(Phad. ЩсЬ впервые изложенное у Анаксагора» но оставшееся у, него бесплодным для миросозерцания, потому что разум вне своего вечного содержания, которое есть идеи, превращается в немыслимое предположение.
Так как идеи Суть система общих мыслимых оснований вещей, то сколько бы мы ни двигались от идей чрез идеи к идеям, мы никогда диалектическим путем не выведем особенной индивидуальной жизненности разум ных существ, никогда мы не выведем мира того совершенно–сущего, которому принадлежит жизнь, движение, душа й достойный и святой разум (SopH.248d). Хотя существование его возможно только на Общих идеальных основаниях, однако его действительность не обнимается логической идеей сущности, потому, что благое начало (тЬ άγάον), полагающее эту действительность, не есть сущность, но по достоинству и силе находится далее и ыше ее (De rep. 509Ь). Новые философы назвали бы такое начало трансцендентным. Между тем здесь становится понятным, почему для Сократа и Платона индуктивная метода составляла существенный орган философии и почему вообще для них философия не была,«наука из начал a priori, как ее определяли новейшие. Как в естествознании, так и в философии не могут, быть построены, но должны быть, найдены исследованием и наведением те основные факты, которые, и, суть факты именно поэтому, что в их содержании есть нечто, не сводимое на идеи разума (трансцендентное). Бели бы система, идей была вполне прозрачна для нашего разума, то тем не менее индивидуальное бытие живых и разумных существ представлялось бы нам, как непонятная судьба, и, откровение, содержащееся в идеях о том, что есть, оставлял бы нас в полном неведение относительно того, кто есть. Только непосредственное, неискоренимо присущее духу сознание добра — эта идея добра наипростейшая и наипонятнейшая, самая первобытная в духе проливает неожиданный свет на эту сторону миросозерцания, открываемую средствами индукции. То, что можсет быть (идея), переходит в то, что, есть (действительность, посредством того, что должно быть (το αγαθόν). Бытие разумных и живых существ есть неожиданный для диалектического мышления дар благого существа, как для глаза, которому"хотя свойственны законы оптики, однако присутствие и действительность видимых индивидуальных предметов есть событие неожиданное потому что законы оптики могли бы исполняться и на миражах (см. De rep. 508е и далее). Это изъяснение Платонова учения о миротворении мы только выставляем здесь, чтобы характеризовать его теорию разума в противоположность с новейшей диалектикой, для которой идеи суть силы и двигатели и которая надеется живую индивидуальность построить из логического сочетания мыслей, как нечто логически понятное. Мы не, входим в разбор исторических й философских затруднений, соединении к с этим учением. Для нашей цели довольно одной обширной аналогии. Как человеческий дух рождает действительное знание и действительную добродетель и вообще освобождается от призрачного существования только в той мере, в какой он проникнут стремлением к добру, так и всякая действительность оправдывается безусловно из того, что должно быть, или из идеи добра. Явление состояло в том, что вещь меняет свои признаки, которые, таким образом, как приходящие и уходящие, вовсе не выражают того, что такое самая вещь. Этот факт оставался неизъяснимым. Но не все переходит во все: порядок, правильность и единство в изменении указывают на равную самой себе действительность, и эта действительность по содержанию есть благо или цель вещи (Conviv. 205d и дальше). Этому‑то метафизическому содержанию свойственна формальная, неизменяемость и вечность идеи, а не каким‑нибудь первобытным вещам. Это содержание есть то положительное зерно вещей, которое мы доселе, зияли и формальных логических определениях, каковы όν, ουσία, όντως и т. д. Как вообще добродетель не имеет деспота (De rep. 617е), так и добродетель каждой вещи не условливается ее натурою, но, напротив, эта натура вещи условливается ее добродетелью, именно ее значением и целию в системе космоса (см., напр., Phaed. 9? с и след.). Наконец в особенности формальное качество идей, именно их неизменяемость а равенство с собою, это качество, которое представлялось нам как логическая необходимость, находит свое оправдание в их безусловном содержании, потому Что благо, как самое превосходное, не изменяется и не движется чем‑нибудь другим (De rep. 380е). Ему свойственно быть предметом безусловного избрания со стороны разума.
Аристотель, опровергая Платонову идеологию, говорит, что как в народной религии боги суть только увековеченные люди, так у Платона идеи суть только увековеченные чувственные вещи (Arist. Met. III. 2. 99? b). Гербарт видит в них «общие понятия каких бы то ни было вещей» (Bd.)Ш. 76). «Когда Платой, — говорит он, — восходит от многих вещей к единому, например от многих законов к самому закону, от многих красот к самой красоте, и когда он спрашивает, в чем состоит это единое, то в действительности он ищет определения общего понятия, между тем как слушатели имеют привычку пе речислять виды и неделимые, которые содержатся под ним родом». Замечания Аристотеля и Гербарта говорят одно и то же, потому что общие понятия мы образуем не иначе, как соединяя в них главнейшие чувственные признаки вещей, данных в опыте. На эти замечания можно бы отвечать общим образом, что нужно отличать учение Платона о разуме и об идеях от разумной деятельности самого Платона, принадлежащего человеческому роду, который имеет разума «что‑то мало». Можно предположить с решительным скептицизмом, что наши понятия суть объединенные и обобщенные воспоминания опытов н что в них слагаются наши впечатления, не имеющие ничего общего с существом вещей. Это значило бы, что человеческий род вовсе не имеет разума, но это фактическое положение человеческих голов не имело бы никакой связи с вопросом о том, что такое разум, что такое идеи, что такое истинное шиние. Итмк, человеческая науки может скромно ограничиться переработкой и обобщением опытов, сознавая, что требования истины, принадлежащей разуму, неисполнимы для нее Платоново учение о разуме касается пункта, незыблемо признаваемого каждой теорией, потому что и скептицизм, доказывающий наше незнание, имеет идею истинного знания, сравнительно с которой он считает нас не знающими истины. Впрочем, замечания Аристотеля и Гербарта полезно рассмотреть обстоятельнее. Было доказано выше, что определение идеи как постоянной, неизменяемой, равной самой себе и общей сущности есть чисто формальное, не дающее откровения о сверхчувственном существе вещей. Но, во–первых, этим учением философия поставляет только требования относительно истинного знания. Затбывают, что есть науки положительные и частные, — науки, которые в своей работе наблюдения, анализа и синтеза постепенно исполняют и осуществляют эти требования истинного знания. Эти науки открывают общие основания и общие законы явлений, находят в них единство, связь и смысл и таким образом познают идеи вещей. Всякая наука подлежит условиям истинного знания, и в этом обширнейшем смысле разрешен вопрос о познании в «Теэтете». Само собою понятно, что требование, лежащее в определении идеи, как только оно осуществляется положительными науками в области опыта, дает нам идеи чувственные, то есть такие, которые образуются из соединения немногих главнейших признаков изучаемого явления. Эти же идеи будут общие понятия логики. Итак, правы Аристотель и Гербарт, но,, без сомнения, прав и Плитой Философия, которая для исполнения своих требований касательно истинного знания не отсылала бы на с к положительным наукам, была бы ложная. Прежде моего она есть наука о науке или исследование о том, и чём состоит истинное знание. Во–вторых, как в народной религии, считающей богами увековеченных людей, самая мысль о Боге и о вечности есть всеобщая религиоз! — ная истина, так в каждом! эмпирическом понятии мысль об общем и едином есть истина метафизическая. Правда, что общее понятие мы всегда мыслим посредством суммы главнейших признаков наблюдаемого явления, но это не значит, что оно есть эта самая сумма, относительно которой Аристотель называет идеи чувственными. Общее само Но себе есть мысль разума, есть метафизическая истина. Оно; как мы видели, есть определение, необходимое в каждой системе вещей, которая существует бо лее истинно, нежели греза сонного, Только вера в эту метафизическую истину общего дозволяет полагаться ученому но силу законов логики. Вообще значение каждого самого бедного общего понятии состоит в том, что оно относится к самой природе вещей, а не к кругу на» ших опытов: опыты только условливают возможность происхождения его в субъекте, а истина, познанная в нем, есть принадлежность чистого разума или разумения самой натуры вещей. Это мнение о значении понятий господствует в каждой положительной науке, которая сообщает сведения не о том, что происходит в сознании обрабатывающего ее ученого, но о том, что есть, что необходимо и что невозможно в самой натуре вещей. В–третьих, то единое, которое в логическом понятии обнимает сумму главнейши чувственных признаков вещи, остается для каждой эмпирии и формальной логики пустым, ничем не исполненным требованием единства. Философия ищет того особенного содержания, · которым наполняется; это темное место единства понятия, и только здесь идеи суть откровения высшей сущности веще» или того содержания, которое соответствует форме метафизической истины единству, неизменяемости, тожеству, общему. Сюда относится: учение о благе, коротко изложенное нами.
С полным сознанием указанных разностей Платон говорит о положении идей в частных науках и в общем философском знании (Ое rep. 509d). Как в видимом мире нашему взору предлежат или самые вещи, или их образы, например растения и их образы в воде, так и в области умственного познания (νοвτού γένους) рассматриваются нами или идеи сами по себе, или в соединении с образами земных предметов, — с образами, которые сравнительно с этими предметами имеют больше ясности и важности (511а). Едва ли следует прибавлять, что эти образы суть чувственные важнейшие признаки, на сумме которых для нашего сознания осуществляется общность, и единство идеи. Идея при таком соединении с чувственным познанием, есть предположение, которое ученый принимает как очевидное и бесспорное, не восходя к, его основаниям. Так, например, в геометрии господствуют в виде предположений идеи чета и нечета, фигуры, треугольника и т. д., — предположения для каждого бесспорные, но имеющие цену только и соединении с тем, что входит в них из опыта, и руководящие при определении и выводе фактов. Вообще идеи, как начала науки положительной, суть гипотезы, которых основания, она не указывает. Напротив, философия рассматривает эти гипотезы не как начала, но как действительные; гипотезы., она спрашивает об их основании, она дает отчет в этих предположениях, на которые так решительно полагается опытная наука; она возвышается от них до начала не–предполагаемого, до начала всего, не пользуясь при этом ничем.; чувственным, но двигаясь только от идей, —,, ч, рез идеи к; идеям. Итак, логическое и общее понятие или,, но. Аристотелю, чувственная, идея есть твердое начало наук опытных, но для философии оно еще есть предположение, которое должно быть изъяснено из, начала, непредполагаемого из начала всех вещей. Оно, по точному определению Платона, находится на средине между, здравым смыслом и разумом (Slid); оно есть вершина первого и точка отправления для последнего. Это отношение подает повод отличать рассудок от разума (ibid.).
Две эпохи в направлении наук. Платоново учение о разуме как об истине общей и первобытной, об истине, и которой имеет часть каждая наука, господствовало по духу и по букве с замечательным однообразием в продолжение тысячелетий до Канта. Все видоизменения, какие испытывало оно, например, со стороны Аристотеля или христианского богословия, не могли тронуть его простри сущности, которая заключается в убеждении, что есть общая формальная, онтологическая истина чистого разума it что каждая отдельная наука есть наука в той мере, и какой она исполняет требования, содержащиеся в чипом разуме. Лейбниц в своем nisi intellectus и в признании вечных истин бытия еще раз доказал для поколений, низлагавших все свои надежды в деле знания на опыт, что, во всех мыслящих существах и для всех мыслящих существ есть одна общая истина, есть одна первобытная метафизика, которая инстинктивно или сознательно лежит в основании возможности всякой отдельной науки, и что она совпадает с формами, определениями или идеями чистого разума. Это было последнее, но и самое блестящее развитие платонической мысли о первоначальной истине, которою мы владеем по естественному праву, как существа разумные, а не вследствие наших случайных положений среди мира явлений. В практическом отношении общая вера в метафизическую истину разума сказалась явлением, которое повторяется непрерывно также к точение тысячелетий. Все частные науки чувствуют свое кронное родство в одной общей истине; все завоевания совершают они под одним знаменем; и это единство наук более других обстоятельств было причиною того, Что в рассматриваемую эпоху возникает и осуществляется блестящая идея университета, как учреждения, в котором разные отрасли специальных познаний соединяются на почве одного умственного образования, как бы различные созвездия, составляющие, однако же, один стройный космос разума. Не только схоластики стремятся каждую частную науку довести до связи с некоторыми метафизическими истинами, но это же самое стремление свойственно было и таким гениям науки, как Кеплер и Ньютон. Ученый юрист, ученый врач, ученый богослов — все специалисты развивали каждый свою науку на убеждений, что она исполняет те или другие требования чистого разума. Наука не должна была специализироваться так, чтобы потерять всякую память о высшей и общей истине. Рациональный элемент должен был преобладать в ней над историческим, формы дедукции над формами индукции, познания, почерпаемые из Существа вещей, над сведениями статистическими.
Такое стремление всех наук к сосредоточенности ик единству под знаменем чистого разума могло оказываться и действительно оказывалось неблагоприятным для обогащения наук положительными сведениями и для разработки каждой из них по особенной, свойственной ее содержанию методе. Но едва ли можно доказать, что это зло было условлено сущностию принципа, а не грубостию его применения. Единство и сосредоточенность есть бесспорное благо в каждом круге явлений, если оно не есть деспотизм и вредный для прогресса гнет всякой индивидуальной жизни. Какое, например, удивительное произведение создал Эвклид, последователь платонической философии, поставивший целию в своих στοιχεία построение так называемых пяти платонических тел1 и обработавший впервые геометрические сведения по абстрактно–рациональной методе, которая, говоря словами Платона, движется от понятий чрез понятия к понятиям, которая признает истину начала тожества или противоречия и смело полагается на силу непрямого доказательства. От Эвклида эта абстрактная метода, особенно один член ее, именно reductio ad absiirdutn, перешла к Архимеду2, который, кроме открытий н области математики, первый ри: и)нл абстрактные начала механики своими исследованиями о рычаге, центре тяжести и вообще о механических законах3. Итак, можно бы доказать, что кое–чем, и притом очень важным, мы обязаны тому централизующему влиянию, которое обнаруживала философия Платона на науки и благодаря которому потребность отвлечения и движения в общих понятиях господствовали над потребностию в наведении и в сведениях исторических и статистических. При этом нет нужды указывать на то, в каком союзе находились Кеплер и Ньютон с Эвклидом и Архимедом и как глубоко они были проникнуты требованиями рационального синтеза; нет нужды также напоминать, что великие гении всегда делают свои открытия сообразно с господствующей идеею о том, в чем состоит истинное знание и что в данном круге явлений должно быть, особенно изучаемо. Только из психологической ограниченности человеческого духа следует изъяснять то, что глубоко сознанная потребность единства и обобщения удовлетворяется насчет потребности обособления и своеобразного развития; и наоборот, когда делается господствующим последнее стремление, оно удовлетворяется так, что расторгаются самые дорогие союзы: каждый член готов забыть свой организм, каждая часть— свое целое. Но первые симптомы анархии, возникающей и умственном: мире от встречи несогласных между собою, перестающих понимать друг друга отдельных наук, опить рождают потребность науки о самих науках1 или о том, что должно быть для всех наук общее, единое, истинное. Умственное направление новейшего времени особенно1 глубоко характеризуется тем, что философия этого времени начала свое развитие не признанием истины чистого разума, но критикой чистого разума: Гениальное сочинение Канта, известное под этим именем, образует решительную противоположность с теми сосре дотейивавшими знания началами, которые, как сказано, господствовали от Платона до Лейбница включительно В следующих тезисах можно выразить всю яркость этой противоположности.
Платон. Только невидимая сверхчувственная сущность вещи познаваема.
Кант. Только видимое чувственное явление познаваемо.
Платон. Поле опыта есть область теней и грез (De rep.514476); только стремление разума и мир сверхчувственный есть стремление к свету знания.
Кант. Стремиться разумом в мир сверхчувственный значит стремиться в область теней и грез; а деятельность в области опыта есть стремление к свету знания.
Платон. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением от идей чрез идеи к идеям.
Кант. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением от воззрений чрез воззрения к воззрениям.
Платон, Познание существа человеческого духа, его бессмертия и высшего назначения заслуживает но преимуществу названия науки: это царь–наука.
К а н т. Это не наука, а формальная дисциплина, предостерегающая от бесплодных попыток утверждать что‑либо о существе человеческой души.
Платон. Познание истины возможно для чистого разума.
Кант. Познание истины невозможно ни для чистого разума, ни для разума, обогащенного опытами. Правда, что в последнем случае познание возможно; но это будет не познание истины, а только познание общегодное. НаукА возможна не в том смысле, чтобы нам была доступна самая истина ыо в том, что из начал разума и форм воззрения происходят всеобщие и необходимые суждения, το· есть годные для всякого опыта и, следовательно, для всякого человека. Наука имеет все условия для того, чтобы сообщать нам общегодные сведения, и ни одного условия для познания истины.
у Это удивительное учение примиряет Платона с Про гагором и Лейбница с Давидом Юмом, и оно‑то составляет душу нашей науки и нашей культуры. Оно. соответствует той социальной теории, которая надеется основать общественный быт и благо народов не на вечных законах справедливости, но на всеобщем личном согласии граждан.
…Учение Канта об опыте: И однако же никогда философия не одерживала Таких блестящих побед над реализмом общего смысла и наук положительных, какие одержала она в критике чистого разума. Никогда с такою убеждающею очевидностию не изобличала она всей неосновательности предрассудка общего смысла, будто где‑то вне нас существуют чувственные предметы, совершенно готовые, размещенные в пространстве и изменяющиеся во времени, имеющие фигуру и краски, жесткие или мягкие, пахучие и звучащие, й будто все эти внешние предметы с своими качествами, как только мы откроем для них наши чувства, повторяются в образах нашего сознания, как они повторяются в зеркале. Опыт, на который мы тик доверчиво полагаемся, оправдывая наши мысли посредством сравнения их с самими вещамибудто независимыми от наших мыслей, не есть источник познания лежащий вне познающего с субъекта. «Опыт есть первый продукт, который производится на к itм разумом, как только разум перерабатывает сырой материалощущений» (Kritik d. rein. Verhunfi, von Har‑tenetein, c; 17), Опыт с его мнимыми вещами сам произошел в мастерской человеческого разума, причем художник не имел лучшего материала, кроме сырого материала ощущений. Единственные данные элементы в нашем познании, элементы, которые должны быть доставлены разуму и которых он должен подождать, чтобы начать свою познавательную деятельность относительно пещей, суть ощущения, которые не существуют нигде, кроме определений внутреннего чувства (.)!), которые суть видоизменения этого чувства (93) и и которых нет ни малейшего указания на то, от каких предметов произошли они, «чрез влияние ли внешних нощей или от причин внутренних, a priori ли или путем эмпирическим» (93). Если, няконец, прибавим, что и ощущении т.. предлежат нам вне нашего способа замечать их одно после другого в форме времени, то мы получим строгое понятие о том, каким образом наши познавательные способности, не имея ничего наперед данного и существующего, должны из себя произвести образы вещей, называемых данными опыта.
Во все времена скептицизм указывал на эту неопровержимую истину, что в то время как мы воображаем иметь дело с познанием вещей, мы на самом деле относим все наши познания к возбуждениям нашей чувственности. Но он не видел, что, заключенные в этом круге субъективности, мы, однако же, в ее собственных формах имеем средства для приобретения познаний всеобщих и необходимых. По мнению Канта, он основательно отвергал возможность познать истину, но неосновательно отвергал возможность познаний всеобщих и необходимых. В признании этого формального достоинства наших познаний состоит та средина, которую Кант избрал между скептицизмом и догматизмом философии.
«Главное совершенство познания, даже существенное и нераздельное условие всякого совершенства его, есть истина. Говорят, что истина состоит в согласии познания с предметом. По этому чисто словесному определению мое познание, чтобы быть истинным, должно быть согласно с предметом. Но предмет я могу сравнивать с моим познанием, только познавая его. Итак, мое познание должно свидетельствовать само о себе же самом, что еще далеко не достаточно для истины. Потому что так как предмет существует вне меня, а познание во мне, то мне всегда приходилось бы заниматься только следующим вопросом: согласно ли мое познание о предмете с моим познанием о предмете? Такой круг в определении древние называли διαλλήλв. И действительно, логики всегда встречали упреки за эту ошибку со стороны скептиков, которые замечали, что приведенное определение истины сходно с тем, как если бы кто пред судом делал показание и при этом ссылался бы на свидетеля, который никому не знаком, но который для доказательства своей компетентности в качестве свидетеля стал бы утверждать, что тот, кто призвал его во свидетели, есть человек честный» (HI. Logik. 218). В «Критике чистого разума» (97) Кант спрашивает таким же образом: «Что разумеют в самом деле, когда говорят о предмете, соответствующем познанию, следовательно отличном от него? Легко видеть, что этот предмет должен быть мыслим как нечто вообще = X, потому что вне нашего познания нет ничего такого, что мы могли бы противопоставить этому познанию как нечто ему соответствующее.
Но мы находим, что наша мысль об отношении всякого познания к его предмету заключает в себе некоторую необходимость, а именно: предмет рассматривается как нечто такое, что препятствует нашим познаниям изменяться как ни попало или по нашему произволу, но что доставляет им a priori полную определенность; потому что как только они должны относиться к предмету, то уже необходимо они должны быть согласны между собою относительно его, то есть они должны иметь то единство, которое составляет понятие о предмете».
Другими словами: мы имеем способность сообщать нашим познаниям такое единство или такую необходимость, по силе которых мы понуждаемся полагать в их собственной среде «нечто кик предмет» (88). Когда это исполняется, сырой материал ощущений предстает нам как мир вне нас, происходит феномен мира предметного, феномен, который на самом деле существует единственно на почве представлений. «Условия a priori возможного опыта вообще суть вместе условия предметов опыта», — говорит Кант (102). «Явления как такие не могут существовать вне нас, но существуют только в нашей чувственности» (113). «Явления не суть самые вещи, но чистая игра наших представлений» (95). Как видимое небо с его маленьким движущимся солнцем, опрокинутое сводом над нашими головами, не существует в самой натуре вещей, но существует только в нашем созерцании, так и все предметы действительного или возможного опыта суть «чистая игра наших представлений», а не что‑либо вне нас существующее в самой натуре вещей.
Если для Платона явление отличалось от самих вещей так, как отличается несовершенное исполнение от своего совершенного образца или копия от. своего оригинала, если, таким образом, явление было для него предметное событие, то для Канта явление так отличается от самих вещей, как отличается от них субъективное, нигде, кроме чувствующего и мыслящего субъекта, не существующее представление; так что быть явлением и быть представлением означает одно и то же. Как отраженно на другом указывает для сравнивающего разума по закону сходства на свой предмет, так для Платона в явлении содержится указание на самые вещи. По учению Канта, явление указывает только на функции познания.
В которых оно есть; и не заключает в себе никаких примет, вдумываясь в которые мы познавали бы самые вещи, предметы опыта суть явления в том смысле, что они разрешаются на функции познающего субъекта: вместо чего‑нибудь действительного мы имеем в них только образы, способы или манеры нашего созерцания и познания. Всеобщие и необходимые познания возможны об этих явлениях, об этих кажущихся вещах. Действительно же сущее, подлинная действительность есть нечто совершенно непознаваемое, потому что мы не можем познавать вещей, отрешившись от функций познания; которые Все познаваемое делают явлением.
Постоянное мнение философии было таково, что как явления не существуют вне"созерцающего их субъекта, как, например, этот видимый мир красок, теней и очёр» таний не есть вне созерцающего их взора, так самые вещи не существуют вне частого или общего разума. Древнейший философ Парменид, — философ, впервые положивший начало специальной метафизике, —учил, что разум и то, чего он ость разумение, —это одно и то же, потому что не найдешь ты разума без истинно–сущего, На котором он открывает себя» (Ritter и Preller,!94):. «Необходимо, —-говорит он еще, —-чтобы ты утверждал, (то разум есть истинно–сущее» (92). Эта сжатая мысль развилась у Платона в учение об идеях как об истинно сущем: Истинно–сущее и есть идеи, потому что они есть в. разуме, как в своем месте (τόπος νοвτός)ему свойственна познаваемость первоначально (De rep. 509b). До Канта это метафизическое мнение дошло в учении вечных истинах, в которых и чрез которые мы знаем мир как «н есть сам в себе, мир онтологический, а не мир как он является. Эти вечные истины, это знание разума об истинно–сущем Кант превратил в функции субъекта,, з формальные способы или приемы воззрения и представ ления того содержания, которое есть видоизменение нашего внутреннего чувства. Таким образом, хотя эти функции познающего субъекта условливают общегодное знание всецело зависящих от них, кажущихся вещей, однако мир подлинного бытия существует без вести о нем. Что он такое, почему он есть и для чего, этого мы познавать не можем, и платоническая наука о сущности, основе и цели вещей невозможна:, Замечательно, что «убеждению о субъективности всех наших познаний или, что то же, о субъективности опыта приходит Кант, тем же самым путем,: какой был избран Платоном в «Теэтете» для доказательства, что наши познания не ограничиваются кругом; ощущений; и чт они суть познания самой истины:. Мы видели, что Платон со всею ясностию признавал субъективную натуру ощущений. Мы видели, что, истину приписывал он тому знанию, которое душа образует сама по себе, что для него сверхчувственные идеи, бытия, того же самого, различного и т. д. суть истины, которые, впервые делают возможным здравый смысл и объективный опыт. Б трансцендентальном выводе категорий (стр. 89—116) Кант подобным же образом доказывает, что нечто может быть познано общегодным образом и, следовательно, признано за, предмет только тогда, когда субъективные видоизменения чувственности, перерабатываясь постепенно средствами познающего субъекта, соединяются наконец в то объективное единство, которое сообщается им гориями рассудка. Этот отдел «Критики чистого разума» есть лучшее приобретение новейшей философии но синологического взгляда; на способ образования наших познаний о предметах, опыта и но силе, с какою он разрушает грубый реализм, требующий, чтобы опыты доставляли нам готовые предметы с пространством, временем и различными и отношениями их зависимости друг от друга, и воображающий, что ему приходится только повторять в своем познании образы этих предметов и их отношений. К сожалению, глубокое учение Канта о том, что с своей стороны приносит познающий субъект и познаваемые им предметы опыта, каким образом различные свойства и определения этих предметов! сводятся к определениям воззрения и познания и как, наконец, самая предметность этих предметов есть функция разума, это учение не может быть изложено здесь с достаточною полнотою и убедительностию Пусть нижеследующий анализ одного общепонятнрго примера напомнит нам по крайней! мере общий дух этого учения.
Если возьмем из опыта,: какой‑нибудь предмет, например яблоко, то мы легко различим в содержании: и форме его те элементы,: какие сообщены ему различными способностями познающего субъекта. Цвет яблока есть ощущение зрения, кислота его — ощущение вкуса, жесткость кожи — ощущение осязания, глухой звук, который–оно издает, — ощущение слуха запах его —ощущение обоняния.. Итак, его материя есть не что иное, как видризменение нашего чувства. Далее, для совместного представлении цвета кожи и ее жесткости или запаха яблока и его вκννα, также и всех названных ощущений мы не имеем никакого логического основания, потому что, например, представление определенного цвета не содержит в себе пи малейшего понуждения к тому, чтобы мы имели совместно с ним представление этого, а не другого вкуса. Все исчисленные представления суть разобщенные миры, между которыми невозможен переход логический. Способность, которая делает возможною эту совместность неоднородного, есть воображение, сила слепая, которая по своим законам ассоциации воспроизводит совместно все данные, несмотря на их логическую бессвязность и существенное друг от друга отличие. Но это совместное представление многих данных ощущений образовало бы из них только «неправильную кучу» (109), воображение перебегало бы по законам ассоциации от каждого из них ко всем остальным, оно строило бы только субъективные необщегодные образы, если бы рассудок не относил этих наружно связанных между собою данных к сверхопытному и внутреннему единству, которое есть субстанция или вещь. Только этим актом рассудка, этим отнесением ощущений уже не к нам, а к сверхчувственной и простой идее вещи условливается то, что эти данные противостоят нам как независимый и предлежащий в опыте предмет, именно, в рассматриваемом примере, противостоят нам, как существующее вне нас во внешнем пространстве яблоко. Такую магическую силу имеют идеи разума или категории, потому что они суть формы сознания не личного, Не эмпирического, но безличного и всеобщего или, по Канту, чистого, первоначального и неизменяемого (99). Протагор не знал об этом и потому утверждал, что каждый имеет право считать истинным то, что ему таковым кажется и что другой столько же основательно будет считать ложным. Кант находит, что по силе отнесения ощущений к чистому сознанию, которое не изменяется, которое не имеет ничего общего с изменчивым состоянием эмпирического сознания, — с состоянием различным у различных людей, — или что по силе сверхопытного значения категорий всем человеческим головам оди каково представляется нечто, кажется нечто как предмет, как существующее в опыте с определенными свойствами и отношениями и что, следовательно, об этих кажущихся вещах опыта возможны всеобщие и необходимые познания.
Учение о всеобщем, первоначальном и неизменяемом сознании или о категориях как независимых от личного и от всякого опыта формах для общегодной и объективной связи представлений точь–в–точь выражает мысль «Теэтета» о том, что многое душа знает сама по себе, то есть знает независимо от опыта и от личных эмпирических состояний субъекта, и что только вследствие этого знания возможен опыт и здравый смысл как его необходимый спутник. Ввиду этого сходства путей спрашивается, каким образом Платон и Кант пришли к различным результатам?
Ответ на этот вопрос и будет содержать сравнение и оценку платонова учения о разуме и кантова — об опыте.
Критика и изъяснение. Невозможно спорить с Кантом, когда он доказывает, что предмет, будто бы данный в опыте, разрешается на функции познающего субъекта. Это одна из очевиднейших истин, которые стоят на грани между положительными науками и философией. Но в учении Канта о функциях познающего субъекта заключается неясность, которая самого Канта заставляла пе–реработывать несколько раз трансцендентальный вывод категорий. Философия Платона находила в идеях истину самого разума, а не функции человеческого субъекта и спрашивала, соответствуют ли вещи, данные в человеческом опыте, требованиям этой истины? Кант находит в них то деятельности чистого мышления (60), то чистые понятия, рожденные рассудком (67), или функции рассудка (87), или субъективные условия мышления (86), или формы мышления о предмете вообще (56). Как прог странство и время суть формы, под которыми нечто созерцается, так категории суть формы, под которыми нечто мыслится. Что выражают все эти определения илл названия?
Когда категории подводятся под физиологическое понятие функции, то этим наперед и без исследования приписывается им характер событий, безразличных но отношению к истине. Как физиолог видит в функциях телес ных органов только существующий способ действия этих органов, так и Кант находит в предопытных категориях, как существенное в них, то, что они — функции рассудка или способы действия этого органа, доставляющие един-, ство представлениям в суждениях, и ничего более. Эта погрешность, которую обозначить в отвлеченных понятиях не легко, будет ясна на логическом примере. В суждении «Кай смертен» разум для соединения представлений, взятых из опыта, воспользовался категорией субстанции. Рождением этой категории он совершил функцию, доставившую единство представлениям Кай и смертность. Спрашивается; этого ли объединения хотел разуй: и им ли, собственно, удовлетворен, он?; Удовлетворен он не этим существующим единством, а только истиной, суждения. Говорим: только для достижения ис тины в своих суждениях, он воспользовался категорией субстанции; при другом содержании отдельных представлений суждения он воспользовался бы другою категорией, например категорией причинности или возможности и т, д. В настоящем случае он взялся за категорию субстанции потому, что только применением этой категории, а не другой какой‑либо. дается из психологического. материала субъективных представлений познание истины. Такого разума нет, который удовлетворялся бы, фактическим соединением, психологических. данных, под категориями и который останавливался бы только на этом соединении, а не на его истине. Итак, древняя метафизика не была неосновательна, когда она видела и категориях идеи истины или органы истины и когда она отождествляла разум и истину. Если, далее, категории, в которых и по учению Канта заключаются основания. объективности наших познаний, считаются произведениями нашего мышления или рассудка, то это мнение так же неосновательно, как если бы кто стал утверждать, что вещь сама наперед производит те необходимые, законы, которые управляют ее, изменениями и действиями. В этой погрешности, как в зерне, заключалось фихтево учение о том, что Я полагает само себя и что оно сперва само себе определяет те законы и формы,, которым как высшей власти оно потом повинуется в своей, деятельности. Как камень не заботится о. рождении тех законов тяжести, которые принуждают его то к падению, то, неспокойному пребыванию на месте, — потому что эти. законы всеобщие и годные для всего телесного мира гак наше мышление имеет в категориях нормы и законы всеобщего разума: это «сознание истины, чистое, первоначальное, неизменяемое», чтобы употребить выражение Канта.; это вечные идеи, чтобы выразиться с Платоном.
Признать в категориях или в содержании первоначального, неизменяемого сознания идеи Платона помешало Канту одно психологическое мнение. Он видел, что эмпирическое сознание или внутреннее чувство с своими изменчивыми состояниями не может быть основою проч ных, всеобщих и неизменяемых познаний, следовательно и познаний с качествами предметности (99). Отсюда он заключил, что познающий субъект только тогда превратит слепую игру представлений в знание общегодное и предметное, когда он будет относить их к единому и неизменяемому сознанию самого себя. Но представление этого единства самого себя или тожества себя было бы невозможно, если бы субъект при познании многоразличных данных не мог соснавать тожества той функции, посредством которой он соединяет эти данные в познании, или если бы он не имел пред глазами тожества своей деятельности (100), которая Соединяет различные представления под категориями. Итак, подведение представлений под категории, как функция будто бы тождественная и притом совершенно сознательная, условлнвае» для"субъекта возможность н необходимость считать себя представлять себя первоначальным, неизменяемым, численно единичным и тожёственным с самим собою. Не то чтобы такое простое и неизменяемое существо было в действительности. Этого мы вовсе не знаем и не можем знать. Этот вопрос о простоте и субстанциальности души неразрешим для нас. Но только идея такого чистого, неизменяемого и тожественного с собою Субъекта образуется необходимо из тожественной деятельности рассудка, соединяющего представления под категориями. Естественно, что так как категории относятся к массам представлений, данных только во внутреннем опыте, го от переработки этого материала по объективным формам рассудка происходит прежде всего во внутреннем же опыте представление первоначального и неизменяемого предмета или представление чистого Я как сверхчувственной основы эмпирического сознания — и, только отнесенные к этому объекту, представления о внешнем мире делаются объективны, или этот Первоначальный объект есть Основа объективности Для всех предметов опыта (101).
Здесь мы имеем такой всесторонний и грозный скептицизм, какой никогда еще не потрясал, философий. Без всякого знания о том, что и как оно есть на самом деле, и вообще не зная вовсе, существует ли что‑нибудь на самом деле, мы по свойствам субъективного познания понуждаемся признавать нечто как простое, неизменяемое, за пределами всякого опыта существующее Я и соответственно ему признавать внешние предметы; Самосознание и сознание внешних вещей происходят одновреМенно и нераздельно, то и другое в элементе представлении но силе категорий. Не опровергая здесь оснований этого скептицизма, мы обращаем внимание только на учение Канта о тожестве той сознательной функции, которая будто бы нераздельна с подведением представлений под категории, потому что на ней держится представление о едином, неизменяемом объективном Я и о внешней предметности; без нее ничего подобного не казалось бы нам. В чем состоит эта тожественная с собою функция? В простом и везде одинаковом знании того, что я мыслю (732), когда соединяю представления под категории. Это сознание: я мыслю есть всеобщее, в противоположность с сознанием индивидуальным: я ощущаю, вижу и т. д. В этом сознании: я мыслю представляется Я как отрешенное от чувственности, незыблемое, равное самому себе, строго единое и тожественное с собою. Итак, когда изменчивые представления соединяются не во внутреннем чувстве, но посредством категорий относится к этому объективному единству самосознании (739), к этому я мыслю, то в нем, от него и чрез него они получают форму предметности или объективную годность. В этом изъяснении предметности допущена одна погрешность психологическая, другая — метафизическая. Во–первых, деятельность, посредством которой мы подводим представления под категории, не тожественна с собою, но, напротив, бывает так бесконечно различна, как различны самые категории и как только могут быть различны данные представления; вообще всякая деятельность в природе и в духе есть частная и индивидуально определенная, и как различные виды движения не делаются тожественны от того, что они подходят под общую идею движения, так различные действия мышления не превращаются в одну тожественную деятельность от того, что все они сопровождаются общим сознанием: я мыслю. Во–вторых, это сознание: я мыслю следовало бы в духе платонизма переменить на сознание, что я знаю истину; и такое превращение оправдывалось бы несомненными фактами логики. В самом деле, никогда суждение «Кай смертен» мы не относим к сознанию я мыслю, но всегда к сознанию истины. Истинно, что Кай смертен; истинно, что А не есть В и не–В; истинно, что если А равно половине В, то два А равно целому В, и таково значение всех форм суждения. Итак, тожественная с собою функция, которая одинаково присуща псом случаям подведения представлений под категории, есть сознание истины. Это сознание истины есть общее или общий разум, потому что ему нет никакого дела до эмпирических определений внутреннего чувства: в этом последнем представления даны всегда как события, а не как истина. Но когда мы соединяем эти представления под категории в суждениях, мы относим их к первоначальному и неизменяемому сознанию истины, а не к сознанию Я, как утверждает Кант. В суждении «Земля шарообразна» нет и следов его отношения к Я —· ни к эмпирическому, ни к чистому, но оно находится в необходимом отношении к истине. Весь его смысл исчерпывается тем, что субъективные представления мы превратили в истину посредством категорий субстанции и качества. Таким образом, категории как носители единой, общей и неизменяемой истины разума суть платонические идеи.
Повторим прежний вопрос: удовлетворяется ли кто‑нибудь тем, что вследствие соединения данных внутреннего чувства под категориями он сознает себя мыслящим и, следовательно, действующим в области не личных состояний, но всеобщего сознания? Есть ли эта любовь познающего субъекта ко всеобщему сознанию нечто фаталистическое или простое и безразличное событие в субъекте? Напротив, каждый человек сознает наперед, что евязь представлений в эмпирическом сознании по законам ассоциации не дает истины. Пока это сознание не пробуждается, человек следует непосредственно механическому потоку представлений, как они связались в его внутреннем чувстве. Я вижу, ощущаю, помню виденное и слышанное, — вот та почва, на которой он живет и наслаждается жизнию. Только внутренние, часто делаемые опыты, ч. то не все так есть и так связано в действительности, как оно есть и связано в сфере видения, слышания и воспоминания, понуждают его совершить разрыв с своим индивидуальным образованием и стать на почву общего сознания, мыслить, размышлять, судить но принципам общего разума или по категориям. Удовлетворение, которое испытывает при этом человек, состоит не в том, что он, как только мыслит, имеет пред глазами тожество своей деятельности (100): это заблуждение родило философскую систему, которая учит, что безусловное мышление совершает бесконечный процесс миротворения и истории человечества для того, чтобы в сознательном человеческом духе иметь пред глазами тожество своей деятельности,: — систему, которая древнее учение, что сущность всех вещей тожественна,, превратила в учение, что тожественность есть сущность всех вещей. Удовлетворение, которое испытывает чело–пек, когда до и переработке психологического материала но. категориям он сознает себя мыслящим, заключается, единственно в познании самой истины, открываемой эх(? ю. работой. Когда, напротив, возникает убеждение,, что, всеобщее сознание с своим простым содержанием я мыслю не дает истины, то познающий субъект свободно, отрешается от него и ищет для себя исхода или в эстетииескпх созерцаниях, или в созерцаниях умственных,, или в безотчетной религиозной вере. Якоб и и Шеллинг г шла этими путями. Вместо того чтобы отвергнуть учение, Канта о приемах мышления как о функциях безразличных к истине и, только отличающихся качествами сознаваемой тожественности и вребщно. ятй, они, отвергли; симрс содержание чистого разума и надеялись в сердце π фантазии найти ту истину, которая. вечно др. еддедт, ц. — 1!11о1цему субъекту в этом содержании.
Книг говорит; «Та же самая функция, которая е, оро; ш. нп единство различным представлениям в суж«мн, сообщает и чистому синтезу различных представлений в воззрении единство; которое, будучи выражено общим образом, называется понятием рассудка» (78). Это значит, что рассудок с своими категориями есть как основание общегодного соединения представлений в суждения отвлеченного мышления; так и основание общегодного соединения воззрений в предметы опыта. Положение это будет бесспорно, когда мы изменим его сообразно. с предыдущими замечаниями следующим образом,: гот разум, который сообщает нашим представлениям НС–тину, соединяя их под категориями в суждения отвлеченного мышления, сообщает истину и нашим воззрения!, соединяя: йх под- категориями, в предметы. опыта. Таково было постоянное мнение прежней метафизики. Предмет не; дан нам: как лежащий, вне нас. Даны трдьд ко -возбуждения или раздражения внутреннего чувства называемые ощущениями, и, зависящая от них слепая щь ра представлений В: — фантазии.., Но разум, умеющий, в. своих адеях истину бытия, сообщает субъективным воззрениям. единство,; требуемре,, смыслом идей, и вследствие этого, хотя ничто внешнее не дано нам, мы полу-, чнем.; знание: и созерцание внешнего предметного мнра кои системы вещей и их свойств, причин и их действий, и v. д. Говорим: получаем знание и созерцание, —потому что хотя не все, что мы знаем, мы и видим, однако, по Глубокому замечанию Гете, мы видим только то, что знаем.1 Когда мы видим вещи, их части и целое, свойства jf изменения, когда мы различаем близкое и далекое, од–ЙО и многое, большое и малое, то же и другое, то все ЭТо не такие готовые данные, для которых физиология могла бы указать телесные органы. Все эти данные иЙёйт свой источник в суждениях разума. Как только мй перестаём судить, сравнивать й соображать, мир предметный исчезает и остаются только сцены во внутреннем чувстве. Итак, неосновательно утверждать с. Кантом, что предметы даны нам чрез чувственность (55 и 56) или что предмет может быть дан понятиям не: иначе как в воззрении (144) и, наконец, что чувственность реализует разум (130). Все эти положения следует превратить: чрез чувственность даны нам психологические миражи, а предметы даны ним только чрез разум; для чувственности предмет может быть дан только чрез понятия; наконец, и в особенности, разум реализует чувственность. Когда разум подчиняет субъективные возбуждениячувственности своим категориям, тогда, а не прежде этого дается для нашей чувственности предмет,. отличный От ее собственных состояний, тогда, а не прежде этого нашему взору противостоят вещи видимые, нашрй руке —вещи жёсткие или мягкие и т. д. Предметы посредством чувственности не даны, а, так сказать, заданы разуму. Своими возбуждениями она дает разуму задачи, и решение этих задач, сообразное с содержанием идей, есть место родины предметного мира. Например, сознание, что пред нами находится в это время вещь определённого цвета, определенной фигуры н величины ит. д., есть следствие решения такой задачи. Оно услов–лено вопросом о существе вещи, вопросом о том; что она такое, следовательно стремлением разума познать идею вещи. Чувственность же своими возбуждениями дает повод к этому вопросу, а образами фантазии сопровождает эту идею или этот идеальный предмет, так что последний хотя есть невидимая мысль, однако при этом — носитель качеств чувственности, например, этих определенных красок, этих определенных запахов и т. д. Уже здесь мы видим, как много повредило Канту то обстоятельство, что он не избрал за исходный пункт исследования так названную у Платона наикрепчайшую истину которая есть начало тожества и общее понятие, и обратился непосредственно к исследованию производных и отдаленных категорий мышления. Между тем понятно, каким образом в противоположность с кантовым учением о том, •по мы можем познавать только чувственное, Платон ут–нсрждал, что всякое познание (физическое и метафизическое, индуктивное и дедуктивное) есть познание сверхчувственного. Как, например, возбуждение чувственности, которое служит для нас случайным поводом к тому, чтобы познать идею треугольника, не имеет ничего общего с содержанием этой идеи, так и вообще возбуждающие нас данные чувственности не входят в содержание идей о вещах, — идей, которые по их поводу разум как будто бы припоминает и которым свойственны единство, всеобщность, равенство с собою. Предмет познания — всякого познания — всегда есть единое и сверхчувственное, и нам только кажется, что мы встречаем его в опыте. Как только, например, в нашем глазе возбуждается этот фотографический образ, мы относим его к одному невидимому предмету; образ, доставленный чунстнснностню, изменяется до бесконечности смотря по различным нашим положениям к предмету или предме-, га к нам; тем не менее самый предмет мы мыслим как то же самое, как единое и равное самому себе.; Даже два непосредственно друг за другом следующих взгляда на предмет дают, по причинам физиологическим, образы его несходные и разобщенные пустым промежутком. в нашем эмпирическом сознании. Тем не менее предмет есть тот же самый, мы мыслим его как бытие непрерывное, пребывающее и в те моменты, которые соответствуют названному пустому промежутку. Только это мыслимое свойство предмета делает его данным для чувственности, а без него он совпадал бы с состояниями самой чувственности. Так как, по учению Канта, только из соединения принимающей чувственности с самодеятельности!© разума происходят познания — потому что «без чувственности предмет не был бы дан нам, а без разума он не был бы мыслим» (56), — так как самый опыт происходит из под? чинения образов фантазии объективному единству категорий, то отсюда следует, что категории могут доставить нам общегодные и необходимые познания только тогда, когда они соединяются с представлением общегодной и необходимой формы явлений, то есть с представлением времени. Таким образом на почве общего феномена нашей чувственности происходят частные и определенные феномены категорий, например: число есть феноменальное количество, ощущение есть феноменальная реальность, постоянное и пребывающее во времени есть феноменальная субстанция, существование предмета во всякое время есть феноменальная необходимость, существование в какое‑либо время есть феноменальная возможность и т. д. (128 и 129). Эти феномены категорий, Называемые у Канта темами, происходят независимо от опыта: их построяет воображение, осуществляющее категории в различных отношениях времени, Шемы есть не что иное, «как определения времени a priori, по правилам» (128). Они составляют логику естествознания и служат источником познаний, не зависящих от опыта и в то же время годных для всякого возможного опыта, потому что время, в отношениях которого категории, так сказать, исполняются, есть форма всякого явления.
Может быть, нигде так глубоко не определен дух научного естествознания, которое не повествует и не описывает, а только изъясняет, как в этом учении Канта, что вещи, относительно которых возможны всеобщие и необходимые познания, суть шемы, суть простые формальности вещей и что научное естествознание не имеет дела ни с чем реальным, ни с чем, что существовало бы in ipsa rerum natura. Впрочем, еще Ньютон говорил: «Слова «притяжение», «импульс» или «тяготение чего‑нибудь к центру» я употребляю безразлично и смешанно, одно вместо другого, рассматривая эти силы не физически, но только математически. Поэтому пусть не думает читатель, что сювами этого рода я определяю где‑нибудь вид или образ действия, или причину, или физическое основание или приписываю центрам (которые суть математические пункты) какие‑нибудь силы в истинном и физическом смысле» (Prineip. примеч. к Definit. VIII). И в другом месте: «Здесь я употребляю слово притяжение вообще, вместо какого бы то ни было усилия тел приближаться друг к другу, причем все равно, аависит ли такое усилие от действия тел, ищущих ли себя взаимно или двигающих друг друга посредством выделяемых ими духов, или это усилие рождается от действия эфира, воздуха или другой среды, телесной или бестелесной и как бы нагоняющей друг на друга тела, плавающие в ней» (ibid. Prop. LXIX). Как Ньютон не хотел, чтобы с мыслию о притяжении и тяготении читатели его соединяли что‑нибудь реальное, существующее в самой натуре, и требовал, чтобы они приучали себя держаться строго в среде математических направлений и отношений движения, так Кант для всего научного естестпоиишни указывает предметы в формальных представлениях или шемах вещей, которые построяются a priori tit категорий посредством их применения к созерцанию моментов времени. Вне этого мира шем реальность дана или для общего смысла в описании и повествовании, или должна быть дана1 для чистого разума в метафизике.
Между тем в учении о феноменальных категориях мы имеем пункт, где Кант оканчивает свои исследования о возможности опыта и где Платон начинает свои исследования о немыслймости опыта и эта встреча особенно бросает яркий свет на взаимное отношение двух рассматриваемых нами учений. Та махинация, посредством которой из взаимодействия чувственности, воображения и разума происходит самое поле опыта с его вещами и изменениями, есть событие совершенно бессознательное. Никто никогда не замечал его, и только философ окольными путями узнает, как совершилось то, что мы стоим среди мира и вещей и изменений, —стоимсреди мира, который не дан и не может быть дан нам как независимый факт. Здравый смысл с своим сознанием и рефлексом начинает, напротив, с того мнения, что ему противостоит мир действительный как нечто данное и независимое от него: он относится к миру объективному, — к миру, основанному на феноменальных категориях; которые превращают видоизменения субъекта в объекты знания. Платон начинает с этой точки здравого смысла, до которой дошел Кант. Платон спрашивает: этотмир, данный нам или навязанный нашему сознанию, может ли быть удержан строгим мышлением? Платон находит, что предметы, данные в опыте, не выражают вполнесо–держания идей, что они суть только образы или темы подлинного бытия, мыслимого в идеях, и что, следовательно, предметы опыта суть только феноменальныекатегории. Итак, если Платон рассматривает предметы опыта как явление в смысле объективном, то есть как неполное и ограниченное выражение истины разума, то в этом отношении он Не противоречит Канту, для которого предметы опыта суть явления, потому что они слагаются из функций чувствующего и познающего субъекта. Он начинает метафизические исследования с убеждения, которое так метко выражено самим Кантом, именно что «шемы чувственности стесняют категории, то есть заключают их в условия, которые лежат Вне разума» (129). Только, Кант находил, что от этой жертвы разума, стеснённого и ограниченного посторонним для него элемемтом, зависит общегодность наших познаний в области возможного опыта, между тем как для Платона всякое общегодное познание принадлежит разуму, не стесненному посторонним влиянием и деятельному только в своих идеях. Поэтому с помощию индуктивного метода Платон разлагает опыты, которые сложил или построил Кант С помощию метода дедуктивного. Индуктивный метод был применяем Платоном к исследованию и критике форм опыта в самом обширном смысле и всегда с тем, чтобы из сравнения и обобщения фактов познать натуру чистого разума и те идеи, которые должны служить началами для метода дедуктивного. Напротив, Кант надеялся найти натуру чистого разума в учениях и теориях логики, которая дала ему двенадцать категорий. Характеристично, в самом дело, у Кпнта то, что уже после вы–нода нозможиооти опыт и поело изъяснения того, как возможно чистое сегоетнозиипие, он еще раз бросает чип мир опытом, еще раз обращается к логике, чтобы пннтп н ее трех силлогистических формах три идеи безусловные, или идеи о безусловном, и отсюда опять поступать методом дедуктивным. В числе этих идей является, например, идея мира как целого, — идея, которая, по Платону, составляет неотъемлемое и само собою понятное содержание здравого смысла, так что без нее и здравый смысл невозможен. У Канта эта идея понята так, будто она есть последнее предположение формы условного силлогизма и будто эта тощая форма есть единственное место, где можно найти эту везде присущую в нашем сознании идею. Впрочем, если Кант при изъяснении мира явлений окончил тем, чем начал Платон, то можно видеть, что на это были у него основания очень незначительные.
а) Кант был убежден, что как только доказано, что предметы опыта суть явления, а не самые вещи, то отсюда само собой делалось понятным, каким образом категории рассудка применяются к ним всеобщим и необходимым образом. «Потому что, — говорит он, — как явления, они составляют предмет, существующий только в нас, так как чистого видоизменения нашей чувственности не имеется вне нас. Но самое это представление, что все эти явления, следовательно все предметы, какими можем мы заниматься, суть целиком во мне, то есть суть определения моей тожественной самости, выражает совершенное единство их в одном и том же самосознании как необходимое. Между тем в этом единстве возможноι·» сознания и состоит форма всякого познания предме–ΐοιι» (115). Тожественная самость, по отношению к которой явления суть ее определения, сама не есть действительная основа, носящая свои явления, напротив, как мы видели, она есть представление, рождаемое тем обстоятельством, что мы, соединяя данные внутреннего чувства под категориями, замечаем во всех таких случаях один и тот же акт мышления; сознание этого тожественного акта я мыслю построивает идею тожественной самости, но оно само возможно, повторяем, вследствие подведения явлений под категории. Итак, вопрос, как могут явления, существующие в нас, быть подводимы под категории, вовсе не решается указанием, что эти явления суть определения нашей тожественной самости, потому что возможность представления тожественной самости основывается на возможности подведения явлений под категории, а не наоборот. В другом сочинении Кант занялся разрешением этого вопроса более обстоятельным (см. Prolog. 74 и след.). «Мы, — говорит он, —не имеем ми милейшего понятия о такой связи самих вещей, при которой они существовали бы как субстанции, или бы действовали как причины, или находились бы во взаимодействии с другими вещами как части одного реального целого». Но, может быть, в явлениях, которые существуют в нас, мы знаем такую связь? Кант отвечает основательно: «Еще менее мы можем мыслить такие свойства в явлениях как явлениях, потому что названные понятия не содержат ничего, что заключается в явлениях, но только то, что необходимо мыслит разум». Итак, явления, существуя в нас, нисколько от этого не приближаются к разуму и нисколько не облегчают для него занятия применять к познаваемому материалу свои категории. Субъективное явление представляет нам те же задачи, как и объективное. Существуют ли, например, свет и теплота в самой натуре вещей или только в ощущениях нашей чувственности — научные задачи относительно причинной зависимости между теплотою и светом будут одни и те же. Различие между плотностию и фигурою остается точно таким же, будем ли мы считать эти данные за ощущения нашей чувственности или за свойства вещей. Итак, очевидно, что если понятия рассудка прилагаются a priori к изъяснению зависимости и связи явлений, то они так же могут прилагаться a priori к изъяснению зависимости и связи самих вещей. Или остается признать идеи разума за пустые nomina и отказаться от познаний a priori, или же — признать метафизическую шачимость категорий, как сделал Платон. Последнее принимает и Кант невольным образом в том же исследовании (75 и 76). Из логики мы знаем, например, форму условного суждения, требующую рассматривать одно познание как основание, другое — как следствие. Итак, причинность есть чистая форма познания. Если теперь Н наблюдении попадается нам случай, что за известным Явлением постоянно следует другое, то, по мнению Давида Юма, воображение так привыкает к порядку и последовательной связи этих явлений, что как только представляется первый член явления, мы ожидаем и второго, И отсюда мы верим в бытие его. Здесь два явления свя–аались в нас, в нашей привычке, а не на самом деле. Что отвечает Кант против этого изъяснения, разрушающего закон причинности? Закон причинности есть чистая форма познания. И соединении днух последовательных явлении, основанном на привычке, нет необходимости и общегодности. Однако же знание должно быть обще–годным и необходимым, то есть независимым от чувственности и ее привычек. Чтобы оно стало таким, названная связь двух явлений должна быть мыслима по закону причинности. На вопрос: каким образом два последовательные явления могут быть подведены под категории причины и действия, Кант отвечает: они должны быть подведены под эти две категории, потому что иначе невозможно было бы общегодное и необходимое познание. «Я очень хорошо вижу, — говорит Кант против Давида Юма, — что понятие причины необходимо принадлежит к чистой форме опыта» (76). То есть в явлении нет ни малейшего мотива для применения к нему идей разума, но это применение совершается единственно вследствие сознания, что в идеях разума дана истина, дано истинное знание вещей и той предметной связи их, которая существует за пределами субъекта и его привычек. Как в учении о моральной вере Кант изъяснял, что человек, ничего не зная о Боге, бессмертии и будущем воздаянии, должен, однако же, по силе своего морального существа действовать так, будто есть Бог, бессмертие и будущее воздаяние, — так в учении о познании он говорит нам, что, ничего не зная о существе вещей, мы, как разумные существа, пользуемся идеями разума так, будто в них дано нам откровение о существе вещей, их связи и взаимодействии. Нужно ли считать значительным этот остаток скептицизма, который состоит в мнении об идеях н не касается их практического применения, — этого вопроси мы не решаем здесь.
Ь) По Платону, самые простые и основные идеи, в которых и чрез которые дан для мышления предмет, суть: тожество, бытие и общее. Сколько бы чувственность ни предносила нам образы красок или фигур, однако познание, что эти краски или фигуры есть, что каждая из них не отлична от самой себя и есть другая по отношению к другой, наконец, что каждая из них причастна виду (общему понятию), — это познание, без которого невозможен опыт, есть нечто совершенно неожиданное и не подготовленное чувственными условиями явления как события вообще. Кант в своем анализе идей разума обошел эту азбуку метафизики. Он надеялся заменить ее формами пространства и времени, которые называет он источниками познаний (46). Без сомнения, это — источники познаний, но только для разума, обладающего непосредственным знанием метафизической истины. Явления мы различаем в пространстве и их изменения — во времени только потому, что мы пользуемся названными категориями: здесь есть не то же, что там, близкое не то же, что далекое, вчера есть вчера, а не сегодня и т. д., — эти первобытные суждения делают возможными всякое воззрение, всякое различение и всякий опыт. Они суть выражение чисто умственного содержания, которое заключается в начале тожества. Начало тожества есть не только источник всех категорий, но и мотив для их применения. Каким образом пришло нам на мысль пользоваться, например, категориями субстанции и причинности для связи представлений в суждениях и явлений в опытах? Истинным предметом познания, по Платону, может быть только то, что всегда есть то же самое и таким же образом. Такое содержание может быть дано только в общем понятии, которое определяет, что есть то же самое и таким же образом во всех состояниях вещи или во всех ее экземплярах. Эта сверхчувственная идея вещи и делает явление предметом разума, делает его познаваемым: вне этой идеи оно есть нечто такое, чего ни помыслить, ни назвать нельзя, говоря с древним Парменидом. Когда механический поток ощущений навязывает нам представление того, что бывает и не бывает в вещи, мы противопоставляем эти изменчивые состояния вещи самой вещи, которая есть то, что она есть. Таким образом, все данное мы разлагаем на субстанции и их случайные видоизменения. В общем по питии, в котором познается субстанция вещи, содержится норма возможных для нее видоизменений. Но тем, что. изменение противопоставлено неизменяемой субстанции, оно сам) по себе, еще не стало мыслимым, оно еще не цолучилоспособности быть познаваемым. Для всякого человеческого смысла изменение представляет повод спрашивать о причине его, потому что изменение есть возникновение нового признака в вещи, — признака, который не заключается в ее понятии. В изменении пару, щается начало тожества, и мы понуждаемся мыслить, что А есть не–А. Так как разум не может отказаться от истины, то для признака, который не содержится в понятии вещи, он требует такой вещи, в понятии которой заключается этот признак, другими словами, он ищет причины изменения. Полное изъяснение изменения достигается тогда, когда члены изъясняющие и изъясняемые покрывают друг друга и когда их отношение переходит н отношение: Λ--Α. Итак, причинность есть только дальнейшая форма начала тожества и исполняющей его идеи вещи. Метафизический гений Платона легко сводит начало причинности на начало тожества в следующих выражениях: «Очевидно, что та же самая вещь не может вместе делать или испытывать одно и то же по отношению к той же самой вещи и во взаимодействии с тою же самою вещию, и вот почему если где‑нибудь окажется,. что между вещами, однако же, происходит нечто подобное, то мы заключим, что это были не только те же самые, вещи, но и еще что‑нибудь сверх их» (Constat plane,. idem contraria facere seu pati, secundum idem et ad idem simul non posse, quamobrem si quando reperiemus in ipsis haec fieri, intelligemus non unum idem haec esse, sed plura. De rep. 436. b). lie входя в изложение и изъясне, ние других категорий как форм безусловной истины разума, мы ограничимся двумя замечаниями. Первое: Кант неосновательно признал присутствие категории в разуме неизъяснимым фактом (Proleg. 83). Задача онтологии и состоит именно в том, чтобы изъяснить эти по–видимому прирожденные формы, и на примере субстанции и причинности мы показали, что они вытекают из безусловной истины разума и вовсе не имеют такого фаталистического существования, для изъяснения которого нам пришлось бы искать их источника в безусловной творческой воле. Если научное естествознание весь фатализм явлений сосредоточивает в предположедид немногих основных фактов, чтобы изъяснение этих последних доставить безотчетной вере, то в идеях разума философия имеет не этого рода непонятные последние факты, но самую светлую и первобытную истину, которая, по учению Платона, не может быть сотворена никаким могуществом. Второе: так же неосновательно Кант ограничил применение категорий формою времени. Тем, что эти категории делают возможным опыт, далеко не исчерпывается их значение. От применения их к данным чувственности происходит явление вещей или, говоря с Платоном, происходит подобие истинно–сущего именно потому, что в них заключается указание на то, в чем состоит истинно–сущее; и если, по учению Канта, мы не находимся в том полусонном состоянии, которому Платон приписывает наклонность принимать подобное вещам за самые вещи, если мы имеем средства замечать, что предметы опыта суть явления, то это значит, что истинно–сущее пе есть такое математическое X, с которым мы ничего бы не могли предпринять. Оно уже оказывается знакомо iiiiM столько, что служит масштабом для определения мотлфтнческой значимости опытов. Так, астрономы получили способность признать видимое движение Солнца за феноменальное событие только тогда, когда они познали событие подлинное, или существующее в самой натуре вещей. Нет сомнения, что, кроме имманентного употребления категорий, какое допускает Кант, возможно еще употребление рефлексивное, как это признано Платоном. Первое делает возможным опыт, второе — критику форм опыта. В последнем случае мы спрашиваем: соответствуют ли опыты, которых возможность условлеыа категориями, смыслу этих категорий? Есть ли, например, в области опыта действительная причинность, на которую можно было бы взвалить полную ответственность за ее действия? Есть ли такая субстанциальность, которая не разрешалась бы на отношения? Есть ли такая необходимость, которая не разрешалась бы на случайности? И какие дополнения и изменения необходимо сделать в нашем обыкновенном взгляде на мир для того, чтобы этот мир не исчезал по каждой из указанных форм в противоположных, уничтожающих друг друга определениях и чтобы таким образом изгнать грозное ничто, которое кроется за эмпирическим употреблением категорий? Ни одно из определений в учении Канта об опыте не отвергает возможности этой метафизики сверхчувственного, которая происходит из критики, совершаемой разумом над формами опыта. Повторяя очень часто, что сбез чувственности нам не был бы дан предмет» (57), Кант не замечает, что именно это отношение есть феноменальное и что таким образом может быть дан предмет только для психологических привычек воображения, потому что для разума дано только то, что может быть удержано в строгом мышлении. Все задачи метафизики сверхчувственного сходятся в этой одной: изъяснить И понять наши опыты так, чтоб для разума дан был предмет; и нужно ли вспоминать здесь платоново учение о том, как чувственные вещи ускользают из определений разума, который таким образом остается в области опыта без предмета или вынуждается в неясной софистике мыслить немыслимое ничто?
с) Тот классический аргумент против скептицизма, которым пользовался Сократ в борьбе с софистами, принуждает π κίΐιιτοВΟ учение об опыте вращаться в безвыходном круге. Коли философия из анализа познавательных способностей выводит, что человеческая наука не зияет самой истины, а знает только являющееся и кажущееся, то и сама она должна покориться этой судьбе человеческой науки и ее собственное учение о неспособности человеческой науки познать истину не должно иметь притязания на истину. Если мы не имеем познания о том, что есть в самом существе вещей, то и наше познание начал и средств чистого разума не есть познание того, каковы эти начала и средства на самом деле, но только того, каковыми они нам кажутся или представляются. Итак, учение, что наше познание есть феноменальное, В само должно быть феноменально; оно не касается того, что и как оно есть на самом деле; оно не может утверждать, что мы не знаем истины; оно должно признать не действительностию, а только явлением, только кажущимся то обстоятельство, будто мы не можем знать истины.
Если же, наоборот, признается безусловно истинным то, что мы можем познавать только явления, то это и в самом деле напоминает человека, который говорит громко, что он не может говорить. Это противоречие между суждением о положении дела и актом, производящим это суждение и отрицающим его, должно быть разрешаемо в пользу акта как в области юридической, так и в научной. Человеческий разум таков, что он может познавать только явления; но познание о том, что именно таков человеческий разум, есть уже познание безусловно истинное, есть познание самого существа вещи. У Канта мы имеем образцовый анализ познавательных способностей: on объясняет нам, что вместо данных вещей мы имеем м ощущениях единственный материал познаний, что пространство и время суть наши формы или способы замечать эти ощущения, что, наконец, категории рассудка суть условия всеобщего неизменяемого сознания, делающие наши познания предметными. Без сомнения, философ не хотел сказать, что все это только так нам кажется, —что нам кажется, будто единственными данными для познания служат ощущения, что нам кажется, будто при суждении о вещах мы пользуемся категориями субстанции, причины и т. д. Философ дал нам познание о метафизической и абсолютной истине в строгом смысле, как понимал ее Платон; он открыл нам, что и как оно есть на самом деле. Наконец, что предметы опыта суть не самые вещи, а только явления вещей — это опять не кажется так, а есть так на самом деле. Учение Канта об опыте, отрешенное от скептицизма, который вообще невозможен в смысле философского принципа, есть открытие и блестящее развитие одной безусловной метафизической истины, именно что разум, перерабатывающий данные чувственности но своим идеям, может признавать и познавать только явления вещей. Но когда — таково было учение Платона — сознательный рефлекс подвергает критике эти явления вещей и ищет таким образом того, что могло бы быть удержано чистым разумом как его предмет, то отсюда происходит познание са мой сущности вещей. Эти две мысли не только не противоречат друг другу, но, напротив, последняя из них и была принципом для самого Канта, — принципом, истина которого дала ему возможность изложить формы, условия и законы познаний чувственно–разумного субъекта так, как они есть, а не как они кажутся или представляются нам. Другими словами, истина кантова учения об опыте возможна только вследствие истины платонова учения о разуме. Так по древней мифологии только тот из титанов делается представителем высшего, богоподобного человечества, который принимает сторону Юпитера в борьбе его с Сатурном.
Действительно, Сатурн не может удержать за собою трона: идеи разума не ограничены в своем применении субъективною формой времени, как это утверждает Кант, бесплодно усиливающийся поддержать союз метафизики с скептицизмом. Довольно указать на значение категории причинности, которою пользуется Кант везде в гмысле безусловной истины. Почему мы в области возможного опыта имеем познания всеобщие и необходимые? Потому что познающий субъект имеет, независимо от случайных опытов, такие формы и законы познаний, которые делают возможным самый опыт и которые, следовательно, не встретят со стороны рпыта ничего такого, что отрицало бы их годность. Почему всякий предмет чувственного воззрения должен являться в условиях, пространства и времени? Потому что пространство! и время суть формы чувственного воззрения, и, следовательно, всякий предмет может сделаться предметом чувственного воззрения не иначе, как приняв на себя эти формы. Почему предметы опыта суть явления? Потому что причина их чувственного содержания и связи этого содержания в определенную форму заключается в состояниях и познавательных функциях чувственно–разумного субъекта. Во всех этих случаях величайшей важности Кант, как мы видим, применяет закон причинности к познанию самого существа вещей, применяет независимо от субъективной формы времени, в смысле метафизическом и абсолютном, как идею, которая открывает. существенную связь самих вещей. Таким образом, нужно отличать то, что говорит философия Канта, от того, что говорит сам Кант: его скептическое мнение о том, что_ к л того putt имеют субъективную годность и применяются только к явлениям н определениях времени, отвергается метафизическим значением его учения об опыте. Впрочем, самая попытка доказывать субъективность категрг рий не возникла бы в мысли Канта, если бы он видел, непосредственную зависимость категорий от начала тожества, которого безусловная годность очевидна с перво-, го раза; потому что для всякого порядка вещей и для всякого мира, этого ли или другого из возможных, остается как безусловная истина то, что вещь, говоря. с Платоном, не может быть противоположна самой себе. А видеть эту зависимость, категорий от начала тожества было так легко, потому что во всех исследованиях своих Кант предполагает это начало как. безусловную истину. Например, в ответе на первый из вопросов, поставлен-, пых выше, вся иртина суждений происходит непосредственно из этого начала: опыты, как говорит этот ответ, не могут прртиворечить формам и законам нашего познания, потому чтр их собственная возможность заключается в. этих формах и законах нашего познания. Очевидно, что так судить может только разум, признающий безусловную, истин. у.. начала тожества: вещь не может быть противоположна самой себе, формы и законы нашего по — (наиия не могут быть противоположны самим себе; итак, то (опыт), что есть они сами, не может противоречить им. Но как только Кант не выяснил себе, что законы деятельности познающего субъекта так же не суть законы субъективные, как законы движения света и масс не суть законы светлые и массивные, то с этим вместе, как было замечено выше, он положил начало тому беспримерному в истории направлению метафизики, для которого законы действий познающего субъекта суть вместе произведения этих действий познающего субъекта и следствие есть основание самого себя. В учении о безусловной основе мира это заблуждение привело к неслыханному доселе мнению, что безусловное предпосылает себе самого себя и есть для самого себя абсолютное Prius. Союз метафизики с скептицизмом перешел таким образом в союз ее с софистикой. В самой «Критике чистого разума» мнение о субъективности категории навязывает нам невозможное убеждение, именно что мы погружаемся в область призраков и обольщений том более, чем более мы перерабатываем чувственно данный материал по началам разума. Предметы опыта суть явления, потому что они разрешаются на функции созерцающего и познающего субъекта, они суть целиком в нас, суть определения нашего Я (115). Очевидно, что пока мы знаем эти предметы в этом качестве как существующие в нас, как определения нашего Я, до тех пор мы знаем их как они есть на самом деле, а не как они кажутся нам, до тех пор мы, следовательно, знаем истинно–сущее, или истину метафизическую. Но категории рассудка условливают возможность опыта, то есть ус–ловливают то, что эти предметы кажутся нам как нечто вне нас или как независимый от нас мир вещей. Итак, благодаря категориям мы перемещаемся из области истинно–сущего в область кажущегося и призрачного. Если бы не рассудок со своими категориями, мы замечали бы предметы в их подлинном, метафизическом качестве как состояния нашего Я. Однако именно тем, что категории уносят нас из мира истинно–сущего, они условливают возможность всеобщих и необходимых познаний a priori. Наконец, разум как способность принципов (233), доставляющих правилам рассудка единство (245), как способность, восходящая до идеи о безусловном по необходимости логической, разумной и совершенно оправданной (249), обречен, несмотря на все это, самою природою на иллюзии неизбежные и роковые (231). Иследствие этих иллюзий он признает бытие простой и бессмертной души и бытие Бога; и критика чистого разума, находящая, что это признание неосновательно, сознается, однако же, что разогнать эти иллюзии невозможно, потому что они принадлежат самому разуму и самой натуре разума. Тем не менее, как моральные существа, мы должны верить в бытие того самого сверхчувственного мира, которого признание со стороны чистого разума считается за следствие неизбежной иллюзии. И чистый разум, для которого неизбежны иллюзии, есть в то же время источник высшего и совершеннейшего единства для раздробленных познаний рассудка.
Так в этом учении Протагор и Платон, Давид Юм и Лейбниц занимают поочередно место друг друга, не имея возможности примирить своих взглядов на науку и действительность.
Каким образом между этими противоположностями, как между молотом и наковальнею, чувствует себя современный человек с его образованием и надеждами — описывать это есть задача художников и тонких наблюдателей духа времени. Между тем задача науки определилась сознанием возможности приобретать общегодные сведения и невозможности познать истину. И если основание университетов было условлено тем сосредоточенным направлением наук, которое происходило из живого убеждения в единстве общей для всех их метафизической истины, то едва ли будет неосновательно утверждать, что наше время не так благоприятно для развития и процветания университетов. Политехническая школа с своим многознанием, условленным нуждами лица и народа, с богатством сведений без высшего принципа, не имеющая ничего чарующего для идеальной личности человеческой, эта школа общеполезных познаний так же характеризует наше время, для которого знание есть сила, как университет характеризует не столько практический, но более благородный дух той эпохи, которая разделяла с Платоном убеждение, что знание есть добродетель. И не совершается ли, Мм. Гг., на наших глазах медленное превращение университетов в политехнические школы? Не разрушает ли дух времени глубокую идею знания, которая требует, чтобы специальная ученость росла и крепла на широкой основе общего или целостного умственного образования и чтобы каждое приобретение на почве. специальной было вместе приращение it содержании идеала человеческой личности?
Однако идея университетского образования так мощна своею внутреннею истиной, что, вероятно, она всегда будет возникать тем сильнее, чем продолжительнее было ее временное затмение. Так как нет таких индивидуальных талантов, и способностей, которые не были бы своеобразным проявлением общей человечности, то каждая отдельная наука в различную пору своего развития познает наконец свое положение и значение в общей идее знания и стремится занять в системе наук такое место, с которого она действует наилучшим образом на усовершенствование самого человека. Человек натуральный следует в своих действиях указанию, которое заключается только в его индивидуальных потребностях: благо общего или целого не интересует его. Каждая специальная наука есть этот натуральный человек, пока она удовлетворяет только своим индивидуальным потребностям: снимая случайность в изучаемых ею явлениях, она сима ιπιходится и среде других наук как абсолютный случай, потому что она не знает себя как момент общей и единой истины. Образуя, расширяя и усовершая частный круг мыслей, она оставляет в натуральной дикости мысли, которые хранят общее образование; и часто специалист, глубоко уважаемый двигатель избранной им пауки, может высказывать в вопросах общего образования только самые произвольные и невозделанные мнения,. без ученого такта, без методичности, без научной истины. Так происходит, что противоречия, изгоняемые науками из мира явлений, водворяются еще с большею едкостию в. среде самих наук и в их взаимном отношении; и. там, где человечество, страждущее от невежества и страстей, надеется, найти свет и мир, опять начинается натуральная,, игра, противоречий,, недоразумений, личного, произвола и индивидуальных симпатий и антипатий. Общетодные сведения возможны и при таком натуральном–быте наук. Собственный частный интерес каждой из них заставляет их образовать ассоциации, которые, как и в человеческом обществе, основываются на принципе личной, нужды. Но при этом, решительно невозможно общество наук, проникнутое одним и тем же духом высшей культуры и имеющее свою последнюю цель в достоинствах лица, в его свободе, облагорожении и в независимости от мотивов эгоизма, которые, однако, могут быть самыми сильными двигателями к приобретению общегодных сведений. Как только эти мотивы овладевают наукой, она с трудом удерживается в чистой и отрешённой среде знания; большею частию она, сама того не замечая, нисходит в разряд руководств, полезных для делового человека, но в которых все, что было разумного и что обогащало личность лучшими убеждениями, оставляется в стороне, как дело не важное и отдаленное от непосредственных жизненных расчетов. Так, например, наука права, призванная раскрывать идею справедливости и ее временное осуществление в человеческих законодательствах, может превратиться в безразличное руководство к приобретению искусства выигрывать процессы. Так естествознание, призванное изучать вечные законы бытия и развития существующего мира в целом и частях, может принять форму руководства к приобретению искусства извлекать in недр природы различные лакомство, на которые так падок человеческий род. Так вообще преобладает в человеке односторонняя наклонность помещать каждую науку в область средств и разобщать ее с системою целей, которые при этом навязываются нам только грубым механизмом личных нужд и склонностей и остаются без обработки в этом первобытном виде. Таким образом происходит, что как в обществе после законодательств глубоких и проникнутых высшею справедливостию часто настает время узаконений незначительных и рассчитанных только на полезные последствия в настоящем, так в науке возрастает тело ее, слагающееся из множества сведений, а самая душа — система рациональных принципов — оставляется без культуры и без сведения о самой себе и о своем отношении к последним целям человеческой личности. Стоит сделать усилие, чтобы вообразить себе, каково должно быть умственное и нравственное положение молодого человека, который со всею горячностию своего возраста и всеми своими дарованиями предался на четыре или на пять лет исключительно приобретению специальной учености, ничем ровно не напоминающей ему об его высшей личности и об условиях ее внутреннего достоинства и справедливо признаваемой им самим за полезный инструмент для добывания различных выгод в человеческом обществе. Насколько такое занятие соответствует свободе лица, насколько оно условливает происхождение благородных побуждений, без которых человек не есть человек, насколько оно само застраховано от механизации, которая всегда идет рука об руку с одностороннес гIIwé. it особенности же насколько оно благоприятствует in шитик) высшего взгляда на мир и жизнь?
Вот, Мм. Гг., основания, которые сообщают особенную силу древней идее университетского образования, относящегося к молодому ученому не как к сумме способностей для той или другой науки и не как к силе, из блестящего развития которой общество имеет сделать впоследствии полезное употребление, но как к человеку, к единой нравственной личности, которая развивается под негибнущими идеалами или нормами. Есть общая наука, которая дает нормы для мышления; есть наука норм для бытия, есть наука норм для деятельности. Логика, метафизика и этика—эти совершенно общие познания о том, что мыслимо, что есть и что должно быть, считаются и доселе в лучших университетах элементарными науками и составляют университетскую педагогию, которая ведет к тому, чтобы специальная ученость была вместе и высшая ученость. Это потому, что натуральный быт мнук, на который мы указали выше, может быть спят не иначе, как знанием того абсолютного, о котором говорят названные мною части философии.
Не всегда, конечно, требование многознания оставляет молодому человеку столько досуга, чтобы он бескорыстно и из одной любви к истине мог уделять часть своего времени на занятие этими науками, которые не имеют на своей стороне никаких осязательных привлечений. Но если вера в лучшее есть нравственное требование, то, по–видимому, будет справедливо заметить, что от русских университетов особенно должна быть далека опасность разрешиться в школы, где множество наук не связаны между собою чистою и бескорыстною дружбой, не составляют между собою живого совета и берут на себя доставить молодому человеку все, кроме того, в чем именно состоит высшее образование. Высокая рука позаботилась об них. Наш возлюбленнейший Монарх в просвещенной заботливости о гражданских и человеческих доблестях своих подданных дал обучению русского юношества в университетских гимназиях то вместе прочное и возвышенно идеальное направление, при котором будущие студенты университета найдут время, силы и горячую любовь приобретать в университетских аудиториях как специальную ученость, так и сведения, условли–вающие высшую культуру живой личности. Ввиду таких надежд мы можем смотреть на будущее светлым взором и предаваться труду в настоящем с верою в успех его.
Приложения
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ. ИЗ ПИСЕМ П. П. ГВОЗДЕВУ
1 января 1862 г.
Москва, 27 янв[аря] 1862 г.
Бесценнейший мой Порфирий!
Кажется, мы еще не видались с тобой в 62 году, так здорово, с новым, значит, годом! Давно порывался я написать тебе, да дело, дело по самое горло душило дыханье и не позволяло оторваться, а дело‑то чуждое, заказное— беда! Проклятье ремеслу и ремесленничеству, где оно не у места! Уж как хотелось мне отвести с тобой душу! Ну, что ты делаешь? Что так долго не пишешь? От С. И. Флоренского] получил я в продолжение вакации письмо, на которое ответил довольно оригинально, и сегодня (т. е. вчера 26–го) получил от него другое письмо, где он пишет, что «пустил» письмо к тебе. Дело вот в чем. Когда я получил письмо от пего в вакацию, я был дурно настроен, выражаясь поэтически, если хочешь. Со злости я решился выместить досаду хоть на ком‑нибудь, на тебе даже, если бы ты попался под руку. А тут получил я письмо от Степана с требованием немедленного ответа. «А! — думаю. — Погоди, дружок, я тебе отвечу», — и сел да и накатал такую чертовщину, что теперь и самому совестно. Видишь ли, читал я тогда книгу на французском] языке «О происхождении языка» Ренана. Вот я и решился досадить Степану. Зная, что он не знает по–французски, да и по–немецки плохо понимает, я начал толковать в письме о книге Ренана и делать длинные выписки в подлиннике, не переводя, прибавляя после каждой выписки фразы вроде следующей]: «Смотри‑ка, как это хорошо сказано, как метко, поэтично!» К довершению шутки я сравнил выводы Ренана с выводами другого филолога, но не француза, а немца— Гримма — и присоединил к французским выпискам тьму немецких, взятых из прочтенного мною сочинения 1рпмми под тем же заглавием, также сопровождая их нижеприведенными фразами и восклицаниями. Комедии— и только! Вот, думаю, помается! Знай, мол, наших, когда они не в духе. А прочитать ему было необходимо, потому что я требовал безапелляционно ответа на эти выписки. И действительно, я вполне достиг своей цели: судя по его последнему письму, мои выписки так измучили и досадили ему, что он чуть не со слезами молит меня не писать больше выписок (а я, замечу, еще обещал ему продолжать их и в следующем] письме) или, если уж на меня напала такая ярость хватать за горло всякого и совать ему в нос какого‑нибудь Ренана, приговаривая: «понюхай‑ка, чем пахнет?», то делать это на русском языке. Ведь сыграл пульку, не правда ли? Думаю, он и тебе писал об этом. Бедный Степан! Ни за что пострадал. Ну что, если бы ты подвернулся! И тебе не спустил бы, ей–ей не спустил бы! Но нет, тебя спасла деревня, r которую ты убрался на рождество.
Теперь я не буду отвечать тебе на твое суждение о Фейербахе, высказанное в твоем последнем письме. Теперь я сообщу тебе другую новость, важнее моего возражения. Впрочем, не думай, что я вовсе оставлю без внимания твое мнение: нет, я еще доберусь до него; оно мне показалось замечательным, несмотря на краткость, с какой ты высказал его, и вот по тому‑то, по этой‑то замечательности и, так сказать, типичности твоего мнения я выдвину против него всю свою полевую и тяжелую артиллерию, и тогда, брат, держись! Но это до поры до времени. А теперь — к новости, о которой я упомянул.
У нас наконец читает Юркевич. Перетащили‑таки его из Киева, к досаде Киевской академии. Ведь он, писал Степан, был ее украшением. У нас он читает на филологическом] фак[ультете] на 2–м и 3–м курсах, но к нему сходится множество других студентов. Предмет его чтений, как ты, может, знаешь уже, история философии. Зная, что ты интересуешься философией и что у нас в семинарии (у нас в семинарии!) не было читано ничего похожего на историю философии, я решился передать тебе, что услышал на двух последних лекциях, и впредь обещаюсь подробно давать тебе отчет в его чтениях; ведь это не надоест тебе, как надоела Степану моя взятая напрокат филология?
Прежде всего о внешней обстановке и о личности Юркснича. На лекции Юркевича каждый раз ходят не одни студенты, но и другие интересующиеся этим: попечитель нашего университета генерал (единственный представитель воинства у нас), ректор Альфонский, Сергиевский, сотрудник его журнала свящ[енник] Преображенский и другие профессора. Сергиевский даже бросает свою лекцию во вторник, потому что она совпадает с лекцией Юркевича. Представь же себе. Аудитория переполнена студентами и стульями для «высоких» посетителей. Вот расступаются толпы (плохо живописую, что делать), является блестящая свита под командой военного мундира, а на кафедру всходит маленький человек, смуглый, вовсе не с маленьким лицом, замечательно широким и выдавшимся ртом, лет 35–ти, в густых синих очках, с перчаткой коричневого цвета на левой руке, раскланивается так медленно и, не садясь, стоя, начинает говорить экспромтом с сильным хохлацким акцентом А напрел ин него как раз уселись будто нарочно Чичерин н Сергиевский—эти два великие софиста нашей науки Им только и сидеть рядом, как двум родным братцам. Но вот и вся картина. Теперь — к содержанию двух последних лекций Юркевича (двух первых я не слышал, потому что тогда еще не было у меня билета на вход в университет за второе полугодие).
Я не записываю за Юркевичем, да и невозможно. До записывания ли, когда неудержимо, нескончаемой нитью тянется мысль, и едва успеваешь следить за ее развити ем. Да и не нужно. После каждой лекции в голове ос тается такое ясное представление о всем прочитанном, что стоит только употребить небольшое внимание, чтобы после быть в состоянии повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически последовательно изложение Юрке вича. Признаюсь, я не ждал этого, судя о Юркевиче по его статье, перепечатанной в «Русск[ом] вестн[ике]» из киевского издания, статье, подавшей повод к курьезной полемике в «Современнике». Не читал ли отзыв о ней Чернышевского в «Современнике»? Я постараюсь по возможности, насколько могу т. е., [изложить] содержание этих двух лекций, приводя иногда самые слова Юркевича, оставшиеся у меня в памяти. О его взгляде на философию вообще — после.
Дело идет о характере главных направлений философских, которые коротко передал Юркевич как введе ние в историю философии. Он начал с идеализма. Слушай же и извини, где не сумею ясно представить мысль Мча: sto уж относи прямо ко мне. Попытаю себя философском изложении с чужих слов.
При взгляде на каждый предмет у нас родится вопрос: от чего он произошел, какие его свойства? Т. е. самый простой анализ вещей, подлежащих нашему чувству, приводит нас к вопросу об их причинности и свойствах. Но свойства вещей постоянно изменяются (для объяснения философ [ских] направлений я обращаюсь только к последнему вопросу о свойствах, потому, что он связан теснее с ними, и оставляю в стороне первый вопрос: так сделал Юрк[евич]). Ни одной вещи не можем мы приписать какого‑нибудь постоянного, несокрушимого качества. Вода делается паром, пар сгущается в облако, облако разрешается водой и т. д. То же и во внутреннем мире духа человеческого. Воображение строит образы, но рассудок разбивает их; чувства враждуют также с холодным рассудком, рассудок с тем, что мм называем совестью. По–видимому, нет единства и здесь, как и ио внешнем мире нет постоянства, общности. Но при такой изменчивости мы не можем мыслить о предметах и их свойствах. Как подчинить размышлению эти беспрерывные изменения вещей? Как помирить с разумом, требующим единства, эти противоречия вещей? Где найти точку опоры? Вещь постоянно меняет свои качества, постоянно делается неверна самой себе. Огонь погас. Но если он погас, то он перестал быть огнем, а если он огонь, то он не погас. Так, подступая с анализом к простым выражениям обыденного смысла, мы встречаемся с вопросами, составляющими первые, начальные задачи философии.
На решении этого вопроса об изменении вещей и основывается построение системы идеализма. Простой, обыденный смысл держится на вере в вещи, на непосредственном их восприятии нашими чувствами. Философский анализ мирит или старается примирить те противоречия, которые открываются в вещах мыслящему духу при помощи этого анализа. Как же смотрит на изменение вещей идеализм, как решает он это изменение их свойств, не поддающееся мышлению?
Протагор высказал принцип: «Человек есть мера вещей». Это значит, что вещи существуют только сообразно с нашим впечатлением, с нашим восприятием, а не самостоятельно, не как факт даже! Идя далее, приходим к тому, что самое их бытие создается нашими чувствами; их свойства и развитие существуют только по требованию нашего ощущения, нашего «я», в процессе нашего мышления, что ли, если можно так сказать, нашего ощущения. Следов [ательно], бытие вещей само"по себе призрак, создание нашего «я». Эти вещи нужны для нашей внутренней жизни, и мы создаем их. Такого крайнего развития достигло это идеальное направление у Фихте. Протагор, говоря, что человек есть мера вещей, решал изменение вещей тем, что эти изменения, все свойства вещей суть результат развития нашего внутреннего впечатления. Вещь существует так, как воспринимает ее наше ощущение; ее свойства не в ней самой, а в нашем ощущении. От изменения нашего ощущения зависит изменение вещей. Фихте пошел дальше, отри цая самую сущность вещей и делая их созданием наших чувств. Так решен вопрос этими двумя идеалистами. Все существует только по отношению к нашему «я». Это идеализм «субъективным», поставляющий центром и точкой нехода всех вещей наше внутреннее «я».
о с той же логикой, какой пользуется этот идеализм в отношении к вещам, можно подступить и к этому центру и этой точке исхода всех вещей, к этому внутреннему «я». Почему же наше внутреннее восприятие несомненный факт? Почему не сказать, что и наше внутреннее ощущение, создающее вещи, есть такое же призрачное «нечто», как и создаваемые им вещи? Почему только наше ощущение есть несомненная мера, надежный критериум бытия вещей, а не принадлежит к разряду этих же явлений, которые оно создает так произвольно? Но тогда что же будет точкой исхода нашего ощущения? Каким еще началом будет обусловливаться бытие нашего ощущения? Очевидно, мы приходим к полнейшему нигилизму. Да кроме, того, вследствие чего именно является у нас нужда создавать в сво; ем впечатлении те или другие вещи? Откуда мы получаем толчок к этому?.
. Но есть еще идеализм предметный, объективный. Этот идеализм предоставляет вещам бытие, независимое от нашего ощущения, но делает его чисто формальным. Вещь существует, но не сама по себе и для себя, — не «an und fur sich» по немецкому выражению, а подчиняется другому, собственно, внешнему 1, пожалуй, началу, плие, для которой вещь служит только формой, выражением. — Вещь изменяется, становится другой и так ad infinitum, до бесконечности, и все это бесконечное изменение, развитие вещи, вся эта ее история заканчивается одним положительным результатом — полным выражением лежащей в ней идеи. Следовательно], все изменения, все развитие вещи есть не что иное, как форма, в которой идет развитие идеи. Таков взгляд на вещи и их изменение у Платона и Аристотеля, так же смотрят на это Шеллинг и Гегель. Аристотель высказывает мысль, что все держится на мысли; следователь–но], эту мысль он делает исходом всего существующего; следоват[ельно], повторю, все постигаемое нашими чувствами есть только внешнее, невольное, необходимое выражение лежащей в основе всего мысли.
Таково воззрение идеализма предметного. Сквозь все вещи он смотрит, как сквозь прозрачные формы, на лежащую в них идею. Вещь развивается не для себя и не сама по себе, а по требованию и мере развития этой идеи.
«Этот идеализм, —говорит Юркевич, — особенно рекомендует себя тем, что лучше всех истолковывает, осмысляет историю человечества. Для него все явления жизни человеческой не случайные, слепые, досадные явления, ни к чему не направленные и не из разумных начал выходящие, а необходимые, логические выражения жизни духа человеческого». Все существующее действительно и разумно, говорит Гегель.
Больше Юркевич не сказал ничего об этой заслуге идеализма. Но здесь я остановлюсь немного, чтобы сделать одно замечание. По словам Юркевича выходит, что ничего лучше и быть не может для истории, как толкование по идеализму судеб человеческих, потому что лучшего, по–видимому, нет. Чего же больше? Все явления осмысляются, в исторических событиях можно найти смысл, можно верить вечно присущему истории человеческому духу, который ведет человечество такой умной дорогой и уж, вероятно, к не менее умной цели. Остается сложить руки или, если это уж слишком по–магометански, делать свое дело, несмотря ни на что и все предоставляя разумному началу, движущему историей. Прогресс несомненен, разумный принцип не может привести к глупой цели. Не правда ли, как легко и как блестяще? Но под этой наружностью, так заманчивой и блестящей, лежит мертвящая доктрина. Возьмем самого Гегеля. Как он объяснил историю? Он скомкал и по–своему начертил программу для прошедшего и заставил его выстроиться и идти по этой программе. Он мало обращал внимания на порядок фактов, переставлял хронологические цифры по–своему, у него буддизм является прежде брамаизма и под., он, словом, захотел вытянуть историю в ровную философскую струнку. И действительно, история вышла у него такая умная, как будто ее двигали гении человечества по умному, наперед составленному плану, — такая ровная, нигде иголки не подобьешь, как говорят. Но это только потому, что проницательный философ ловко сумел заткнуть все малейшие дырочки в истории своими толкованиями. На основании такого идеалистического толкования возникла целая школа историческая. Для этой школы осе бывшее и существующее вытекало из естественных причин и условий, слсд)1в[ателыю] неизбежно, следовательно], так тому и быть надлежало или надлежит. Но, во–перв[ых], ведь это пахнет магометанским фатализмом; когда все необходимо и разумно, что было и есть, все вышло из прямых причин естественным образом, то дух человеческий не может, следовательно, восстать против чего‑нибудь положительно вредного в истории, потому что оно было неизбежно и разумно; следовательно, у духа отнимается инициатива действия и он должен подчиниться неизбежному ходу исторических причин и условий. Ведь уж машина истории заведена; следовательно], нельзя изменить ничего, что она сработает, потому что так необходимо при ее действии. И что это за фатум такой — этот неизбежный ход исторических причин и услозий? При таком воззрении со всем нужно мириться, все оправдывать и ни против чего не действовать, Соловьев оправдывает же и даже защищает московскую централизацию с ее беспардонным деспотизмом и самодурством. Предоставляю тебе додумать остальное. Я хотел только заметить тебе, что принцип исторической необходимости, основывающийся на положении Гегеля «все действительно и разумно», положении, стоя на ко тором, так легко справиться со всем в мире, — что этот принцип вовсе не лучше мертвящего фатализма, потому что равно обезоруживает свободную деятельность по имя каких‑то неисповедимых и неотвратимых путей истории. Это положение и было одной из глаипых причин, заставивших так скоро стащить на кладонии- кчелеш скую систему. Но Юркевич, может, поэтому не занялся более подробным рассмотрением этой стороны, что еще, будет время при самом изложении истории идеализма.. Во всяком случае, я не думаю, чтобы он стоял за этот принцип Гегеля.
Итак, в основе всего лежит идея. Вещь — только форма ее. Изменение вещи — неизбежный и постоянный закон, налагаемый на нее жизнью и условиями развития идеи. Так решается вопрос об изменении вещей у идеализма.
Совсем иначе смотрит на дело реализм. Для него вещь прежде всего вещь и больше ничего. А есть а, нечто {т. е. вещь) не может быть другим, не тем, что оно есть. Следовательно), за каждой вещью он признает самостоятельное значение и постоянное, несокрушимое качество. Существуя не для какой‑нибудь идеи, а для себя, вещь всегда сохраняет свое качество, без которого она перестает быть собой самой. Но как же объясняет реализм изменения, постоянно замечаемые в вещах. Л очень просто. Представь, что весь мир существует из 10 простых вещей, А, В, С и т. д. Все вещи, подлежащие чувству, сложны. Положим, что А в соединении с В производит в нас впечатление света, в соединении с С— ощущение тепла, с F —электричества. Так[им] образом], А в различных соединениях производит раз-, личные впечатления. Но следует ли из того, что оно меняется в своем основном качестве? Нет, оно только видоизменяется от различных соединений, нагревая вещь, в соединении с С, электризуя ее с F и т. д. Мы ощущаем только сложное действие различных элементов, различных агентов, производящих в нас то или другое ощущение, а основное свойство, каждого элемента, каждого агента не дается нашему ощущению, так как эти эле-, менты существуют только сложными. Очевидно, дело склоняется к атомам с их постоянными, несокрушимыми, свойствами. Что же такое, изменение вещи? А это не что иное, как следствие, различных комбинаций элементов, основных атомов, это кучка, которая составилась из соединения основных частей. Если вещь изменяется, значит, в ее состав вошли другие ингредиенты, начала, основные атомы, как угодно назови их, или же те же самые атомы расположены различно, но их свойства все‑таки остаются неизменны. Вода переходит в лед, потому, что иначе располагаются составные ее элементы. Стало быть, если изменения суть только комбинации вещей и их свойства не изменяются, а только не даются.
нашему опыту, то все развитие вещей есть варьировка одних и тех же элементов, а не выражение какого‑то прогрессивного движения идеи; значит, во всех изменениях нет никакого высшего начала, которому они служили бы выражением, воплощением. Так и смотрит реализм на это дело. Представитель его в новейшее время есть Гербарт.
Борьба этих двух направлений — реализма, который прежде всего видит в вещах то, что они есть, и идеализма, для которого вещи только форм… совершенно Друг… проходит по всей истории философии, следовательно], по всему развитию духа человеческого. «Не было ни одной образованной эпохи, —говорит Юркевич, — в которой мы не нашли бы рядом представителей того и другого. Уже в самом начале развития греческой философии выступают Гераклит и элеатическая школа с этими двумя противоположными направлениями; в наше время наравне с Гегелем и Шеллингом стоит Гербарт. Это оттого, что оба направления имеют важное практическое значение; их влияние не ограничивается наукой, но проходит и в ежедневный порядок вещей и сообщает жизни особенный строй. Много практических вопросов решаются так или иначе, смотря по началу, из которого выводят их решения; реализм решает не так, как идеализм, и обратно. Ныне всякий непременно должен стать на ту или другую сторону. Самые обыкновенные, житейские, государственные и общественные вопросы, решаясь с точки зрения того или другого, разделяют общество, каждого его члена от другого. Если бы, — говорит Юркевич, — собрать всех ученых в одну республику, конечно, это была бы самая бурная, неспокойная республика, —то каждый, к какой бы специальности он ни принадлежал, непременно заявил бы Себя в пользу или реализма, или идеализма».
Так возьмем взгляд того и другого на государство. Для идеалиста государство — норма жизни, блага народного, неизбежное и единственно разумное условие жизни человечества, потому что так сложилась история, что составилось государство. Видя во всем высший смысл, высшее начало, идею, идеализм и в государстве видит форму, необходимую для высшего развития человечества и сообразную с идеей человека. Если идеализм говорит об улучшении, о преобразовании государства, то для него важнее всего не настоящая потребность, а условие истории. Он спрашивает прежде всего, на какой ступени развития стоит в настоящую минуту парод или общество, чтобы вывести из этого сообразное с условиями и требованиями истории преобразование. Настоящие нужды принимаются в расчет уже после. Очевидно, он дорожит правильным ходом истории и боится нарушить этот ход произвольным шагом вперед. Оттого идеализм так отзывается консервативным духом. Не так смотрит на государство реализм. В чем идеализм видит высшее начало, там реализм находит простое явление. То же и в государстве. Интересы каждого лица приходят в столкновение с интересами другого; является борьба эгоизма, разделяющая людей. Для ограничения этой борьбы выдумали, изобрели государство, где люди, соединяясь, уславливаются друг с другом не вредить своим эгоизмом Друг другу. Следовательно], государство так же придумано для облегчения отношений, как письменность и книгопечатание для облегчения… а не логически неизбежное следствие высшего развития духа человеческого. Преобразование то хороши, которое сообразно с современными нуждами общества. Если эти нужды идут наперекор истории, не стоит останавливаться пред этим. Отчего не разорвать связи с прошедшим, когда это нужно? Государство вовсе поэтому не форма, сообразная и необходимая по идее человека, а сделка лиц между собою. Условия изменились, отчего не изменить и этой формы, когда нужно. Реализм не признает высшего начала в развитии государства; не может быть, следовательно], и высшей системы политической, руководящейся историческими результатами и условиями. В государстве может быть только благоразумие, политическая практичность, уменье удовлетворить настоящим потребностям, которые составляют единственную основу и руководство для его преобразования. Таков взгляд реализма. Какое он по себе, предоставляю оценить тебе.
Этим я ограничусь. Скоро передам тебе характеристику других систем, эмпиризма, рационализма, мистики. Ты напишешь, в каком виде я должен сообщать тебе выслушанное мною. Чувствую, что это письмо у меня вышло не совсем стройным и ясным. Но ты извинишь-. Пиши же. Парадизову и Разумову, и Холмовскому, и «сем мое нижайшее.
Твой й. Ключевский. Рукой П. П. Гвоздева: Получено 4 февраля.
Гвоздев.
февраля 1852 г.
Москва, 14 февраля 1862.
Порфириус!
За последние слова твоего последнего письма «Прошу извинения за глупейшее заключение» и пр., за эти слова предоставляю тебе самому сделать себе нотацию, да еще какую!
Диалог пойдет, кажется, в дело; по крайней мере, я стараюсь. Кое‑что я добавлю, но кроме указанного тобою ничего не изменю. Теперь он еще, впрочем, к печатному станку не подвинулся, и это оттого, что мне навязали перевод длиннейшей и чуждейшей мне статьи из немецкого журнала, которую я дня два только еще кончил. Потом, приотдохнув, двину диалог и дам тебе знать обо всем, как следует.
Отвечаю ли я на твои запросы? Напомни, если о чем смолчал по забывчивости.
Я ждал было от тебя другого письма, да вот уже масленица, а блин еще комом. К Флоринскому после известной тебе проказы не писал еше. Хохочет, думаю. Да я сгй» повожу еще за нос.
Сергиевский — писал ли и тебе? —неистовствует еще о сущности христианства. Нечего делать ему! А когда‑то ведь я его защищал. Каюсь, да мало ли и чем я теперь каюсь!
Юркевич по–прежнему является с военной и невоенной овитой и по–прежнему его чтения возбуждают интерес; это потому, что он не говорит фраз. Чрезвычайно любопытно, слушая его, оглянуться по сторонам, на эти внимающие лики слушателей. Иной самые глаза выстроил так, что хочет проглотить вместе с лекцией профессора. Другой так себе, будто говорит: «Гм! Мы это знаем, нас не проведешь, нам это знакомо, а, впрочем что же не послушать». А третий и глаз выстроить не умеет и равнодушным прикинуться сил нет; хочет быть тоже будто так себе, а чего — видно, как у него лоб воротит, а ничего нейдет. Знаю я одного товарища, знатока латинского языка и вообще любителя классической древности. Как взглянешь на его узкий лоб и на эти с каким‑то усилием поднимающиеся из‑под очков, глаза, так и хочется сказать: «Эх, малый!» Без ума от классиков: на днях сел за Цицерона, за его «Tuscula nае disputationes», и сейчас же бежит (он стоит в соседдн[ей] комнате с нашей): «Ах, что за философская голова у Цицерона!» Вот уж признаюсь, что ни поп, то батька. И, благоговея перед компиляторной философией а la Cicero, эта голова (т. е. сего господина любителя), кажется, от роду не осенялась присутствием своей мысли. Ни разу не сказал еще он ни одного дельного слова о Юркевиче и его лекциях, не побранил даже, а ведь горяч как—беда! Сочувствуем‑де… Не советую быть таким любителем классиков!
Но я, кажется, вдался в физиологию, так сказать, своих товарищей. Ты, пожалуй, подумаешь: «Вот‑де гусь‑то, овоих же однокорытников похабит. Честно ли это?» Честно ли, нечестно ли, а описанная особа — тип студенческого кружка и, признаюсь, не веселый тип. Да будет…, ну его! Везде много таких.
Ты, пожалуй, спросишь, к какому же разряду внимающих я принадлежу—к выстраивающим ли глаза но фрукт, или свысока небрежно взирающим, или туполобым любителям классиков, как описанный. «Бог έ знает», — как сказал бы мужик. Но по снисходительности ты, конечно, не -отнесешь к последнему. Я только потому заговорил об этом, что действительно любопытно, слушая Юркевича, посмотреть вокруг. Славные лбы можно встретить, м н о г о о б е щ а ю щ и е, не, одни. классические трудно поднимающимися очами,.
. Да! Парадизов на, меня за что‑то сердит, это очевидно; не пишет. Ефим — то же. Что с ними будешь делать?;,.,
Как тебе показалась моя реляция о чтениях Юркевича? Вот, чай, поломал ты; голову, распутывая эту путаницу! Что ни говори, а написал η· скверно. Не удастся ли получше теперь? Посмотрим. Начну..
Я тебе должен бы еще передать характеристику некоторых систем философских, напрГимер], эмпиризма, мистики, рационализма. Да это при случае. Теперь к самой истории философии. Не знаю, для чегоЮркевич почти две лекции посвятил только тому, чтобы доказать, что к изучению истории философии мы не можем приступать с каким‑нибудь; готовым взглядом, что это ничему не поможет, если не помешает еще правильному пониманию дела. Кто же сомневался в этом, да и не в одной истории философии, а и во всякой вообще науке? Здесь он кстати изложил взгляд Гегеля на ход истории философии и вообще человечества. С основным положе нием этого взгляда мы уже знакомы с тобой: все существующее или существовавшее разумно, т. е. происходит от логических причин, неслучайно, а необходимо. Все исторические явления, по Гегелю, не простые, случайные явления, а необходимо условливаются предшествующим развитием. Так и в истории философии каждое движение, каждая новая система логически вытекала из прежнего состояния философии и не зависела от каких‑нибудь случайных; посторонних причин, посторонних, т. е. для философии; следовательно, для Гегеля не может быть и речи о так называемых исторических случайностях. Но, очевидно, такой взгляд нельзя провести чрез всю историю и приложить к каждому явлению. В иных случаях действительно историческое развитие философии правильно следует закону постепенности; следующая система берет другую сторону предмета, чем прежняя; следовательно], восполняет ее, развивает, слс–дов[ательно], логически выходит из прежней. Но иногда то или другое направление философии зависит не исключительно от прежнего состояния ее, а от причин, для нее сторонних, случайных, которые могли быть и не быть, напр[имер], от политических переворотов, от настроения общества на какой‑нибудь лад, вынужденный историческими обстоятельствами, как во времена Канта, в конце прошлого и начале настоящего века, была мания на мораль. Все эти условия проистекают из обстоятельств «дорогих для человечества, может быть, но посторонних собственно для философии». Ведь человечество живет не для одной только философии как науки; у него есть другие нужды и потребности, не столь высокие, но не менее законные и неизбежные. Следовательно], развитие философии, какое хочет навязать ее истории Гегель, могло быть только тогда, если бы в истории человечества была одна высшая цель — философия; но этого не могло и не может быть. Это первая мысль Гегеля; ее можно вложить в такую формулу определения истории философии: история философии есть развитие, вечное движение духа человеческого, который развивается притом с а м и з с е б я, т. е. помимо посторонних обстоятельств.
Далее, Гегель проводит в истории ф[илософии]1 ту мысль, что каждая система соединяет в себе все формы и начала предшествовавших систем и, кроме того, составляет еще высшую ступень развития духа, непременно высшую, т. е. развитие совершается в неизменном порядке возрастающей прогрессии. Но этот взгляд может оправдаться в приложении только к цветущей поре философии, напр[имер], в Греции во времена Сократа, Платона, Аристотеля. Действительно, учение двух последних строго соединило в себе формы и начала общего корня — Сократа и, кроме того, повело дальше его развитие. Но по связи этой мысли с прежней и это не всегда оправдывается. Философия не всегда следует такому правильному развитию Вся схоластика средних веков была разве продолжением греческой философии, а не полнейшим упадком всякой философской мысли?
Таким образом, взгляд Гегеля на историю философии формулируется так: «Художник работы тысячелетий есть живой мыслящий дух человека, постоянно и правильно развивающийся сам из себя. Дело его состоит в том, чтобы привести в сознание то, что он есть. Каждая система есть ступень той бесконечной лестницы, по которой он восходит до этого самосознания». Вся историческая работа — дело духа человеческого и ιτο самосознания. Поэтому философия есть мысль о мире, поскольку он завершен, т. е. насколько он развился до настоящего момента. Следовательно], история философии имеет предметом проследить процесс образования мира, как и развития духа, входящего деятелем в этот процесс. Мыслимо только прошедшее и настоящее, что выработано историей, а то, что будет, должно быть, философия не может определить. Живой мыслящий дух в своем восхождении к самосознанию не может зайти вперед и предсказать будущее развитие мира: там он еще не действовал и потому это лежит вне его сознания. Кант добавляет, что философия есть мысль и о том, что должно быть. Но Гегель предоставляет будущее развитие неизменному действию законов развития н не берется судить о нем.
Последователи его вели дальше это воззрение. Если Гегель предоставлял духу человеческому деятельное участие в развитии и ходе истории, то один из его последователей (Эрдман) отнял эту деятельность, предоставляя ему только наблюдение. По его взгляду, вся история человечества идет двумя руслами: одним идет свободное развитие человечества, другим—его понимание. Следовательно], история этого развития есть история собственно человечества, а уяснение, сознание этого развития есть история философии. Гегель ограничивал философию только тем состоянием, той ступенью, которой достиг мир в настоящий момент, и не пускал ее дальше; Эрдман признает за философией или за мыслящим духом только пассивную роль и не дает ему деятельного участия в жизни. Мыслящий дух или философский — не деятельный, творящий элемент в жизни, а только страдательный наблюдатель совершающегося, так как он дает только понимание существующего, не имея силы дать ему направление. Мишле говорит, что философия (я называю здесь то философия, то мыслящий дух—понимаешь — в каком значении: всякий думает умом, но не всякий философствует) не дает новых определений для жизни; ее обязанность — сознать разумность существующего. Как будто жизнь идет так, что днем действуют, а в сумерки отдают себе отчет в сделанном. Вследствие этого философия своим пониманием относится только к прошедшему, обдумывает его после самого процесса развитии. И тот и другой последователь делят историю человечества на две струи, из которых одной течет самая жизнь, а другой — у первого одновременно идущей, а у второго немного отстающей — идет мысль над этой жизнью, анализ, рефлексия. Из всего этого выходит то, что философия имеет только теоретический интерес; она — спокойное, пассивное понимание существующего, которому она не может дать направления, тона и не входит в историю как деятельная сила.
На чем основываются эти взгляды? Основания эти ведутся так: народ начинает свою историческую жизнь не мыслью о том, как жить, в каком направлении вести свое развитие, следовательно], начинает не философией; его цивилизация прежде всего условливается географическими, этнографическими и пр[очими] причинами или деятелями, обстановкой народа. Философия является у него уже после, когда он совершит значительный акт развития, достигнет известной степени образования и степени значительной, следовательно], как бы уже под вечер, как бы уже для того, чтобы на отдыхе и досуге от прежних работ взглянуть на пройденную дорогу, свесть счеты с прожитым, осмыслить его и собраться с мыслями и силами для дальнейшего хода. Но это прожитое, пройденное, стало быть, прожито и пройдено под влиянием других деятелей, не философии И дальнейший ход вовсе не определяется явившейся под вечер философией; назавтра, наутро жизнь опять начнется под влиянием прежних деятелей, и опять не философии. Но такой взгляд может опереться только на иг которые факты. Приведу от себя в пример нашу историю. Мы прожили 1000 лет. Выработали ли мы что‑нибудь, нажили ли хоть сколько‑нибудь своего добра, это вопрос другой, но только очевидно мы жили, действовали, не спали же, а вечер еще далеко от нас и долго не настанет, может, время свести полные и ясные счеты с своим прошлым; следовательно], философия у нас не действовала, потому что ее нет на Руси и доселе, т. е. нашей, нами добытой философии. Но Россия не пример для всех и не общее правило. И нельзя отказать в деятельной силе философии по отношению к жизни, к истории народа и человечества. Конечно, жить можно и без философии; мы жили же тысячу лет; но где есть она, выработалась, там она не может остаться без влияния на дальнейшую судьбу народа и человечества. Довольно указать на два примера. Сократа осудили за его учение: следовательно], боялись не одного только теоретического влияния его философии. II XVIII иске энциклопедисты, Руссо и проч[ие], были одними из главных деятелей, произведших революцию.
Таким обр[азом], по взгляду Гегеля: 1) Все философские системы следуют одна за другой постепенно по закону необходимости; каждая есть логический вывод из предшествующей; этот логический вывод может быть или продолжением прежнего, или ему противоположным явлением: в том и другом логика не нарушается. За развитием, напр[имер], идеализма может следовать развитие реализма, и это будет логично; далее, за реализмом прогрессивно может явиться материализм, как это видим мы в наше время, — за Гегелем идет Гербарт, за Гербартом Бюхнер. 2) Каждая система принимает в себя все начала и результаты прежних и ведет их дальше, представляя высшую ступень философского развития. Очевидно, эта вторая мысль стоит в тесной внутренней связи с первой: она — оправдание первой мысли; логическое развитие философских систем нарушилось бы, если бы следующая система, отвергнув результаты прежней, начинала сызнова. Наконец, у последователей Г|егеля] философия есть только безучастная зрительница и толковательница того, что совершается перед ее глазами под влиянием иных деятелей. Наблюдая жизнь, философия меж тем своим порядком развивается помимо всех временных и случайных причин и условий, идет своей незаграждаемой интересами дня до рогой, руководясь вечно неизменными, родными ее сущности логическими законами. Такова, кажется, мысль Гегеля и его школы.
Но мы видим, что не всегда философия идет так независимо от вопросов дня, от нужд ежедневной жизни. Она подчиняется обстановке истории, агентам, чуждым собственно ей, но важным для жизни; следовательно], не всегда повинуется строго логическим законам, часто зависит от сторонних для нее, следовательно], более и менее случайных обстоятельств. Время не всегда предано исключительно интересам науки, не всегда ставит философию высшей и конечной целью истории. Часто и философия подчиняется чуждым для нее интересам и условиям общественным, нравственным, религиозным и т. д. Этим определяется и прогресс философии. История человечестна постоянно идет и развивается в своих формах, По такой ли этот прогресс, что следующее непременно лучше прежнего? Кажется, ответить утвердительно нельзя за всякое время и без оговорок ·. Если бы философия была исключительной целью исторических работ человечества, то в ней было бы постоянное движение вперед; но она только маленькая частичка в общем развитии человечества. Так, повторю, нужно знать, чем заинтересована известная эпоха, историей ли философии или вообще историей человечества, в которой история философии составляет только струю в потоке.
Такими мыслями и доводами привел нас Юркевич к тому выводу, что нельзя полагаться на какой‑нибудь общий взгляд на историю философии и с ним приступать к изучению ее. Развитие философии слишком разнообразно, как и всякой другой стороны жизни человечества, чтобы подвести его под мерку какой‑нибудь строго определенной и более или менее узкой системы, теории или мысли.
В следующем письме я передам тебе начало самой истории философии, т. е. характеристику первых греческих школ: ионийской, элейской, пифагорейской. Ну, удалось ли на этот раз? Едва ли.
Чтобы не обременять почты, я нарочно избрал такую оригинальную бумагу. На ней можно сколько угодно переслать, хоть целую книгу, за одну марку. Досталось, чай, тебе разбирать слова на этой бумаге!
Прогресс, кажется мне, совсем не то. Извини это рассуждение о прогрессе, таком избитом слове.
В. О. Ключевский
Пишу о наших, что знаешь. Я живу так себе, по–прежиему. Могу сказать вполне о себе, что Пушкин сказал о телеге жизни:
Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка.
Жми руку всем прежним сослуживцам.
В. Ключевский. В. В. Холмовский — что не пишет? Батюшки мои!
Рукой П. П. Гвоздева: Получено 27 февраля.
Порфирий Гвоздев.
III
марта 1862 г.
Москва, 17 марта 1862.
Порфирие!
Какое впечатление произвело на меня твое письмо, в каком ты спорил со мною, спрашиваешь ты (оно получено). Да какое? Отвечать хорошенько я на это не могу: не комплимент же сказать тебе. Ты сказал в нем свой взгляд, основанный на положениях, из которых с некоторыми я согласен, а с некоторыми — нет. Но я теперь не буду оспаривать тебя. Но ты, вероятно, лжешь, говоря, что писал его не столько потому, что был убежден в этом взгляде, сколько потому, что надо было что‑нибудь написать. Относительно же «нотации» мы, вероятно, друг друга не переспорим. Флоринский не писал еще, и я тоже, и чувствую, что делаю скверность, да как‑то времени не нахожу, да и о чем писать еще не надумал. Ты вызываешь на объяснение о Сергиевском. Да что же — буду говорить о нем, чтобы доказать, что он нас на кафедре надувает, морочит, как баб деревенских коробейник, выкладывает им свои гнилые, но подкрашенные новейшей краской товары и говорит, что первый сорт, самоновейший. Сергиевский — лирик, двух слов не скажет, чтобы не высказать «чувства»; его место на церковной кафедре перед публикой, немного образованной п требующей от проповедника сладкого, праздного щекотания ушей «свободномыслящим» словом. И он так приник (его любят в Москве) к этой церковной кафедре, что и перед студентами он является не профессором богословия, а оратором а 1а Массильон. Суди сам, в прошлой Лекции он минут 45 говорил сильно, с жестами, разуме–ется, приличными, выразительно — и все о чем же?) том, как бог возлюбил человеков и послал им сына своего единородного, и нового ничего не сказал, да и не ждал никто, но надоела эта приторная, бабья, не приличная на кафедре толковня. Ты хвалишь его журнал, и н согласен с тобой: журнал хороший, кажется, и во всяком случае нужный. Но ведь я сужу только по лекциям его, а в журнале своем он, кажется, ничего не пишет. Он не сух и мертв, как пишешь ты; он мягок, как намоченное шелковое платье барыни, и жив, как эта барыня подчас. Но что тяжело видеть и слышать это — я согласен с тобой. Не переварилось, значит, направление, взятое со стороны, напрокат, из немецкого магазина, и вот теперь разрешается поносом ненужных слов — извини за циничность выражения.
Λ сливную пулю отлил кто‑то в «Искре»! Браво! Если бы времени побольше, мы бы не отстали с тобой. Да подожди. Пар[адизов], Разу[мов], Холм[овский] не писали. А в Пензу я не знаю, приеду ли; во всяком случае, не раньше половины июня. Засел, значит, в Москве, как прежде в Пензе.
Вот тебе и еще факты из деятельности нашей иерархии клерикальной. Не видал ли ты в сент[ябрьских] «Отечественных] з[аинсках]» статью Буслаева о лубочных изданиях? Там стоит: «статья первая». Вторая не допущена духовной цензурой: религия‑де страдает. Я видел у Буслаева эту отверженную статью с красными пометками. Ну, и «завязывал» же он их святейшествам.
Для университетов вышли неофициально новые правила и обсуждаются советами университетов. Бусл[аев] уверяет, что они не пройдут. Представь, карцер! А? Профессора восстали на правило, запрещающее студентам выражать знаки одобрения или порицания профессорам, т. е. свист и аплодисменты. Плата со студенток падает окончательно.
Что же о Юркевиче? Его лекции литографируются, но дурно составлены. Они будут в Пензе у Марш[ева]. Дании говорить о философии греков! Ну, прочитал он до Сократа и теперь о нем будет говорить. Я передам кратко содержание его лекций до Сократа, что запомню. Начал он с ионийской школы. Ионийские колонии, значш — на берегу Малой Азии, опередили европейских греков в просвещении, и там вместе с эпопеей Гомера и «Историей» Геродота возникли первые начала философии. Юркевич, впрочем, вовсе не говорит ничего, почему здесь возникла прежде философия. Вообще он ведет свою историю особняком как‑то от остальной общественной жизни греков, а ведь связь‑то неразрывная. Ионийская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен — решали вопрос о натуре вещей. От чего вещь произошла, из чего состоит она? Фалес полагал коренным началом всего существующего воду, другой — воздух (Анаксимен), третий—огонь. Элейская школа: Зенон, Ксенофан, Парме–нид — развивала идею единства мира, идею, что кажущееся разнообразие вещей и их изменение только существует в опыте, но не в самой природе вещей. Зенон показывал здесь, как ошибается ежедневный опыт в своих определениях; он основал диалектику, науку указывать противоречия ежедневного опыта или обыкновенного смысла Обыкновенные понятия о пространстве, времени, множественности он подверг анализу и указал в них нелогичность. Здесь Юркевич много говорил об атомисте Демокрите, материалисте. Ты уже знаешь учение атомистов, как эти атомы по «случаю» соединились и образовали мир. Подробности — не теперь. Наконец, пифагорейская школа в основе вещей как главное, существенное их качество полагала число. Все имеет число, составлено из единиц. Эта строгая математическая школа проповедовала строго нравственное учение о человеке, о добродетели й мудрости. Хоть собственно из этого ничего нельзя понять ясно, но я не буду распространяться. Когда‑нибудь], при случае поговорим еще. Этим я хотел только показать тебе, как много прочитано до философии Сократа и софистов, с которыми он боролся.
Около этого времени в Греции развивался взгляд практически философский на жизнь. С одной стороны, философы учили о благе, которое они думали найти в от сутствии неприятного — Эпикур, или же в наслаждении положительно — Аристипп. Платон, развивая этот взгляд, старался определить идею блага и из нее вы–несть понятие практического блага, счастья.
Пока оставляю развитие этого учения о благе, а рав но и взгляды софистов и противоположные им взгляды Платона и Аристотеля на общественно–политическую жизнь. Это после, может быть. Теперь об учении софистов, о мышлении и о возражениях против них Сократа.
До софистов философия изучала вещи, их изменения. Зенон, напр[имер], показывал, как логическое мышление расходится с теми понятиями, которые мы составляем по непосредственному опыту. Теперь нужно было решить задачу, что такое само мышление, что познание, какое его значение? Софисты решали вопрос так: человек есть мера всех вещей, что истина может измеряться взглядом каждого. Следовательно], общей истины, в которой сходились бы все личные, неделимые взгляды, не может быть. Для каждого истина то, что он считает истиной, и потому сколько голов, столько и истинных взглядов, хоть бы они взаимно себя уничтожали: что ни мужик, то вера, что ни баба, то толк, как выражался, кажется, один из наших иерархов, ростовский, что ли, о раскольниках (или другой кто — черт его знает) Что же привело к таким понятиям об истине? На каких основаниях создался этот взгляд?
Мы получаем знание от впечатлений; красный цвет мы видим в вещах, потому что он такое впечатление производит на наш глаз. Другая вещь производит впечатление голубого цвета. Прежнее впечатление изгладилось, вытеснилось новым, а с ним и знание. Так в постоянной смене впечатлений сменяются и наши познания. Наше знание, так[им] обр[азом], постоянно изменяется, течет. Вот положение софистов, из которого они выводят законность взгляда каждого. По мне это красно, а по тебе бело; по у меня такое впечатление еще в голове держится, а у тебя другое уже вошло. Но ведь мы оба правы и говорим то, что говорят наши чувства. Сократ дал залп По такому взгляду, сказав, что мы имеем изменчивое, непостоянное знание, но что вместе мы знаем и об этом непостоянстве, что у нас есть еще знание и об этом изменчивом знании; стало, мы его можем контролировать.
Сказав, что наши впечатления и знания приходят и уходят, софисты останавливаются на том, что паши знания чисто личные, субъективные, как кто чувствует по опыту, а потому общей истины быть не может, потому что нельзя чувствовать одинаково. Ты с холоду вошел в комнату и тебе в ней тепло, но можешь ли сказать вообще, что в ней тепло; а я слез с жаркой печи и чувствую, что мне в этой же комнате холодно, но и я не могу.
Это, конечно, мне принадлежит; Юркевич этого не говорил. Видишь, я пишу не одно то, что слышал.
также сказать, что в ней вообще холодно. Значит, каждый по себе мерит истину, каждый — мера вещей. Отсюда- естественно то заключение, что ложных мнений нет,;ι есть только несходные между собою мнения. Ты говоришь: это — чиж, а я: это — стриж; мы оба говорим правду, потому что нам кажется так, ощущение глаза таково. Следовательно], могут существовать два противоположных взгляда, и оба они истинны. Вот другое положение софистов. Теперь смотри же, как просто и естественно поддел их Сократ. Если, говорит он, два совершенно противоположные взгляда истинны, то истинно и третье, считающее оба эти взгляда ложными; следовательно], истинно и то, что два противоположные взгляда ложны. Ты говоришь — чиж, я — стриж; мы правы; третий говорит — ни чиж, ни стриж; следовательно], истинно и то, что мы врем. Ведь таков взгляд третьего.
Далее, все наши понятия и впечатления подходят под те или другие высшие представления, общие категории. Нее тела подходят под понятие тяжести, а металлы подходят иод понятие тел; стало, и металлы подходят под понятие тяжести. Так. Это отношение силлогизма установлено Аристотелем. Но у софистов одно понятие подходит разом под несколько разнородных категорий. На этом основании они умели отлично морочить и развили ораторство, красноречие, в чем Юркевич видит заслугу софистов. Дело в том, с какой стороны взглянем на вещь. Путешествие хорошо, потому что делает нас онытнее. Ты развиваешь это так: оно знакомит с новыми людьми и землями; обогащает знаниями, наблюдениями, расширяет понятия; а я так: знакомит с новыми удовольствиями, потребностями, что рождает роскошь, опустошение кармана; делает нас опытнее, способнее надувать ближнего. Мы оба опять правы. Стало, все можно доказывать и опровергать в одно и то же время. Школа Сократа в лице Аристотеля установила про[тив] такого взгляда правильное отношение силлогизма: каждое понятие нужно подводить под то высшее понятие, под которое оно подходит целиком, всем своим объемом.
Теперь к третьему взгляду софистов (предшествовавший риторский… следствие второго). Наши понятия связаны словами. Ты видишь вещь красную, я — зеленую, л тот — белую. Эти ощущения мы называем цветом. Но цвет не общее понятие, а слово, которым мы с тобой уговорились называть наши ощущения. Общих родовых понятий нет. Это только общее название впечатлений. Сократ спрашивает софиста: что такое красота? Тот отвечает: прекрасная женщина. Он не определяет красоту общими, типическими чертами, так как для него не существует отвлеченного общего понятия красоты, а есть только в опыте формы, которые он «называет» прекрасными. Так[им] обр[азом], софисты приходят к отрицанию мышления, привязывая его к узкому впечатлению опыта, взаимно уничтожающемуся без общей категории.
Наконец, софисты уничтожают метафизические представления. Вот забавный силлогизм их. Когда мы учим другого, то хотим его сделать умным, но он, значит, еще не умен; стало, мы его хотим сделать не тем, что он есть, стало, хотим его уничтожить. Какова метафизика?
Тот же дух проникает и взгляды софистов на общество, государство. И здесь против них выступает учение сократовой школы. Но об этом до следующего раза, скорого, добавлю тебе в утешение.
Жаль, что мое прошлое письмо так опоздало и распечаталось. Верно, любопытство заставило наших сделать это нарушение прав собственности. Но ты этого не делай с письмом, которое я прилагаю здесь, а отнеси его поскорее. В нем ничего любопытного. Извини за краткость и пиши скорее. Что Маршевы? Но им не передавай этого вопроса. Зачем? Прощай.
Твой Ключевский.
P. S. Каковы по тебе «Отцы и дети» Тургенева в втором номере «Русск[ого] вестн[ика]»? Прочти, пожалуйста. Ведь там — м ы, наше поколение, самоновейшее, значит.
Рукой П. П. Гвоздева: Получено 24 марта.
В. С. Соловьев. О философских трудах П. Д. Юркевича
Если высотою и свободою мысли, внутренним тоном воззрений, а не числом и объемом написанных книг определяется значение настоящих мыслителей, то бесспорно почетное место между ними должно принадлежать покойному московскому профессору Памфилу Даниловичу Юркевичу. В умственном характере его замечательным образом соединялись самостоятельность и широта взглядов с искренним признанием исторического предания, глубокое сердечное сочувствие всем существенным питоросам жизни — с тонкою проницательностью критической мысли. Оставленные им философские труды немногочисленны и не обширны. Как и большая часть русских даровитых людей, он не считал нужным и возможным давать полное внешнее выражение всему своему умственному содержанию, выворачивать его наружу напоказ, он не хотел перевести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную собственность. Однако и из того, что им оставлено, достаточно видно, что мы имеем дело с умом сильным и самостоятельным. Прежде чем обратиться к обзору его трудов, я сообщу несколько биографических о нем сведений.
Памфил Данилович Юркевич был сыном сельского священника в Полтавской губернии и родился около 1827 года. Пройдя семинарский курс е. Полтаве, он поступил в 1847 году в Киевскую духовную академию. Здесь по окончании курса с причислением к первому разряду воспитанников по особому распоряжению местного начальства введен был он в назначенную ему академическою конференциею должность наставника по классу философских наук (1851 г.); в следующем году возведен на степень магистра и переименован в бакалавры академии; в 1853 году «за отлично усердные п весьма полезные труды его объявлено ему благоволение Се. синода». В следующем году он определен помощником инспектора академии, ко, вероятно, эта долж ность не пришлась ему по вкусу, потому что через два года он согласно своему прошению был от нее уволен. В 1857 году сверх философии поручено ему было преподавание немецкого языка, а через год он возведен в звание экстраординарного профессора. В 1861 году «определением Св. Синода за примерно усердную службу, обширные сведения и отличное преподавание возведен в звание ординарного профессора». Труды его, отчасти напечатанные в ученом журнале академии, обратили на себя внимание не одного духовного начальства: в том же 1861 году он был приглашен на философскую кафедру в Московский университет, куда в октябре этого года и был с высочайшего соизволения перемещен ординарным профессором. Здесь, кроме университетских занятий, он прочел ряд публичных лекций о материализме, потом в течение нескольких лет преподавал педагогику в учительской семинарии военного ведомства В 1869—1873 гг. был он деканом историко–филологического факультета. В этом последнем году П. Д. лишился жены (он женился еще в Киеве в 1856 году), которая умерла в Крыму после долгой болезни. Это несчастие и соединенные с ним тревоги совершенно расстроили здоровье П. Д. Он серьезно заболел и уже более не поправлялся. 4 октября текущего года он скончался в Москве От истощения сил.
Философские труды Юркевича, частью помещенные в провинциальном и притом специально духовном журнале, мало известны даже таким лицам, которые могли бы оценить их достоинство. Познакомить их с этим:! статьями составляет цель следующего изложения.
I
Первый напечатанный труд Юркевича есть, насколько мне известно, статья: «Сердце и его значение в духовной жизни человека»2. Статья эта представляет значительный философский интерес, и потому я изложу ее подробно, большею частью словами автора.
В общем сознании существо человека, как телесное, так и душевное, представляется состоящим из двух важнейших основных частей, которые на обыкновенном языПедагогика составляла одно из любимейших занятий П. Д. Ои посвятил ей два большие труда. Желательно было бы, чтобы компетентные лица оценили их по достоинству.
κι обозначаются славами «сердце» и «голова». Несомненно, что для общего живого языка слова эти, обозначающие собственно части физического организма, относятся вместе с тем и преимущественно к двум главным сторонам духовного существа. Такое словоупотребление предполагает в общем сознании то убеждение, что определенные элементы духовного существа имеют свое ближайшее выражение или воплощение в определенных частях телесного организма, а именно что нравственный или практический элемент духа, то есть начало воли и душевных аффектов, воплощается ближайшим образом в сердце как центральном органе кровеносной системы, а теоретическое начало духа, то есть ум, имеет свое внешнее выражение в голове как вместилище важнейших частей нервной системы, именно головного мозга и органов внешних чувств. Таким образом, по этому воззрению человеческое существо, как человеческое, состоит не из души и тела как двух субстанциальных частей, а из сердца и ума как двух душевно–телесных сторон одной конкретной сущности. Но этим двум сторонам или элементам рассматриваемое воззрение приписывает не одинаковое значение в общем существе человеческом, как это можно видеть из относящихся сюда мест Библии, которою мы можем пользоваться как древнейшим памятником, выражающим в себе не личное, а общее народное сознание.
По Библии, сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил и средоточие всей душевной и духовной жизни человека. В нем коренятся не только многообразные душевные чувствования, волнения, страсти и нравственные состояния, но также и все познавательные действия души глубочайшею своею основой имеют не ум как таковой, а сердце. Размышление, по Библии, есть предложение или усоветование сердца; уразуметь сердцем значит понять; познать всем сердцем — понять всецело. Как средоточие всей телесной и многообразной духовной жизни человека, сердце называется истоками жизни, оно есть ό τροχός της γενέσεός — круг или колесо, во вращении коего заключается вся наша жизнь. Посему оно составляет глубочайшую часть нашего существа; «глубоко сердце человеку паче всех и кто познает его» Состоянием сердца выражается все душевное состояние, но никогда внешние обнаружения слова, мысли и дел не исчерпывают этого источника.
Полагая средоточие духовной жизни человека в сердце, библейские писатели признавали голову как бы за видимую вершину той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце. Впрочем, многие места Библии выражают совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа посредствующего между целостным существом души и теми влияниями, которые она испытывает совне или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в целостной системе душевных действий; эти явления душевной деятельности в голове еще не исчерпывают всего существа души; по необходимости мышления мы должны допустить некоторую первоначальную духовную сущность, которая нуждается в поименованном посредничестве и правительственном действии головы. Эта‑то первоначальная духовная сущность и имеет, по Библии, своим ближайшим органом сердце. Таким образом, сердце признается не только воплощением одной стороны нашего духа, но в то же время и выражением глубочайшей основы всего духовного существа. Чтобы не ходить далеко, можно привести хороший пример такого отношения в области телесного бытия. Так, кровь, будучи одною из жидких частей живого тела, есть вместе с тем и общий субстрат или плазма всего тела во всех его частях, поскольку все части тела образуются из питательных веществ крови, так что тут то самое, что actualiter есть лишь часть, в то же время есть и первоначальная основа целого.
В каком же отношении находится то значение, которое придают сердцу и голове общее сознание и Библия, к положениям научной философии? На основании несомненных физиологических фактов психология учит, что голова или головной мозг с идущими к нему нервами служит необходимым и непосредственным телесным органом души для образования представлений и мыслей из впечатлений внешнего мира или что только этот орган есть непосредственный проводник и носитель душевных действий. С этим бесспорно истинным учением о телесном органе душевных явлений долго было соединяемо в психологии особенное воззрение на существо человеческой души, — воззрение, которое, впрочем, могло иметь до известной степени и самостоятельное независимое развитие. Когда нервы, сосредоточенные в голове, приходят в движение от влияний и впечатлений внешнего мира, то непосредственное и ближайшее следствие этого движения есть происхождение в душе представлений, понятий или познаний о внешнем мире. Отсюда легко было прийти к предположению, что существенная способность человеческой души есть именно способность рождать или образовывать представления о мире по поводу движения нервов, возбужденных внешним предметом. То, что существует в нервах как движение, открывается, является и существует в душе как представление. Сообразно с этим в философии долго господствовал и доселе еще отчасти господствует взгляд, что душа человеческая есть первоначально существо представляющее, что мышление есть самая сущность души или что мышление составляет всего духовного человека. Воля и чувствования сердца были понимаемы как явления, видоизменения и случайные состояния мышления. С этими определениями была бы совершенно несообразна мысль, что в самой душе есть нечто задушевное, есть такая глубокая существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления. Итак, на первый раз мы можем видеть здесь, по меньшей мере, наклонность к такому изъяснению явлений, в котором не дается сущности большего и значительнейшего содержания в сравнении с ее явлениями, доступными нашему наблюдению; и кто, напротив, думает, что в человеческой душе, как и во всем сущем, есть стороны недоступные для относительного познания, тот наперед уже может видеть многозначительность библейского учения о глубоком сердце, которого тайны знает только ум Божественный.
Очевидно, что та философия, которая основывается на положении, что сущность души есть мышление и ничего более, должна отрицать все существенно–нравственное в человеке. Жизненную заповедь любви, — заповедь, которая так многозначительна для сердца, — заменяет она отвлеченным сознанием долга, сознанием, которое предполагает не воодушевление, не сердечное влечение к добру, а простое безучастное понимание явлений. Точно так же, поскольку наши познания о Боге человекообразны, эта философия необходимо приходит к отвлеченному понятию о существе Божием, определяя все богатство Божественной жизни как идею, как мышление, полагающее мир без воли, без любви, из одной логической необходимости. Между тем несомненно, что мышление не исчерпывает всей полноты духовной человеческой жизни, так точно, как совершенство мышления еще не обозначает всех совершенств человеческого духа. Кто утверждает, что мышление есть весь человек, и надеется изъяснить все многообразие душевных явлений из мышления, тот успеет не больше того физиолога, который стал бы изъяснять явления слуха — звуки, тоны и слова — из явлений зрения, каковы протяжение, фигура, цвет и т. д. Сообразно с этим мы можем уже предположить, что деятельность человеческого духа имеет своим непосредственным органом в теле не одну голову или головной мозг с нервами, к нему идущими, но простирается гораздо дальше и глубже внутрь телесного организма. Как существо души, так и ее связь с телом должна быть гораздо богаче и многообразнее, чем обыкновенно думают. Эта, конечно, общая и пока еще не определенная мысль о многосторонней, а не односторонней связи души с телом содержится в библейском учении о сердце как непосредственном и ближайшем органе душевных деятельиоетей и состояний. Телесным органом души может бьмъ не иное что, как человеческое тело. Посему так как сердце соединяет в себе все силы этого тела, то оно же служит ближайшим органом жизни душевной. Тело есть целесообразный орган души не по одной своей части, но по всецелому своему составу и устроению.
Если, как было сказано, то положение, что душевные действия и именно сознательная деятельность души имеет свой непосредственный орган в головном мозге, — доказывается несомненными физиологическими фактами, то из этих фактов следует, однако, очень немного для психологического учения о пребывании души в теле. Мы только можем сказать: деятельность или, точнее, движение головного мозга есть необходимое условие для того, чтобы душа могла рождать ощущения и представления о мире; или, чтобы движение, сообщенное какому‑либо органу, стало душевным ощущением и представлением, оно должно распространиться до головного мозга. Если же отсюда заключают далее, что душа существом своим должна пребывать в головном мозге, то в основе такого предположения лежит постороннее наблюдение, взятое из чувственного мира. В этом мире, где два члена взаимодействия, какие только подлежат нашему наблюдению, равно чувственны, движение переходит от одного из них на другой посредством давления или толчка: тело движущее должно произвести давление или толчок на пространственную сторону тела движимогο, которое по этому поводу развивает в себе такие или другие виды движения. Но это давление, этот толчок невозможны во взаимодействии между душою и телом, где один член есть непространственное существо души. Душа не имеет пространственной стороны, на которую она могла бы принимать толчки от пространственных движений головного мозга. Поэтому хотя деятельность головного мозга есть необходимое условие для того, чтобы душа могла рождать ощущения и представления, однако отсюда не следует немыслимое предположение, чтобы душа должна была для этого пребывать в головном мозге как своем месте. Связь между движением известной части головного мозга и представлением, которое по этому поводу образует душа, есть не механическая связь давлений и толчков, которые, бесспорно, предполагали бы пространственную совместность свя–зующихся членов, но связь целесообразная, идеальная.
Эти замечания показывают, что самые достоверные факты физиологии, которыми подтверждается тесная они:», сознательной жизни души с деятельностью головного мозга, не находятся в противоречии с общим сознанием и библейским учением о сердце как подлинном средоточии душевной жизни. Очень возможно, что душа, как основа известных нам сознательных психических явлений, имеет своим ближайшим органом сердце, хотя ее сознательная жизнь обнаруживает себя под условием деятельности головного мозга.
В настоящее время физиология знает, что сердце не есть простой мускул, не есть нечувствительный механизм, который только заведывает движением крови в теле посредством механического на нее давления. В сердце соединяются оба замечательнейшие порядка нервов, так называемые нервы симпатические, заведующие всеми растительными отправлениями организма, и нервы, служащие необходимыми органами ощущения или представления и произвольного действия. Можно сказать, что в сердце, которое есть колодезь крови, обе нервные системы — это подлинное тело существ, имеющих душу, — сходятся и соприкасаются в таком единстве и взаимодействии, какого не представляет никакой другой орган человеческого тела. Не можем ли мы сказать, не противореча фактам физиологии, что в сердце псе значительнейшие системы человеческого организма имеют овоего представителя, который из этого средоточия заботится об их сохранении и жизни? Но по меньшей мере отсюда делается ясным, почему общее чувство души или чувство, которое мы имеем о нашем собственном духовно–телесном бытии, дает замечать себя в сердце, так что самые неприметные перемены в этом чувстве сопровождаются переменами в биениях сердца. Между тем настроения и расположения души, определяемые tee общим чувством, служат последнею глубочайшею основой наших мыслей, желаний и дел. В то время как физиология указывает в головном мозге физические условия, от которых зависит деятельность души, библейское учение о сердце как месте рождения мыслей, желаний и дел человеческих указывает нам непосредственный духовно–нравственный источник душевной деятельности в целостном и нераздельном настроении и расположении душевного существа. Наши мысли, слова и дела суть первоначально но образы внешних вещей, а образы или выражения общего чувства души, порождения нашего сердечного настроения. Конечно, в обыкновенной жизни, наполняемой заботами о текущей действительности, мы слишком мало обращаем внимания на эту задушевную сторону в наших мыслях и поступках. Тем не менее остается справедливым, что все входящее. в душу совне, при посредстве органов чувств и головного мозга, перерабатывается, изменяется и получает свое последнее и постоянное качество по особенному, частно определенному сердечному настроению души и, наоборот, никакие воздействия и возбуждения, идущие от внешнего мира, не могут вызвать в душе представлений или чувствований, если последние несовместны с сердечным настроением человека. В сердце человека лежит основа того, что его представления, чувствования и поступки получают особенность, в которой выражается его душа, а не другая, или получают такое личное частно определенное направление, по силе которого они суть выражения не общего духовного существа, а отдельного живого действительно существующего человека.
Во внутреннем опыте мы вовсе не замечаем, как изменяется головной мозг от изменения наших мыслей, желаний и чувствований; на основании непосредственного самовоззрения мы даже не знали бы, что он есть орган сознающей души. Если это отношение между мышлением и его органом имеет разумные основания в назначении мышления, которое само по себе должно быть спокойным и безучастным сознанием окружающей нас действительности, то отсюда, однако же, следует, что как и мышлении, так и в его телесном органе душа не являет себя во всей неделимости и полноте своего существа. Если бы человек обнаруживал себя одним мышлением, которое в таком случае было бы, по всей вероятности, самым подлинным образом внешних предметов, то многообразный, богатый жизнью и красотою мир открывался бы его сознанию как правильная, но безжизненная математическая величина. Он мог бы прозревать в эту величину насквозь и всецело, но зато нигде уже не встретил бы бытия истинного, живого, которое поражало бы его красотою форм, таинственностью влечений и бесконечною полнотою содержания. В действительной душе нет такого одностороннего мышления. И что было бы с человеком, если бы его мысль не имела другого назначения, кроме того, чтобы повторять в своих движениях события действительности или отражать в себе посторонние для духа явления? Может статься, что в этом случае наши мысли отличались бы такою же определенностью, как математические величины: но зато мы могли бы в нашем знании вещей двигаться только в ширину, а не в глубину. Лучшие философы и великие поэты сознавали, что сердце их было истинным местом рождения тех глубоких идей, которые они передали человечеству, а сознание, которого деятельность соединена с отправлениями органов чувств и головного мозга, давало этим идеям только ясность и определенность, свойственные мышлению.
Необозримое для внешнего взора существо души, назначенной к развитию не только во времени, но и в вечности, не может быть определено по тем одним ее состояниям, какие вызываются в ней впечатлениями внешнего мира. В ней всегда останется ряд состояний и движений, к которым не может быть применен физический закон равенства между действием и противодействием. Уже в простом представлении, какое только об разуется нашим мышлением на основании впечатлений, идущих совне, мы должны различать две стороны: 1) знание внешних предметов, заключающееся в этом представлении, и 2) то душевное состояние, которое условливается этим представлением и знанием. Эта последняя сторона не подлежит никакому математическому расчету: она выражает непосредственно и своеобразно качество и достоинство нашего душевного настроения. В одностороннем стремлении к знанию мы часто забы ваем, что всякое понятие входит в нашу душу как ее внутреннее состояние, и оцениваем наши понятия только по тому, в какой мере они служат для нас образами вещей. Но древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь представляется чем‑то более драгоценным, чем его знание. А эта особенная, своеобразная, не поддающаяся математическим определениям жизнь духа имеет самое близкое отношение к сердцу человека. В нем отражаются приметным образом те тонкие, неуловимые движения и состояния нашей души, о коих мы не можем образовать никакого ясного представления. Нам никогда не удастся перевести в отчетливое знание те движения радости и скорби, страха и надежды, те ощущения добра и любви, которые так непосредственно изменяют биения нашего сердца. Когда мы наслаждаемся созерцанием красоты η природе или искусстве, когда нас трогают задушенные звуки музыки, когда мы удивляемся величию подвига, то все эти состояния большего или меньшего воодушевления мгновенно отражаются в нашем сердце, и притом с такою самобытностью и независимостью от нашего обычного потока душевных состояний, что человеческое искусство всегда будет жаловаться на недостаточность средств для выражения и изображения этих сердечных состояний.
Христианские аскеты часто укоряли разум за медлительность в признании того, что непосредственно и прямо известно сердцу, и нередко называли ум человеческий чувственным и телесным; и конечно, он может показаться таким, если сравнить его посредственную деятельность с теми непосредственными и внезапно возникающими откровениями истины, которые имеют место в нашем сердце. Этим, впрочем, не отрицается, что медлительное движение разума, как медленная походка, отличается определенностью и правильностью, каких недостает слишком энергическим движениям сердца. Тем не менее если свет знания должен сделаться теплотою, жизнью духа, он должен проникнуть до сердца, где бы он мог войти в целостное настроение души. Так, если истина падает нам на сердце, то она становится нашим благом, нашим внутренним сокровищем. Только за это сокровище, а не за отвлеченную мысль человек может вступать в борьбу с обстоятельствами и людьми; только для сердца возможен подвиг и самоотвержение.
Из этих замечаний мы извлекаем два положения: 1) сердце может выражать, обнаруживать и понимать совершенно своеобразно такие душевные состояния, которые по своей преимущественной духовности и жизненности не поддаются отвлеченному знанию разума; 2) понятие и отчетливое знание разума, поскольку оно делается нашим душевным состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних предметов, открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в сердце: в эту глубину оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною силою и двигателем нашей духовной жизни.
Философские системы германского идеализма развили учение о самозаконии (автономии) человеческого разума, или учение, что этот разум сам по себе, из собственных сил и средств дает или полагает законы для всей душевной деятельности. С этой точки зрения было бы необходимо согласиться, что все достоинство человека или весь духовный человек заключается в мышлении. Но закон душевных деятельностей не полагается силою ума как его изобретение, а предлежит человеку как готовый, неизменный порядок нравственно–духовной жизни человеке) и человечества. Самозаконие несвойственно разуму человеческому ни в каком смысле. Между явлениями и действиями души разум имеет значение света, которым озаряется не им положенная жизнь человеческого духа с ее законами. Душа существует не только как этот свет, но и как освещаемое им существо. Жизнь духовная зарождается прежде этого света разума — во мраке и темноте, то есть в глубинах, недоступных для нашего взора. Если из основ этой жизни возникает свет знания и разумения как последующее ее явление, то этим вполне оправдывается то воззрение, ао которому человеческий ум есть вершина, а не корень духовной жизни человека.
Но кроме неосновательного учения о самозаконии ума нередко встречается в психологии неопределенное учение о существе человеческой души. Обыкновенно психология ограничивается указанием только на общие родовые свойства души, на те душевные явления, которые общи человеческой душе со всякою другою. Челове ческая душа определяется ею как существо ощущающее, представляющее, чувствующее и желающее, и превосходство этих явлений в человеке, сравнительно с соответствующими явлениями в других чувственно–наблюдае мых существах, изъясняется из многих причин, которые, по всяком случае, не лежат в первоначальном существе человеческой души и только видоизменяют ее общий родовой характер. Между тем нужно представлять дело совершенно наоборот: человеческая душа имеет первоначальное и особенное содержание, которое обнаруживается или является, бесспорно, в общих родовых формах душевной жизни, каковы: представление, чувствование, желание и т. д. Только из этого предположения можно изъяснить, почему эти родовые формы принимают в человеке особенный и совершеннейший характер, почему в них открывается нравственная личность человека, для выражения которой тщетно мы искали бы в душе определенного, действующего по общим законам механизма, почему, наконец, в этих конечных родовых формах носится чувство и сознание бесконечного, для которого опять нет определенного и частного носителя или представителя в явлениях душевной жизни. Но мы должны сделать еще шаг далее и положить, что каждая частная человеческая душа имеет свою существенную особенность и обладает своеобразным развитием, которое выражается, в свою очередь, в общих родовых формах человеческой душевной жизни.
При исследовании явлений душевной жизни наука сообразно с своею общею методою спрашивает: по каким общим условиям и законам совершаются эти явления? Но эта плодотворная метода науки, очевидно, имеет применение только ко вторичным, производным явлениям душевной жизни. Всякая простая основа явлений, в которой еще не выступили определенные направления и формы, недоступна анализу науки, потому что этот анализ предполагает сложность и многоразличие явлений, чего нет во всякой простой основе. Если это справедливо вообще, то тем более следует согласиться, что в человеческой душе есть нечто первоначальное и простое, есть потаенный сердца человек, есть глубина сердца, которого будущие движения не могут быть рассчитаны по общим и необходимым условиям и законам душевной жизни. Для этой особеннейшей стороны человеческого духа наука не может найти общих и навсегда определенных форм, которые были бы привязаны к той или другой паре нервов и возникали бы с необходимостью по поводу их движения.
Когда мистицизм пытался указать формы, которые вполне соответствовали бы духовному содержанию человеческого сердца, то он мог только отрицать все доступные для нас формы и выражения как конечного мира, так и конечного духа. Ему казалось, что не только низшие душевные способности не соответствуют полноте и достоинству сердечной жизни, но и самый разум, поскольку он мыслит в частных формах, рождая одну мысль за другою во времени, есть слабое и неточное выражение этой жизни. Поэтому мистик мог только погружаться в темное чувство единства и бесконечности, в ту глубину сердца, где наконец погасает всякий свет сознания. Это болезненное явление мистицизма, который хочет миновать все конечные условия нашего духовного развития, который хочет стать у последней цели сразу и непосредственно, не достигая ее многотрудным и постепенным совершенствованием во времени, — есть во всяком случае замечательный факт для изъяснения душевной жизни человека. В его основании лежит истинное убеждение, что полнота духовной жизни, которую мы ощущаем в сердце, не исчерпывается теми душевными формами, которые образуются под условиями этого конечного мира, или что наше развитие не может быть замкнуто теми определенными явлениями духа, которые возникают под временными условиями. Противоположность с мистицизмом образует то психологическое воззрение, которое надеется перечислить и определить все явления душевной жизни как конечные и раз навсегда данные ее формы, так что ни в них, ни под ними нельзя уже найти жизни своеобразной, простой, непосредственной, которая бы проторгалась неожиданно и нерассчитанно. Если это воззрение вообще не может указать в душе человека глубочайших основ ее личности и зачатков ее будущей жизни, то, с другой стороны, для него остаются и всегда останутся неразгаданными многие душевные явления, о которых свидетельствует опыт, каковы, например: знаменательность снов, явления предчувствия, состояния ясновидения, в особенности различные таинственные формы религиозного сознания. Истину между показанными крайностями мистицизма и эмпиризма мы имеем в библейском учении о сердце как средоточии душевной жизни человека. Сердце рождает все те формы душевной жизни, которые подлежат общим условиям и законам; итак, оно не может относиться к ним отрицательно, не может своими непосредственными порывами расторгать их. Однако же сердце не переносит раз навсегда всего своего духовного содержания в эти душевные формы; в его глубине, недоступной анализу, всегда остается источник новой жизни, новых движений и стремлений, которые переходят за пределы конечных форм души и делают ее способною для вечности. Поэтому и во временных, но особенных условиях всегда остается возможность для таких необычайных явлений, которые выступают за пределы ее обычного образа действования.
Изо всего сказанного могут быть сделаны следующие применения:
Если сердце есть такое средоточие духовной жизни человека, из которого возникают стремления, желания и помыслы непосредственно или тою стороной, которая не вытекает с математическим равенством из внешних действующих причин, го самая верная теория душевных явлений не может определить особенностей и отличий, с какими они обнаружатся в этой частной душе при известных обстоятельсшах. Отсюда мы можем заключить, что, хотя и истории природы нее было подчинено строгому механизму, не допускающему изъятия, — н истории человечества возможны события и явления, которые будут свидетельствовать о себе своим простым существованием и возможности которых нельзя ни допускать, ни отрицать на основании общих законов, известных нам из науки. Когда наука выяснит, себе настоящее значение и пределы этого положения, тогда, может быть, она сумеет поставить себя в правильное отношение к фактам религии. Доселе она рассуждала таким образом: известное историческое событие, судя по сильным свидетельствам, должно бы быть признано действительным, но явление его противоречит общим законам, следовательно, нельзя принимать его за действительность. Мы противопоставляем этому рассуждению следующий порядок мыслей. В первоначальной сущности человека (сердце) заключается источник для таких явлений, которые запечатлены особенностями, не вытекающими ни из какого общего понятия или закона. По общим законам душевной жизни мы можем обсуждать только ежедневные, обыкновенные, условленные обычным течением вещей явления человеческого духа, потому что эти законы сами сняты или отвлечены от этих обычных или одинаковых явлений. Поэтому там, где мы встречаем явления, выступающие из этого обыкновенного ряда, мы должны исследовать первее всего их простую действительность, не заслоняя ее общими законами, потому что еще никто не доказал, чтобы душа повиновалась этим общим законам с механическою необходимостью, как мертвая и недеятельная масса. Притом если нельзя допустить, чтобы здесь, как в области физики, действия и противодействия были равны, то, с другой стороны, необыкновенные события, как доказывает опыт, всегда происходили среди каких‑либо особенных обстоятельств.
) Положим, что все наблюдаемые нами события будут по своей сущности таковы, что мы можем как бы становиться за ними и подсматривать те причины, которые произвели их; потом также можем поставить себя за этими причинами и наблюдать условия и причины произведения их, и так при всяком наблюдаемом случае. Действительно, материальные вещи обладают этим подлинным и решительным качеством конечного. Но очевидно, что если бы все существующее имело такую производную и слагаемую из сторонних причин сущность, то человеку не пришло бы и на мысль говорить о причине безусловной. Если, однако же, человечество единогласно завершает все свои изъяснения признанием безусловного первоначала, то это метафизическое сознание наиболее оправдывается натурою человеческого сердца, за которую мы уже не можем стать, чтобы подсматривать еще другие, слагающие ее причины и которая поэтому обладает всею непосредственностью бытия, полагаемого Богом.
) Еще решительнее выступает значение сердца в области нравственной деятельности, потому что мы различно судим о человеческих поступках смотря по тому, определяются ли они внешними обстоятельствами и соответствующими соображениями или же возникают из непосредственных и свободных движений сердца. Только последним, по–настоящему, мы можем приписать нравственное достоинство. Христианское учение говорит нам, что любовь есть источник всех истинно нравственных поступков. Это положение, стоящее в ясной причинной связи с библейским учением о сердце, оправдывается из начал нравственной философии, так точно, как само‑то учение о сердце нашло хорошие основания в психологии.
Вместо этого верховного начала любви некоторые новейшие моралисты предлагают нам другое: «уважай себя или свою личность» и думают в этом правиле открыть основание нравственно–добрых поступков человека. Нам кажется, что из этого правила также. могут происходить или не происходить нравственные поступки, как и из правил, аналитически вытекающих из него, каковы: корми себя, сохраняй, согревай свое тело, упражняй свою память, развивай свой ум, свои музыкальные таланты и т. д. Более значения имеет принятое в нравственной философии понятие нравственного закола и учение о долге. Но закон, по которому совершается нравственная деятельность, не есть уже поэтому нрнчн на этой деятельности, как, например, закон падения тел не есть причина их падения. Итак, с рационалистической точки зрения всегда останется неизъяснимым, п куда, из какого источника происходят те дела, которые оказываются сообразными с нравственным законом как с предписанием разума. Всякое нравственное предписание разума, всякое его наставление о том, что я пои жен делать, открывает мне перспективу дел еще только ожидаемых, пока еще по осуществленных: «мщу ли я совершить эти дела, имею ли я нравственные силы как источники этих дел» — это совершенно другой пои рос, о котором нравственное законодательство разума ничего не скажет. Точно, ум может предписывать, повелевать, но только тогда, когда он имеет перед собою не мертвый труп, а живого и воодушевленного человека и когда его предписания и повеления сняты с натуры этого человека, а не навязываются ей как что‑то чуждое, не сродное: потому что ни одно существо на свете не приходит к не приходит к законообразной деятельности из побуждений посторонних для него Ум, как говорили древнии», есть правительственна» или владычественная часть души, и мистицизм, который погружается в непосредственные влечения сердца, не переводя их в отвлеченные, спокойные и твердые идеи или начала ума, противоречит свойствам человеческого духа. Но правительственная и владычественная сила не есть сила рождательная; она есть правило, простирающееся на такое содержание нравственного мира, которое рождается из глубочайше го существа духа и в своем непосредственном виде или в первом и основном явлении есть любовь.
II
В приведенной статье Юркевич высказывает и развивает свои основные воззрения, и, как легко виден., в этих воззрениях открываются не только его теоретические убеждения, но и весь духовный характер. В еле дующей статье «Из науки о человеческом духе»1 Юркевичу приходится защищать эти свои воззрения против господствующих тогда и теперь еще не совсем потеряв их силу над неразвитыми умами теорий материализма. Конечно, Юркевичу не стоило никакого труда доказать философскую несостоятельность этих теорий, и он доказал ее ясно как день для всякого способного понимать. Я приведу те места статьи, где автор по поводу материализма высказывает свои собственные воззрения.
Обыкновенно материализм восстает против того дуализма, который признает в человеке две отдельные природы, духовную и телесную; но в этом отрицании дуализма, вообще справедливом, высказывается у материалистов крайняя неясность основных философских понятий. Когда греческий философ Платон учил, что тело человека создано из вечной материи, не имеющей ничего общего с духом, то он этим допускал дуализм метафизический как в составе мира вообще, так и в составе человека. Христианское миросозерцание устранило этот метафизический дуализм: материю признает оно произведением духа; следовательно, она должна носить на себе знаки духовного начала, из которого произошла. В явлениях материальных вы видите форму, закономерность, присутствие цели и идеи. Если человеческий дух развивается в материальном теле, если его совершенствование связано с состояниями телесных возрастов, то эта связь не есть внешняя, она определяется смыслом человеческой жизни, ее назначением или идеей. Изучите хорошо телесный организм человека, и вы можете отгадать, какие формы внутренней духовной жизни соответствуют ему; изучите хорошо эту внутреннюю жизнь, и вы можете отгадать, какой телесный организм соответствует ей. Но после устранения дуализма метафизического остается еще дуализм гносеологический, дуализм знания. Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого организма, всегда мы будем познавать человеческое существо двояко: знешними чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления. Кажется ясно, что мысль, как мысль, не имеет ни пространственного протяжения, ни пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни тяжести, ни температуры; итак, физиолог не может наблюдать ее ни одним из своих телесных чувств. Только внутренне, только в непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся Пусть он наблюдает самые сложные Движения нервов: все же эти движения, пока они существуют для внешнего опыта, то есть пока они суть пространственные движения, происходящие между материальными элементами, не превратятся в ощущение, представление и мысль. Итак, если говорят, что движение нерва превращается в ощущение и т. д., то здесь всегда обходят того деятеля, который обладает этою чудною превращающею силою или который имеет способность и свойство рождать в себе ощущение по поводу движения нерва; а само это движение, понятно, не имеет в себе ни возможности, ни потребности быть чем‑либо другим, кроме движения. Психология требует признать только это феноменальное или гносеологическое различие, по которому ее предмет, как данный во внутреннем опыте, не имеет ничего сходного и общего с предметами внешнего наблюдения. Всякий дальнейший вопрос о сущности этого явления, вопросы о том, не сходятся ли разности материальных и душевных явлений в высшем единстве и не суть ли они простое последствие нашего ограниченного познания. — поскольку оно не постигает подлинной, однородной, тождественной с собою сущности вещей, — все эти вопросы принадлежат метафизике и равно не могут быть разрешены никакою частного наукой, изучающею явления. Когда говорят о явлении, то это слово или не имеет смысла, или оно означает, что предметное событие видоизменилось формами ощущающего и понимающего субъекта. Кто, например, изъясняет представление и мышление из нервного процесса, тот или не понимает, что значит явление, или же признает нервы и их движения вещью в себе, бытием метафизическим, сверхчувственным: потому что в противном случае он согласился бы, что нервный процесс сам есть лишь феномен, то есть что его способ явления уже условлен формою представления, которое еще только хотят произвести из него. Если же материализм утверждает, что и данные внутреннего опыта имеют только феноменальное значение, то есть что наши внутренние состояния представляются духовными только в субъективном нашем понимании, а сами в себе суть явления органической жизни, то па это должно возразить, что так как сами эти явления органической телесной жизни не существуют для нас вне форм видящего их и понимающего субъекта, то где же тот другой субъект, в воззрении и понимании которого самые формы видящего и понимающего субъекта становятся субъактивными? Если явления возможны только для другого, то где этот другой в области самонаблюдения и самовоззрения?
С другой стороны, если несомненно, что для того, чтобы волнообразное движение воздуха превратилось в звук, вибрация эфира — в сеет, нужно ощущающее существо, в котором, собственно, совершается это превращение количественных движений в качества звука и света, то на тех же самых основаниях должно признать, что все качества предмета существуют и не в самом предмете как вещи в себе, а в отношениях предмета к ощущающему субъекту. Явление потому и есть явление, что оно обусловлено формами воззрения и представления познающего духа, а потому крайне нелепо изъяснять качества этого духа из внешних явлений, которые сами, поскольку они суть явления, условлены этими качествами и должны быть изъясняемы из первоначальных форм ощущающего и представляющего духа. Понятно, что паши пять чувств вовсе не суть такое безусловное откровение, которое давало бы нам ощущать и представлять все существующие в мире силы, деятельности и события. Но для правильной оценки сил и средств нашего духа нужно сделать и обратное предположение. Именно, очень возможно, что наше чувственно–духовное существо имеет органы или способности знания, которые не проявляются только потому, что внешняя природа не может подействовать на них надлежащим образом. В том и в другом случае мир явлений неизъясним из самого себя; для его изъяснения нужно брать в расчет ощущающий, представляющий и познающий дух как одно из первоначальных условий, почему вещи являются такими, а не другими. Когда вы говорите о материи самой в себе, то вы делаете пустое отвлечение, существующее только в вашей мысли. Уже древние философы приходили к убеждению, что такая чистая материя, отрешенная от идеальных определений, которых содержание мы знаем только из глубины нашего духа, есть ничто, небытие (μή όν). Точно так же, с другой стороны, тот факт, что царство одушевленных существ простирается далее царства человеческого, служил для философии во все времена основанием учения, что вообще в мире нет голой материальности, что в нем все воодушевлено, способно не только быть, но и наслаждаться бытием, что всякая величина экстенсивная есть вместе и интенсивная, открывающаяся в порывах и стремлениях. Если же материализм пользуется этим для того, чтобы снять границу между животным миром и человеком, то он не объясняет то существенное разли чие, что животные несомненно обладают лишь эмпирическим сознанием, человек же никогда эмпирическим сознанием не ограничивается, а имеет и постоянно проявляет способность относиться критически к своему собственному эмпирическому состоянию, измерять то, что есть, тем, что должно быть, — имеет способность жить и развиваться под идеею.
Покончив с материализмом в области логики и психологии, наш автор переходит к нравственной философии. Материализм справедливо восстает против морали формалистического ригоризма, которая требует, чтобы мы исполняли общие безусловные законы долга безучастно, не испытывая радости и наслаждения от нравственной деятельности. Справедливо, что такая нравственность несообразна с существом человека: удовольствие, удовлетворение, следовательно, благо, счастие или, пожалуй, польза суть неотделимые мотивы человеческих поступков. Наше я всегда будет там, где есть наша, все равно нравственная или безнравственная, деятельность; наша живая душа всегда будет испытывать определенные приятные или неприятные ощущения, все равно будем ли мы делать добро или зло, преследовать цели личные или действовать для счастия других; безнравственный эгоизм не в том состоит, что мы включаем себя и наше счастье в нашу деятельность, но в том, что мы выключаем из этой деятельности других людей и их счастье.
Но не более справедлива противоположная формалистическому ригоризму нравственная система утилитаризма. Полезно то, что удовлетворяет нашим потребностям, но каковы эти потребности и каковы поэтому предметы, способные удовлетворить им, это мы определяем уже ке из идеи пользы, а наоборот, идея пользы изменяется с изменением наших потребностей и понятий о нашем достоинстве и цели нашего существования. Человек, как и животное, начинает свое существование в патологическом мире непосредственных желаний приятного как такого, ради его непосредственного качества. Но ни дикий, ни образованный человек не остается в этом патологическом мире, он выходит из него в мир действительный и вступает в область истинно–сущего; развитие свое он поставляет в зависимость от идеи, какую он образовал о своем назначении и достоинстве вещей. Вследствие психического отношения между мыслями и идеальными чувствованиями, которые происходят из них, человек ощущает потребность или влечение выражать в овоих действиях истину, воплощать теоретически истинное в нравственно–добром, Если человек хотел бы действовать согласно не только с общим благом разумных существ, но и со смыслом всего существующего, то это желание безусловного нравственного совершенства происходит из тех идеальных аффектов, которые рождаются из наших теоретических мыслей о мире, его основе и его назначении.
В связи с изложенною статьею находятся четыре статьи под заглавием: «Язык физиологов и психологов», помещенные в «Русском вестнике» за 1862 г. В них по поводу вышедшей тогда на русском языке «Физиологии» Льюиса Юркевич более частным образом развивает то, что было высказано им в первой статье против материализма. Но времени этим статьям предшествует ряд критических очерков под заглавием: «Критико–философские отрывки», где автор преимущественно рассматривает отношение философских систем, особенно Канта, к основному богословскому учению о бытии Божием. К сожалению, эти очерки, замечательные (в особенности что касается до Канта) редкою критическою проницательностью, не могут быть здесь изложены вследствие их объема.
Наиболее значения имеет последний философский труд Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». Привожу его основные мысли.
Два и только два основных убеждения возможны для духа, поскольку он открывает свою деятельность в познании. Одно из них состоит в том, что ему как духу вообще присущи начала, делающие возможным познание самой истины; другое в том, что ему как духу человеческому, связанному с общим типом человеческой телесной организации, присущи начала, делающие возможным только приобретение общегодных сведений. Вне этих убеждений остается поле для скептицизма, который, разрушая знание, должен, чтобы быть в согласии «Труды Киевской духовной академии» за 1861 г. с января по май. Первые два отрывка обозначены: «По поводу статей богословского содержания в „Философском лексиконе"», а следующие три — «Доказательства бытия Божия».
с собою, сомневаться и в том, что он разрушает знание, и таким образом безвыходно вращаться в недомыслимом круге, отрицая свои собственные положения.
Первый взгляд, находящий возможным знание истины, развит в образцовом для всех времен совершенстве Платоном в его учении о разуме и идеях; второй, допускающий только знание общегодное, развит Кантом в его учении об опыте. Вот их соответствующие положения:
Платон. Только невидимая сверхчувственная сущность вещи познаваема.
Кант. Только видимое чувственное явление познаваемо.
Платон. Поле опыта есть область теней и грез: только стремление разума в мир сверхчувственный есть стремление к свету знания.
Кант. Мир сверхчувственный есть область теней и грез: только в области опыта возможно знание.
Платон. Настоящее познание мы имеем, когда движемся от идей чрез идеи к идеям.
Кант. Настоящее познание мы имеем, когда движемся от воззрений чрез воззрения к воззрениям.
Платон. Познание существа человеческого духа, его бессмертия и высшего назначения заслуживает по преимуществу названия науки.
Кант. Это но наука, а формальная дисциплина, предостерегающая от бесплодных попыток утверждать что‑либо о существе души.
Вообще, если для Платона познание истины возможно для чистого разума, то для Канта оно невозможно ни для чистого разума, ни для разума, обогащенного опытами: в последнем случае познание хотя возможно, но это будет не познание истины, а только познание общегодное. Наука имеет все условия для того, чтобы сообщать нам общегодные сведения, и ни одного условия для познания истины. И однако же никогда философия не одерживала таких блестящих побед над реализмом общего смысла и наук положительных, какие одержала она в критике чистого разума. Никогда с такою убеждающею очевидностью не изобличала она всей неосновательности предрассудка общего смысла, будто где‑то вне нас существуют чувственные предметы, совершенно готовые, размещенные в пространстве и изменяющиеся во времени, имеющие фигуру и краски, жесткие и мягкие, пахучие и звучащие, и будто все эти внешние предмоты с своими качествами, как только мы откроем для них наши чувства, повторяются, как в зеркале, в обра-;κιχ нашего сознания. Опыт, на который мы так доверчиво полагаемся, оправдывая наши мысли посредством сравнения их с самими вещами, будто независимыми от наших мыслей, не есть источник познания, лежащий вне познающего субъекта. «Опьп есть первый продукт, который производится нашим разумом, как только разум перерабатывает сырой материал ощущений». Опыт с его мнимыми вещами сам произошел в мастерской человеческого разума. Единственные данные элементы в нашем познании суть ощущения, которые не существуют нигде, кроме определений внутреннего чувства, будучи лишь видоизменениями этого чувства, обусловленные нашим способом замечать их одно после другого в форме времени. Таким образом, наши познавательные способности, не имея ничего вперед данного и существующего, должны из себя произвести образы вещей, называемых данными опыта. Это удивительное учение примиряет Платона с Протагором и Лейбница с Давидом Юмом, и оно‑то составляет душу нашей науки и нашей культуры. Оно соответствует той социальной теории, ко торая надеется основать общественный быт и благо народов не на вечных законах правды, но на всеобщем личном согласии граждан.
Показав истинность идеалистических положений Канта, автор на основании мастерской критики, которая здесь не может быть приведена, признает совершенно неосновательным скептическое воззрение Канта. В противоположность этому воззрению сн излагает свои собственные взгляды, примыкая их к учению Платона. Я передам основные черты этих взглядов.
Реализм во всех своих видах надеется познать сущность вещи, отделяя от нее все ее положения в системе вещей и отличая самую вещь с ее первобытными, ничем более не определенными свойствами от всех таких положений. Идеализм, отрицая самую возможность таких первобытных вещей, изъясняет, напротив, всю их сущность из того разумного положения, какое имеет каждая вещь в системе мира. Это разумное положение определяется степенью участия вещи в идее, следовательно, тем местом, какое вещь занимает как один из членов Деления общего понятия. В спекулятивной методе предполагается внутреннее развитие понятия до тех форм, которые даны на вещах или в вещах и которых фактическое существование будет, таким образом, превращено в разумное или то, что есть, будет изъяснено из того, что должно быть по требованию идеи. Но если таким образом весь дух истинной философской методы состоит в убеждении, что действительное определяется мыслимым, то это не имеет ничего общего с тем странным учением, что идея сама себя осуществляет, что она есть свой собственный исполнитель в мире явлений, — учением, которое так много повредило новейшему идеализму. Должно различать идею как причину от тех деятелей, без которых эта идеальная причина не может быть причиною. Вечная истина не есть сила, она есть истина, и этим исчерпывается все ее бытие: essentia ejus involvit ejus existentiam. Она осуществляется в потоке вещей действием той поли, которая полагает этот мир как исполнительную власть но отношению к идее как власти законодательной.
Если идеям должно быть приписано истинное бытие, то далеко не в том смысле, ε каком мы приписываем бытие живым существам или субъектам. Только в реализме, который все содержание наших мыслей и опытов, все живое многообразие существ и отношений пригоняет к простому и бедному бытию безразличных атомов, — только в реализме категория бытия есть столь простая и косная, что с нею вообще нельзя ничего предпринять. Поистине же бытие есть положение, принимающее различный смысл смотря по содержанию, о котором мы говорим, что оно есть. Хотя справедливо, что идеи суть общее и что, следовательно, бытие постоянное и неизменяемое принадлежит общему, однако отсюда не следует мысль новейшего идеализма, что общее есть то, что суть собственно вещи. Общее, идея, истина есть вечное, не произведенное субъектом содержание разума. Бытие же способных к действию и страданию живых существ есть такое безусловное положение, которое не исчерпывается их познаваемостью. Царство идей, образцов или вечной истины, далее, царство существ разумных, призванных познавать эту истину и питаться ею, и, наконец, призрачное существование всего телесного— или мыслимое, сущее и явление, — таковы три сферы истинной философии. Идеи имеют то существенное значение, что космос, который есть Сын Божий по Платону, должен исполнить всякую правду, лежащую в идеях, чтобы наслаждаться совершеннейшим существованием. Так как идеи суть система общих мыслимых оснований, то мы из них никогда диалектическим путем не выведем особенной индивидуальной жизненности существ, никогда не выведем мира того совершенно–сущего, которому принадлежит жизнь, движение, душа и разум. Хотя существование его возможно только на общих идеальных основаниях, однако его действительность не обнимается логическою идеею сущности, потому что духовное начало, полагающее эту действительность, не есть сущность, а оверхсущественное. Как в естествознании, так и в философии не могут быть выведены, но должны быть найдены те основные факты, которые и суть таковы именно потому, что в них есть нечто несводимое на идеи разума. Если бы система идей была вполне для нас прозрачна, то тем не менее индивидуальное бытие живых и разумных существ представлялось бы нам как непонятная судьба, и содержащееся в идеях откровение о том, что есть, оставляло бы нас в полном неведении относительно того, кто есть. Только в непосредственном, внутреннем сознании через действительность нашего собственного духа открывается нам тот сверхсущсственный дух, который то, что может быть (идея), переводит в то, что есть (действительность), посредством того, что должно быть (тЬ αγαθόν).
Изложение философских воззрений Юркевича было бы неполно, если бы мы не упомянули о тех особенных исторических, фактических основаниях, которые он искал и находил для некоторых из существеннейших своих убеждений. В самом деле, раз миросозерцание, как это было у Юркевича, не ограничивается одною чисто теоретическою сферою, выходит из области логических возможностей и вступает в мир действительности, оно должно и основания себе брать не в одной философской мысли, а в фактах действительности. Так, если основные метафизические воззрения Юркевича находили себе твердую опору в исторической действительности религии и, разумеется, преимущественно христианства, то более частные его воззрения на природу и назначение человеческого духа, вполне согласные в существе с тем же христианским учением, получали, по его мнению, ближайшее фактическое подтверждение в некоторых особенных явлениях, возникших в последнее время. Я разумею явления так называемого спиритизма, в достоверности которых Юркевич был убежден и от которых многого ожидал в будущем. На этих явлениях в глазах большинства лежит некоторый особенный odium, отчасти оправдываемый тем, что в сфере этих явлений открывается немалый простор шарлатанству и обману, а также и тем, что к фактам часто привязываются учения столь же пошлые и неосновательные по своему содержанию, сколько притязательные и наглые По своей форме. Юркевич признавал это вполне и объяснял из свойств той среды, в которой возникли явления в его глазах неблагоприятная внешность спиритизма не могла заслонять сущности самого факта. Сущность же факта, если бы он оказался достоверным, состоит в том, что простым, для всех убедительным образом ad oculos доказывается истинность христианского учения о человеческом духе как об индивидуальном существе, имеющем собственную, внутреннюю действительность, не подлежащем всецело силе внешних вещественных условий и потому после видимой смерти продола жяющем бесконечно свое развитие в иных условиях и формах. Было ли убеждение Юркевича в достоверности спиритических явлений заблуждением и самообольщением, весьма, впрочем, понятным, или же эти явление действительно имеют объективную убедительность, — покажет будущее.,.
Г. Г. Шпет. Философское наследие П. Д. Юркевича
(К сорокалетию со дня смерти)
Сорок лет тому назад, 4–го октября 1874 года, скончался один из интереснейших русских мыслителей, Пам–фил Данилович Юркевич, профессор Московского университета. «Юркевич, — свидетельствует Вл. Соловьев, бывший его слушателем, — был глубокий мыслитель, превосходный знаток истории философии, особенно древней, и весьма дельный профессор, читавший чрезвычайно интересные для понимающих и содержательные лекции». И тем не менее Соловьев констатирует, что «Юркевича недостаточно знали и ценили при жизни»2… Найти объяснение этому не трудно, если сопоставить слова Соловьева, что Юркевич читал лекции интересные «для понимающих», с тем, что литературная и педагогическая деятельность Юркевича целиком приходится на 60–е годы. В особенности роковую роль для Юркевича сыграли статьи писателя, — которого мы не назовем из уважения к его имени, — опиравшегося в своей полемике против Юркевича прежде всего на незнание и непонимание читателей. Имя Юркевича стало популярно, а его идеи были так же мало известны, как и теперь…
Простой справедливостью я считаю теперь, в день 40–й годовщины со дня смерти Юркевича, совпавшей с моментом бранного восстановления наших национальных ценностей, вспомнить о том, кто энергично защищал ту самую идею, которая так осмысливает современное столкновение народов и которая, хочется верить, также составляет нашу национальную ценность: «Мир с ближними как условие христианского общежития».
Во всем последующем изложении я не буду касаться только что названного полемического столкновения — памяти человека, проповедовавшего «мир с ближними», подобает и воздание чести в духе этой идеи. Но есть н другое основание, которое побуждает меня обойти тот вопрос молчанием. Поединок, о котором идет речь, велся не равным оружием: на стороне Юркевича было мание, тонкое понимание, самостоятельная мысль, и боролся он за Истину не преходящую, а стоящую над ременем. Если всего этого не было у его противников, То неужели нужно признать, что победили невежество, Непонимание, подражание и интересы момента? Ответить На этот вопрос — значило бы судить тех, кто признал побежденным Юркевича. Это не должно быть задачей коего изложения.
Но один вопрос я считаю вполне допустимым, поскольку он касается самого Юркевича, и я даже начну с него. Пусть Юркевич знал и понимал то, что он отстаивал, но достаточно ли он понимал желания и нужды тех, перед кем ему пришлось говорить, достаточно ли он понимал тот момент, в который ему пришлось жить и учить? И я думаю, что на этот вопрос нужно дать утвердительный ответ, иначе пришлось бы признать, что Юркевич действовал несознательно, а это было бы по отношению к нему несправедливо. Юркевич знал, понимал и отдавал должное своему времени, но он был философом, я потому видел еще дальше… Он видел дальше, понимал больше, и потому он не все прощал.
В эпоху совершенно отрицательного отношения к философии Юркевич выступил горячим сторонником ее самой и свободы философского духа. Во имя этой свободы он умел находить н у своих противников положительные и ценные стороны, но требовал такого же призвания свободы и для себя. Он ясно видел и понимал смысл совершавшегося перед его глазами исторического момента, сознавал его значение для всего философского развития, видел, в каком направлении должна идти философия дальше, но не мог примириться с теми приемами «инквизиции» и результатами нетерпимости, которые ограничивали защищаемую им свободу.
Юркевич — сам «реалист» в полном философском смысле этого термина и «эмпирист» также в самом глубоком значении этого слова — выступал против «современного философского реализма» и «этой философии опыта.», которую провозгласил тогда материализм. Он хорошо понимал философскую цену материализма, но тем не менее охотно признавал то положительное, что империалистическое настроение его времени могло внести в науку и философию. Он ценил повышенный интерес к естествознанию и науке, ценил внесение приемов эмпирического исследования в изучение психологии и наук о духе, ценил стремление современных ему течений к точности анализа, но протестовал против узости и односторонности выводов, к каким приходил материализму против игнорирования других методов и прислав, против сознательного нигилизма по отношению к философской традиции; наконец, он просто негодовал на. насилия и запрещения, которыми преследовалась мысль, несогласная с преобладающими вкусами.
Юркевич хорошо понимал, чго смысл того затруднительного положения, в которое философия попала в середине XIX века, лежал в конфликте, возникшем между нею и специальным научным знанием. Но он также прекрасно видел, что этот конфликт есть исторически несб ходимый момент в развитии самой философии и что, следовательно, он должен кончиться не уничтожением философии как особого рода знания, а должен вывести на новый путь ее, обогащенную опытом и с более сознательным отношением к своим проблемам.
По мере того, констатирует он как положительные науки открывают новые факты и новые отношения, о которых непосредственное человеческое сознание, не имело представления, к философии предъявляются такие сложные и тяжелые требования, которых прежние. величественные системы идеализма удовлетворить не могут. Каждый новый факт естествознания или истории имеет такую сторону, которая приемами и принципами одной физики не может быть объяснена, в нем всегда заключается некоторый «остаток бытия», который ждет своей метафизики. Таким образом, само развитие специального научного знания усложняет и затрудняет разрешение задач философии, предъявляя к ней новые требования. Но в этом же факте мы можем найти объяснение и. тем переменам, каким подверглась философия XIX века, равно как и определить задачи последнего исторического момента. Быстрая смена философских систем XVIH и XIX веков зависела именно от количества новых фактов, поразивших сознание человека, и в этом смысле каждая из них только отражает свое время. Философские системы идеализма уже не удовлетворяют нас, по тому что мы живем в другом мире, имеем дело с другими явлениями, другими фактами и ищем других идей «Философия наших дней, —говорит Юркевич, — подобным же образом выражает наше время с его практическими рассчитанными стремлениями, с его здравым Смыслом, который идет вперед, оглядываясь й благоразумно обозревая все пути, чтобы не оставить прочной почвы действительности».
Историческое понимание философской системы, однако, не исключает ее философской безотносительной оценки, и, как мы увидим еще, приведенные соображения не могли помешать Юркевичу оценивать философские системы также со стороны их внеисторического достоинства. Объясняя исторически смысл философской эволюции, он вовсе не думал, что «последнее» слово философии есть вместе с тем и самое истинное. Он не случайно подчеркивает, что в исторических сменах фи лософских учений каждый раз речь идет только о другом мире. Напротив, именно несоответствие между без относительным, идеальным достоинством философии и ее временным состоянием он считал характерным моментом той эпохи, в которую ему самому пришлось действовать.
Идеализм не удовлетворял его времени, не удовлетворял «научности», но в нем были непреходящие достоинства: Неподдельное воодушевление к лучшим идеалам человеческого духа, героизм мысли и чувства, а это всегда Должно влечь к нему «умы и сердца, способные сочувствовать всему высокому и прекрасному». Контраст между исключительным подъемом философского духа в идеализме и философией, современной Юркевичу, стремящейся идти в уровень с специальным научным развитием, кажется ему одной из причин, которыми вызывались жалобы на упадок философского творчества В: особенности материализм и его широкое распространение побуждали многих говорить об упадке философии Юркевич, подвергавший вообще материализм жестокой критике, умеет все‑таки найти для него историческое оправдание и Тем самым способствует лучшему уразумению смысла всей рассматриваемой эпохи в философии. Действительно, в чем же смысл этого материализма? Подлинно ли он есть признак упадка и подлинно ли он всецело выражает дух этой эпохи?""
Одни считают, что диалектика Гегеля, превратившись в искусство Горгия, вызывает в яйце материализма естественное противодействие; другие винят идеалистическую философию (в односторонности и надеются восстановить значение философии, обосновав ее на достоверных опытах; иные видят ее слабость не в отсутствии опытных оснований, добыть которые легко, но которые не могут определить философских воззрений, а в непонимании метафизических предпосылок опыта; наконец, большинство видит причину зла в непонимании Канта, и его философских тенденций. Но само уже это раэнооб разие мнений свидетельствует о богатстве и жизненности философского развития, которое не удовлетворяется ни одной исторической формой философии, и оно гарантирует нам, что при всем отрицательном и критическом настроении эпохи она все же не лишает человека почвы, которая при свободном развитии специфицирующихся форм жизни всегда остается в каких‑нибудь местах или сторонах нетронутой. Поэтому если «скептицизм и материализм, — говорит Юркевич, — суть бесспорные явления нашей эпохи, то все же было бы поспешно заключать, что в них, в этих отрицательных явлениях, выражается душа и сердце всей нашей цивилизации:».
Тонкое понимание современности, на наш взгляд, сказалось у Юркевича в том, что он, говоря в защиту этой цивилизации, нашел положительное и в самом материализме. Как при идеалистическом настроении общества возникает склонность к мифологии, к вере в привидения и к фантастическим построениям, так — думает он — и материализм его. времени может рассматриваться как побочный продукт реалистического настроения. «Мы так много обязаны мертвому механизму природы, в области которого деятели и двигатели оказываются тем совершеннее, чем они пассивнее, что фантазия невольно рисует образ простой, пассивной материальности как чего‑то основного, лежащего на самом дне явлений; она хотела бы все движения гак называемой жизни изъяснить так же просто и удобно из механических отношений материальных частей, как изъясняет она движения паровой машины. Чарующая мысль, что в случае успеха этих изъяснений мы могли бы так же просто управлять судьбами своими и других людей, как ныне управляем движением машин, служит едва ли не самым задушевным побуждением к материалистическим воззрениям».
Таким образом, обнаруживаются те философские мотивы, которыми определяется материализм XIX века, это — ненасытимая жажда знания, стремление сделать все бытие прозрачным, стремление всю действительность разложить, вывести, рассчитать и предопределить будущее с математической точностью. «Материализм настоящего времени, — говорит Юркевич, — решает под другими формами ту самую задачу знания, под тяжестью которой пал абсолютный идеализм». Он хочет убедить человечество, что знанию все доступно, все прозрачно, нет ничего непроницаемого, что нужно было бы из светлой: области знания отнести в темную область чувствований, поэтических чаяний и религиозного вдохновения. Он не останавливает порывы метафизики, а хочет обогнать ее и идти дальше; в метафизике он видит только успокаивающие мечты, которые нужно разогнать, чтобы идти дальше и дальше, не останавливаясь ни на одном явлении как на простом и неразложимом.
В этом виде материализм выражает характер и направление всей эпохи, стремящейся все осветить светом знания, все, что было дорого своей непосредственностью, вывести, объяснить и в самом развитии духовной жизни опереться на знание, исключая из него непосредственные духовные инстинкты и безотчетные, хотя и прекрасные требования сердца. Поэтический ум или религиозный дух может жаловаться на прозаическую и рассудочную жизнь и на философию, по которой мир слишком сух и бледен, слишком «рассеивающийся», чтобы его познание могло решить задачи и удовлетворить нужды человеческого духа, ищущего сосредоточенности и жизни. Но как ни ограничен вследствие этого материализм, как ни неспособен он удовлетворять всесторонним требованиям человеческого духа, он не может служить признаком упадка мышления и интеллектуального развития.
Детальную оценку материализма с этой точки зрения современных Юркевичу философских тенденций мы встретим ниже. Приведенные его мысли должны свидетельствовать только, насколько сознательно он относился к материализму как историческому моменту в развитии свободной мысли и насколько глубоко он понимал смысл своей эпохи. Здесь перед нами Юркевич выступает главным образом как историк. Но и к историческим явлениям возможно другое отношение, а для философа оно даже обязательно: рассматриваемое явление должно подвергаться также принципиальной оценке, с точки зрения его подлинного философского смысла, в его сущности.
Миросозерцание, говорит Юркевич, «должно пробег жать в истории все степени развития» какие вообще лежат в существе его, чтобы таким образом высказать все: свое право или неправо». Три исторических момента: расцвета материализма Юркевич характеризует как три обнаружения такого существа. В древности материализм, балл мировоззрением человека, нуждавшегося в успокоении, уставшего в исторической борьбе за свои интересен и много в ней потерявшего; он не призывал мысль и волю человека к деятельности, а, напротив, парализовал ее, погружал его дух в состояние покоя, сонной не возмутимости и апатии; теория атомов без математической и механической обработки оставалась бесплодна и потому имела значение преимущественно нравственное; он хотел успокоить сердце человека, показывая, как мир равнодушен к его собственным тревогам и судьбе. И это вело, действительно, к падению философии, потому что при общем слитном и едином мировоззрении древних отрицание и скептицизм вырывали у человека всякую почну из‑под ног. Философия XVIII века в этом смысле, при специфицирующемся развитии жизни, оставляла почву в ее частных формах и, невзирая на отрицание, вела к защите некоторых незыблемых начал в самом человеке. Поэтому и материализм XVIII века · отрешает от всех преданий и авторитетов, но тем сильнее толкает человека на борьбу за новые интересы. Материализм нового времени, как мы видели, хочет «обогнать» самое метафизику, но в то же время он хочет стать наукой; он взял за образец себе законы механики и делает из них правила логики; научное достоинство их до такой степени бесспорно, что с этой формальной стороны он уже достиг своего предельного момента и едва ли может развиваться еще дальше. И. это опять‑таки находится в соответствии с духом и существом новой философии.
Но если таков принципиальный смысл материализма, го позволительно спросить себя, каково должно быть к нему отношение не того или иного момента в развитии философской мысли, не новой или новейшей философии, а философии самой, подлинной, истинной, стоящей над временем и историей? Конечно, ответ на этот вопрос предполагает выяснение смысла и задач этой последней. Такой ответ предполагает не столько критику, сколько утверждение, самих принципиальных основ философии. Вот почему и Юркевич ограничивался Оценкой материализма только с точки зрения «новой философии», чтобы затем подвергнуть оценке ее самое й пёрёйти к положительной философии уже с творческими заданиями.
Но прежде чем перейти к его оценке материализма и «го положительной философии, мы хотели бы закон чить высказанную в начале мысль, что Юркевич не только понимал современный ему исторический момент но именно поэтому он не все в нем прощал.
Материализм, и именно новый, дал повод вписать печальную страницу в историю философии и свободной мысли вообще. Инквизиция церкви и цензура государствва были постоянными врагами философии и всякой свободной мысли, но они были врагами «внешними» и преследовали философию открыто. Материализм вошел в нее изнутри и наносил ей удар тем же оружием инквизиции общественного мнения и преследованием неблагонадежности. Юркевич на личном опыте узнал то, что писал, когда философ в нем произнес свои непрощающие слова: «Наша эпоха находится, действительно, в прямой противоположности с средневекового. Очень часто случается, что ныне во имя совершенно невинных естественных наук преследуют и пытают человека за его любовь к истинам духа, как некогда почтенные инквизиторы пытали и преследовали его во имя Христово за его любовь к истинам естествознания»…
Можно себе представить, сколько боли скрывается за этими словами, если вспомнить, что их произнес человек и философ, о котором Вл. Соловьев, знавший его лично и изучавший его учение, писал непосредственно после его смерти: «Если высотою и свободою мысли, внутренним тоном воззрений, а не числом и объемом написанных книг определяется значение настоящих мыслителей, то бесспорно почетное место между ними должно принадлежать покойному московскому профессору Памфилу Даниловичу Юркевичу. В умственном характере, его замечательным образом соединялись самостоятельность и широта взглядов с искренним признанием исторического предания, глубокое сердечное сочувствие всем существенным интересам жизни —с тонкою проницательностью критической мысли».
Материализм и метафизика
Рассмотрим ближе оценку, которой подвергался материализм у Юркевича при том понимании этого мировоззрения, которое мы у него встречаем. Материализм вообще может подлежать оценке с трех основных точек зрения: 1, с точки зрения принципов; Юркевич обращается преимущественно к принципиальной критике, ио своеобразно пользуется ею, определенно освещая ее при оценке материализма на фоне самой возможности реалистической метафизики, что вытекает, по–видимому, из его указанного уже понимания места материализма, который, по его мнению, есть «побочный продукт реалистического настроения нашей цивилизации»; 2, тогда сама собою выступает вторая точка зрения на материализм, оценка его как метафизического учения, и притом по преимуществу как метафизического учения с реалистическими тенденциями; с этой точки зрения, — связывая ее с первой, —Юркевич также дает довольно полное освещение материализма; 3, материализм подлежит оценке с точки зрения психологии как попытка внести в эту науку новый и своеобразный вид объяснения; здесь оценка Юркевича также представляет выдающийся интерес, но рассмотрение ее выходит за пределы настоящей статьи.
Итак, речь идет об отношении материализма к метафизике. Под метафизикой Юркевич понимает не какую‑нибудь определенную систему знаний, так как таковой и не существует, но он видит в метафизике систему определенных задач, своим смыслом и содержанием указывающих и на те приемы, которыми эти задачи могут быть разрешаемым материализм Юркевич ограничивает понятием атомизма, по которому атомы, как первоначальные и основные формы бытия, суть частицы материи, составляющей, таким образом, основу и сущность мира явлений; Юркевич совершенно справедливо полагает, что так наз. динамизм не может рассматриваться как существенный признак материализма, так как он свойствен и идеалистической физике, как, напр., у Шеллинга.
Легко видеть, что такая форма материализма тотчас же обнаруживает свое внутреннее противоречие, как только мы заметим, что она, с одной стороны, имеет ввиду метафизические проблемы, полагая в основу мирa некоторые отвлеченные сущности, а с другой стороны —стремится выдать себя за науку, выставляя в качестве идеала математическую физику и механику. Однако Юркевич готов в этом пункте сделать большую уступку материализму, чтобы тем ярче подчеркнуть его принципиальное заблуждение и его несоответствие задачам истинного реализма. Материализм, допускает он. мог бы стать метафизикой, сохраняя научную ценность, идти, как он выражается, мог бы стать «метафизикой 6 мучным достоинством».
Как известно, материализм сосредоточивается на одном пункте действительности, который и является для Наго точкой отправления, именно на отыскании непосредственного перехода и превращения явлений физиологических в психические. Для того чтобы разрешить указанную задачу создания научной метафизики, он должен выполнить два требования: 1, он должен с математической точностью доказать наличность этого превращения, и 2, он должен на основании этого достоверного физиологического факта образовать такое понятие материи, которое, как последняя и дальше несводимая.
Основа бытия и знания, было бы также оправдано внутренно или логически. Другими словами, само по себе частное научное открытие или опыт, как бы он ни был достоверен, может дать повод для различных метафизических предположений, выбор которых должен руководиться для их оправдания внутренней закономерностью самого мышления, исключающей возможность внутренних противоречий.
Во всяком случае, этим требованиям фактической I достоверности и внутренней согласованности стремится удовлетворить реализм, за который выдает себя мате риализм. Поэтому, прежде чем переходить к рассмотрению вопросов, удовлетворяет ли и в какой мере материализм этим требованиям, полезно сравнить самую по становку вопроса в реализме и материализме, г Процесс человеческого познания колеблется между двумя крайними линиями: желанием получить истину из чистого воззрения или чистого мышления. Последнее есть надежда идеализма, и она признана односторонней. Обращение к чистому воззрению ведет или к мистическому погашению мышления в экстатическом погружении в бытие, или к материализму, для которого мышление есть только повторение того, что было дано в воззрении. Однако со времени Канта мы знаем, что уже в самом непосредственном воззрении мы влагаем предмет в некоторые формы мышления, и если у Канта из этого развивается скептицизм, отвергающий возможность сверхчувственного познания, то это вовсе не скептицизм, с которым выступает материализм, заслоняющий для нас высшие интересы духа и делающий исключение в пользу одной чувственности. Основная ошибка материализма здесь заключается в том, что по этому учению предметы непосредственного воззрения, видения, слышания, осязания утверждаются как подлинное бытие, как вещи в себе. Для Канта так наз. предмет или вещь есть построение субъекта в представлении или есть только явление. Смысл его скептицизма в том, что если в воззрении уже мы не встречаемся с бытием, то и ни на одном пункте, от чувственного воззрения и до абсолютной идеи, мы с ним не встретимся. Напротив, смысл новейшего реализма в том, чтобы найти некоторый пункт реальности уже в воззрении и от него, как прочного основания, идти к объяснению явлений природы и духа. Материализм воодушевляется идеей реализма, но при отсутствии упомянутого критического основания он вовсе не видит трудностей, связанных с проблемой подлинного метафизического бытия, и просто провозглашает в качестве такого физическую материю. Этим и объясняется его «смешанный характер», в силу которого он, ставя себе метафизические цели, старается их решить физическими средствами; он воображает, что задачи метафизики могут быть решены средствами естествознания, и потому стремится создать абсолютную физику, которая исключала бы метафизику.
Уже в физиологическом тезисе материализма обнаруживается этот «смешанный характер» материализма, как упомянутое выше противоречие. Как мы видели, достоверное установление перехода и превращения физического в психологическое было первым требованием, которое мы к нему должны предъявить. Но материализм наталкивается уже здесь на непреодолимые затруднения, так как, с одной стороны, имеет дело с объектом, данным во внешнем наблюдении, а с другой стороны, исключительно с внутренно данным, и в то время как первое объяснимо по законам механики, второе такому объяснению не подлежит. Сам по себе факт необходимой связи и взаимной зависимости обеих форм явления не подлежит никакому сомнению; как говорит Юркевич, «если бы где‑нибудь в механической вселенной исчез из бытия один какой‑нибудь неведомый для нас атом, то с этим вместе должно бы произойти особенное превращение как во всех частях мира, так и в душевных отправлениях». Но ошибка материализма в том, что эту необходимую связь он смешивает с генетической зависимостью и, таким образом, само происхождение, начало душевной деятельности хочет изъяснить мехачески. В неоправдываемом смешении этих двух вопросов и заключается основное противоречие материализма, Делающее то, что он не в состоянии выполнить первое из поставленных ему требований.
В другом месте Юркевич приводит еще один общий аргумент в пользу нарушения этого требования материализмом. Мы не можем обойти молчанием этот аргумент ввиду его общей принципиальной важности. Речь идет об общем соображении, которым часто пользуются и материалисты для оправдания возможности перехода движений в ощущения и утверждения таким образом между ними причинной связи, —здесь количество, говорят, переходит в качество Или количественное различие — в качественное различие. Юркевич замечает по этому поводу: «Философия освободила человеческое сознание от мифологического тумана, которым оно было окружено в начале своего развития, и поставила его лицом к лицу с подлинною закономерно развивающейся действительностью. Теперь мы подвергаемся опасности, что в области естествознания или, по крайней мере, во имя его может образоваться новая мифология, которая будет тем пагубнее, что легко может принять форму факта или действительного события. В самом деле, не миф ли это, когда нам говорят, что в вещах количественное различие переходит в качественное? Это превращение количества в качество, величины в свойство так же непостижимо, как превращения, о которых говорит Овидий». И Юркевич спрашивает, откуда это чудо в природе, что количественное само по себе превращается в качественное? Природа не обладает волшебной силой превращения количеств в качества. Сотрясение струны не превращается в звук струны — простым глазом можно видеть, что оно остается сотрясением. Когда экипаж издает стук, то его движение не переходит в стук, а экипаж движется вперед и вперед. Если бы количество движений превращалось в качество звуков, глухой, но зрячий не мог бы видеть движения скрипучих берез, стучащих экипажей и т. п.; он должен был бы оставаться слепым во всех случаях, где движение переходит в звук. «Все дело в том, — говорит Юркевич, —что вы при истолковании явлений забываете зрителя, на которого действуют явления, забываете этот дух, который принимает явления в формы ему одному свойственные; Другими словами, количественное различие превращается в качественное не в самом предмете, а в его отношениях к ощущающему и представляющему субъекту, и поэтому оно может быть изъяснено только из первоначальных форм и условий самого ощущающего духа, — тогда только оно перестает быть каким‑то чудом или капризом природы и входит в общий порядок естественных явлений. Таким образом, и эта опора физиологического тезиса падает.
Но возвратимся к прежнему порядку рассуждения и допустим даже, что факт причинной зависимости душевных явлений от физиологических был бы научно оправдан; мы получили бы частную науку, и, следователь но, оставалось бы еще место для философии с ее особыми приемами. Каким образом может материализм претендовать на это место? При рассмотрении этого вопроса мы убеждаемся, что материализм и как философская теория не может иметь внутреннего оправдания. Он сразу встречается с затруднениями, касающимися двух вопросов: 1, в определении понятия знания, 2, понятия тех метафизических принципов, из которых должны быть объяснены все формы и изменения мира явлений.
Как уже было указано, вся гносеология материализма сводится к утверждению одного только чистого воззрения, подобно тому как абсолютный идеализм переносил всю философию в область чистого мышления. И если бы материализм на этом основании ограничился утверждением знания только для нас, для человека, ограниченного чувственностью, он не противоречил бы себе, так как давал бы своему принципу значение субъективное и условное, он только стоял бы перед открытой еще проблемой бытия вещей, он предлагал бы задачу для будущей метафизики, если таковая возможна. Но, ссылаясь на Молешотта, Юркевич показывает, что материализм хотел заполнить пропасть, созданную Кантом между явлением и вещью в себе. А в таком случае он приписывал чувственному восприятию значение подлинного позпиния действительности. Как для идеализма не было ничего по ту сторону мышления, так для материализма нет Ничего по ту сторону воззрения, — действительность дана нем как она есть. Но такое отрицание деятельности сего мышления и желание построить всю науку на чистом восприятии должно бы привести к странным результатам: тот, кто предварительно не знал бы деятельности мышления, должен был бы ожидать, что где‑нибудь в пространстве, рядом с впечатлениями света, запаха и т. д., он получит впечатления необходимости, отрицания, возможности, причины и т. п.
Я ие могу согласиться с этим опровержением гносеологии материализма, так как оно слишком широко. Не ыделяя специфических особенностей материализма, оно направляется: 1, против всякого номинализма, а 2, против некоторых видов реалистического интуитивизма. Но тем более нужно подчеркнуть тонкость мысли Юркеви–ча, поскольку она направляется, с одной стороны, на признание рационализма не только как необходимой предпосылки познания, но, что очень существенно, как необходимой предпосылки самой гносеологии, а с другой стороны, на признание за гносеологией ценности только при предположении следующей за ней «будущей метафизики». В сущности, в этом implicite заключается та мысль, что ограничение философии гносеологией обозначало бы чистый рационализм, к которому приводит философия абсолютного идеализма. Юркевич, напротив, убежден, «что философия может сделать больше, нежели только определить достоинство, значение и границы опыта», а это обязывает не только к метафизическому реализму, который в конце концов ведь ничем иным, кроме спиритуализма, быть не может, но и к некоторым выводам абсолютного принципиального значения. Их, как мы еще увидим, Юркевич действительно сделал, что и позволяет нам здесь интерпретировать его мысли изложенным способом. Между тем здесь его мысль не принимает формы expHcite только потому, что по самому заданию он разбирает материализм в его отношении к современному ему реализму, которому он, во всяком случае, сочувствовал. Та же двойственность течения мысли: explicite в пользу спиритуалистического реализма и implicite в предположении некоторых более глубоких принципиальных основ — одна идет по поверхности этого течения, а другая в глубине его — чувствуется нам и в следующем возражении против материализма, имеющем в виду внутреннюю несостоятельность его метафизических принципов.
Речь идет об основном для метафизики принципе; материализм, желая разрешить метафизическую проблему физическими средствами, ставит своей задачей иметь дело только с причинами, т. е., другими словами, объяснять явления только из причин и отказаться от тек объяснений, к которым прибегает метафизика и кото рые могут быть названы объяснениями из сущности. Причинное объяснение, опирающееся на основной закон механики о равенстве действия и противодействия, требует, чтобы все изменения, подлежащие объяснению, сводились единственно к указанию характера и свойств самых причин или условий: предмет ничего не «ожет проявить из себя, из своего внутреннего существа. Так предмет сводится просто к сумме некоторых постоянных и всюду повторяющихся причин, и никакие изменения в нем не могут иметь значения единичной, просто и неповторяющейся сущности, так как они не могут быть отнесены к его единственному бытию со своим собственным внутренним содержанием. Собственно, уже в мире явлений, напр., органической жизни или психической приходится обращаться наряду с действительными причинами к такого рода сущности, и как далеко здесь простирается механизм, можно сказать только на основании опыта, что представляет собою один из труднейших вопросов науки. В области же философии эта противоположность двух видов объяснения проходит через всю ее историю. В то время как идеализм объяснял все изменения исходя из идеи «саморазвития» и, таким образом, знал одно только «внутреннее» и обращался только к сущности, материализм ищет только причин, механизма, знает только одно внешнее. В этих направлениях воплощается кантовское различие между вещью в себе и явлением, «Если бы удалось доказать, как это и надеется сделать новейшая философия, — говорит Юрке–вич, — что различие между вещью в себе и явлением есть не метафизическое, а гносеологическое, тогда можно было бы думать о примирении этих противоположностей, которые идут почти непрерывной нитью на почве истории философии».
Не выходя из пределов условного опыта, это примирение мы можем представить себе следующим образом. Имея в виду, что в аналитических суждениях мы сознаем то, что лежит в понятии субъекта, а в синтетических — его отношения к видимым формам бытия, мы должны признать, что во всем содержании, во всей полноте; нашего опыта мы должны искать объясняющего начала как в понятии сущности, так ив понятии внешних причин и условий. Здесь нет ограничения закона причинности, так как подведение его под метафизическое понятие истинно–сущего, или реального, не исключает и не ограничивает того, чтобы все частные явления объяснялись из частных внешних причин и условий. Это предположение говорит, в общем и целом, что мир не есть сборное место, на котором сходятся внешние причины и обстоятельства, чтобы рождать подлежащие нашему наблюдению явления; он есть содержание определенное в себе или внутренне, так что явление, рождаемое внешними причинами, тем не менее носит на себе печать идеи, тем не менее может быть разумно и целесообразно».
Если мы сообразим ту роль, которую играет в материализме понятие атома, то можно думать, что в нем осуществляется названная идея истинно–сущего, но в действительности вечность и неизменность атомов гарантирует только постоянство и прочность известного порядка в мире. «Но чтобы он существовал, чтобы зачался и завязался этот порядок, это не следует из натуры атомов, потому что они вообще не имеют натуры в смысле производительного принципа (natura naturans). Поэтому для перехода к метафизике нужно одно из двух: или случай должен восполнить пассивную природу (natura naturata) атомов, или нужно истинно–сущее, которое способно к внутреннему самораскрытию. Предположения, которые могут быть здесь высказаны, противоречили бы науке, если бы они выдавались за непосредственные и априорные познания, — именно против этого и вооружалась критика Канта. Но он сам принимает идеи разума как правила, требования и задачи. Указанные предположения не должны претендовать на роль большую, чем быть правилами и требованиями ума, обращенными к познанию. «И если бы философии удалось развить эти предположения в ясную и точную систему, то она в этой онтологии имела бы для своих познаний о действительном мире такой же орган, какой дан для естествознания в области чистой математики».
Принимая все это во внимание, мы видим, таким образом, что и здесь материализм обнаруживает свое, коренное внутреннее противоречие: он воодушевлен идеей истинно–сущего, но в понятии атома определяет его так, что весь мир и его судьбы должны быть объясняемы только из внешних причин и условий. Если же он припишет атому внутреннюю силу, придающую ему творческую мощь, natura naturans, он вновь впадет в противоречие, так как на место механизма выдвинет динамизм, вместо абсолютного механизма построит систему абсолютного мира.
Подводя итоги сказанному, мы видим, что ни одному, из условий, при которых материализм мог бы оправдать свой философский смысл, он не удовлетворяет. Принципиальная критика, ведомая на почве реалистической метафизики, обнаруживает в нем несогласуемые внутренние противоречия и несоответствие между его задачами и средствами их решения. Поэтому если материализм имеет какой‑либо смысл и оправдание, то, как об этом мы уже знаем, они лежат в области не философской, а исторической. Рассмотренный в историческом угле зрения, материализм имеет не только недостатки, но и свои заслуги. Чистый рационализм, Спиноза или Гегель, разрывал мир являющейся действительности и истинно–сущего, не оставляя места для перехода от одного к другому. Материализм уже в лице Фейербаха протестует против этого презрения к индивидуальному здесь и теперь. Но этот протест не может иметь места по отношению к новейшей философии, представителями которой Юркевич считает Гербарта, Бенеке, Шопенгауэра и Лот–це. «Храм истины, — говорит он, — не может быть создан, пока одни, как жрецы, ясно будут сознавать идею божества, не зная при этом, как может или должна эта идея определять образ храма, его устройство, части и их взаимное отношение, и пока другие, как простые зодчие, будут знать устройство отдельных частей храма и лучший для этого материал, не имея этой безусловной идеи, которою определяется окончательно как целое здание, так и взаимное положение частей его».
Новейшая реалистическая философия, по мнению Юркевича, удовлетворяет требованиям, необходимым для создания этого храма истины: «Безусловное и реальное не суть для нее понятия тожественные, но в средине между явлением и его безусловным содержанием она признает вещи в себе, она признает подлинное бытие и там, где еще нет бытия безусловного». Другое ее отличительное качество — что она связывает разорванные идеализмом части подлинно–сущего и являющегося. Для этого требуется, чтобы действие выводилось не аналитически из понятия причины, а чтобы было признано условие, которое общим обстоятельствам сообщало бы такое значение причинности, чтобы они могли производить все своеобразие явлений со всеми его индивидуальными отличиями. Но такое условие и заключается в понятии реального, которое полагается мышлением тем решительнее, чем выше мы поднимаемся от однообразия механической природы до органических индивидов и до внутренних изменений душевной жизни. Мы не априорно строим будущие действия причин, а открываем и наблюдаем их в явлениях эмпирической действительности. Таким образом, с одной стороны, «различие между явлением и вещью в себе признается здесь не метафизическим, а обозначает только степень нашего познания», а с другой стороны, в реализме соединяются противоположности идеалистического понятия внутреннего саморазвития и материалистического представления внешнего механизма. Но оно также отличается и от кантовского скептицизма, насколько признает переход от внешне данного к внутреннему, насколько разделяет положение Гербарта: So viel Schein, so viel Sein.
Материализм, поскольку он протестовал против идеализма, отрицающего реальность бытия и утверждающего одно чистое мышление, выступает как защитник существенных интересов человечества; поскольку он защищает ценность научного знания действительности, он может считаться моментом в реалистическом развитии новейшей философии, и этим признается его условное право на определенное место в целостной мысли и мире. «. Расширение философии как науки далее тех узких границ, внутри которых она была разработываема естествоиспытателями, составляет ту заслугу материализма, из которой легко могут быть выведены его другие заслуги. Идея абсолютной физики составляет тот основной его недостаток, из которого могут быть изъяснены его другие недостатки». Это резюме еще раз подчеркивает основную мысль Юркевича: материализм ставит себе метафизическую задачу, ищет решить ее научно — и то и другое должно только приветствовать, — но обоснование философии на частной науке есть предприятие само по себе невыполнимое. Другими словами, Юркевич приветствует материализм не во имя философии, а во имя науки. Этим объясняется, что и вся его критика материализма опирается на противопоставление его реализму, который, именно задаче научности удовлетворяет в большей степени, чем материализм. Но такой подход к проблеме должен вызвать уже некоторое недоумение: не странно ли что философ выступает в защиту чистой научности? Мы уже отмечали, что нам слышится в словах Юркевича другой тон, что в его мыслях мы усматриваем еще другое скрытое течение, что, следовательно, уяснение ценности материализма с точки зрения реализма есть только «метод», прием, но действительная идея, воодушевляющая Юркевича, лежит в другом месте. В чем же она?
Если бы Юркевич полагал эту идею, свой пафос в самом реализме, То к чему ему, философу, нужно было так отстаивать именно научность реализма? Конечно, можно сказать, что реализм больше, чем научность, он есть и философия. Но Юркевич сам дает указания на то, чем могла бы быть система реализма в своем совершенном философском виде, и нетрудно видеть, что всего этого для философа мало. Он признает, с одной стороны, что метафизики как определенной системы знания не существует, хотя есть система определенных задач; с другой стороны, он как будто соглашается с Кантом, что идеи не суть познания, а только правила, требования и задачи разума. И, вполне согласно с этими положениями, он утверждает, Что если бы философия развила свой предположения, касающиеся объясняющей сущности, в систему, то «она в этой онтологии имела бы для своих познаний о действительном мире такой же орган, какой дан для естествознания в области чистой математики».
На этой мысли стоит остановиться, она очень интересна, хотя, на наш взгляд, не доведена до конца. Основание нашего недоумения мы можем связать с понятием онтологии. Юркевич думает, что возможные предположения онтологии должны опираться на опыт, и подчеркивает, что в области объяснений из сущности, прежде всего опытно, должен быть решен один из труднейших вопросов, о наличности сущностей. Действительно, стоит только вспомнить борьбу витализма с механизмом, с одной стороны, и спиритуализма с материализмом, с другой стороны, чтобы увидеть, что этот вопрос не только труден сам по себе, но что здесь присутствует еще вопрос о конечном определении сущностей. Во всяком случае, смысл онтологии при такой постановке вопроса таков, что, во- 1–х, быть может, следовало бы говорить не об онтологии, а об онтологиях, а, во-2–х, такого рода онтологии были бы знаниями, обогащающими нас в области отношений фактов самой действительности. Как приг знает сам Юркевич, в «условной области опыта» примиряющее начало реализма приводит к признанию синтетического характера этого познания. Но если все это так, то, непонятно, как знание самой действительности может быть «органом» этого знания? По мысли Юркевича, это должна быть система задач, требований, но если она хочет, быть «органом», системой задач, то она не может обогащать нашего знания действительности. Она будет, еще говорит Юркевич, тем же, что математика для естествознания. Но математика именно и не дает для естествознания познания действительности, не обогащает его. в этом смысле. Такая онтология — уже непременно одна, а не несколько — не должна была бы опираться на «условную область опьта», она должна была бы состоять не из синтетических суждений опыта, а из аналитических суждений по закону противоречия. Я не хочу этим сказать, что она вовсе не обогащала бы нашего знания, но только что это знание не было бы знанием действительности опыта.
Я не вижу возможности примирить эти два понятия онтологии—материальных или реальных онтологии и формальной рациональной онтологии — в одной формуле и объясняю себе эту неустойчивость Юркевича только тем, что его собственный пафос лежал вовсе не в рёализме, между тем выставленная им формула действительно для реализма характерна. Другими словами, указанное нами смешение принадлежит не самому Юркевичу а относится к сущности онтологического реализма: как материализм в своих недрах несет противоречие физики и метафизики, так реализм не преодолевает в онтологии противоречия чистого рационализма и действительного бытия. Смысл реализма, говоря вообще, в том, что он задается целью преодолеть скептицизм Канта, и Юркевич показывает каким путем хочет, достигнуть этого реализм, но суть самого этого преодоления в том, что реализм стремится доказать —вопреки Канту, — что мышление дает нам знание. Но если метафизика ограничивается только системой правил и задач, то 1, кантианство может быть очень удовлетворено таким выходом, так как оно соглашается признать за рассудком способность правил, а 2, не видно, как эти,«правила» могут выходить за пределы опыта, а этим кантианство также, может быть очень довольно, так кк метафиДоселе было дорого для нас именно своей непосредственностью, стремящейся все вывести, все изъяснить, все понять и в развитии форм духовной жизни по возможности опираться на начала знания, не предоставляя этого развития непосредственным и неясным духовный"инстинктам или столь же безотчетным, хотя часто и пре красным требованиям сердца». Другими словами, нужно"признать, что за пределами рационального опыта есть еще нечто, что не может быть охвачено чисто научным1, познанием, и что, следовательно, философия, если она не желает сузить свои задачи научными рамками, должна принимать в расчет и то, что по, существу, не подходит под науки и что, может быть, даже не есть знание. Думается мне, что не в реализме самом по себе лежало философское вдохновение Юркевича, а именно в этих его выхождениях за пределы не только действительной действительности, но и возможной, в«область, не исключающую, конечно, действительности, но осмысливающую ее в ее относительном и условном бытии, впервые поставляющую ее в свете разумности и безусловной целесообразности.
Нетрудно видеть, что оба названные коррелятивные момента — моменты особого источника знания и особого знания, с одной стороны, и момент требования безусловного, как единый вопрос, представляет собою один из вопросов философских принципов. С тех пор как Кант поднял эти вопросы как вопросы критики, последняя не перестает играть для всякой философии роль декартовского сомнения. От этого и всякая положительная философия должна или про себя пройти путь Канта, или вслух рассчитаться с ним. Из анализа, которому Юркевич подвергает Канта, мы уже увидим его положительные принципы, в своем же первоисточнике они восходят к Платону. ···
Принципы
Как положительные принципы, они имеют свою опору в исторических традициях философии, и в высшей степени важно для характеристики философа, от кого он ведет свою философскую традицию. Трудно найти поэтому тему более благоприятную для выяснения собственных принципов, чем философия Платона, но трудно найти й более благородную традицию для всей положительной философии. Разумеется, мы не можем, входить.
Здесь в детали исключительно блестящей интерпретации, которую дает Юркевич Платону, равно как и в детали его глубоко продуманного сравнения Канта С Платоном а согласно нашему плану изложения должны остановиться только на его общих мыслях, с помощью которых мы получим возможность уяснить принципы его философского мировоззрения. «Два и только два основных убеждения возможны дляя Духа, насколько он открывает свою деятельность в познании и изучении явлений». По одному из них, духу., доступно познание самой истины, по другому, ему, как человеческому духу, доступно только приобретение общегодных сведений. Понятие явления оставляет еще неопределенным, есть ли это подобия и образы истинного бытия, феномены сущности, или они обусловлены формами чувственного созерцания, феномены нашего сознания. Первый взгляд развит в образцовом для всех времен совершенстве Платоном в его учении о разуме и идеях; второй — Кантом в его учении об опыте. «Первый находит возможным знание истины, второй — только знание общегодное».
Учение Платона о разуме как общей и первоначальной истине, в которой принимает участие каждая наука, господствовало в продолжение тысячелетий до Канта. Видоизменения, какие испытывало это учение со стороны Аристотеля или христианского богословия, не затронули того убеждения, что есть общая формальная онтологическая истина чистого разума и что каждая наука выполняет заключенные в ней требования чистого раэу ма. Лейбниц в своем nisi intellectus ив вечных истинах еще раз доказал существование первоначальной метафизики, лежащей в основе всех наук и совпадающей с идеями чистого разума. «Это было последнее, но и самое блестящее развитие платонической мысли о первоначальной истине». И только умственное направление новейшего времени характеризуется тем, что философия этого времени начала свое развитие не признанием истины чистого разума, а критикой чистого разума. Гениальное сочинение Канта образует решительную противоположность с теми сосредоточивающими знание началами, которые господствовали от Платона до Лейбница.
Разум по учению Платона и опыт по учению Канта (Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского"Московского университета 12–го января 1666 года).
включительно. Вся яркость этой противоположности выражается в следующих тезисах:
«Платон. Только невидимая сверхчувственная сущность вещи познаваема.
Кант. Только видимое чувственное явление познаваемо.
Платон. Поле опыта есть область теней и грез; только стремление разума в мир сверхчувственный есть стремление к свету знания.
Кант. Стремиться разумом в мир сверхчувственный—значит стремиться в область теней, и грез; а деятельность в области опыта есть стремление к свету знания.
Платон. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением от идей чрез идеи к идеям.
Кант. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением от воззрений чрез воззрения к воззрениям.
Платон. Познание существа человеческого духа, ого бессмертия и высшего назначения заслуживает по преимуществу названия науки: это царь–наука.
Кант. Это не наука, а формальная дисциплина, предостерегающая от бесплодных попыток утверждать что‑либо о существе человеческой души.
Платон. Познание истины возможно для чистого разума.
Кант. Познание истины невозможно ни для чистого разума, ни для разума, обогащенного опытами. Правда, что в последнем случае познание возможно; но это будет не познание истины, а только познание общегодное… Наука имеет все условия для того, чтобы сообщать нам общегодные сведения, и ни одного условия для познания истины. — Это удивительное учение примиряет Платона с Протагором и Лейбница с Давидом Юмом, и оно‑то составляет душу нашей науки и нашей культуры».
Философия Канта одержала блестящую победу над реализмом общего смысла и положительных наук, по которым внешние предметы отражаются со всеми своими качествами, как образы в зеркале, но в учении об опыте самого Канта заключается такое содержание, которое не может быть принято философией, направленной на самое истину. Сущность кантианства составляет «такой всесторонний и грозный скептицизм, какой никогда еще не потрясал философии». Классический аргумент Сократа против скептицизма софистов заставляет и кантово учение вращаться в безвыходном круге, так что мы конце концов должны различать между тем, что говорит философия Канта, и тем, что говорит сам Кант: его скептическое учение о субъективной годности категорий и их применяемости только к, явлениям опровергается его метафизическим учением об опыте, как учением чистого разума. Кант не выяснил себе, «что законы деятельности познающего субъекта гак же не суть законы субъективные, как законы движения света и масс не суть законы световые и массивные»; таким образом «он положил начало тому беспримерному в истории направлению метафизики, для которого законы, действий познающего субъекта суть вместе произведения этих действий познающего субъекта и следствие есть основание Самого себя. В учении о безусловной основе мира это заблужденик привело к неслыханному доселе мнению, что безусловное предпосылает себе самого себя и есть ДЛЯ самого себя абсолютное Prius. Союз метафизики со Скептицизмом перешел таким образом в союз с софистикой». В самой «Критике чистого разума» мнением 0 субъективности категорий навязывается нам невозможное убеждение, что мы тем более погружаемся в область призраков, чем больше переработываем чувственно данный материал по принципам разума. «Благодаря категориям, мы перемещаемся из области истинно–сущего в область кажущегося и призрачного».
Резкая противоположность между этим учением И учением Платона очевидна. Платон видел в идеях не функции познающего субъекта, а истину самого разума. Функции рассудка, по Канту, состоят в том, что категория объединяет данные чувственного воззрения, но может ли удовлетвориться этим разум? Подлинно ли он Стремится только к этому объединению? Юркевич отвечает на это категорическим нет; разум удовлетворяется не этим существующим единством, а только истиной суждения. Философия Платона сообразно этому и ставила свой вопрос: соответствуют ли вещи, данные в человеческом опыте, требованиям истины? И если мы обратимся к центральному пункту «Критики» Канта, на котором держится все его учение о категориях и в котором утверждается тожество функций сознания, подводящего чувственные данные под категории, к его я мыслю, сопровождающему эти функции, мы встретимся с тем же противоположением Канта и Платона. Не к «я мыслю» относим мы наше суждение, не к сознанию я, а к первоначальному и неизменяемому сознанию истины мы бы сказали, к предметному сознанию и смысловому, как показывает пример, приводимый Юркевичем: «В суждении «Земля шарообразна» нет и следов его отношения к Я — ни к эмпирическому, ни к чистому, но оно находится в необходимом отношении к истине». Поэтому совершено неосновательны утверждения Канта, будто предметы даны нам через чувственность или могут быть даны понятиям не иначе как в воззрении и, наконец, что чувствен ность реализирует разум. «Все эти положения следует превратить: чрез чувственность даны нам психологйческие миражи, а предметы даны нам только через разум; для чувственности предмет может быть дан только через понятия; наконец, и в особенности, разум реализирует чувственность». Или то же самое другими словами: «Предметы посредством чувственности не даны, а, так сказать, заданы разуму. Своими возбуждениями она дает разуму задачи, и решение этих задач, сообразное с содержанием идей, есть место родины предметного мира» КанТу повредило, по мнению Юркевича, то, что за исходный пункт исследования он не взял платоновскую «наикрепчайшую истину, которая есть начало тожества и общее понятие», а вместо этого обратился к исследованию более отдаленных и производных категорий мышления. Если бы Кант пошел этим путем, он должен был бы вместе с Платоном признать, что нам только кажется, что мы встречаем предметы в Опыте, на самом деле предмет познания, всякого познания, всегда есть единое и сверхчувственное. Образ чувственности может меняться до бесконечности, но «самый предмет мы мыслим как то же самое, как единое и равное самому себе». Только то, что, по словам Платона, всегда есть то же самое и таким же образом, есть истинный предмет познания.
Исходя из этой основной наикрепчайшей (έρωμενв—στατον) истины можно показать, как через нее изменяется наличность других категорий нашего разума. Поэтому Кант совершал большую ошибку, считая эту наличность далее неизъяснимым фактом. «Задача онтологии и состоит именно в том, чтобы изъяснить эти, по–видимому, прирожденные формы», — категории, напр., субстанции и причинности вытекают непосредственно из безусловной истины разума и вовсе не имеют того фаталистического существования; изъяснение которого нужно, было бы искать в творческой воле. Научное естествознание может остановиться перед немногими такими конечными фактами, предоставляя их изъяснение безотчетной вре, но философия в идеях разума располагает самой светлой и первоначальной истиной, которая, по учению, Платона, не может быть сотворена никаким могуществом. Кант не видел пути к истинно–сущему, потому что $щ приписывал категориям имманентное применение, котоpoe делает возможным опыт, и упускал из виду отмеченное уже Платоном их рефлексивное применение, которое делает возможным критику самих форм опыта, направляющуюся по вопросу: соответствуют ли опыты, которых возможность условлена категориями, смыслу этих категорий? В сущности, ни одно из определений Канта в его учении об опыте не отвергает возможности метафизики сверхчувственного, которая возникает из этой критики разума над формами опыта, но Кант считает предметом только феноменальный предмет чувственности и, таким образом, не в состоянии разрешить ни одной проблемы метафизики. Между тем все ее задачи сводятся к одной: «Изъяснить и понять наши опыты так,, чтобы, для разума дан был предмет». Но поскольку сознательная рефлексия подвергает критике явления вещей и ищет того, что могло бы быть удержано чистым разумом как его предмет, постольку у нас возникает познание самой сущности вещей.
Изложенные мысли Юркевича поразительны по своей законченности, продуманности и подлинной философичности. Они были высказаны 48 лет тому назад, но до какой степени и по смыслу и даже терминологически они напоминают некоторые выводы современной нам философии. Это не удивит нас, если мы примем во внимание, что философской опорой Юркевича был платонизм, а оселком, на котором так тонко отточились его мысли, была «Критика» Канта. Тот факт, что последнее пятидесятилетие философская мысль тем не менее билась в тисках кантианства, свидетельствует только, что расчет с философией Канта должен был быть делом не только индивидуальным, но общим. Нужно было вновь и всем пройти школу Канта, чтобы до конца вскрыть несостоятельность его отрицательной философии в целом, чтобы в ней самой найти все, что может примирить ее с традицией подлинно положительной философии, и чтобы, наконец, на почве этой традиции, восходящей, всег-, да к Платону, найти новые выходы и пути Юркевич как бы предвидел возможность реставрации Канта и то, какое место займет учение Канта вновь, и прежде чем началось общее отступление на позиции Канта, он сумел оценить их в их подлинном философском значении. Повторяю, у Юркевича это было делом индивидуальным, но тем большей признательностью мы обязаны ему теперь, когда его идеи входят в общее сознание положительной философии. Юркевич умел отдать должное своей современности, и тем с большим сознанием исполняемого долга должны мы стремиться к тому, чтобы показать, что его идеи в истории нашей мысли не остались бесплодными.
Но чем выше мы ценим глубину и силу философского гения Юркевича, сколько он сказал о себе в намеченных таким образом принципах, тем менее мы опасаемся уронить их значение указанием на ту сторону философии Юркевича, которая, кажется нам, не стоит на одном уровне с его принципами. Мы отметили уже неясности защищаемого им «реализма», сопоставление этого реализма с принципами вызывает еще больше недоумений: как может быть соединимо с этими принципами то в себе противоречивое учение реализма? У Юркевича образуются как бы ступени в построении нашего знания: явление, реальное бытие и безусловное. Но переход с одной ступени на другую или остается столь же трудным, как й в том случае, когда все предметное знание разрывается теорией на две части, или этим переходом каждая ступень так связывается с другою, что всякая принципиальная разница между ними стирается. Во всяком случае, и при изложении принципов ретенция реализма у Юркевича остается достаточно сильной, чтобы помешать ему довести свои идеи до конца. Между тем вопросом об «идее» как философском принципе и источнике познания безусловного Юркевич интересовался прежде всего, и ему всецело посвящена первая из его статей. Она носит скорее программный характер и также не дает ему повода высказаться до конца, но все же, как увидим, она вскрывает направляющую тенденцию его мировоззрения ·. В общем же литературное наследство Юркевича слишком невелико по объему, чтобы можно было рассчитывать найти в нем исчерпывающие ответы на вce затронутые им темы. Вл. Соловьев писал: «Как И большая часть русских дяровитых людей, он не считал Нужным и возможным давать полное внешнее выражение сему своему умственному содержанию, выворачивать го наружу напоказ, он не хотел перевести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную собственность. Однако и из того, что им оставлено, достаточно видно, что мы имеем дело с умом сильным и самостоятельным».
— По–видимому, следовало бы ограничиться признанием этой характеристики. Но для большего освещения его философии в целом мы скажем несколько слов о наиболее заметных влияниях, которые пришлось испытать Юркевич у.
Юркевич выступил — быть может, не без влияния Шопенгауэра — как решительный противник панлогизма И узко рациональных тенденций немецкого идеализма, тут он и примыкает к современному ему реализму как реакции против панлогистических тенденций идеализма, Сэтой позиции он умеет найти ценное и в материализме. Почему он выбрал термин «реализм» для обозначения того направления, в то время как сам не раз, вовсе не специфицируя этого термина, отзывается о реализме отрицательно? Не имел ли он в виду Гербарта, пользуясь тим термином в благоприятном для него смысле? Почему он открыто не говорит о спиритуализме, хотя во многом он, по–видимому, симпатизирует Бенеке? На эти вопросы мы затрудняемся ответить. Остается только факт: когда он говорит против идеализма и материализма, он становится на почву реализма, но когда он доходит до породившей идеализм критики Канта, он становится на почву Платона, последнее завершение которого видит в докантовской философии Лейбница.
Нам остается обратить внимание еще на одно обстоятельство. Среди современников, оказавших влияние на Юркевича, был Лотце. Он в наименьшей степени рвал с традициями Платона и Лейбница, но он же и в наибольшей степени удовлетворял тем требованиям «научности» реалистической метафизики, о которой говорил Юркевич. Я думаю, что влияние Лотце на Юркевича было еще шире, я думаю, что и основную идею интерпретации Платона Юркевич выработал под влиянием Лотце. Лотце еще недостаточно оценен, и в современных философских спорах он будет еще играть немалую роль, но важно отметить, что в своем положительном учении он остановился приблизительно на том же пункте, что и Юркевич. И оба, я думаю, остановились потому, что с. этого пункта открывается очень заманчивый вид на философские области, окаймляющие прямой путь теоретической философии. Каждый из них по–своему увидел подлинный долг философии в чарующем величии окружающих ее теоретический путь нравственных горизонтах. Во имзн должного они произнесли, быть может, свои лучшие слова, но дальнейшее углубление по раз начатому пути должно было прекратиться. Последнее десятилетие своей жизни Юркевич посвящает литературной деятельности по вопросам педагогики, — это не простое влияние Бенеке, а, я думаю, здесь есть и внутреннее объяснение такого перехода, но всегда его вдохновляла цельная филоcофия, и притом именно по причине завершающих ее моментов нравственного достоинства. Именно устремление Юркевича в эту сторону, на наш взгляд, до известной степени объясняет внутреннюю незавершенность его. теоретических взглядов. Нравственное, «практическое имело для него значение не только приоритета интереса и, важности, но заставляло его решать и теоретические проблемы философии, ставя всегда перед его умственным взором собственные требования.
Идея
Мы еще раз должны вернуться к развитию принципов Юркевича для того, чтобы точнее проследить, где нарушается их цельность и где, согласно сказанному, врываются новые мотивы. Основным принципом, наикрепчайшей истиной по Платону, для Юркевича служит начало предметного тожества и выражающее его общее понятие, но уже из установления этой коррелации само собою возникает ряд проблем, развитие которых должно повести к системе принципов и системе философии. Философия тем и отличается от специального знания, что она рефлексирует по поводу собственного пути, поэтому она никогда не довольствуется утверждениями, но должна еще показать, как мы к ним приходим. В этом от ношении особенно большие и многочисленные затруднения для философии всегда возникали при вопросе о роли общих понятий и источниках того убеждения, по которому в них действительно выражается «то же», запечатлевающее в них самое предметную истину. Для Наших целей мы можем формулировать вопрос уже и определеннее: каким образом общее понятие, будучи понятием отвлеченным, может служить принципом предметного философского, т. е. конкретного, ведения? Мы можем этот вопрос специфицировать еще больше, дав ему следующее разъяснение. Говоря об отвлеченной логической мысли, мы говорим об особой присущей ей формальной истине, но очевидно, что претендовать на полное выражение истины формальная правильность наших логических построений могла бы только при допущении крайнего рационализма или панлогизма. Принципы Юркевича не допускают такой крайности, — как же на основании этих принципов получается подлинная истина и как возникает расхождение между нею и формальной правильностью логического мышления?
Юркевич склонен приписывать это расхождение не положительной природе разума, а его несовершенствам и ограниченности; сам по себе в своей отрешенной всеобщности разум есть разумение истины, и правильность мыслей есть непосредственная их истина. Представление изменчиво, потому что оно — факт индивидуального мышления и зависит от состояний субъекта; идеи, напротив, есть неизменяемый образец для всего, что дано в опыте и представлениях. Не они определяются творчеством субъекта, а действия и творчество субъекта определяются идеями. «Истины нельзя ни сотворить, ни изобрести: ей свойственно вечное есть, и мышление лица есть только стремление познать идею». Идея есть предикат к познаваемой вещи как субъекту; иначе субъект не мыслится и не есть: сущность вещи состоит в предикате или идеях, которым она причастна. Субъект суждения представляет видимые и случайные вещи чувственного мира, предикат — один, простой, общий и неизменный предмет разума Так как в каждом предмете опыта только «часть» идеи, он только «подобен» ей, а не тожествен, то идея есть то, чем должен быть предмет, идеал и прообраз для его развития. Вот почему «учение о безусловных вещах, напр., об атомах или вообще о таких безусловных субъектах, которые есть как бы но естественному, первобытному, следовательно, ничем не оправданному праву и которым свойственно бытие само по себе, не мотивированное требованиями истины, — такое учение реализма не может быть допущено в системе разума».
Силлогизм, к которому мы прибегаем в нашем опытном знании, движется в области эмпирической и поэтому не может быть путем познания истины; для нее должна быть другая форма, которую мы и находим в спекулятивном мышлении Платона. Эта форма покоится исключительно на принципе тожества и видит в идеях особый вид оснований, отличный от оснований материального мира. Это основание или причина того, почему вещь есть такая, а не иная, определяется из общения вещи с идеей. Что из общего понятия осуществляется вещью, можно узнать только из систематического разделения понятий на виды, на виды видов и т. д. «Тогда как в силлогизме требуется подводить низшее понятие под высшее, в спекулятивной методе предполагается непосредственное развитие понятия до тех форм, которые даны на вещах или в вещах и которых фактическое существование будет таким образом превращено в разумное; или то, что есть, будет изъяснено из того, что должно быть по требованию идеи». Весь дух спекулятивного метода состоит в убеждении, что действительное определяется мыслимым, но здесь нет того странного учения, что идея сама себя осуществляет, что она есть свой собственный исполнитель в мире явлений. «Вечная истина не есть сила (она трости сокрушенной не преломит), она есть истина, и этим исчерпывается все ее бытие: essentia ejus involvit ejus existentiam; поток вещей повинуется ее требованиям вследствие предопределения творческой воли, которая полагает этот мир как исполнительную власть по отношению к идее как власти законодательной».
Этими замечаниями о понятии, суждении и силлогизме определяется формальное значение идеи, но как мы приходим к тому, чтобы и в содержаниях идей видеть сущность вещей, определяющую их бытие и свойства?
По учению Платона, идея есть само истинно–сущее. Но как понимать это? Вопреки реализму, мы не можем «существует», «. есть» по отношению к идее понимать в смысле того способа бытия, какой присущ действующим и страдающим вещам или живым субъектам с их индивидуальной судьбой. Идеям присуще бытие идеальное, и оно состоит единственно в их истине. Идея не есть субстанциальное и действительное, а есть только мыслимое (νοήτον), она есть образцовая форма действительности, но не сама действительность. Поэтому, также Вопреки идеализму, хотя идеи суть общее и постоянное и неизменное бытие принадлежит общему, тем не менее Платону не принадлежит мысль, что общее есть то, что суть собственно вещи. Поэтому бытие действительных и страдающих живых существ Божественного творчества есть безусловное положение, которое не исчерпывается их познаваемостью. Мы должны различать поэтому три метафизических сферы бытия: царство идей или вечной истины, ноуменальное, царство разумных существ, реальное, и призрачное существование телесного, феноменальное. Таким образом, становится ясно, что чисто диалектическим путем мы не выведем индивидуальной жизненности, — как в естествознании, так и в философии только путем исследования и индукции, а не из априорных начал могут быть получены факты, которые потому именно и суть факты, что в их содержании есть нечто не сводимое на идеи разума. «Бытие разумных и живых существ есть неожиданный для диалектического мышления дар благого существа». Если бы система идей была вполне прозрачна для нашего разума, тем не менее бытие индивидуальных, живых и разумных существ представлялось бы нам как непонятная судьба, «и откровение, содержащееся в идеях о том, что есть, оставляло бы нас в полном неведении относительно того, кто есть. Только непосредственное, неискоренимо присущее духу сознание добра, — эта идея добра наипростейшая и наипонятнейшая, самая первобытная в духе проливает неожиданный свет на эту сторону миросозерцания, открываемую средствами индукции. То, что может быть (идея), переходит в то, что есть (действительность), посредством того, что должно быть αγαθόν)».
Таким образом, мы получаем ответ на вопрос о содержании идеи: в явлении все приходит и уходит, вещь вечно меняет свои признаки, но это именно и указывает, что в явлении вовсе не выражается, что такое вещь. Только порядок, правильность и единство в применении указывают на равную самой себе действительность, которая по содержанию есть благо или цель вещи.
Можем ли мы удовлетвориться этим ответом? Мы не будем касаться вопроса, насколько этот вывод, как интерпретация Платона, соответствует действительно мыслям последнего, мы берем все изложенное как собственное понимание идеи у Юркевича. И тут мы прежде всего встречаем затруднение в его трихотомии: как раньше нам осталось неясным, как можно построить второй реальный мир вне феноменальной действительности, так теперь остается неясным, как понимает Юркевич «переход» от реального к безусловному? Для него, действительно, мир живых существ представляет не только задачу, но загадку — «дар благого существа». Как будто можно остановиться на этом, как будто это последний факт, как будто не может зародиться сомнения в смысле этого «дара»! Достаточно зародиться в душе человека самому маленькому сомнению, достаточно изречь безумцу в сердце своем: «бессмысленный дар», чтобы отвратить нас вовсе от философии и попытаться по крайней мере вернуть дар Дарящему.
Это — не единственное недоумение, которое вызывает выход, предложенный Юркевичем. Здесь много непонятного: в каком мире, или «сфере», или «царстве» помещается сам «дарящий», друг он нам со своими предписаниями нравственного порядка или враг и т. п. Немало здесь и чисто теоретических затруднений, но о них мы умолчим, пока не получим ответа на вопрос, как мы приходим к такому содержанию идей, а обратимся к совокупности названных идей, которые все объединяются идеей нравственного долженствования.
Как мы указывали, здесь Юркевич достиг того же пункта, дальше которого не двинулся и Лотце. Здесь у Юркевича то же лотцеанство с его доктриной телеологического идеализма. Но какими бы достоинствами ни обладало это учение, один упрек ему всегда можно сделать: в решительный момент оно уступает позиции, уходит в сторону со своего пути. Как увидим ниже, Юркевич сам наповал убивает идею подчинения свободной деятельности закону долженствования очень простым, но веским замечанием. По поводу разумного предписания нравственного долженствования он замечает, что такое предписание, «командование» необходимо предполагает «не мертвый труп», а «живого человека», и что «должен» говорит только о предполагаемых, но не осуществленных делах, совершенно не затрогивая даже вопроса о том, есть ли у меня силы на выполнение предъявляемого мне требования. Но ведь буквально то же самое приложимо к «должен» и в сфере теоретиче ской. Какой смысл имеет это «должен», если мы не знаем подлинных «сил» разума, его природы и сущности, по отношению к которой всякое «должен» может являться вещью посторонней, чуждой и неприемлемой? Ставка на мораль в теоретической философии — всегда игра va ban‑que, но игра безумная — в ней проигрыш обеспечен! Раз теоретической философии нужно апеллировать к нравственности, ей лучше прекратить существование, ибо если она не может быть по ту сторону добра и зла, то она вообще не может быть. Вкушением плодов от древа познания добра и зла человек сам поставил и ставит себя в здешний мир; нужно ли спасаться из него — это другой вопрос, но если нужно спасаться и спасать мир, то нужно оправдаться и его оправдать. Философия, которая для этого оправдания обращается к благам самого мира, есть робкая философия, а в других мирах этих благ, может быть, вовсе нет, потому что только тем существам, которые Юркевич называет действующими и страдающими, живыми и разумными, только им нужны и блага и благо — больше никому. Философия или должна идти собственным путем, или у нее нет путей. Юркевич сам колеблется, по какому же пути ее вести? То он толкал ее на путь знания действительного бытия, на путь специальных наук, теперь он толкает ее на путь веры. И мы должны еще несколько остановиться на его теоретических соображениях, чтобы в ответе на вопрос, как мы приходим к идеям, получить и разъяснение того, как он толкает философию на нефилософский путь веры.
Вопрос о том, как мы приходим к идее, есть вопрос, так сказать, «логики» и «методологии» идеи, с одной стороны, теории познания, т. е. психологии, с другой стороны. Сообразно этому можно говорить о формальном значении идеи и ее познавательном значении по содержанию, тогда вопрос о ее метафизическом содержании, которое должно служить к расширению нашего знания, предстанет перед нами как новый еще вопрос. Юркевич, как мы видели, признает вместе с Платоном формальное значение идеи как понятия. Но в то же время он считает, что заключающаяся в каждом эмпирическом понятии мысль об общем и едином есть метафизическая истина. Он допускает, что понятие составляется из суммы признаков наблюдаемого явления, но это не значит, что идея в нем исчерпывается этой суммой. «Общее само по себе есть мысль разума, есть метафизическая истина». Понятие через это относится не к кругу наших опытов, а к самой природе вещей: «Опыты только условливают возможность происхождения его в субъекте; а истина, познанная в нем, есть принадлежность чистого разума или разумение самой натуры вещей». То единое, что в понятии обнимает сумму признаков вещи, остается для опыта и формальной логики пустым требованием единства, тогда как в философии оно заполняется, и здесь «идеи суть откровения высшей сущности вещей» упомянутого уже блага.
Последнее мы подвергли сомнению, но если допустить вообще, что в идеях открывается метафизически высшая сущность вещей, то одно в дальнейшем мы должны исключить: возможность подчинить это «откровение» нашей логике, которая, невзирая на всю свою формальность, все же остается только логикой выражения и, следовательно, понятия. Между тем Юркевич считает, что идея есть предположение, которое ученый принимает как бесспорное; «вообще идеи, — говорит он, — как начала пауки положительной, суть гипотезы, которых основания она не указывает». Философия, напротив, рассматривает их как действительные гипотезы и возвышается от них до «начала непредполагаемого, до начала всего».
Здесь — явная антиномия: идеи суть откровения высшей сущности, т. е. «начала непредполагаемого», и идеи суть гипотезы, ищущие обоснования в начале непредполагаемом. Как это ни странно, но здесь Юркевич решительно поддался влиянию Канта. Кант был совершенно прав, отвергая за идеей самой по себе конститутивно–логическое значение и демонстрируя антиномии, которые возникают вследствие применения рассудочной логики к идеям разума, но Кант ничего не сделал для идеализма, так как, отказав идеям разума в логическом конститутивном значении, он отнял у них всякое конститутивное значение. Обесславив разум лишением аттестата зрелости, Кант поспешил выдать ему свидетельство о нравственной благонадежности и пришел к мысли о мировой добропорядочности как содержанию метафизики. Но, с другой стороны, Кант не заметил, что, оставляя за разумом регулятивные функции, он тем самым подчинял его логике, отчего и получилась такая всемирная нелепость, как три взаимно исключающих «Критики» у одного автора!
Непонятным образом, на наш взгляд, Юркевич, поело того как он совершенно ясно показал, что идеи, как продукт спекуляции, не вмещаются даже в силлогизм, теперь утверждает, что они — гипотезы. Но спрашивается, откуда мы приобретем новое знание «начал непредполагаемых», чтобы обосновать свои гипотезы? Последнего шага, который оставалось сделать Юркевичу, признать, что умозрение есть умозрение, а не умозаключение, он не делает или, точнее, не переводит всего учения об идеях иа твердую почву идеальной интуиции, хотя он очень приближается к этому, оперируя с идеями Платона. В то же время он явно не признает рассудочную логику достаточным орудием для познания безусловного—отсюда вытекает его компромисс знания с верой. Чтобы уловить этот переход к вере, необходимо остановиться еще на его гносеологическом учении об идеях.
В представлении, образующемся в силу субъективных ассоциаций, мы получаем некоторый образ вещи, в котором больше отражается сам человек, чем его отношение к вещи; необходимость представления есть необходимость психическая, субъективно условленная. Объективное сознание вещи мы получаем в понятии, где исключается субъективный произвол и устанавливается необходимая связь и отношение элементов, составляющих явление. Когда от этой необходимости мы возвышаемся к познанию сущности явления и находим под ее общей необходимостью необходимость разумную, «мы переходим от понятия к идее». Таким образом, идея в отличие от понятия имеет место там, «где мысль возвышается над механической стороною предмета и прозревает в его разумную и единичную сущность». В понятии мышление и бытие связаны друг с другом, но движутся как бы параллельно друг другу; наблюдатель сознает события как нечто для него чуждое и внешнее и по форме, и по содержанию. «В идее мышление и бытие совпадают друг с другом: мысль или разум признается объективною сущностью вещей; идея познается как основа, закон и норма явления, — словом, разум полагается действительным и действительность разумною». В представлении мы не выступаем из сферы психически–ограниченного, в понятии мы движемся в сфере опыта, в идее мы выступаем за пределы опыта, узнаем, что такое вещь в ее отношении к безусловной основе явлений. Следовательно, предположение идеи обозначает по преимуществу философскую точку зрения. В научном зна–Идея.
нии через созерцание и понятие мы имеем дело с одной только внешностью, об идее мы говорим там, где предмет изучения находится в развитии из внутреннего во внешнее, «потому что развитие предмета предполагает закон и тип, которые мы сознаем в идее». В идее разум созерцает внутренний строй явлений, наблюдаемая сторона которых сознается в понятии; в противоположность понятию, раздробляющему знание на множество разнородных областей, в идее явление постигается «в целостном образе, в гармонии и полноте, как выражения одного начала, как виды и ступени одной бесконечной жизни».
В этом установлении познавательной роли идеи еще яснее выступает отмеченная нами антиномия, так как — и совершенно справедливо — Юркевич здесь ясно показывает, что понятие не выходит из области «внешнего» логического определения предмета, а идея только за пределами логики и начинается. Точно так же: понятие имеет в виду общее, а, как видно из разъяснений самого Юркевича, идея стремится к единичному, и сообразно этому понятие должно давать отвлеченное знание, а идея — конкретное и цельное. И тем не менее Юркевич решается характеризовать и здесь идею логическими определениями: она, по его мнению, есть «закон», «норма», «тип».
Юркевич не раз повторяет, что «идея» заключает в себе «закон». Здесь лежит источник многочисленных недоразумений. Идея как цель, как конечный пункт достижения, конечно, может рассматриваться как предписание, сообразно которому нечто действует. Но если только мы полагаем свободу в выборе направления, в назначении цели, то такое «предписание» не есть предписание в буквальном смысле. Мы сами себе не предписываем. В то же время, улавливая идею в чем‑нибудь, мы — даже вполне убедившись, что здесь не имеет места субъективная интерпретация — все же не можем считать идею за закон, выполнение которого необходимо. Мы стремимся к выполнению идеи, но действительное выполнение идеи зависит от условий и обстоятельств. Только некоторые постоянства в последних, «закономерности», создают то, что мы называем законом. Идея противостоит закону как факт и обнаруживается в специфицирующем и индивидуализирующем направлении сознания, и только таким способом она, как конкретное, может противостоять отвлеченному общему.
Это различение — очень важно, иначе возникает ложная мысль о необходимости выполнения целесообразного порядка. Внутреннее противоречие этой мысли очевидно: если бы целесообразность была «законом», то не было бы нецелесообразности, а ее слишком даже много. Но ввиду того, что закон формулируется как отношение условий выполнения идеи, в этом раскрывается эвристический смысл целесообразности и в установлении законов1.
У самого Юркевича мы видим последствия смешения идеи и закона, напр., в его определении «случая». «Случай и есть собственно то, — говорит он, — что не поддается никакой мысли, что бежит от нее, как тень От света, и что всецело исчезает там, где возникает мысль и понимание». Это неверно. Идея вполне оставляет место для «случая». Да и почему такое пренебрежение к случаю, если только мы уважаем факт? Случай есть «непредвиденное», и потому ои неприятен закону и науке, но не идее и цели, осуществление коих удерживает элемент случайности в самой своей фактичности. Раз возникшее противопоставление, заключающее в себе все здесь затронутые вопросы, — противопоставление общего и единичного — должно быть в чисто диалектическом порядке доведено до конца, и, как того требует прямой смысл диалектики, должны быть исчерпаны все идеальные возможности. Только таким путем может раскрыться до конца полный смысл рассматриваемой антиномии и могут быть найдены пути для выхода из нее.
Как разрешает эту антиномию Юркевич? Тут мы опять встречаемся с взглядами, недоконченность которых привела уже Юркевича к его противоречивому пониманию онтологии. Во-1–х, он признаёт разделение опытного и предопытного, апостериорного и априорного несущественным, это — «члены одного неделимого единства», и для того, чтобы познать априорные законы и нормы, мы нуждаемся в опыте, наблюдении и индукции. Л во 2–х, так как различие между явлением и вещью в себе есть различие не метафизическое, а гносеологическое, т. е. явление и сущность суть только различные степени нашего знания, то «познание явления становится по мере своего совершенствования познанием сущности».
Развитие этой мысли см. в моей книге «Явление и смысл», гл. VII.
Вот этой мыслью, на наш взгляд, уничтожается все учение об идее как непосредственном данном умозрения. Если идея не может быть усмотрена в идеальной интуиции так точно, как усматривается явление в опытной интуиции, если она есть только высшая степень опытного познания, то не только уничтожается, как прежде, разница между специальным знанием и философским, как оно достигается в онтологии, но уничтожается и разница между опытным и безусловным, которое, по мысли Юр–кевича, как будто должно было обозначать нечто абсолютное. Подлинно абсолютное не может стоять в реальном отношении к опыту. А раз оно поставлено в такое отношение, оно само становится относительным, и его познание возможно только как познание общего через наши привычные средства рассудочной логики.
Философия и наука
Таким образом, такое разрешение антиномии не может нас удовлетворить. Не могло оно, конечно, удовлетворить и Юркевича. Хотя мы выше и указали элемент кантианства, вошедший вместе с этой антиномией в философию Юркевича, но было бы несправедливо думать, что Юркевич не пытался найти выход менее формалистический, чем выход Канта. Сущность его состоит в том, что Юркевич расширял самое понятие идеи, выводя его за рамки чистой гносеологии и снабжая его новыми, не познавательными элементами. Без признания идеи, думал он, мир был бы для нас простым механизмом, лишенным непосредственного и живого интереса. К такому образу мира было бы нелегко приучить сознание, так как мы заставляли бы человеческий дух расстаться с тем, с чем он расстаться не может, это — «эстетические, нравственные и религиозные влечения человеческого духа».
Очевидно, здесь мы имеем не что иное, как определение подлинного целостного знания, философского знания. Его должна принести с собою идея. Как ни странно, но нужно признать, что эта правильная мысль о характере философии, по–видимому, и дала повод Юркеви–чу разрешать возникшую антиномию тем отнесением идеи в область «должного», которое лишает всякие философские принципы их принципиальной независимости. Вот почему Юркевич принужден сделать и следующую уступку, состоящую в сомнении, направленном на собст венные принципы, и в утверждении веры как источника, будто бы способного возместить то, оснований чего мы не можем найти в философских принципах. От философии, говорит он, никогда не отнимут стремления на метафизическую высоту безусловной Божественной идеи. Но если здесь и невозможно достоверное знание, «то взамен этого знание поддерживается здесь уверенностью, которая рождается непосредственно из нравственных, эстетических и религиозных стремлений и потребностей человеческого духа, или знание встречается здесь с верою, которая в истории науки есть деятель более сильный, более энергический и более существенный, нежели сколько воображает себе исключительная эмпирия».
Так должно быть, если идея не дает безусловного знания, а есть только «усовершенствование» опыта! Юркевич, таким образом, не довел до конца своего учения об идеях, он не увидел специфических особенностей идеи как непосредственно данного идеального бытия, вскрывающего смысл вещей и действительно ведущего. через его уразумение к цельности и единству, в котором философия охватывает все возможные направления интерпретирующего сознания, где моральное, эстетическое и религиозное обнаруживаются не как благородный придаток к механизму мира, а как его собственное оправдание и разумная мотивация. Замечательно, что Юркевич без сожаления отбрасывает логику и уповает на веру, ценность которой видит все же в ее службе на помощь логике. Юркевич, как известно, не один решает философские вопросы в этом странном уповании. Похоже на то, как если бы человек жаждал испить от чистых струй источника, но, не желая своим сосудом «отделять» воду из него, стал бы уповать на чудо, что наступит момент и вода сама поднимется до его уст… Проще уж стать на колени и прильнуть к источнику…
Но все же нельзя не признать в этом отношении κ «источнику» одного в высшей степени важного и значительного для философии момента: здесь видно сознание того, что светлый источник не только предмет для утоления жажды, что предмет философии не есть только предмет познания, но и предмет жизни, который сам жив. Философия здесь обнаруживает такие черты, которые ставят ее в исключительное положение и придают ей исключительное значение в человеческой жизни, так как она не только род знания, но и род поведения. Специальное знание по отношению к ней — то же, что школьный учебник по отношению к жизни. И важнее, чем эта незаконченность мыслей Юркевича, чем его противоречие, его глубокое понимание смысла этого отношения. И как мы высказывали уже, думается нам, что самая незаконченность его мысли в области теоретический философии проистекала только из потребности философской полноты в ее целом и от напряженного устремления в сторону сердечных и любовных нужд и мотивов самой жизни.
Философия, полагает Юркевич, должна быть полным и целостным знанием, но именно поэтому она не может ограничиться познанием одного только механизма мира. Между тем допущение одних только механических деятелей, как мы это видели, означало бы отрицание творческой деятельности в мире, составляющей в действительности его существо, его жизнь и душу. Признать, что и эта деятельность сводится к страдательному произведению другими причинами, не помогло бы нам решить изначально заложенного в нас стремления к цельному мировоззрению. Станем на точку зрения всеобщего механизма, и «весь мир подлежит при этом нашему представлению, как вечно текущая река; части мира выдающиеся и поражающие нас своею жизненностью и красотою обладают в истине призрачным существованием волн, которые не имеют ничего самобытного, ничего внутреннего, ничего живого и которые суть ничто пред равнодушной силой поднимающего их и уничтожающего потока. Вся вселенная есть безусловная внешность, в которой мы напрасно искали бы сре–доточных пунктов как источников ее жизни и развития, — есть действительность всецело страдательная, в которой нет места тому, что мы называем действовать, жить, наслаждаться жизнью как нашим благом, как нашим сокровищем». Вот почему философия и старается уяснить мир в идеях, захватывающих в себя самое разумную сущность с ее необходимыми атрибутами блага и красоты. Философия «пытается уяснить и обосновать то миросозерцание, которого зачатки находятся во всякой человеческой душе и которое необходимо предполагается религиозною и нравственною жизнью человечества». Вопросы об основе и цели мира, об отношении мира и человека к Богу волнуют с неподавимой энергией общечеловеческое сознание и возникают прежде всякой науки с необходимостью не временного интереса, а как духовная задача, касающаяся вечных потребностей человечества. Юркевич признает, что «философия должна быть прежде всего наукою», но он видит в то же время засвидетельствованную всей историей философии трудность «совместить полноту общечеловеческого сознания со строгостью и основательностью ученых выводов» Отсюда он заключает, что философия как целостное миросозерцание есть дело не человека, а человечества, которое не живет отвлеченным и чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь во всей ее полноте и целостности в отдельных моментах философского развития.
Но откуда же берется в философии убедительность того, что выводит нас за пределы логических доказательств? Каким свойством обладают нравственные и религиозные мотивы, чтобы убеждать нас в своем достоинстве и истине?
Чтобы получить ответ на эти вопросы, мы должны прежде всего принять во внимание, что недостаток принудительной силы в доказательстве еще не означает, что доказываемое положение — ложно2. Нужно различать логическую правильность в мышлении и познании и истину. Сумма истин, находящихся в нашем распоряжении и оправданных силлогистически, совершенно незначительна, а человеческий умственный кругозор не мог бы ограничиться этой узкой областью знания, и мы, в конце концов, можем обладать истиной и в таких суждениях, которым не умеем найти полное логическое оправдание. Часто в жизни — и притом в важнейших случаях — мы руководимся соображениями, не имеющими логической принудительной силы, и тем не менее мы достигаем намеченной цели. Человеческий дух не есть машина, вырабатывающая умозаключения и механически отделяющая истину от заблуждения, как зерно от шелухи. Как живая и сознательная личность, он внутренно улавливает истину, раскрывающую для него его нравственное и эстетическое содержание. Он не только знает и может познавать истину, но он заинтересован в ней, и этот интерес, эта любовь к истине дает возможность подойти к ней такими частными и случайными средствами, которые не укладываются ни в какой силлогизм. У нас нет средств для точного наблюдения всех многочисленных и еле уловимых движений духа, а между тем из их правильного сочетания образуется то, что называют тактом, инстинктом или чувством истины. Вообще, человек есть существо не только умозаключающее и анализирующее, но также чувствующее, стремящееся и в обоих этих отношениях интересующееся собственно истиной, а не ее логической формой. Поэтому нельзя думать, чтобы живое человечество считало свою веру безотчетной и бездоказательной, — «эта вера, во всяком разе, основывается на истолковании явлений внешнего и внутреннего опыта; в ней, во всяком разе, дано и то содержание, которое входит в систему ясных и определенных познаний человеческого духа».
Эти полупрагматические, полубиологические соображения могут вызвать немало недоумений, но главное, что вопрос идет вообще не о «доказательстве». Само доказательство есть такой прием убеждения, который нуждается в оправдании. Суть вопроса скорее лежит в источнике нашей уверенности вообще, — всякое доказательство не может быть ничем иным, как сведением доказываемого к такому первоисточнику и началу. В конце концов, единственно, что расширяет наше знание, исправляет его ошибки, уничтожает ложь, есть «факт». И нужно поэтому в нем самом искать источника достоверности или убедительности, нужно чтобы всякий «факт» был очевидным фактом. В одной из своих статей 1 Юркевич вплотную подходит к вопросу об очевидности, притом очевидности умозрения но опять нравственные «нужды сердца» берут верх не только в его рассуждениях, но и в нем самом.
Во всяком случае, постановка вопроса здесь не оставляет желать лучшего. И в области эмпирических наук, и в области философии, констатирует он, есть убеждения, которые оправдываются или фактически, или своим нравственным смыслом, доказывать их—значило бы вернуться к схоластическому заблуждению, будто достоинство знания определяется количеством доказательств. «Мне сказывали, — говорит он, — об одном преподавателе, который любил всякое положение, даже ясное как день, доказывать множеством аргументов и который однажды для доказательства того, что мы когда‑нибудь помрем, сослался на убеждения всего человечества, на свидетельства откровения, на авторитет знаменитейших писателей разных эпох, на здравый разум и, наконец, — да, наконец, —на свидетельство опыта. Говорят, что слушатели после этих аргументов вышли из аудитории с некоторым сомнением, точно ли они помрут когда‑нибудь». «Теням отвлеченной мысли» о доказательстве Юркевич противопоставляет «светлый мир воззрения», «отражениям в камер–обскуре отвлеченного мышления» — «жизненные образы действительности». Слепой, находит он, проходя по улицам без вожатого, руководится априорным мышлением, — он соображает, выводит, умозаключает, где ему перейти улицу, где повернуть направо или налево. Человек, который видит все это непосредственно, не нуждается в умозаключениях. «Было бы смешно, если бы он, подошедши к углу улицы с открытыми глазами и среди белого дня, стал рассуждать: здесь необходимо должен быть угол, потому что ныне от моего дома я сделал столько же шагов и чувствую такую же усталость, как это случалось со мною и прежде на месте поворота в другую улицу; а одно и то же пространство можно пройти, сделавши одинаковое число шагов, и ту же степень усталости можно почувствовать, прошедши то же самое расстояние. Итак, я имею общие, силлогистические основания, из которых следует с необходимостью, что здесь должен быть угол». Можно было бы думать, что этим сравнением Юркевич выполняет то, отсутствие чего так давало себя знать в приведенных выше его рассуждениях об идеях, что он приходит здесь к признанию непосредственного умозрения или идеальной интуиции. Но это не так. Он имеет в виду так называемый внутренний опыт. «Скажем просто, — предлагает он, — что факт представления или познания так же непосредственно дан нам во внутреннем опыте, как факт хотения и чувствования, что, по простому и умному выражению Спинозы, когда я зн! ю или представляю, то я знаю и о том, что я знаю или представляю». Но хотя «внутренний опыт» в своем подлинном смысле и представляет собою один из богатейших источников нашего умозрения и идеальной интуиции, но это — не все. Напр., вопрос о Боге, по поводу которого Юркевич высказывает приведенные рассуждения, не решается одной ссылкой на внутренний опыт, так как, очевидно, идея Бога в самом внутреннем опыте выступает как sui generis трансцендентность. Вопрос должен быть перенесен на принципиальную почву и там только он может быть решен в своей полноте иначе мы неизбежно впадем в истолкование духа как души и перенесем философскую проблему на почву психологии. В эту ошибку впадает и Юркевич. «У нас, — говорит он, — большей частью бывает так, что, доказываем ли мы возможность или невозможность богопознания, в том и другом случае мы обращаемся с этим вечным предметом, как с трупом, рассекаем его анатомическим ножом мысли, спорим, трактуем, исследуем, переисследуем, как будто в этом состоит все дело и как будто живые нужды сердца — которое, по выражению Гербарта, «всегда стремится не дальше и не выше, как до Бога» — не имеют никакого значения и права перед выводами отвлеченной мысли. Не любяй не позна Бога — вот истина, которую мы часто забываем, полагаясь в деле богопознания только на наши мысли, на наши силлогизмы, на наши тощие синтезы и анализы».
Знание и вера
Целым рядом свидетельств из Священного писания Юркевич стремится подтвердить, что именно здесь, в Се. писании, лежит основа тех выводов, к которым он приходит, опираясь на физиологическое и психологическое учение о сердце Согласно библейскому учению, сердце — хранитель и носитель всех телесных сил чело–века, оно — средоточие всей его духовной и душевной жизни. Оно — седалище всех познавательных действий души точно так же, как средоточие всех душевных чувствований, волнений и стремлений. Наконец, оно —средоточие нравственной жизни человека, исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях и поступках, оно «есть доброе и злое сокровище человека». Священные писатели знали не менее определенно, что и «голова» имеет тесную связь с духовной жизнью человека, но все же средоточие ее видели в сердце.
Несомненная связь духовных явлений с головным мозгом приводила философов к мысли видеть в мышлении первоначальную сущность душевной жизни и считать волю и чувствование сердца только видоизменениями и случайными состояниями мышления. Однако «с этими определениями была бы совершенно несообразна мысль, что в самой душе есть нечто задушевное, есть такая глубокая существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления». Сообразно такому взгляду на природу нашей душевной жизни, философия приводила к механизировапию ее и затруднялась в решении нравственных вопросов о свободе и нравственном достоинстве человеческих поступков, которые вытекают не из отвлеченной мысли о долге и обязанности, а именно из непосредственных влечений и чувствований сердца. Таким образом, теплая и жизненная заповедь любви, столь многозначительная для сердца, заменялась отвлеченным и холодным сознанием долга, предполагающим не воодушевленное, не пламенное влечение сердца к добру, а простое, безучастное понимание явлений. А из человекообразное™ наших познаний о Боге приходили к отвлеченному понятию о Его существе, все неисчерпаемое богатство жизни Божьей определяя как всегда себе равное мышление, которое творит мир без воли, без любви, по одной логической необходимости.
Но мышление не исчерпывает всей полноты нашей духовной жизни, и можно думать, что органом души является не только головной мозг, но все человеческое тело, а поскольку сердце соединяет в себе все силы тела, оно должно быть признано и ближайшим органом душевной жизни. И мы можем констатировать, что общее чувство души, т. е. чувство, которое мы имеем о нашем духовно–телесном бытии, дает себя знать в сердце, так как самые неприметные перемены в этом чувстве сопровождаются переменами в биениях сердца. Наши мысли, слова и дела первоначально не суть образы внешних вещей, а порождения нашего сердечного настроения. В обыденной жизни, в заботах о текущей действительности мы обращаем слишком мало внимания на эту задушевную сторону наших мыслей и поступков. Между тем все входящее в душу перерабатывается по особому сердечному настроению души, и никакие возбуждения извне не могут вызвать ее деятельности, если они несовместимы с сердечным настроением человека. «В сердце человека лежит основа того, что его представления, чувствования и поступки получают особенность, в которой выражается его душа, а не другая, или получают такое личное, частно–определенное направление, по силе которого они суть выражения не общего духовного существа, а отдельного живого действительно существующего человека».
Наш внутренний опыт всецело говорит за это. Если бы человек обнаруживал себя одним мышлением, многообразный, богатый жизнью и красотою мир открывался бы его сознанию только как правильная, но безжизненная математическая величина. Мир, как система жизненных, полных красоты явлений, существует и открывается прежде всего для глубокого сердца, а отсюда уже для понимающего мышления. Сообразно с этим лучшие философы и великие поэты всегда сознавали сердце местом рождения их глубоких идей, а деятельность мышления доставляла их идеям только ясность и определенность. И уже в простом представлении, идущем от внешних впечатлений, мы должны различать две стороны: 1, знание внешних предметов и 2, душевное состояние, обусловливаемое этим знанием. Эта последняя сторона не поддается математическому учету, но было бы неправильно оценивать наши понятия только постольку, поскольку они служат выражением внешних образов. Именно эта сторона, определяющая состояние и настроение души, имеет для целостной жизни духа больше цены, чем представление как образ вещи. «Если с теоретической точки зрения можно сказать, что все достойное быть достойно и нашего знания, то в интересах высшего нравственно–духовного образования совершенно справедливо было бы положение, что мы должны знать только то, что достойно нашего нравственного и богоподобного существа. Древо познания не есть древо жизни, а для духа его жизнь представляется чем‑то более драгоценным, чем его знание». Нам никогда не удастся перевести в отчетливое знание тех движений скорби π радости, страха и надежды, тех ощущений добра и любви, которые так непосредственно изменяют биения нашего сердца. Сердце предваряет сам разум в познании истины, и мы нередко переживаем это, особенно в минуты великих затруднений, когда нет времени на силлогизмы, а нужно предоставить себя непосредственному влечению сердца как некоторого нравственно–духовного такта. Только если истина падает нам на сердце, она становится нашим благом, нашим внутренним сокровищем. Только за него, а не за отвлеченную мысль вступает человек в борьбу с другими людьми и обстоятельствами, потому что только для сердца возможны подвиг и самоотвержение. С другой стороны, вступая в сношение с другим человеком, мы в случаях важных ждем, чтобы он высказал свое мне ние не двоедушно, а от сердца. Нам хотелось бы знать, кроме того, при оценке людей не только их знание и понятия, но их сердечное отношение к ним, — волнует ли истина их сердце, каковы w- -влечения, что вызывает их симпатии, что их радует и печалит. Те жизненные отношения, в которых преодолевается формальность и внешность, суть отношения сердечные, отношения дружбы, братства, любви, где человек проявляет себя во всей широте и полноте своих духовных состояний.
Из этих общих положений непосредственно следуют их практические применения, определяющие нравственный смысл человеческой личности и ее поведения.
Если сердце есть средоточие духовной жизни человека, из которого непосредственно возникают все его стремления и помыслы, то никакая теория душевной жизни не может определить тех особенностей и отличий, с какими они обнаруживаются в данной душе при известных обстоятельствах Человек не есть экземпляр рода, в котором повторяется общее содержание других экземпляров, он один в известном нам мире и в этом смысле есть особь или индивид. Таким он себя и знает в своем самосознании, которое и открывает ему не всякую душу, не душу вообще, а эту особенную, с особенными помыслами, стремлениями и настроениями. А отсюда следует, что, хотя бы в истории природы все без изъятия было подчинено строгому механизму, в истории человечества возможны факты, события и явления, которые будут свидетельствовать о себе простым своим существованием и возможность которых нельзя ни отрицать, ни допускать на основании общих законов науки о душе.
Далее, наблюдая явления материального мира, мы открываем в материальных вещах некоторое свойство, характерное для них и состоящее в том, что мы можем как бы продвинуться за них и подсмотреть вызвавшие их причины; точно так же мы можем проникнуть в условия и причины этих последних и т. д. Но если бы и все существующее имело такой характер, т. е. было такой слагаемой из внешних причин сущностью, человеку не пришло бы на мысль говорить о причине безусловной. Но если человечество заканчивает все озои объяснения в религиозной вере, если оно умеет концы и начала всех нитей жизни, знания и деятельности свести к Богу, то это религиозное сознание оправдывается природой человеческого сердца, за которую мы не можем уже стать и подсматривать другие слагающие ее причины, так как она обладает всей непосредственностью бытия, положенного Богом. «Основа религиозного сознания человеческого рода заключается в сердце человека: религия не есть нечто постороннее для его духовной природы; она утверждается на естественной почве».
Но еще решительнее выступает значение сердца в области человеческой деятельности. Мы разумно судим о поступках человека в зависимости от того, определяются ли они внешними обстоятельствами и соображениями или возникают из непосредственных и свободных движений сердца. Только последним мы можем приписывать собственно нравственное достоинство. Христианское откровение о любви как источнике всех истинно и неподдельно нравственных поступков человека находит свое основание в нравственном учении, вытекающем из учения о сердце. Добро есть добро, если оно свободно, а не поневоле, по нужде, из расчета. Но что за охота поступать человеку справедливо, где нет зрителя, который его одобрил бы, где нет личной пользы? «Сердце человека любит добро и влечется к нему, как глаз любит созерцать прекрасную картину и охотно останавливается на ней». Определенное слово Божие открывает нам это метафизическое начало любви сердца к добру, когда оно учит, что человек создан по образу Божию. Конечно, условие нравственной свободы человека лежит в том, что «Бог возлюбил нас первее (1 Ин. 4, 19) и этим влиянием любви… соделал наш дух способным не к простому физическому или тварному возрастанию и укреплению в силах, но и к свободному подвигу правды и любви и к торжеству над тварными влечениями чувственности и самолюбия: в этом лежит последнее условие нравственной свободы человека». Факты говорят большей частью против этой нравственной свободы и против свободной любви человека к добру, — человек действует из побуждений личных интересов и личных выгод. Но откровение знает об этих фактах, «потому‑то Иисус Христос и дает человечеству новую заповедь любви, потому‑то и необходимо обновление человека, если он должен быть в силах исполнять эту новую заповедь».
Нравственные поступки возможны для человека, потому что он свободен, и эта свобода обнаруживается в явлениях души самоопределением ее к деятельности. Дела правды в силу необходимости имеют только юри дическое, но не нравственное значение. Только совершенные свободно, охотно, из любви или от сердца, по усердию, они получают высокую нравственную цену. И соответственно этому мы, фактически, судим о людях вопреки науке, говорящей о каких‑то других источниках нравственности. Во всем человечестве существует убеждение, что нравственное достоинство поступка определяется степенью свободной любви сердца к добру, ради которого оно совершается. Поэтому величайшей ошибкой современных теорий о нравственности нужно признать отожествление разумного и нравственно–доброго, разумности поступка и его нравственного достоинства. «Как мы умеем, — говорит Юркевич, — быть умными без убеждения, так хотим мы быть нравственными без подвига; действительно, то и другое происходит по мере того, как мы основные начала духовной жизни переносим из глубины сердца в светлую область спокойного, беспристрастного и безучастного разума».
Это не значит, что разум вовсе не играет роли в нашем поведении, но это значит, что его правила и предписания могут получить нравственный смысл только после того, как мы уже живем и действуем сообразно своему нравственному назначению. Так, напр., правило «уважай себя, или свою личность» само по себе так же мало открывает начало добрых поступков человека, как и правила, аналитически вытекающие из этого общего требования: корми себя, сохраняй, согревай, поддерживай свое тело, упражняй память, развивай ум, музыкальные таланты и т. п. Без предварительного осуществления нравственной жизни все эти правила не имеют нравственной цены, как не имеет ее и стремление животного к самосохранению. «Вы можете говорить языками человеческими и ангельскими, можете ведать тайны вся и весь разум, можете обладать такою силою и несокрушимостью характера, что не задумаетесь, в случае потребует этого ваша честь или ваш другой интерес, предать тело свое, во еже сжещи е (1 Кор. 13, 12), — и все же при этом необыкновенном развитии личности не иметь нравственного достоинства».
Большее значение имеет для нравственной философии понятие нравственного закона и учение о долге исполнять его, но с этим учением связывается ничем не оправдываемое предположение о том, будто начальный источник нравственного законодательства есть разум Учение об автономии разума расходится с Се. писанием, и оно действительно заключает в себе внутренние неискоренимые недостатки.
По учению Ов. писания, самозаконие ни в коем случае не свойственно человеческому разуму, так как Бог есть Творец как души человеческой, так и ее законов. Закон для душевных деятельностей не полагается силою ума, как его изобретение, а подлежит человеку как неизменяемый, Богом установленный порядок нравственно–духовной жизни человека и человечества. И действительно, нетрудно заметить, в чем заключаются его внутренние несовершенства. Прежде всего, закон нравственной деятельности не есть сам и ее причина, как закон падения тел не есть причина этого падения. Всякое нравственное предписание разума только открывает еще перспективу ожидаемых, но не осуществленных дел, того, что я должен делать, а могу ли я совершить эти дела, имею ли к тому достаточно нравственной силы для этого, — об этом нравственное законодательство разума ничего не говорит. Ум может предписывать, командовать, но только тогда, когда имеет пред собою не мертвый труп, а живого и воодушевленного человека и когда его предписания сняты с натуры этого человека, а не навязываются ей как нечто чуждое и несродное. Ум есть правительственная и владычественная сила, но это не есть сила рождающая. Не правила и мысли о нравственности в рождены нам, а самые влечения и стремления к ней. Для живой нравственной деятельности требуется светильник и елей: «По мере того как в сердце человека иссякает елей любви, светильник гаснет: нравственные начала и идеи потемняются и наконец исчезают из сознания. Это отношение между светильником и елеем — между головою и сердцем — есть самое обыкновенное явление в нравственной истории человечества».
Далее, когда совесть упрекает человека, она не говорит ему: ты сделал ошибку своим законодательным разумом, ты не послушался предписания разума. Такие упреки мы принимаем равнодушно, как упреки за ошибку в математическом счислении, они слишком ничтожны и легки по сравнению с грозным и потрясающим словом совести: «Ты сделал неправду, ты сделал зло: что ты сделал, недостойный своего имени человек, посмотри теперь на себя, какое ты и каковы плоды твоего злого сердца! Здесь мы слышим совсем другие тоны, которые понятны только для сердца, а не для безучастно сооб ражающего разума». И не для разума дана христианская заповедь о любви к ближнему, как к самому себе, а совсем иная способность может перенести нас в это энергическое состояние чистой и действенной любви. «Посему справедливо сказать, — заключает Юркевич, — что во всяком действии любви христианин полагает душу свою за други своя: нужды ближнего, страдания и несчастия падают на любящее сердце с так&о тяжестью, как если бы они касались непосредственно его самого, а не чужого сердца. Конечно, так кипит эта жизнь в своем источнике, а с дальнейшим движением в мир явлений она принимает определенные формы, каковы: справедливость, честность, свободная верность слову и договору, великодушие и благородство, решимость на пожертвования, предпочтение блага общего счастью личному и т. п.».
Таким образом связывает Юркевич библейское учение о сердце с христианским началом нравственности и этим хочет выяснить значение христианской нравственности для нужд практической философии. Он хочет показать, как связываются великие практические интересы духа человеческого и христианского. Наконец, он надеется, что с этой точки зрения правильно определяется «гармоническое отношение между знанием и верою», что здесь, в учении о сердце, указываются глубочайшие основания религиозного сознания человечества и само христианское нравоучение постигается в своем глубочайшем духе и безмерном достоинстве. Разделение между знанием и верой, господствующее ныне, говорит он, как требование знать так, а веровать иначе, кажется невыносимым для людей самых разнородных убеждений. Служение науке не есть служение маммоне, с которым было бы несообразно служение Богу, но не все ясно видят средства к примирению науки и веры. Одно из средств Юркевич видит в тщательном и беспристрастном изучении Библии. «„Возьми и читай", — говорил неведомый голос Августину, который терялся среди сомнений и противоречий своего широкого знания».
Достиг ли таким образом Юркевич того, что считал своей целью? Удалось ли ему показать, что вера и знание «соединимы» в том смысле, в каком он это понимал, т. е. в том смысле, что вера играет роль источника знания, и притом с того момента, когда обнаруживается бессилие разума? Думаете, что нет. А если внимательно продумать высказанные им соображения, то надо, по–видимому, сделать заключение совершенно обратное желанию Юркевича: он очень ярко показал, что вера и знание несоединимы, как масло и вода. Можно только сказать, опираясь на смысл рассуждений Юркевича, что веру и знание до такой степени невозможно связать одним основанием, что они в самом деле без взаимного столкновения могут уживаться в одной и той же душе. Самое лучшее выражение этой мысли дал сам же Юркевич, только не в статье о сердце, а в одной из других статей«Какое бы значение ни имела эта мысль о Боге как общей субстанции вещей, мы все же должны сознаться, что не к этому Богу обращается человек в своем религиозном чувстве, не пред этим Богом он изливает тоску души своей, повергается на колени и молится. Сердце человека возносится в вере и в молитве к такому существу, которое может внимать его воплям и облегчать его страдания; а что там философия может сказать о положительном, действительном или существенном содержании мира явлений, это — предмет, который не имеет прямой связи с потребностями религиозного сознания человечества».
Но так как Юркевич задавался целью с помощью веры проникнуть к цельному знанию, то он просто потопил разум в сердце. И если бы разум действительно был только командующей — как того хочет кантианство, но не Платон — силою, а не рождающей, оправдывающей и осмысливающей в то же время, то во имя блага и нравственных требований мы должны были бы отказаться от него. И я думаю, это—естественный конец для разума, который руководится долженствованием блага: отречение от себя во имя своей цели. Но, может быть, таков и есть путь спасения, спасения, потому что если разум «командует», если он интерпретирует природу, чтобы управлять, познает, чтобы действовать, то ведь любовь и сердце «порождают» нравственные поступки только для того, чтобы послужить ко спасению. Путь, который, таким образом, предлагает Юркевич, есть путь очищения самого разума, и думается, что этот путь должен быть пройден, как был пройден путь его критики. Если разум может выйти и из этого испытания, то какие предстоят ему еще?.. Единственно, что в этом случае может быть поставлено в упрек Юркевичу, это то, что он сам брал разум в слишком узком смысле научного разума. Если есть чистый разум, не ограничиваемый научной логикой, то нужно было бы и его провести через чистилище сердца.
Некоторые из мыслей Юркевича мы считаем нуж ньш еще раз подчеркнуть. Его мысль о первоначально сти не образов внешних вещей, а общего чувства как а, порождения сердечной деятельности заслуживает само— го глубокого внимания. И несомненно также, что сердце является нередко более надежным руководителем на–кдпих действий и душевных движений, чем рассудочным -счет. Не менее несомненно, что для философии все вопросы сердца суть ее вопросы, и очень увлекательна мысль не только ставить вопросы «по сердцу», но и раз–решать их по сердцу. Однако одно это уже говорит, и что «сердце» не может быть принципом философии. Возведенное в принцип, сердце перестало бы быть сердцем, так как «тожественное», равное, «справедливое», невозмутимое и беспристрастное сердце есть самый большой абсурд. Теоретическая философия может и. должна найти свои принципы сердца, но нравственное. учение, построяемое на сердце, спокойно может обойтись и без теоретической философии. Смешение веры и знания, следовательно, с этой точки зрения и не нужно— одинаково как для теоретической философии, так и для нравственного поведения. Если разум не может предписывать нравственного долга, то и благо не может предписывать путей познания. Юркевич сам признает возможность фактов, стоящих совершенно вне общих законов, но разве трудно догадаться, что такие факты имеют прежде всего нравственное значение? Но, стоя, вне законов, они и не могу г быть долженствованием для разума.
ι Это убеждение Юркевича в существовании фактов, стоящих вне общих законов и засвидетельствованных только в их простом существовании, совершенно антинаучно — и в этом его исключительная ценность. Из этого существования, кажется мне, можно получить не разгадку, конечно, нравственной проблемы, но указание на то, в чем лежит ее коренная загадка, так как роль подлинных двигателей в области нравственного всегда играют те неуяснимые, но несомненные «перевороты», «преображения», «воскресения» и рождения к новой жизни, достоверность которых лежит только в факте признания их существования. И с этой же точки зрения заслуживает самого серьезного внимания протест Юркевича против отожествления разумного и нравственно–доброго или, что то же, признание нравственного неразумным.
Наконец, едва ли не самой тонкой мыслью Юркевича оказывается мысль о значении сердца в смысле определения индивидуальности и личности. Но тем более именно здесь хотелось бы, чтобы было открыто, каким образом оно же, сердце, является источником нашего взаимного разумения, социального единения и, следовательно, фактического, а не «выводного» социального единства. Другими словами, как «стирается» отдельность и обособленность в среде «ближних»? Сам Юркевич признает, что сосредоточенное в сердце самосознание открывает только эту душу, но откуда же единство их и взаимное общение? Не в духе русской философии было бы признать обособленную реальность и первоначальность индивида, и Юркевич сам заканчивает одну из своих статей замечательными словами: «Философия, как целостное миросозерцание, есть дело не человека, а человечества, которое никогда не живет отвлеченным или чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную жизнь во всей полноте и целостности ее моментов».
Итак, если сердце создает определение личности и индивида, то как же через сердце возможно это общее дело человечества?
Этот вопрос дает нам повод затронуть еще один важный пункт в этических взглядах Юркевича. История человечества, думает он 2, начинается непосредственною жизнью лица в общем, в племени, в роде; человек долго не хочет и не умеет выделить себя из общего, — его нравственность есть нравы племени, его знание — авторитет старших, он радуется и скорбит не за себя, а за свое племя, за его счастье и несчастье; совершенство и слабости целого он относит к себе, как будто дух этого общего есть его непосредственный дух. Общее благо так близко его сердцу, что он долго не может выделить из этой идеи представление о своей частной выгоде. Даже предметам неодушевленной природы придает он свое собственное достоинство, одушевляет их, вкладывает в них свою душу с ее нуждами и сочувствует им. «Живые потребности любящего сердца, еще не охладевшего от опыта, понуждают его видеть и любить жизнь даже там, где опытный ум не видит ничего живого и воодушевленного. Человек начинает свое нравственное развитие из двджений сердца, которое везде хотело бы видеть благо, счастие, сладкую игру жизни, 1 везде хотело бы встречать существа радующиеся, согревающие друг друга теплотою любви, связанные дружбой и взаимным сочувствием. Только в этой форме осуществленного всеобщего счастия мир представляется ему как нечто достойное существовать». Так и мы, развитые эгоисты, не можем относиться безучастно и холодно, по одному личному расчету, не только к человеку, но и к неодушевленной природе. «Когда вы видите, что цветы в вашем саду вянут, вами овладевает какое‑то чувство, похожее на сожаление: вам не хотелось бы, чтобы и эта жизнь страдала. Все, напоминающее вам о страданиях живых существ, вызывает в вас грусть, — грусть не за себя, а за жизнь, совершенно для вас чуждую. Так, уже неодушевленная природа рождает в вас своими впечатлениями чувства не только эстетические, но и нравственные: ваше сердце испытывает легкое волнение от идеи общего блага, которой осуществление вы хотели бы замечать везде, куда ни обратится взор ваш». В человеческом духе есть нечто похожее на то, что католики называют сверхдолжными делами у своих святых, есть средства и силы, так сказать, лишние для цели чувственного самосохранения. Откровение называет этот дух, поскольку он свободен от служения чувственным инстинктам, богоподобным, в силу своего самосознания, возвышающего его над животными, человек признает право вещей как таких, интересуется их происхождением, законами, изменениями независимо от того, какое это имеет значение для его непосредственной пользы. Он находит удовлетворение в знании как знании, в перестройке мира своих субъективных представлений по идее истины. Перенося это в область практической деятельности, мы видим, что вопреки своему эгоизму человек признает право живых существ как таких, т. е. право их на жизнь, на радость и блага жизни, интересуется их судьбами, их страдания и радости отражаются в его сердце и вызывают в нем сочувствие, участие и любовь. «Как в своих познаниях, так и в своих поступках он одинаково признает право того, что не есть сам он, и оттого в первом случае он развивается под идеей истины, а во втором — под идеей добра, в первом случае он выступает как знающий истину, во втором — как любящее и жертвующее сердце». В человеческом духе есть условия, которые взаимным трением рождают «искру благожелания», способную при лучших условиях воспламенить всего человека на подвиг правды и любви. Человек—не злой дух–разрушитель, как и не светлый ангел. Естественная потребность самосохранения может развиться в эгоизм, равно–душный к правде и любви, жертвующий чужим счастьем для своей выгоды, но «эти эгоистические стремления не суть все душевные стремления: человек все же остается человеком, он находит человечество первее всего в себе, в своих понятиях и невольных сердечных движениях, как и в своей судьбе, которая слишком тесно связала его с другими, с родом; поэтому с какой‑нибудь стороны в нем всегда остается психическая возможность любви, сострадания, участия, уважения к другим и т. д.».
Возвращаясь к нашему вопросу, мы видим, что Юркевич с полной ясностью и определенностью признает род и человечество первее индивида, но он просто утверждает это первенство как факт, устанавливает, что оно есть. Но вопрос, очень существенный вопрос, как это есть, как постигает человек в другом человека, как сердце сердцу весть подает, — этот вопрос остается, к сожалению, без ответа. И этот ответ Юркевич мог бы получить, если бы он не отожествил разума с рассудком, идею с понятием, если бы он не принизил во имя долженствования прямо усматриваемого смысла и разумности идеи. Тогда и конкретный идеал нравственного общежития, который видел перед собою Юркевич, имел бы прочное основание, и — что замечательно — в том же сердце, во имя которого он принизил разум.
Но мы не будем дольше останавливаться на том, что еще требует своего положительного раскрытия, и заключим наше изложение мыслями Юркевича о Мире с ближними как условии христианского общежития.
«Когда животные обнаруживают противоположные желания, они необходимо приходят во взаимную вражду, истребляют друг друга — или достигают овоих желаний погибелью других, или сами погибают. Человек, как нравственная личность, не подчинен этой необходи мости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на жизнь и смерть». При встрече противоположных желаний человек обращается к нравственным требованиям справедливости и любви. В них заключается самое прочное условие для водворения мира между людьми, для основания общего дружества и братства. Те, кто пробуждает в человеке эти нравственные требования, — по преимуществу миротворцы. «В древности, когда люди так открыто и чистосердечно высказывали свои ближайшие нужды, обыкновенным приветствием при встрече человека с человеком было желание мира; мир тебе, мир вам, — говорили встретившиеся странники вместо нашего здравствуй или доброго здоровья. Этим приветствием один человек как бы говорил другому: я пришел к тебе не как враг, не с зАм умыслом, будь спокоен, я не оскорблю тебя, не возмущу твоего мира». Человеческие обычаи изменились, но желание мира и стремление к нему составляет нравственную нужду всякого человека. Если бы отношения вражды были для него естественны, он жил бы одиноко. Но человек чувствует живую потребность восполнить себя другими людьми, и не только в материальном, но еще больше в духовном отношении. «Человек испытывает нравственное влечение к человеку как для того, чтобы от его слова и от его мысли получить внутренние возбуждения, питать и воспитывать ими овою душу, так и для того, чтобы–в свою очередь открывать ему свою душу, свои желания, радости и страдания. Здесь мы имеем так называемое чувство человечности, которое дает нашему роду особенное, высшее значение среди других воодушевленных существ этого мира и которое оскорбляется вообще враждебным отношением одного человека к другому». Из этого чувства рождаются общительность, искренность, откровенность, простота, участие и сострадание к несчастным, оно воспитывается влиянием науки, живых примеров, но в особенности истинною и теплою религиозностью, для которой все доброе не только добро, но и священно. Таким образом открывается широкое поле для подвига миротворения. «Во всяком положении и во всякой деятельности вы можете бросать семена мира, которые если не всегда приметны для взора людей, то всегда, однако же, будут видимы всеведущим Богом как чистые зачатки общего блага». Единство всего человечества, полное и безусловное единство его под одним Богом, в одной вере, в одной мысли, под одним законом, в одном благе, в одном совершенстве, — такова высочайшая цель, указанная человеческому роду его Искупителем. «Все наши поступки, все наше поведение с ближними должны быть управляемы верою, что Иисус Христос призвал весь человеческий род к единству под единьш Богом. Кто перевел эту веру из простой мысли в живое содержание своего духа, из головы в сердце, тот во всяком человеке встретит своего, близкого, знакомого, родного, брата. Несогласия и столкновения с людьми, неизбежные в жизни, не погасят в нем ощущения этого духовного родства людей, следовательно, не погасят в нем правды и любви, которые представляют общие и общегодные основания для водворения между людьми мира и братского общения».
Примечания
Философское наследие П. Д. Юркевича впервые предстает перед современным читателем в достаточно полном его объеме. Настоятельная необходимость в издании его сочинений ощущалась в философских кругах уже в начале века. «Мы глубоко убеждены, — писал исследователь творчества философа А. Ходзицкий в 1914 г., — что создающаяся в наше время история философской мысли в России скоро запишет на свои страницы золотыми буквами имя Памфила Даниловича Юркевича» // BP, 1914, № 22. С. 575.
Первая попытка издания сочинений Юркевича была предпринята в 1919 г. Сохранился протокол заседания Московского философского кружка от 13 ноября 1919 г. (за № 5, ГБЛ. ф. 547.5.70, лист 7), из которого явствует, что в издательство т–ва «Задруга» представлен проспект издания серии «Религиозно–историческая библиотека» (проспект подготовлен Н. С. Арсеньевым и А. Ф. Лосевым). В разделе IV проспекта «Издания классических произведений» включен план собрания сочинений П. Д. Юркевича, в котором содержится список основных его работ, просчитан объем каждой статьи и приведены краткие аннотации к работам, которые мы и даем в леммах к статьям нашего тома. Из работ, включенных в предпринимаемое ныне издание, в плане–проспекте отсутствует только статья «Язык физиологоз и психологов» (Сведения любезно предоставлены А. В. С о б о л е в ы м.).
Нельзя сказать, что философская наука последних семидесяти лет полностью обошла молчанием самый факт существования П. Д. Юркевича. Имя его регулярно всплывало в курсах по истории философии и в монографиях, посвященных деятельности Н. Г. Чернышевского и М. А. Антоновича, равно как и в исследованиях по истории психологических учений Однако единственная, насколько нам известно, публикация текстов философа имела место лишь в 1972 г. В IV томе «Антологии мировой философии», посвященном истории отечественной философской мысли, в разделе «Славянофилы и и теисты» В В. Богатовым были представлены эксцерпты из двух сочинений П. Д. — «Разума по учению Платона и опыта по учению Канта» и «Курса общей педагогики» / Антология мировой философии в 6–ти гг. Т. IV. Μ., 1972. С. 129—131.
В настоящую публикацию не включены книги и статьи из педа-| гогического цикла его произведений (Чтения о воспитании. М., 1865;, Курс общей педагогики с приложениями. М., 1869; Общие основания Ί методики. // Педагогический сборник. 1865. кн. 13. октябрь. С. 1060— | 1096; План и силы для первоначальной школы. // ЖМНП, 1870, № 3. С. 95—123; Идеи и факты из истории педагогики. По поводу сочинения Модзалевского: Очерки истории воспитания и обучения. // ЖМНП, 1870, № 9. С. 1—41; № 10. С. 127—188; Будущность звуковой методы. // ЖМНП, 1872, № 3. С. 1—32. и др.). В настоящее издание не вошло также полемическое сочинение «Игра подспудных сил, по поводу диспута профессора Струве». // РВ, 1870, № 4.
С. 701—755, а также «Педагогическая литература, по поводу учебнике уголовного права г. Спасовича» // СЛ, 1864, №№ 9—11.
В основу нашего издания положены прижизненные публикации трудов П. Д. Юркевича. При подготовке текста были сохранены некоторые особенности авторского написания имен собственных, названий и терминов как в оригинальном тексте, так и в цитатах. Необходимые исправления в этих случаях вносились в текст именного указателя. Пунктуация дана в соответствии с современными нормами литературного языка, исключая некоторые случаи авторского акцентирования текста.
Работы, помещенные в сборник, расположены с соблюдением хронологического принципа их выхода в сет.
Выражаем глубокую благодарность Н. К. Гаврюшину, рецензировавшему рукопись сборника, а также А. Г. Вашестову за ценную помощь в работе над примечаниями.
Список принятых сокращений
БТ — «Богословские труды»
БЧ — «Библиотека для чтения»
ВВ — «Вестник воспитания»
BP — «Вера и разум»
ЖМНП — «Журнал министерства народного просвещения»
КДА— Киевская духовная академия
MB — «Московские ведомости»
ОЗ — «Отечественные записки»
ПО — «Православное обозрение»
П. Д. — Памфил Данилович
PC — «Русское слово»
С — «Современник»
СЛ — «Современная летопись»
ТКДА — «Труды Киевской духовной академии»
ФЛ — «Философский лексикон»
ИДЕЯ
Это первая публикация Юркевича, хотя в ней автор предстает вполне зрелым мыслителем. Вскрывая противоречие между фило софскими учениями Платона и Аристотеля, русский философ отдает предпочтение платонизму и на протяжении всей своей жизни остается его приверженцем. Платоновское понимание идеи, по его мнению, поднимает философию на уровень действительных познавательных актов, а не является сферой человеческих желаний и неопреде ленных стремлений духа, как это утверждают положительная наука и современное Юркевичу естествознание. Характеризуя развитие понятия идеи в философии нового времени, Юркевич остановился на вопросе о месте и роли платоновской идеи в системах Декарта, Спинозы, Мальбранша, Фихте и Гегеля. Высокая оценка последнего сопровождалась и критическими замечаниями. В статье уже чувствуется, что зарождение критического отношения Юркевича к гегелевской системе основано на всевозрастающем интересе к философскому учению Канта; свои выводы по этому вопросу Юркевич сформулирует в поздней работе «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта».
Текст публикуется по единственному прижизненному изданию. ЖМНП. 1859. № 10. С. 1—35; № 11. С. 87—125.
С. 18…. некоторые психологи пытаются изъяснять все формы,,, Юркевич имеет в виду представителей школ структурной и функциональной психологии, сформировавшихся в борьбе с интроспективной психологией и получивших распространение в первой половине XIX в. Являясь в целом сторонником теории, восходящей к учениям Декарта и Локка, Юркевич был наиболее близок к геш–тальтпсихологии, к ее фундаментальному положению о том, что внутренняя системная организация целого определяет свойства и функции образующих ее частей.
С. 24. «Если бы небо не имело рассчитывающего ума.,. — древ нее китайское изречение, заимствованное Юркевичем из соч. А. Шопенгауэра «О воле в природе» (гл. «Синология») / Шопенгауэр А. О воле вприроде. Исследование со стороны эмпирических наук. Μ., 1S86. С. 125.
С. 25. Софокл — духовнейший из поэтов древности… — интерес к творчеству Софокла характерен для немецких романтиков. См., в частности, «Историю поэзии греков и римлян» Шлегеля. / Ш л егель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 147—151.
С. 26. «Рождение есть дело Божие…» — букв.: «…рождение и зачатие суть проявления бессмертного начала в существе смертном». /Платон. Пир, 207а.
С. 31. «Природа ничего не делает даром…» — см. Аристотель. О душе. 432 в, 22.
С. 34…. период картезианской философии. — Характерной особенностью философии картезианской школы является жесткое проведение принципа дуализма души и тела и активное привлечение рационалистически–математического метода. В своих крайних формах картезианство переросло в окказионализм (Гейлинкс, Мальбранш).
До Лейбница, которого монада не имеет окон… — см. «Монадологию» Лейбница, § 7 / Лейбниц Г. В. Соч. В 4 т. Т. 1. С. 413.
С. 41. cogito ergo sum —я мыслю, следовательно существую — знаменитое положение из «Первоначал философии» Декарта (1,7,9)/ Декарт Р. Соч. В 2–х тт. М, 1989. Т. 1. С. 316.
С. 48. Мир полагается и существует в я, чрез я и для л. — Юркевич воспроизводит основоположение сочинения И. Г. Фихте «Основы общего наукоучения».
С. 49. Для Гегеля философия тем отличается… — С другой стороны, философия понималась Гегелем как филиация идей, именно на таком принципе он построил свои «Лекции по истории философии»
С. 50. Спиноза говорит.., — термин ideatum у Спинозы — предмет или содержание идей как мысленных сущностей. / Спиноза. Избр. произв. в 2–х тт. М., 1957. Т. 1. С. 269.
С. 59. Если материализм развился исторически из философии Гегеля… — Весьма распространенная мысль о том, что система Гегеля послужила одним из источников развития материалистической философии. Например, Ю. Ф. Самарин писал в «Письмах о материализме» о Гегеле: «Когда, дойдя до Sein, до бытия и не видя возможности тронуться е места, он… припоминает, что есть на свете бытие определенное в пространстве и во времени, целый мир действительности, Dasein (о котором он не знает и не вправе знать), он точно так же оттолкнул от себя ногою мир видимой и осязаемой действительности, как материалист оттолкнул от себя мир духа, другую действительность». /Самарин Ю. Ф. Соч. В 12 т. Т. 6. М., 1887. С-546— 547
С. 57. Самодвижение, саморазвитие — Это положение гегелевской философии наиболее полно рассматривается им в «Науке логики» (Кн. II. «Учение о сущности», отдел 3–й «Действительность», гл. 1 «Абсолютное»),
С. 65. Посему теософия, как материализм… —Б 1815 г. Шеллинг приступил к разработке «философии откровения» и «философии мифологии», объединенных им в систему «теософии», посредствующей между знанием и верой. Согласно ей, философия не может решить свои задачи на основании рационалистического или религиозного методов, а лишь в системе «теософии», прозревая их содержание в жизненном порыве мистического характера.
СЕРДЦЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ПО УЧЕНИЮ СЛОВА БОЖИЯ
Этот трактат по библейской психологии, в котором Юркевич признает за Божественным Откровением значение важного источника многих философских построений, занимает особое место в его теоретическом наследии. Обычно Юркевич проводил четкое разграничение между богословием и философией, но здесь он предстает как богослов и философ одновременно. Следуя традиционной схеме богословского трактата, Юркевич разворачивает ряд аргументов от Священного писания, затем ссылается на авторитет отцов церкви, чтобы перейти к сугубо философской аргументации. Юркевичу удалось развернуть целую философско–антропологическую концепцию о сердце как определяющей основе человека, его физической и духовной жизни. С темой сердца в этой работе тесно сопряжена тема любви. Для существования живой нравственности, согласно Юркевичу, требуется «светильник и елей», и по мере того как в сердце человека иссякает елей любви, светильник гаснет. Вывод философа таков: нравственность обусловлена метафизическим отношением любви сердца к добру.
Подход к сердцу как символу эмоционально–интеллектуальной волевой сущности личности, идущий от ветхозаветной традиции, свойственен христианской философии (католический культ сердца Иисусова или протестантский пиетизм). Для русской философской культуры эта тема стала сквозной. Ближайшим предшественником Юркевича в ее разработке был украинский мыслитель Г. С. Сковорода (см. его диалоги «Начальная дверь к христианскому добронравию», с. 111; «Наркисс», С. 122, 129, 132, 136, 142; «Разговор пяти путников об истинном счастье», С. 341 / С к о в о ρ о д а Г. С. Соч.: В 2 т. Τ, 1. М., 1973). Юркевич постоянно обращался к этой теме ив других своих сочинениях, в частности, педагогических. (См., например, «Из науки о человеческом духе», С. 94—97 наст. изд. или § 72 его «Чтений о воспитании».)
Аннотация проспекта 1919 г.: «Корень структуры человеческой психики обнаруживается в сердце как средоточии эмоционально–цельного потока сознания; характеристика «я» близко напоминает Бергсона или «Stream of Thought Джемса».
Текст—по единственному прижизненному изданию: ТКДА. 1860. № 1. С. 63–118.
С. 83…. лучшие философы и великие поэты сознавали, что сердце их было истинным местом рождения тех великих идей… — Проблеме художественного творчества Юркевич посвятил свою работу «. История немецкой литературы» (не опубликована).
С. 85. Призыв к проверке душевных явлений посредством внутреннего самовоззрения свидетельствует о приверженности Юркевича принципам интроспективной психологии.
С. 87…. нередко встречается в психологии неопределенное учение о существе человеческой души… — Юркевич имеет в виду учение, И. Канта об автономии человеческого разума как законе, вытекающем на разумной природы человека. В «Критике практического разума», автономия рассматривалась как основной принцип нравственного за-, конодательства.
С. 90. Истину между показанными крайностями мистицизма и эмпиризма… — Эмпиризм с его отрицанием метафизической проблематики и мистицизм с его иррационализмом воспринимались Юркеви–чем как крайности, недопустимые при подлинном философствовании.
С. 94. Nemo credit nisi volens — никто не верит, кроме того, кто хочет (лат. — мысль, проходящая через все соч. бл. Августина.
С. 97…. что законы справедливости… имеют значение условное или договорное… — Юркевич особо подчеркивал конвенциональный характер человеческих законов с тем, чтобы ниже противопоставить им законы божественного установления.
С. 98. Юркевич имел в виду этические воззрения русских революционных демократов (Чернышевского, Антоновича и др.).
С. 103. «Возьми и читай…» — Юркевич цитирует «Исповедь» Августина (VIII, 12), ключевой эпизод знаменитой сцены в саду, где происходит обращение к вере, главный поворотный пункт жизни, победа добра в результате потрясающего драматизмом конфликта воли. См.: Августин. Исповедь. / БТ. М., 1978. С. 147 (пер. Μ. Е. Сергеенко).
ИЗ НАУКИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДУХЕ
Статья посвящена критическому анализу известного сочинения Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860, кн. IV. С. 329—336; кн. V. С. 1—46). Юркевич выразил несогласие с позицией неизвестного ему автора («Антропологический принцип…» вышел без подписи), видящего в душевных явлениях лишь видоизменения органической жизни. По мнению Юркевича, совершенно невозможно объяснять духовные явления из материальных. Он аргументирует свою позицию тем, что материальное начало только во взаимодействии с духовным становится тем; что мы воспринимаем как опыт. Говоря о своеобразии психического, рецензент следует теории сознания Лотце. Статья, написанная на столь актуальную тему, серьезно аргументированная и остроумно и непринужденно изложенная, ознаменовала своим появлением тот «переворот во взаимных отношениях наших университетов и академий», который позволил позднее признать значение духовноакадеми–ческой науки наряду с университетской (см.: «Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной академии Киев, 1869. С. 34). В прессе начала 60–х гг. не раз раздавались призывы к тому, чтобы духовная журналистика присоединила свой голос к дискуссиям по животрепещущим вопросам современности. Выступление киевского профессора не осталось незамеченным: вскоре издатель «Русского вестника» Mf Η. Катков перепечатал в своем журнале обширные извлечения из нее, сопроводив одобрительным предисловием (РВ. 1861. Т. 32, апрель, С. 79—105; т. 33; май. С. 25—59).
Н. Г. Чернышевский вступил в полемику, опубликовав в «Современнике» статью «Полемические красоты» (Коллекция первая. // С, 1861, кн. VI. С. 447—478; Коллекция вторая. // С, 1861, кн. VII. С. 133—180). О характере критики, направленной на Юркевича, можно судить, например, по замечанию Чернышевского о том, что он не читал статьи своего оппонента, но знает, что в ней написано, помня свои семинарские тетрадки. «Я чувствую себя настолько выше мыслителей школы типа Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мнение обо мне» (цит. по: Чернышевский Н. Г. ПСС. Т. VII. М., 1950. С. 773). Полемика между Чернышевским и Юрке–вичем породила оживленные отклики в русской периодике («Старые и новые боги» Μ. Н. Каткова // РВ, 1861, февраль; «Моим критикам» П. Лаврова // PC, 1861, июнь; перепечатка статьи Юркевича с отзывом С. Дудышкина в 03, 1861, июль; отзывы в РР, 1861, № 86; БЧ, 1862, кн. 5 и др.
Весьма выразительно прозвучал ответ Μ. Н. Каткова на шумную, но достаточно безосновательную кампанию против Юркевича. «В самом деле, — пишет он, — г. Юркевич не отрицает того, во что так веруют гг. Чернышевский и Антонович, но он, кроме этого, допускает и еще кое‑что, чего эти господа не допускают, не допускают именно по чувству слепого культа, возбраняющего употребление собственного мышления» (РВ, 1861, июнь. С. 143).
Текст —по первому прижизненному изданию: ТКДА, 1860, № 4. С. 367—511.
С. 105. Скажем с Лейбницем… —У ченне о монадах, изложенное Лейбницем в его «Монадологии», является ключевым звеном его философской системы.
С. 108. Представители этой теории… — Юркевич имел в виду представителей вульгарного материализма, весьма популярных в России в середине XIX в. Сочинения вульгарных материалистов активно переводились и пропагандировались их русскими последователями. См., например: Бюхнер Л. Сила и вещество. 1855, рус. пер. 1860; Природа и наука. 1857, рус. пер. 1881; Молешотт Я. Вращение жизни в природе. СПб. 1867; Он же. Физиологические эскизы. М., 1865: Естествознание и медицина. СПб., 1866; Единство жизни. СПб., 1866; Границы человека. СПб., 1866; Причины и действия в учении о жизни. М. 1868; Φ о χ τ К. — Человек и его место в природе. Т. 1—2. СПб., 1863—65; Естественная природа мироздания. М., 1863; Физиологические письма, вып. 1—2. СПб., 1867.
С. 108. Мы прочитали две статьи этого направления… — Помещенная в «Современнике» без подписи, статья «Антропологический принцип в философии» (С, 1860, кн. IV, отдел «Современное обозрение». С. 329—336 и кн. V. С. 1—46), вызвала большие толки в обществе. См., в частности: «По поводу полемики из‑за статьи г. Юркевича» //ПО, 1861, сентябрь. С. 56—104.
С. 109—110. См.: Чернышевский Н. Г. ПСС. Т. 7, С. 258. Цитаты, приводимые Юркевичем, сверены с текстом «Антропологического принципа в философии», помещенном в ПСС Н. Г. Чернышевского. Далее см.: Т. 7. С…
С. ПО. И это произошло оттого… см.: Т. 7. СС. 262, 263.
С. 111. «Физиология разделяет многосложный процесс…» — см.: Т. 7. С. 269.
С. 112. «Основанием для той части философии…» — см.: Т. 7. С. 240.
С. 113. «Психология говорит…» — Т. 7. С. 265—266.
С. 113—114. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь…» — см.: Т. 7. С. 240.
С. 114. Материя, как говорит Шеллинг, стремится, порывается родить дух—хм. третий раздел «Системы трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга «Система теоретической философии согласно Ьсновоположениям трансцендентального идеализма», глава «С. Теория продуктивного созерцания». // Шеллинг Ф. В. И. Соч. В 2–х тт. Т. 1. М., 1987, С. 310.
С. 117. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь…» — см. Т. 7, С. 240.
С. 120. «Если бы человек имел кроме реальной своей натуры…» — см.: Т. 7. С. 240—241.
С. 121—122. «При нынешнем развитии географии…» — см.; Т. 7, С. 250–251.
С. 123. «А тесно связано с X…» — см.: Т. 7. С. 270. С. 124. «При единстве натуры…» и — далее —см.: Т. 7. С. 241—242.
mysterium magnum мистиков — великая тайна (лат.).
С. 126. Так и думали философы, о которых говорим мы… — Юркевич часто обращался. к философским идеям картезианской школы, А. Гейлиькс говорит о Боге и его атрибутах и «Истинной метафизике» («Metaphysica vera», 1691), Η. Мальбранш пытался преодолеть декартовский дуализм. Согласно ему, Бог есть высшая посредствующая среда между духом и внешним миром. Труды картезианцев оказали решающее влияние на формирование учения о «психофизическом параллелизме».?!
ex nihilo nihil fit —из ничего не бывает ничего (лат.).
С. 132…. чистая материя… есть ничто, небытие. — Наиболее полно учение о материи как небытии изложено в «Пармениде» Платона.
См. 132. Мы не будем следить за сочинителем; как он доказывает… —см.: Т. 7. С. 247.
С. 134. Метафизическое εν και παν (греч.) — одно всеединое. формула, восходящая к Ксенофану; das Eine All Гегеля.
Геометрия разлагает круг… — Т. 7. С. 269.
С. 135—136. «Предлагается, например, головоломный вопрос…» — Т. 7. С. 264.
С. 140…. доктор Гуфеланд — знаменитый врач, автор столь популярной ныне «Макробиотики», К. В. Гуфеланд являлся активным противником френологических теорий.
С. 141. Мнение Чернышевского о Шопенгауэре, Фихте–младшем к Фрауэнштедте — см.: Т. 7. С. 226.
Философ–идеалист X. М. Ю. Φ ρ а э н ш τ е д τ известен, в частности, своей полемикой с Л. Бюхнером — см. его «Der Materialismus Eine Erwiderung auf d‑r L. Buchners «Kraft tmd Stoff».
с. 141—144. Цитата из Шопенгауэра— см.: Шоп ен г а у эр Α. Мир как воля и представление. Соч., Т. II, М., 1901. С. 53—55.
С. 146. Психолог Бенске говорит… — Б е н е к е, считавший важнейшей наукой эмпирическую психологию, был активным противником метафизики; своим соч. «Прагматическая психология» внес вклад в развитие субъективно–идеалистической концепции виутрги–него опыта.
Когда Улисс возвратился на родину. см. эпизод возвращения Одиссея: Од., XVII, 290—327.
С. 148. В психологии отцов церкви… эта способность называется логосом — Логос, собственно, «слово», «речь», «смысл», как онтологический термин вошел из античности в средневековую философско–богословскую культуру как «слово, адекватно выражающее какую‑либо мысль и потому от нее неотделимое» (А. Ф. Лосев). Учение о Логосе, развитое неоплатониками, было воспринято отцами церкви как воплощение сына Божия, посредствующего между Богом и людьми.
С. 149. Наш сочинитель говорит… — Т. 7. С. 276.
С. 150. Гете сказал, что один человек может различать — см. ге–тевский «Очерк учения о цвете». // Гете. И. В. Избранные философские произведения. М., 1964. С. 130.
С. 151. Бенеке говорит, что… — это рассуждение Бенеке находится в гл. IV «О некоторых особенно важных группах и родах представлений. О нашем Я, §§ 32—35 соч. Бенеке Ф. Э. Основания психологии и логики. СПб., 1871. С. 118—128.
С. 153. Лейбниц сказал, что только животные суть чистые эмпирики… — Лейбниц Г. В. «Введение к новым опытам о человеческом разумении». // Соч., Т. 2. С. 50.
С. 154…. сочинитель доказывает присутствие мышления и животных… — Т. 7. С. 278.
С. 155. «Мышление состоит в том…» — Т. 7. С. 277.
С. 156. Сочинитель говорит, что мнение, будто бы животные не способны к умственному развитию… — см. Т. 7. С. 275.
С. 158. «Привязанность собаки вошла в пословицу»… — Т. 7. С. 281.
С. 159. Инстинкты, говорит Кювье,… — см. его Sur Tinstinct et Tintelligence des animaux. P., 1841. В трудах Ж. Кювье, помимо фундаментальных разработок в области палеонтологии, сравнительной анатомии и систематики, содержались теории общефилософского характера, как, например, «принцип корреляции частей организма».
С. 162. «Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое…» — Т. 7. С. 264.
С. 163. Там же.
С. 166…. еще древние признавали справедливость главною добродетелью.. — см.: Платон. Законы ХПс сл.; Аристотель. Ни–комахова Этика. 1103 а5.
С. 167. «Если, например, кто‑нибудь отказывает свое наследство…» — Т. 7. С. 286.
С. 171…. против морали ригоризма —τ. е. непреклонного соблюдения строгих принципов нравственности.
С. 172…. брамаиЗм очень последовательно пришел к убеждению, что быть человеком —грех и неправда… — Знакомство Юркевича с восточными религиозно–философскими построениями опосредовано работами А. Шопенгауэра. См.: Шопенгауэр А. О четверном корне закона достаточного основания. М., 1886. С. 122—123.
С. 173. Подобным образом говорит Спиноза… — Проходящая через все творчество Спинозы мысль о том, что «высшее благо для души есть познание Бога» «Этика», гл. IV. // Спиноза Б., Т. 7. С. 543.
С. 174…. для него удовольствие, как говорит Тренделленбург, есть торжество цели или идеи. — Немецкий философ и логик Φ. Α. Τренделленбур г, выдвинувший концепцию т. наз. органического мировоззрения, развивает эту мысль в соч. «Естественное право на этическом основании» («Naturrecht auf dem Grunde der Ethik». 2Aufl. Leipzig, 1868).
Утилитаризм в нравственности есть то же, что фетишизм в рели гии. — Юркевич удачнв отмечает общность между магическим прак тицизмом фетишизма и этическим учением утилитаризма, имевшим своей основной задачей достижение пользы и благополучия индивида. Основателем утилитаризма считается И. Бентам, сочинения которого пользовались широкой популярностью в России.
С. 176. «действительным источником совершенно прочной пользы…» — см.: Чернышевский, Т. 7. С. 292.
С. 177. «Вообще надобно бывает только всмотреться…» — там же. С. 283.
С. 178. Английские философы находили в человеке… — Характерной особенностью английской философии была ее обращенность к человеку. Таковы, например, работы Т. Гоббса «О человеке», Дж. Локка «Опыт о человеческом разуме», «Трактат о человеческой природе» Д. Юма.
«Нельзя отрицать, не делая величайшей нелепости…» — цитата из IX гл.\«Исследования о принципах морали». См.: Юм Д. Соч. в 2–х тт. Т. 2. М, 1965. С. 314.
С. 181. Человек начинает свое нравственное развитие из движений сердца… — Юркевич продолжает развивать тему «философии сердца» — см. предыдущее сочинение.
…сверхдолжные дела у святых — согласно католической доктрине, церковь с предстоящими святыми обладает определенным запасом добрых дел, которые позволяют обеспечить спасение грешников. Отсюда м. пр. проистекает институт индульгенций.
С. 184. «. У. на челе его высоком не отразилось ничего» — см.: М. Ю. Лермонтов. «Демон» / Избр. в 2–х тт. Т. 1. М., 1967. С. 410.
С. 186. Он говорит: — см.: Чернышевский. Т. 7. С. 283.
С. 189. «Друг, проводящий целые недели у постели больного друга…» — Т. 7. С. 285.
С. 190. Эти статьи действительно принадлежат к философии реализма… — Термин «реализм» весьма многозначен. В самом общем значении реализм утверждает наличное бытие действительности, лежащей вне сознания. В средневековой философии реализм сформировался как утверждение реальности общих понятий в споре об универсалиях. В XIX в. широкое распространение получил т. наз. наивный реализм, полагающий, что мир вещей таков, каким мы его воспринимаем. Парадокс философских споров Юркевича и Чернышевского состоял в том, что оба они относили себя к философии реализма с той разницей, что реализм Юркевича имел корни в платоновском реализме понятий, а реализм Чернышевского — в философии наивного реализма.
МАТЕРИАЛИЗМ И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ
Статья является исследованием о месте и роли материализма в западноевропейской мысли XIX в., а также об отношении материализма к метафизике вообще. Научность материализма, по мнению Юркевича, заключается в указании на многостороннюю зависимость между физиологическими и психологическими явлениями, а также в определении причинной взаимосвязанности мира. Юркевич считает, что при определенных условиях материализм может стать подлинной философской системой с развитой метафизической проблематикой. Современный Юркевичу материализм рассматривал опыт в рамках понятий безусловного механизма и строгих причинных отношений. Центральная мысль статьи Юркевича состоит в том, что подлинная философия должна относиться к безусловному механизму как к принципу вторичному и зависимому и закон причинности ставить ниже идеи бытия и сущности, которые не определяются физическим началами.
По сути, статья явилась продолжением той полемики с мате риалистической философией, которая была начата статьей «Из науки о человеческом духе».
Публикация по единственному прижизненному изданию: ЖМНП. то. Т. 108. С. 1–53.
С. 194. В Германии различные философские партии… — — Возникновение философских партий в Германии обычно связывается с разложением гегельянства — Б. Бауэр, Д. Ф. Штраус, Л. Фейербах.
…искусство Горгиаса… — — Имеется в виду софистика.
С. 204. Сноска в тексте: перечисляются работы Канта: «Метафизические начала естествознания», «Основы метафизики нравственности» и объединенные в «Метафизике нравов» две работы — «Метафизические основы учения о праве» и «Метафизические основы учения о добродетели».
С, 214…. как выражается Лотце очень метко… — транссубстан–цнация — термин метафизического учения Лотце об Абсолютной субстанции. Лотце связывает философское учение об абсолютном боге с религиозным представлением о Боге. См.., например, его «Микрокосм» —русский пер., ч. 1—3. СПб., 1866—1867.
Локк, на основании анализа человеческих представлений-. Учение Д. Локка о первичных (Юркевич употребляет термин «первоначальных») и вторичных качествах изложено в соч.: Локк Д. Опыт о человеческом разумении, кн. 2. / Соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 154—459.
С. 229. Natura naturans — природа производящая (лат.). — Термин, широко употреблявшийся Спинозой.
natura natигatа — природа произведенная (лаг.).
…как это доказывал Φ е хне р. — Это доказательство Г. Т. Фех–не. р приводил в своей работе «Элементы психофизики» (1860).
…как это высказать не задумался Фохт — см. его сочинения «Человек и его место в природе». Т. 1—2. СПб., 1863—65 и «Естественная природа мироздания». М., 1863.
С. 233. actio in distans — действие на расстоянии (лаг.).
С. 234. Материи, говорил Декарт, не свойственно движение… — «движение есть только модус движимой материи» —см. § 36 «Первоначал философии» / Декарт Р. Соч. Т. I. С. 367.
С. 235…. тот же источник движения Аристотель находил в уме… — см.: Аристотель. Метафизика. 988а.
С. 236. causa immanens в философии Спинозы — действующая причина как механический принцип, подчиняющийся принципу телеологии. /Спиноза. Б. Т. 1, С. 361.
С. 237. causa sui есть и для Гегеля абсолютная истина причины. — См.: Гегель V. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. JL Наука логики. М., 1974. С. 331.
С. 238. Философия должна познавать явления sub specie aeter‑nitatis — с точки зрения вечности (лат.) — см.: Спиноза. Этика. V, 36/Спиноза. Б. Т. 1. С. 612.
С. 239. Юркевич имеет в виду термин ионийского натурфилософа Анаксимандра апейрон, обозначающий начало всего сущего, пер–вовещество и бесконечность природы.
С. 241. Таков смысл еербартова положения «So viel Schein so νίέΐ Sein» — Вероятно, имеется в виду «Wie viel Schein so viel Hind‑leitung aufs Seyn» — насколько видимость, настолько указание на бытие (Allgemeine Metaphysik, Nebst den Anfangen der philosophi‑schen Naturlehre, in: Herbarts Semtliche Werke. Bd. VIII. Langeri‑salza, 1893. S. 53). Там же Гербарт замечает: «Видимость здесь не отрицается, даже не умаляется, но следует отметить, как, собственно, ничто — ничтожится» (S. 53). То, что видимость манифестирует истинное бытие, характерная черта реалистической метафизики Гер–барта.
ПО ПОВОДУ СТАТЕЙ БОГОСЛОВСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, ПОМЕЩЕННЫХ В «ФИЛОСОФСКОМ ЛЕКСИКОНЕ» (Критико–философские отрывки)
Данная работа является развернутой рецензией вышедшего первого тома «Философского лексикона» профессора философии Киевского университета С. С. Гогоцкого. Издание четырехтомного словаря (Киев, 1857—1873), несмотря на компилятивный его характер, стало выдающимся событием в философской жизни России XIX в. — по сути, это была первая русская философская энциклопедия. Юркевич весьма критически отнесся содержанию «Философского лексикона» и представил в редакцию журнала ТКДА подробный анализ всего тома, ко опубликованы были только материалы, касающиеся статей «Аскетизм» и «Бог». К сожалению, ныне не представляется возможным опубликовать это сочинение в его полном виде. По свидетельству исследовавшего архив библиотеки КДА А. Ходзицкого (Ходзиц–кий А". П. Д. Юркевич. Очерк жизни, литературной деятельности и богословско–философского мировоззрения». // BP. 1914. № 18. С. 822) уже к 1914 г. рукопись оказалась утраченной. Сообщение это заслуживает полного доверия, так как автор дает перечень сохранившихся рукописей профессора, по–видимому, привезённых братом П. Д. в Киев после его кончины.
Критическое отношение Юркевича к труду С. С. Гогоцкого было обусловлено различной направленностью их философских миросозерцании. В этот период Юркевич тяготел к синтезу философских учений Платона и Канта, Гогоцкий же был последовательным сторонником философии Гегеля, изучению которой и посвятил свою диссертацию (Киев, 1860), в то время как магистерская его диссертация называлась «Критический взгляд на философию Канта» (Киев, 1847).
Существенной особенностью публикуемой работы является обоснование строгого различения предметов исследования философии и богословия. Одновременно с этим Юркевич подчеркивает, что для богословия совершенно не безразлично, каким образом философия обосновывает понятие Бога. В заключение, оставив в стороне критику ФЛ, Юркевич обратился к анализу проблемы доказательства бытия Бога. Аннотация проспекта 1919 года характеризует статью так: «Протестуя против излишнего «диалектизма» Гогоцкого, Юркевич показывает, что центр тяжести всякой доказательности лежит в интуитивной установке некоторых непосредственно данных истин. Очень интересно в сопоставлении со взглядами Гуссерля. Интересно, что, обсуждая Канта в данном вопросе, Юркевич оказывается близким к нему в обсуждении правомерности логически–диалектических аргументов. Он весьма ценит требования «Критики практического разума» и близок к толкованию Якоби» (см. упомянутый протокол заседания Московского философского кружка).
В немногочисленной литературе о П. Д. Юркевиче эта работа признается кульминационным пунктом Киевского периода его творческой деятельности (см.: Волынский А. Л. Русские критики. СПб., 1896. С. 326).
Текст —по единственному прижизненному изданию: ТКДА. 1861. № 1. С. 73—95; № 2. С. 195—228; № 3. С. 327—357; № 4. С 467— 496; No 5. С. 30—64.
С. 246. Аристипп не любил математики — см.: Аристотель. Метафизика Кн. 2.2. 996а 33: «Некоторые софисты, например, Аристипп, относились к математике пренебрежительно…»
«…английский философ Гоббс имел основание…» —Взгляд Гоббса, что все мышление может рассматриваться как исчисление имен, характеризует его крайний номинализм, отождествляющий имена и понятия. См.: Гоббс Т. О теле / Гоббс Т. Избр. пр.: В 2–х т. Т. 1. М., 1964. С. 52.
С. 247. «…яркий пример этого романтизма в философии…» — Юркевич имеет в виду философские системы немецкого романтизма (Фр. Шлегель, Л. Тик, Новалис и др.).
С. 248…. в статье «Философского лексикона» об аскетизме… —-см.: ФЛ, изд. второе. СПб., 1859. Т. 1. С. 192—197.
«…будто всякий аскетизм есть пустая абстракция… — см. ФЛ. Т. 1. С. 196.
С. 250. «…рождение есть дело Божие…» — см. прим. к С. 26. «В этом аскетизме… проглядывает самый утонченный эгоизм…» — см. ФЛ. С. 194.
Стоик Клеант — Клеанф из Асса был даже прозван Водоносом. См.: Д и о г е н Л а э ρ т с к и й, кн. VII. 168—169.
С. 250…. а материя, как призрак, как Майя — В текстах У па ни–шад Майей называется богиня, воплощающая принцип обмана в мире. В философии Шанкары «майя» — это принцип «перевертывающегося» преобразования, определяющего существование мира. Юркевич, скорее всего, воспринял этот термин у Шопенгауэра, который писал о «покрывале Майи», подчеркивая иллюзорный характер мира.
С. 251. «В их безусловной бесчувственности…» —см. ФЛ. С. 194.
С. 252. Сократ говорил Антисфену… — см. Диоген Лаэртский, кн. II. 36.
С. 253. «…и ныне многие говорят…» — ФЛ. С. 196. «…и ныне многие говорят о принижении личности…» — ФЛ. С."196.
С. 254. «…ошибка Брамы…» — Брахман как священная сила в учении брахманизма многозначен, являясь в основном своем значении творческим, утверждающим принципом, который все созидает, поддерживает и затем снова возвращается к самому себе.
«…в философии стоической…» — Этика является центром философии стоицизма (основателем ее считается Зенон из Ки тиона). Идеалом стоика был непоколебимый мудрец, равнодушный к внешнему миру и гордый сознанием своей внутренней свободы.
«…как эпикурейские боги, он был равнодушен к судьбам мира…» — Как известно, Эпикур помещал богов в междумириях бесконечного количества миров, возникших от столкновения атомов. Бессмертные и счастливые, боги не знали забот о мире и людях. i! i «…в школе неоплатоников и в сектах гностических…» — Неоплатонизм, последняя форма греческой философии, вмещает в себя платонизм и другие философские учения, а также восточную мистику и религию; гностиками называли в первые века христианства философов, стремящихся познать скрытые в вере мистерии путем философских спекуляций.
С. 255. правило квиетизма — Франц Зале с, один из теоретиков квиетизма, сформулировал это правило следующим образом: «не стремиться ни к чему, ничего не отклонять».
…он говорит о педагогах Базедове и его последователях… — см. статья ФЛ «Базедов» (С. 221—224). И. Б. Базедов (1723—1790) основал движение филантропизма, внеся под влиянием Ж. — Ж. Руссо в немецкое просвещение теорию естественного и разумного воспитания.
С. 256. «Как едино существо Божие…» — цитата из статьи «Бог» (ФЛ. С. 233).
С. 259. «Синтез, как синтез…» — цитата из статьи «Анализ» (ФЛ. С. 84—85).
«Под волею разумеется…» — цитата из статьи «Воля» (ФЛ. С. 498).
С. 260. Сочинитель опровергает кантово понятие об автономии… — См. статью «Автономия» (ФЛ. С. 498). Наиболее полно понятие об автономии Кант сформулировал в «Критике практического разума», утверждая, что принцип нравственного законодательства не должен зависеть от побуждений, чуждых долгу.
. «Атог erga rem aeternam…» — «Но любовь к вещи вечной и бесконечной питает дух одной только радостью, и притом не причастной никакой печали; а этого должно сильно желать и всеми силами добиваться». — Цитата из «Трактата об усовершенствовании разума и о пути, которым лучше всего направляться к истинному познанию вещей (Спиноза Б. Избр. пр. М., 1057. Т. 1. С. 322, пер. Я. М. Боровского).
Те, которые с ужасом говорят о решительном пантеизме Спинозы… — Философские характеристики пантеизма очень многообразны, приближаясь в своей классической формулировке «Бог есть мир» к натурализму. «Решительность» пантеизма Спинозы состоит в том, что связка «есть» понималась им в смысле тождества (см. F. Н. J а с о b i. Uber die Lehre des Spinoza. S. 63).
с. 262. He любяй не позна Бога. — 1 Ин. 4, 8.
…нам попалась рецензия на «Философский лексикон»… — В «Литературной летописи» № 27 «Санктпетербургских ведомостей» о г 2–го февраля 1861 г, (без подписи) действительно рецензируется ФЛ, причем автор заметки, подчеркивая достоинства издания, выразившиеся, мехду прочим, в замечательном «диалектизме» автора, высказывает опасение в том, что ФЛ не найдет столько читателей, цколько. заслуживает. В подкрепление этой мысли рецензент приводит следующее характерное рассуждение: «Нашему русскому или, пожалуй, славянскому характеру вовсе не свойственно углубляться в причину вещей: это доказывает вся наша история вообще и каждая ее страница в особенности…. Нам нужно теперь не отвлеченное философское направление, а изучение экономических законов, на которых складывается жизнь» (СПб ведомости. № 27. С. 134—135).
С. 263…. обратимся к обозрению статьи о Боге — См. ФЛ. С. 327—348.
…уже… Ксенофан учил,… что содержание мира явлений… есть одно… — См.: Аристотель. Метафизика. 98бв27.
С. 264. Из обширной системы Богопознания остается для науки только идеал чистого разума. — См. гл. III «Идеал чистого разума» Трансцендентальной диалектики в «Критике чистого разума» (Кант И. Соч. Т. 3. С. 501—511).
С. 265—266. «Для Канта, так глубокого и искреннего философа…» и далее: «Но уже родная дочь критической философии…» — см. J a cob i F. Η. Von den Gottlichen Dingen und ihrer Offenba‑rung. Leipzig, 1811. S. 117—118. Впрочем, Шеллинг, отвечая на критику Якоби, обвинил последнего в неверном понимании своего учения и использовании отдельно вырванных из контекста положений для «бездоказательных утверждений» (см. Schelling F. W. Denkmal der Schrift von den gottlichen Dingen etc. des Herrn F. H. Jacobi… — In: Schelling F. W. Schriften 1804—1812. Berlin, 1982. S. 209.
с. 266. Перечисляя доказательства бытия Божия… — См. ФЛ, ст. «Бог». С. 334.
С. 268. «Идея Бога неразрывно соединена…» — ФЛ. С. 327.
Брама индусов и Тьень китайцев… — Тьень (совр. «Тянь») —фундаментальное понятие китайской философии, конфуцианства, обозначающее Небо. Об атеистических религиях см.: Гегель Г. В. Φ Философия религии. М., 1973. Т. 1. С. 472.
С. 269. Эти две идеи так несходны между собою… — Имеется в виду статья ФЛ «Атеизм» (Т. 1. С. 202—208).
С. 271. «Истина бытия Божия…» — См. ФЛ. С. 329.
С. 272. «Гегель в разборе кантовой критики…» — См. ФЛ. С. 337—338.
«То, что мы называем безусловным существом…» — См. ФЛ. С. 344—345.
С. 274. «Может показаться, что этот исходный пункт,..» — Г е–гель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. I. Наука логики. М., 1974, С. 171.
С. 275—276. «Мыслить это наполненное бытие…» — Там же. С. 170.
С. 276. Гегель… целиком уничтожает то истинное понятие q Боге, какое имел Кант… — Гегель пишет об этом в «Лекциях о доказательстве бытия Бога», приложенных к его «Философии религии». — См.: Гегель Г. В. Ф. Философия религии: В 2–х т. Т. 2. С. 337—498.
С. 277. «Внутреннее призвание бытия…» — См.: ФЛ. С. 329 и далее С. 333.
С. 279. «Мысль наша…» — ФЛ. С. 345. Курсив Юркевича.
С 281. «Разум в нашем духе один…» — ФЛ. С. 331 сл.
С. 284. «Декартово онтологическое доказательство…» — См. ФЛ. С. 336 сл. Декарт развивает онтологическое доказательство бытия Боя£йя в 1–й ч. «Первоначал философии» «Об основах человеческого познания». / Соч. Т. 1. С. 314—348 и в ч, IV «Рассуждения о методе» / Там же. С. 268 сл. Q.,273. л /
С. 285. Via per effectus—посредством действия (лат.).
Actus purus — чистая деятельность, самотождественность чистого бытия (лат.) (схоластическое определение Бога).
Также мы не будем разбирать члена о вере — См. ФЛ. С. 519—533.
…гегелево учение о самодвижении идеи… — одно из центральных мест системы Гегеля. Начиная «Науку логики» с учения о бытии, Гегель закончил ее учением о понятии, прослеживая весь «путь» самодвижения идеи. Абстрактное «ничто» в своем начале, идея в ее самодвижении приобретает сущность бытия, по эта идея, обладающая бытием, предстает уже как природа (См. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. С. 244, 424): К проблеме самодвижения идеи и к сравнению самодвижения с вечным двигателем Гегель обратился в «Философии природы» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М., 1975. С. 383—384, С. 287).
…Per ipsam essentiam sive naturam Die — через саму сущность или природу Бога (лат.).
С. 287…. чтобы все наше служение Богу было словесное, т. е. логичное, разумное. — См. Римл. 12, 1; «словесное» в Синодальном переводе.
Разим поступает по следующему правилу — См. Кант И. Соч. Т. 3. С. 346, 355, 426.
С. 289. Английский философ Кларк рассуждал… — рассуждения С. Кларка о пространстве и времени как непосредственных и необходимых атрибутах Бога можно найти, например, в его 5–м письме к Лейбницу: «Пространство и время по своей природе относятся вовсе не к пропорциям, а к абсолютным количествам, от которых образуются пропорции». / Лейбниц Г. В. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 513.
По Канту, напротив… — кантовское понимание пространства и времени изложено в разделе «Трансцендентальная эстетика» «Критики чистого разума». / Кант И. Соч. В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 127—153.
С. 290. Физикотелеологическое доказательство — т. е. по сути физикотеологичёское. См. об этом у Гегеля: «В доказательствах телеологическом и физикотеологическом обоим пунктам принадлежит общее определение целесообразности. Тут исходят из бытия, которое теперь определено как целесообразное, а то, что этим опосредуется, есть Бог как полагающий цель и достигающий цель». («Лекции о доказательстве бытия Бога».) / Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 2. С. 468.
С. 299…. глубокие исследования Гербарта… — заключались в попытке соединения в понятии «реал» кантовской «вещи в себе» с лейбницианской «монадой». См. такие его сочинения, как «Главные пункты метафизики» (1806), «Введение в философию» (1813) и «Общая метафизика». Т. 1—2. 1828—1829.
С. 308. Аристотель… в своем космологическом доказательстве — Понятие о Боге как первом двигателе см. в «Метафизике», 10/2в. 10—25.
С. 311. «Этот мир открывает нам…» — См. Кант И. Соч. Т. 3. С. 538—539. Гл. 3. Идеал чистого разума. Раздел 6. О невозможности физикотеологического доказательства.
С. 313. Бакон считал смешными… — см.: Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1971—72. Т. 2. С. 83 сл.
С. 315. Кант называет физикотеологичёское доказательство $Р£Р–нейшим… — Утверждение Канта о древнейшем происхождении фЙЭи.
С. 369. «Понятия Льюиса об отношении между физиологией и психологией…» // Там же. С. 235.
С. 370. «Для Льюиса душа есть синоним жизни…» // Там же. С. 236.
С. 372. В моей статье «Из науки о человеческом духе…» / См. С. 128 сл. наст. изд.
«Только посредством фокуса» ц С, № 2. С. 239.
г. Антонович воображает находить в этом тексте… — // Там же. С. 240.
С. 374…. обращается в того мифологического героя… — Персонаж греческой мифологии Иксион, воспылавший любовью к Гере / См. Овидий, «Метаморфозы», IV, 461.
«…что бы там ни толковали противники «Современника» // С, Кя 2. С. 241.
С. 375. «…на этот отрывок противники «Современника» указывали с торжеством» // Там же. С. 234.
С. 376. «Г. Юркевич не может понять…» // Там же. С. 238.
С. 377. Когда г. Чернышевский изъяснял бегство собаки… / См. об"этом с. 154 наст. изд.
«Убедитесь же теперь…» // С, № 2. С. 257 прим.
С. 378. «Душа есть синоним жизни…» // Там же. С. 236—237.
С. 381. divide et impera — «разделяй и властвуй» (лат.).
С. 382. Декарт… рассматривал человеческое тело как машину — См., например, декартовы «Первоначала философии» / Соч. Т. I. С. 345.
С. 383. Τакие умы, как Боэргав… — Знаменитый голландский медик Герман Бургав (Boerhaave) в своих «Институциях» и «Афоризмах» (1708, 1709) настаивал на недоступности психических процессов физическому методу исследования.
…без археев… — Название созидающей живой силы природы, действующей в вещах бессознательно (Парацельс).
С. 385. Шталь учил — Георг Эрнест Шталь, основатель учения об анимизме, согласно которому душа есть движущая сила всех процессов в теле человека. См. «Theoria medica vera». Halle, 1707.
С. 386. Скромный автор статей об антропологическом принципе в философии… I См. ст. «Из науки о человеческом духе» и прим. к ней.
…совершенно совпадает с учением Фихте–младшего. —У чъшъ о душе И. Г. Фихте–младшего развито в его «Психологии». Согласно ему, душа как организующее начало тела предсуществует ему и переживает его после разрушения. См. также его «Антропологию» (1856).
С. 387. даже Либих, который роняет себя… учением о целесообразности явлений органической жизни… — Идеи о целесообразности органической жизни развиваются в главном труде Либиха «Органическая химия в ее приложении к земледелию и физиологии». 1840. Его труды рано стали переводиться на русский яз. См.: Новые письма о химии в ее приложениях к промышленности, физиологии и земледелии. СПб., 1865; Письма о химии. СПб., 1861. Т. 1—2.
По Аристотелю цель есть главный двигатель организма / Аристотель. Метафизика. 996а 27.
С. 389. Жизненный гений, отвечает Гумбольдт. — Теория о жизненном гении развивается А. фон Гумбольдтом в его «Афоризмах».
С. 390. «Душа, — говорит Аристотель, —» / Аристотель. Одуше. 412а 28—30.
С. 392. «Насекомые имеют жало…» /См. Аристотель. О частях животных. IV. 6 сл.
«Бели, — говорит Карус — мы уже хотим разделять душу и тело…» — Цитата из «Оснований кринжккоиии» Карла Густава Ка–руса, положившего в качестве основания общей физиологии учение о целостной символической картине всего бытия. Труды Каруса оказали существенное влияние на психологию XIX в.
С. 393…. физиология остается на том пути, который указан был Декартом… / См. Декарт Р. Описание человеческого тела. Соч. Т. I. С. 423—460.
С. 396. Бенеке… учит… — См. гл. VI «О развитии чувствований», § 43—45 и гл. VIII, § 53 его «Оснований психологии и логики»,. 153—168 и 200–203.
С. 398. Мозг есть как бы гомерическая золотая цепь… — У Г о–м ер а Зевс похваляется, что боги не сумеют низринуть его с неба, даже если все до одного ухватятся за золотую цепь, подвешенную между небом и землей. Илиада, VIII, 18—22. Сравнение, по–видимому, заимствовано у Платона (см. Теэтет, 153 cd).
С. 399. «Мысли, говорит Фохт» / См. «Физиологические письма» Карла Фогта. Изд. 2–е. Вып. I и II. СПб., 1867. С. 298. Письмо тринадцатое. «Нервная сила и душевная деятельность».
«Мозг, — замечает Молешотт, объясняя Фохта, —» / См. Там же, прим. пер.
С. 406…. последователями Гербарта… — Юркевич имел все основания говорить о последователях Гербарта, так как последние были организованы в рамках целой школы гербартианцев, издававших специальный журнал под редакцией Аллина, Циллера и Флюгеля. «Zeitschrift fur exakte Philosophie im Sinne des neueren philosophi‑schen Realismus».
с. 416. Душа, говорил Лейбниц, есть словно какой‑то океан… — См. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении. / Соч. в 4–х тт. Т. 2. С. 54.
С. 421. tabula rasa — чистая доска (лаг.).
С. 427…. венский физиолог Галль… — Учение знаменитого френолога развито в его соч. «Anatomie et physiologie du systeme nerveux en general et du cerveau en particulier» (1810—1820).
с. 430. Юркевич имеет в виду французского физиолога М. Ж. П. Флуранса, исследования которого о функциях центральной нервной системы оказали значительное влияние на развитие психологии XIX в. См. его «Experiences sur le systeme nerveux, faisant suite aux recherches experimentales. P., 1825».
с. 445. Льюис руководствовался… идеями английского мыслителя Бена — Как представитель опытной психологии, Александр Бэн устанавливает неразрывную связь между психологическими и физиологическими явлениями. Его «Психофизиологические этюды» были в извлечениях переведены на русский язык (СПб., 1869).
С. 447. Аристотель называет руку органом души. — См.: «Душа есть как бы рука: как рука есть орудие орудий, так й ум —форма форм» / Аристотель. О душе, кн. III, гл. 8. 432а1.
С. 448…. как выразился Кларк в письме к Лейбницу… — См. об этом во многих местах переписки / Лейбниц Г. В. Соч., т. 1, С. 463, 502, 503, 516, 525.
РАЗУМ ПО УЧЕНИЮ ПЛАТОНА И ОПЫТ ПО УЧЕНИЮ КАНТА (Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета 12–го января 1866 года)
П. Д. Юркевич выступил с публичным чтением тезисов этого сочинения на университетском акте 12 января 1866 г. Согласно старинному университетскому обычаю, университет, празднуя годовщину своего основания, поручает одному из профессоров произнести слово научного содержания. Ранее П. Д. уже выступал с торжественной речью по поводу 300–летнего юбилея В. Шекспира (апрель 1864 г.); пресса единодушно отмечала выдающиеся достоинства доклада (см. «Голос», 1864, № 105, Московские университетские известия, 1864), однако текст не был опубликован.
Темой своего выступления Юркевич избрал проблему соотношения специального и общего знания: в России к середине 60–х гг. достаточно остро встал вопрос об образовании в позитивистском духе в ущерб целостному образованию, объединенному широкой основой философского миросозерцания. Эта проблема давно волновала Юркевича, Еще в 1863 г. он начал свой курс лекций по материализму с изложения дискуссионных точек зрения на проблему единого знания. В этой статье Юркевич сопоставляет философские системы Платона ииКанта. По его мнению, обе они являются фундаментом европейской философской мысли в современном ее состоянии и будущем развитии. Еюлее того, истинность учения Канта об опыте возможна только вследствие истинности учения Платона о разуме. Сравнительный анализ философских систем Канта и Платона можно считать одним из самых глубоких философских сочинений в России прошлого века. Аннотация проспекта 1919 г.: «Блестящее сопоставление взгляда объективно онтологического и субъективного: сравнительная характеристика необыкновенно выразительная».
К сожалению, речь Юркевича, равно как и последующая публикация ее, не вызвала отклика. «Современник», не упоминая, впрочем, статьи Юркевича, в целом отозвался о публикациях в «Московских университетских известиях» следующим Примечанияобразом: «Есть, вероятно, какая‑нибудь роковая, неведомая для нас сила, заставляющая в наши дни печатать тот неописуемый хлам, который они печатают в своем издании…» (Русская литература. Журналистика, февраль 1866 // С, 1866. № 3. С. 46).
Единственным откликом на эту публикацию была заметка Н. Страхова «Главная черта мышления» (03, 1866, апрель, кн. 2), совершенно, впрочем, не понявшего идей Юркевича. По сути, Н. Страховым была выхвачена одна цитата из статьи, охарактеризованная как пример полного непонимания Канта, как отрицание понятия о субъективности опыта, открытого Кантом. Работа Юркевича для Страхова — всего лишь повод снова поговорить о Гегеле и о философии вообще. Анализа сочинения Юркевича в рецензии нет.
Публикация по прижизненному изданию // Московские университетские известия 1866, № 5. С. 321—392.
С. 470. Здесь и далее, обильно цитируя Платона, Юркевич дает, по–видимому, собственные переводы. Во всяком случае, он не следует переводу Карпова, бытовавшему в то время. Во всех случаях неудачного перевода понятий или некоторой неясности текста перевода в примечаниях даются цитаты по новым переводам / См. Платон. Соч. в 3–х т. М., 1968—1972.
С. 477…. идея красоты есть единая и общая сущность прекрасного—букв.: «все прекрасные вещи становятся прекрасными через прекрасное само по себе» —Федон, 100 (пер. С. Маркиша).
С. 478…. апейрон и мэон — См. прим. к С. 239.
«Основываясь каждый раз на мысли, которую я считаю наикрепчайшею…» — Федон, 100а.
С. 482. Она трости сокрушенной не преломит — Мф. 11.7.! С. 485. ουοια όντως ούσα —собств. «сущность, подлинно существующая».
С. 487. Потенции у Шеллинга — Учение Шеллинга о потенции изложено в «Системе трансцендентального идеализма» как взаимосвязь концепций о потенцировании самосозерцания и самосознания.
С. 488. Федр, 247с: «Мысль Бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души» (пер. А. Н. Егунова).
Тимей, 48а: «Ибо из сочетания ума и необходимости произошло смешанное рождение нашего космоса».
С. 490. Аристотель, Метафизика, 997 9сл.: «…поступая подобно тем, кто говорит, что есть боги, но что они человекоподобны. В самом деле, и эти придумывали не что иное, как вечных людей, и те признают эйдосы не чем иным, как наделенными вечностью чувственно воспринимаемыми вещами».
С. 493. Это отношение подает повод отличать рассудок от разума — букв.: «рассудок занимает промежуточное положение между мнением и умом» (Государство, 51 Id).
Лейбниц в своем nisi intellectus — Классическая формула сенсуализма, идущая от Аристотеля («О душе», 403а2—25, 406 11) звучит у Локка так: «Nihil est in intellects quod non fuerit in sensu. [nisi intellectus ipse], — добавил Лейбниц (нет ничего в разуме, чего не было бы в чувстве [кроме самого разума]).
С. 494. Какое удивительное произведение создал Эвклид… — В I кн. «Начал» Эвклид развивал идею всеобщей математики, заключающей в себе начала всех наук.
…reductio ad absurdum… — сведение к абсурду (лат.). С. 497. «Опыт есть первый продукт…» — Только что (см. С. 491) отметивший различение рассудка и ума у Платона, Юркевич допускает в переводе существенную ошибку, смешивая Verstand и Ver‑nunft. См. пер. Η. О. Лосского: «Опыт, несомненно, есть первый продукт, производимый нашим рассудком, когда он обрабатывает грубый материал чувственных впечатлений» / Кант И. Т. 3. С. 766.
С. 497—498. «Главное совершенство познания…» — цитата из соч. «Логика. Пособие к лекциям 1800» / Кант. Трактаты и письма. М, 1980. С. 357.
С. 498. «Что разумею! в самом деле, когда говорят о предмете соответствующем познанию…» / Кант И. Т. 3. С. 704.
С. 499. Кант о явлениях — / см. Кант И. Т. 3. С. 213, 702, 708.
С. 500. Юркевич предпочитает приводить фрагменты греческих философов по изданию Риттера и Преллера / Preller L., Ritter Η. Historia philosophise graeco‑romanae. Berlin, 1838; отсюда — цитирование Платона в латинском переводе.
В трансцендентальном выводе категорий / Кант И. Т. 3. С. 190—216.
С. 501. о воображении / Кант И. Т. 3. С. 204,.
С. 502. „категории… суть формы сознания не личного, не эмпирического.., / Кант И. Т. 3. С. 212.
С. 503….«деятельности чистого мышления… —» / Кант И. Т. 3. С. 170.
С 504. См. Кант И. Т. 3. С. 190—196.
С. 505. Этот первоначальный объект есть основа объективности… I См. Кант И. Т. 3. С. 190—216, 710—719.
В простом и везде одинаковом знании того, что я мыслю… I См. Кант И. Т. 3. С. 191—197.
С. 506. Удовлетворение, которое испытывает при этом чело–век… / См. Кант И. Т. 3. С. 190—193.
С. 508. «Та же самая функция…» / См. Кант И. Т. 3. С. 703.
С. 509. предметы даны нам чрез чувственность… I См. Кант И. Т. 3. С. 155.
…что предмет может быть дан не иначе как в воззрении / См. Кант И. Т. 3. С. 506.
С. 510. Эти феномены категорий.., / См. Кант И. Т. 3. С. 226.
…«как определения времени… по правилам» / См. Кант И. Т. 3. С. 227.
С. 511. in ipsa rerum natura — в самой природе вещей (лат.).
…так Кант… указывает предметы в формальных представлениях или темах вещей / Кант И. Т. 3. С. 220—226.
С. 512. «темы чувственности стесняют категории…» / Кант И. Т. 3. С. 226.
С. 513. Идея мира как целого / Кант И. Т. 3. С. 363.
…в этом единстве возможного сознания и состоит форма всякого познания… I См. Кант И. Т. 3. С. 165—216.
С. 514. В другом сочинении… — «Пролегомены ко всякой будущей метафизике / Кант И. Т. 4. С. 123—126.
Последнее принимает и Кант… / См. Кант И. Т. 4. С. 110—113.
С. 515. «Я очень хорошо вижу, что понятие причины…» / Кант И. Т. 3. С. 117.
С. 516. Он надеялся заменить ее формами пространства и времени I Кант ИТ. 3. С. 129.
С. 517. Метафизический гений Платона — Неудачный перевод, Ср. перевод А. Н. Егунова: «Очевидно, тождественное не стремится одновременно совершать или испытывать то, что противоположно его тождественности и направлено против нее. Поэтому если мы заметим, что здесь это наблюдается, мы будем знать, что перед нами не одно и то же, а многое. (Государство, 436 Ь.).
Кант неосновательно признал присутствие категорий… / См. Кант И. Т. 4. С. 118—122.
С. 522. Prius — то, что раньше всего (лат.).
Предметы опыта… суть определения нашего Я / См. Кант И. Т. 3. С. 145—146.
Вследствие этих иллюзий… / См. Кант И. Т. 3. С. 340—346.
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ. ИЗ ПИСЕМ П. П. ГВОЗДЕВУ
Включая в сборник произведений П. Д. Юркевича ряд писем В. О. Ключевского периода его учебы в Московском университете, составитель преследовал цель не только оживить наш сборник воспоминаниями о лекциях Юркевича, но прежде всего показать атмосферу того воодушевления, которым сопровождалось открытие в университете философской кафедры. Время сохранило для нас несколько свидетельств учеников П. Д. Юркевича о нем, о его лекторских достоинствах, нравственном облике (см., например, относящиеся к киевскому периоду его жн: шп воспоминания слушателя, КДА К. И. Фоменко (Мои могпомпнлнпи о II. Д. Юркевиче// ТКДА, 1911, Т. 3, кн. 12. С. 680 ОНИ; 1 М2, т. 3, кн. 10. С. 324—340) или воспоминания брата философа, директора киевской гимназии А. Д. Юркевича, выступившего с пезмвершенной публикацией в журнале «Гимназия» (Русские педагоги. Памфил Данилович Юркевич //Гимназия, 1888, кн. 1. С. 83—100). Вскоре после кончины П. Д. в «Московских ведомостях» появились воспоминания двух его студентов (см. «Несколько слов о П. Д. Ю. // MB, 1874, № 278, не подписаны и В. Лебедева—в № 292 MB).
Одним из учеников П. Д. в КДА был И. С. Нечуй–Лсвнцкпй, замечательный украинский писатель, мастер социально бытового романа. Облик любимого профессора воссоздан им η повести «Тучи» (1874), где Юркевич изображен под именем профессора Дашкевича (Нечуй–Левицкий И. С. Собр. соч., т. V).
Спустя десятилетия в «Вестнике воспитания» выступил Н. Вы–сотский. // Из далекого прошлого. Воспоминания о студенческих годах в Московском университете // ВВ, 1910, № 7. С. 150—170 (о Юркевиче—С. 158—160).
Мы сознательно выбрали из этого материала письма В. О. Ключевского. Эпистолярный жанр вообще, а мастерский и непринужденный слог Ключевского в особенности живо рисуют обстановку в университетской среде начала 60–х гг., тот первоначальный энту зиазм, с каким студенчество встретило введение лекционного курса по философии, и одновременно ту нарастающую поляризацию общества, о которой сам же В. О. напишет в своем дневнике: «Жутко стоять между двух огней… Мне часто хочется безотчетно и безраздельно отдаться науке… закрыв и уши и глаза от остального окружающего…» (В. О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 223). Учитывая также то обстоятельство, что упоминаемый Ключевским литографированный курс по истории философии П. Д. до сих пор не обнаружен, мы полагаем, что подробный конспект лекций по древней философии создаст представление и об этой стороне творческой деятельности П. Д.
Публикация по изданию: В. О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С, 71—90. Следуя установившейся при издании серии традиции, мы предпочли избежать купюр в тех местах писем, которые прямо не относятся к Юркевичу. Сведения о всех упоминаемых персонажах см. в именном указателе. Многоточиями отмечены места, испорченные в рукописи.
С. 548. «Третий — огонь» — По всей видимости, описка. Первоисточник всех вещей, по Анаксимандру, не огонь, а беспредельное и неопределенное вещество — апейрон.
В. С. СОЛОВЬЕВ. О ФИЛОСОФСКИХ ТРУДАХ П. Д. ЮРКЕВИЧА 1874
В. С. Соловьев неоднократно обращался к философскому творчеству П. Юркевича. Например, в работе «Три характеристики» (Собр. соч. Т. 9, СПб., 1913. С. 380—401) он вспоминает, сэрего учителя, но наиболее полно характеризует его в настоящей работе., И это не. только дань уважения, своего рода венок на гроб П. Д., но и акцентирован–ие исходных философских принципов собственной системы, в некоторых чертах предвосхищенной П. Д. Так, в Собрании сочинений B. С. Соловьева вслед за публикуемой нами статьей помещен философский этюд «Метафизика и положительная наука», который, по существу, является продолжением развивавшейся Юркевичем концепций метафизики.
Впервые статья опубликована в ЖМНП, 1874, часть 178, декабрь, отд. П. С. 294—318.
Публикация — по второму изданию сочинений В. С. Соловьева: Собрание сочинений. СПб., [1912—1914]. Т. I. С. 171—196.
С. 552. Оставленные им труды немногочисленны и не обширны — Наследие П. Д. не исчерпывается опубликованными произведениями. Известно, что после его смерти брат покойного перевез рукописи в Киев, где и передал их в библиотеку КДА. Исследовавший в 1914 г. архив Юркевнча харьковский историк церкви А. Ходзицкий сообщает, в частности, о его дневнике философского характера, написанном на немецком языке (муз. рукоп. № 818 а) и г) (1858—1866), истории немецкой литературы (муз. рукоп. № 834) и других работах (см. Ходзицкий А. Памфил Данилович Юркевич. Очерк жизни, литературной деятельности и богословско–философского мировоззрения.// BP, 1914, № 18, С. 822).
…родился около 1827 г. —согласно воспоминаниям А. Д. Юрке–вича, брат его родился 16.111.1826 г. // Гимназия, 1888, кн. I. С. 92.
С. 553. Первый напечатанный труд Юркевича… — В. С. ошибался: статья «Идея» появилась в ЖМНП еще в 1859 г.
С. 554…. сердце называется истоками жизни… — Иак. 3, 6. См.
с. 72 наст, изд.).
С. 567. «Из науки о человеческом духе» —См. С. 104—192 наст. изд.
С. 572. Четыре статьи… помещенные в «Русском вестнике» — См. С. 367—463 наст. изд.
С. 572…. последний философский труд Юркевича… —- См. С. 464— 526 наст. изд.
…ряд критических очерков под заглавием «Критико–философские отрывки»… —См. С. 245—349 наст. изд.
С. 573. Неточная цитата — См. С. 493—494 наст. изд.
С. 575. Космос, который есть сын Божий, по Платону — См. Ти–мей, 286 сл.
С. 576. Я разумею явления так называемого спиритизма… — Более подробно об этой стороне духовной жизни Юркевича написал в своих воспоминаниях А. Н. Аксаков. Как явствует из этих мемуаров, написанных под непосредственным впечатлением статьи В. С. Соловьева, П. Д. с большим интересом вникал в теорию, пытающуюся соединить натурализм со спиритуализмом. Аксаков упоминает о внимательном изучении Юркевичем сочинений Дэвиса, теоретика спиритизма («Начала природы», «Реформатор», «Врач или о происхождении и назначении человека»). Далее Аксаков вспоминает о намечавшемся Юркевичем цикле лекций по сравнительному анализу философии Конта, Шопенгауэра и Дэвиса (состоялась всего одна лекция этого цикла). См.: Аксаков А. Н. Медиумизм и философия. Воспоминания о П. Д. Юркевиче. // РВ, 1876, январь. С. 442—469.
С. 577. odium — отвращение, (лат.).
ad ocuios — ί. е. очевидно (лат).
Примечания Г. Г. ШПЕТ ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДСТВО П. Д. ЮРКЕВИЧА (к сорокалетию со дня смерти)
Эта работа занимает особое место в философском творчестве Г. Г. Шпета. В обобщающем исследовании «Очерк развития русской философии» (см. Шпет Г. Г. Соч. М., 1989. С. 11—342) им была доложена собственная концепция истории русской философской мысли. Детально изучив источники, Шпет пришел к скептическим выводам. Исходным пунктом скептицизма Шпета во взгляде на русскую философию была его собственная система философских взглядов. Последователь феноменологической философии Э. Гуссерля, он понимал философию как строгую науку и не признавал за философскими построениями статуса подлинной философии, если только они не являются знанием о знании. Как раз этой гносеологической ориентации и не находил Шпет в истории русской философской мысли, описывая ее этапы как «невегласие», «прописи» и «линейки». В философском творчестве Юркевича, в его глубоком усвоении и оригинальной переработке учений Платона и Канта Шпет пакоиец‑то увидел один из первых примеров подлинного философствования.
Публикация по: Вопросы философии и психологии. 1914, кн. 125 (V). С. 653–728.
Ссылки Шпета на труды Юркевича выверены. На С. 635 Шпет цитирует неточно; вместо: «Так, уже неодушевленная природа… чувства не только эстетические, но и нравственные…» следует читать: «… не только эгоистические, но и нравственные…» / См. С. 181 наст. изд.
С. 623…sui generis… — своего рода (лат.).
Примечания
1
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1. — ІІІпет Г. Г. Сочинения. М., 1989, С. 48.
(обратно)2
См. Шпенглер Альберт. История философии. Пер. с нем. под ред. а. Вып. 1—2. М., 1864.
(обратно)3
См.: Труды Киевской духовной академии, 1860, кн. 4, С. 367—512.
(обратно)4
Вопросам воспитания Юркевич повятил ряд книг и статей: Чтения о воспитании. М., 1865; Общие основания методики. — Педагогический сборник, 1865, кн. 13 (окт.); Курс общей педагогики с приложениями. М., 1869; План и силы первоначальной школы. — Журнал Министерства народного просвещения, 1870, №№ 3—4; Идеи и факты из истории педагогики. —Там же, 1870, №№ 9—10; Будущность звуковой методы. —Там же, 1872, № 3.
(обратно)5
См.: Ткачев П. Н. Недодуманные думы. — Дело, 1872, № 1.
(обратно)6
Аксаков А. Н. Медиумизм и философия. Воспоминание о профессоре Московского университета Юркевиче. — Русский вестник, 1876, № 1, С. 442—469.
(обратно)7
См. Приложения к настоящему изданию, С. 550—575.
(обратно)8
См.: Антонович М. А. Избранные философские сочинения. М., 1945.
(обратно)9
Исключение, по–видимому, составляет статья Р. А. Гальцевой в «Философской энциклопедии» (М., 1970, т. 5).
(обратно)10
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. I. Париж, 1948, С. 319.
(обратно)11
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937, С. 242.
(обратно)12
См. настоящее издание, С. 181.
(обратно)13
Из фактов, которые при этом мы имеем в виду, Кант вывел следствие, что наши познания годны субъективно и не имеют объективной истины. Глубочайшая основа этого вывода заключалась в учении тогдашней психологии, что дух есть сознание и ничто более; в таком предположении общие формы воззрения и познания необходимо было изъяснять как деятельности сознания или субъекта познающего, как познающего, так что эти деятельности не имели никакого отношения к предмету, к познаваемому явлению. Но, конечно, дух есть нечто более, чем сознание, чем познающая деятельность; он есть существующий предмет, реальная субстанция, которая в своих состояниях и действиях заключает гораздо больше, нежели сколько может войти в сознание. Сознание не полагает законов знания непосредственным, абсолютным актом, не изобретает их, а находит в действительном объекте, в реально существующем духе. Этого замечания достаточно, чтобы видеть, что субъективный идеализм не вытекает необходимо из рассматриваемых нами фактов.
(обратно)14
То есть в сознание, которое абсолютный дух имеет о себе в духе человеческом.
(обратно)



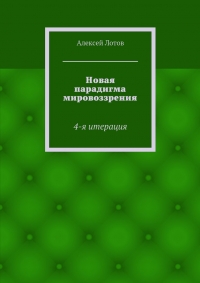
Комментарии к книге «Философские произведения», Памфил Данилович Юркевич
Всего 0 комментариев