Александр Царикаев
БОГОУТРАТА
"Смерть бога" и европейская история
Если книга, которую автор представляет своим читателям, содержит пусть не им первым изобретенные (много ли в наши дни изобретешь нового,по-настоящему нового), но по крайней мере им обретенные и усвоенные идеи, скоторыми он на протяжении долгих лет сжился словно с неким сокровищем душии сердца, то, будь книга хорошей или дурной, автор в руки читателей отдаетчастицу своей души. Он не просто открывает, чем был занят его дух визвестные периоды времени, при известных жизненных обстоятельствах, что засомнения обуревали его в жизни и как он их разрешал, что его подавляло ичто ободряло, но он рассчитывает также на немногих людей, чьи сердца бьютсяв такт с его сердцем, кому в странствии по лабиринту лет стали дороги те же представления.
Иоганн Готфрид Гердер,
Идеи к философии истории человечествa
ВВЕДЕНИЕ В БОГОУТРАТУ
СТРАДАНИЕ
Страдание старше мышления. И по праву старшинства оно указывает ему о чем мыслить. Со временем, если человек дает себе труд мыслить последовательно и систематично, страдание само становится единственным предметом мышления. Мышление есть мышление о страдании и на основе страдания. Разумеется, не всякое думание есть мышление. Но человек начинает действительно мыслить только тогда, когда в орбиту его мышления вовлечено страдание. И на высотах метафизики мышлением все равно руководит страдание - и у чистого разума есть своя чистая боль. Мышление есть атрибут страдания. Несмотря на буддийские нотки, слышимые в этих рассуждениях, понимание страдания, заявленное здесь, далеко от буддийского. Истоки буддизма в таком понимании человека, которое понимает его не как индивидуальный дух с живым отношением к живому и личному Богу, со священными правами на участие в жизни Творения, с видением сверхчувственного мира, все это буддизмом отвергается, в буддизме человек, с одной стороны, есть страдающий, то есть объект жалости, с другой стороны жалеющий. Вся жизнь человека в таком понимании сводится к тому, что люди страдают и причиняют друг другу страдания. Буддийская сентиментальность - это повышенная и обостренная чувствительность, безвольная и беспредметная, чрезвычайно легко и остро отвечает на всякое чужое страдание и начинает безвольно мечтать о его устранении. И к этому сводится вся жизненная мудрость. Страдание есть зло - вот первая аксиома этой мудрости. Если страдание есть зло, то и причинение страдания есть зло. Отсутствие страдания есть добро, а сочувствие чужим страданиям есть добродетель. Так вскрывается первооснова буддийского отказа от мира - он покоится на противодуховном гедонизме. Буддизм есть сентиментальный нигилизм. Буддизм есть религия, которая связывает не человека с Богом, а человека с человеком, притом не верно и не крепко, не дух с духом пред ликом Божиим, а душу с душой пред лицом земного мучения. Европейская философия также очень долго думала, что человеческие поступки определяются стремлением к удовольствию и стремлением избежать страдания. Тем самым удовольствие и страдание определяются как равные друг другу противоположности. А между тем страдание и удовольствие не равны. Страдание старше и мышления, и удовольствия. Страдание одиноко. Удовольствие ищет продолжения и повторения, а страдание ищет справедливости. Справедливость - вот противоположность страданию. Ибо страдание человека, не чувствующего за собой вины во зле мира прежде всего несправедливо. Следовательно, справедливость есть отсутствие страдания. Все дело в этом сакраментальном человеческом «за что?». Отсюда понятно, что приятие вины грехопадения в христианстве есть одновременно и оправдания страдания. В страдании человек реально связан со всем человечеством. Осознавая или не осознавая, страждущий страждет не только за себя, но и за других, искупляя некую долю из общего греха. И в том высшем созерцании, которое возносит взор над индивидуальной болью и мыслит жизнь как путь к самому себе, человек открывает. Что ни одна земная сила не дала ему больше, чем боль, что своему страданию он обязан своим высшим достоянием - свободой. Ибо всякий раз, когда человек готов уже успокоиться в косности, плотскости, цепенееет в службе, в привычке - боль всякий раз толкает его вперед. Только страдание дает мудрость. Боль утончает человека, страдание вскапывает почву души, и болезненность этой внутренней пахоты взрыхляет душу для нового духовного урожая. Путь наверх открывается и дается человеку только в страдании. Ибо сущность страдания состоит в том, что для человека страдающего оказывается закрытым путь вниз - к животному состоянию непоколебимого медвежьего здоровья. Собственно человеческой становится только та часть души, которая не нашла себе успокоения в земном. Страдание есть цена духовности и предел животности, источник воли к Богу. Поэтому мудрость состоит не в бегстве от страдания как от мнимого зла, а в приятии его как добра и залога. Это приятие совершается не только для себя, но и для других. Оно не означает, что человек будет нарочно мучить себя и других, но оно означает, что человек преодолеет в себе страх перед страданием и не будет стремиться прекратить его любыми способами. Мало того: он найдет в себе силы причинить страдание и себе и ближнему в меру высшей духовной необходимости, заботясь лишь о том, чтобы это страдание не повреждало силу духовной очевидности. Духовная очевидность есть очевидность того, что в сердце человека живет знание истины, ради которой он может поднять бунт против небес. Ибо дух больше души. Есть сфера практической боли, известная всему живому. И есть сфера чистого страдания, знакомая только человеку. В сфере чистого страдания человеко сознает, что "вся тварь доныне совокупно стенает и мучится". Знание всеобщности боли понуждает его к мышлению о своей судьбе и судьбе мира. Что есть жизнь? Просто бессмыслица, никчемный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, увядания и смерти человека как всякого другого органического существа? Или же те мечты о добре и правде, о значимости иосмысленности жизни, которые волнуют нашу душу и заставляют думать, что мы родились недаром, что мы призваны осуществить себя, дать творческий исход скрытым в нас силам, оправданы объективно, имея под собой разумное, сверхприродное основание? А может, они просто огоньки слепой страсти, вспыхивающие в живом существе, как стихийные томления, с помощью которыхравнодушная природа совершает через нас свое бессмысленное в вечном однообразии повторения дело сохранения животной жизни в смене поколений? Есть ли в нашем бытии какое-нибудь основание для человеческой жажды любви -или все это только отражения в мозгу той смутной страсти, которая ведома и животному миру, которая обманывает нас, употребляя нас как орудия для сохранения все той же бессмысленной прозы жизни? Есть ли в жизни мира и человека нечто более осмысленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, влекущая все живое к смерти? Ведь это я, живое человеческое существо, гибну, умираю, а меня утешают тем, что существует Бог, Который есть Добро, Который в душе у каждого, Которому поэтому все должно служить, что существует "прогресс", который уготовит лучшее, более радостное существование будущим поколениям, что есть наука, которая дает общеобязательное знание законов природы, той самой природы, которая меня так безжалостно давит. И что есть Бог, Который есть Добро, если на каждом шагу я сталкиваюсь в мире со страданием, злом и какой-то неведомо откуда идущей несправедливостью, присущей самой природе, несправедливостью, осознание которой отливается во мне неуемной злостью на все мироустройство? И что такое душа, в которой якобы живет этот Бог, если помимо Него в ней живет много такого, что очень далеко до добра? И что такое "я", которое задает все эти вопросы? "Я" есть "я" - вот последняя мудрость, которую я могу здесь проявить. Об абсолютной самости моего "я" я ничего больше сказать не могу. "Я"неопределимо по самому своему существу. Самая сущность моего "я" состоит втом, что "я" неопределимо, неописуемо, стоит за пределами слов, а потому и не может быть выражено в них, хотя и постоянно в них раскрывается. Интуиция "я" - это интуиция, которая не открывает за "я" никакой другой сущности, кроме нее самой. То, что я из себя представляю, известно мне через мои действия или сознание. Но чем больше я осваиваюсь со своим внутренним миром, тем более чувствую, что остаюсь в состоянии незнания своего "я". Моя субъективность есть некая бездна, недоступная идее, понятию или образу. Моя субъективность как таковая постоянно ускользает из области того, что я знаю о себе через идеи. Я неизвестен другим людям. Они знают меня в качестве объекта, а не субъекта. Они игнорируют мою субъективность, им неведома не только несказуемость моего "я", но и наличие целостности в каждом из ее проявлений, это незримое целое, состоящее из моих пристрастий, достоинств, слабостей, любви и страдания, эта неисследимая атмосфера моей внутренней жизни, которая только и придает смысл каждому из моих действий. Моя смерть есть гибель, абсолютная утрата чего-то уникального, что никогда и ни в какой степени не может быть утрачено. Должен существовать Некто, Кому я не только известен до своей последней глубины, но Кто озабочен удержанием и спасением моего уникального, интимного человеческого содержания, моего опыта страдания в мире. Из этого клубка размышлений и догадок, ясных достоверностей и смутных подозрений возникает фундаментальная интуиция о Боге, некое знание о Нем вместе с ясными требованиями к Нему: Бог должен быть, Бог должен быть не вообще Богом, равнодушным вершителем судеб, гневливым Судией мира, но Богом, Который в своем существе есть Любовь, то есть Богом, мнойозабоченным, стремящимся сохранить и сохраняющим своей любовью именно меня как меня, вместе со всем моим физическим и метафизическим складом. Элементарная справедливость, хранимая в моей душе, требует также, чтобы та заинтересованность, то жизненное соучастие в моей судьбе, которых я требую, распространялись бы на всех, на весь мир, на все творения, - и поэтому Бог не должен иметь отношения ко злу мира. И если каждое индивидуальное человеческое существо, если всякая плоть мира не будет жить вечно, если не будет им уготовано высочайшей радости, силы и совершенства, то тогда ничего не стоят все силы и совершенства будущего человечества, тогда все моральные установления, основанные на существовании добра, мертвы - и сам Бог мертв. Слова "бог мертв" означают утрату нравственного основания своего бытия, исчерпанность упований на благость Бога. Богоутрата - это пространство, границы которого определены расстоянием от Бога-Добра до Бога-Любви, иначе говоря, пространство, в котором Бог перестал быть Добром, но еще не открылся как Любовь. Это пространство охватывает как сферу практической боли, так и сферу чистого страдания. "Бог мертв" - это значит, что прежняя, бессознательная, дающаяся нам даром вера в осмысленность человеческой жизни рухнула. "Смерть бога" есть сознание того, что все прежнее окончательно погибло и все ответы, все достоверности, исходившие из прежней веры в добро, суть лишь пустые слова. "Смерть бога" есть сознание бессмысленности попыток разрешить трагедию мира и абсурд человеческого существования с помощью прежней "доброй" морали; сознание того, что абсолютно все прежние верования, убеждения, идеалы суть детские измышления пред ликом "всепоглощающей и миротворной бездны"; сознание того, что если и есть в этом мире свобода, то это - свобода отчаяния. В "смерти бога" сверхчувственный мир лишается своей действенной силы и обязательности: Бог не представлен больше ни законом, ни образцом поведения, ни мистическими откровениями, Он лишен возможности содействовать человеку внутри мира. В "смерти бога" всякое долженствование отменяется, все моральные ценности, основанные на авторитете прежнего Бога, объявляются бессмысленными, все содержание былого целиком отходит в область негативного. Знание того, что"бог мертв", уравнивает простака и философа. Природа этого знания такова, что оно доступно всякому уму. Не только философы и интеллектуалы, но и люди, по видимости далекие от всяких умствований, живут и действуют в мире, исходя из него, и это знание они добыли не из мистических экстазов, не из слияния с космическим целым, а из опыта собственной боли. И ни один человек не избегает этой метафизики. Ибо человек как таковой есть сгусток вопрошаний, в котором даже его принадлежность к биологическому миру встает перед ним как метафизическая проблема. Ведь для того, чтобы действовать в мире, человек должен прежде всякого действия обосновать себя метафизически. Страдание, подкрепленное ощущением невиновности во зле мира, исторгает изчеловека "нет" небесам, и это "нет" заново рождает человека к страданию мира. Человек преображается в "смерти бога" - этот человек уже разбужен, он бодрствует, и в этом бодрствовании изнанка мира впервые предстает перед ним как его судьба. Содержательной максимой этого человека становится как можно большее практическое противостояние судьбе, выступающей в качестве последней правды о мире и человеке. Отныне человек ищет как раз предельно не-оправданного, не-реалистического, не-целесообразного, "не-доброго" действия. Это бунт. В этом бунте практическая боль есть символ боли метафизической - боли, рожденной знанием "смерти бога". Практическое страдание есть та лестница, по которой взбирается человек, штурмующий небеса. Слова "бог мертв" означают разочарование, но разочарование тотальное, в котором всякое бытовое, жизненное разочарование - зашифрованная весть о "смерти бога". Самая слабая боль, самое легкое разочарование могут поведать о бездне и абсурде, когда человек через свою боль узреет боль мира и признает ее своей, личной, неотторгаемой долей. Со-страдание миру шире женственной жалости к конкретному страданию плоти, оно вбирает в себя страдание всего творения, оно есть внятное знание того, что всякое бытие есть страдание. Здесь аксиология перерастает в онтологию: человек призван к бытию его - бытия - трагизмом. Человек есть зеркало, в которое трагизм мира смотрится в себя, через человека вызывает к небесам тоска по Богу и через него же выплескивается вся онтологическая мощь бунта. И если человек повседневья лишь изредка попадает в область метафизического бунта, то жизнь бунтующего человека целиком проходит в сфере чистой боли, то есть в самом бытии, в постоянном ощущении абсурда, в бодрствовании. Это жизнь внутри ужаса. Бытийный ужас не обычная эмоция страха, являющаяся лишь предчувствием опасного и невыразимого, это нераздельное единство приговора и кары, ощущение, слабый аналог которому можно, пожалуй, найти в древнейших,переживаниях табу. Страх - витален, ужас - онтологичен, страх - многословен, ужас - безмолвен, страх - суетлив, ужас - неподвижен, страх принадлежит биографии, ужас - судьбе. И если жизнь человека проходит в быту, страхе, в суете, в многословии, в скуке и надежде, то жизнь бунтующего человека движется в бытии, в ужасе, в неподвижности, безмолвии, тоске и безнадежности. Тот, кто не безнадежен, никогда не поймет человека бунта и логику его богоборчества. Здесь "смерть бога" не столько идея, сколько переживание. Здесь в опыт продумывания включено также и время,затраченное на жизнь в соответствии с выводами из богоутраты. Здесь
переживание чистого страдания никогда не бывает чем-то внешним, оно говорито самом существе человеческого удела. Бытие в той его глубине, которое доступно только человеку бунта, может быть обнаружено лишь некоторыми средствами прямого доступа - через переживание мира как универсального "не то", полного отсутствия чего-либо, соответствующего человеческим ожиданиям.Здесь знание о том, что мир не обладает осмысленностью, - неопровержимо, но и желание, чтобы он обладал ею, - столь же неопровержимо. Между двумя этими достоверностями - мира и человеческого сердца - непреодолимая пропасть, сознание которой порождает метафизическую тоску - самое глубокое и адекватное переживание человеком своего положения в мире. Именно в этой бытийной тоске человек осознает свою свободу единственного существа, знающего о трагизме его удела. Онтологическая тоска вовсе не тоска бытовая. Онтологически тосковать - значит обладать философски трезвым, нормальным, истинным осознанием. Поэтому тоску, как она ни болезненна, следует удерживать, растить, холить в себе, оберегать от замещения другими, пусть более приятными, но фальшивыми эмоциями. Бытийность тоски напрямую указывает на то, что она есть не "психологическая эмоция", она не может быть "остранена", поскольку не указывает ни на какое иное кроющееся за нею переживание, но неопосредованно вбрасывает человека в его собственную сущность - смертного свободного существа среди равнодушного мира под пустыми небесами. Небеса пусты, но сама пустота отсутствующего Бога повелевает человеку взять на себя миссию того, кто должен потребовать от небес ответа. Человек сразу и мольба и выбор. Он молящее вопрошание, ибо тщетно ищет все, что дало бы ему смысл, он вызов, поскольку знает, что в мире он один может изобрести собственный смысл. "Смерть бога", отняв у человеческого существования прежние смыслы, сводит его к такому опыту, который целиком есть опыт требования невозможного, опыт богоборчества.
БОГОБОРЧЕСТВО
Истинное богоборчество никогда не бывает буйствующим произволом, несоглашательством ради несоглашательства, наоборот, богоборчество есть самостояние в свободе, духовное столпничество в ожидании благой вести. Богоборчество есть также нечто противоположное богохульству. Богохульство движется смелостью, почерпнутой из сознания возможной, вполне реальной кары, возмездия высшего Судии, и потому в своей страсти оскорбления святыни удерживает смысл священного, отталкивая его и тем самым к нему привязываясь и его утверждая. Богохульство еще помнит слово "грех", оно и возможно только там, где это слово наполнено смыслом. Но бунт, о котором идет речь, не знает греха. Это бунт, знающий, что Бог был, но умер. Это бунт без надежды на воскресение Бога. Истинный метафизический бунт возможен лишь в форме неисходного пребывания на том уровне существенности, который выпал человеку в его исторической эпохе. Истинный бунт - это взгляд в глаза Хаосу, это неотступная охрана свободы вопреки очевидности, охрана своей интуиции о Боге, укорененной в человеческой уникальности. Свобода в мире, где небеса пусты, есть свобода желать невозможного, того, чего мир не в состоянии дать, - бессмертия и отсутствия страдания. Этой свободой движется бунт, и на ее основе осуществляется отчаянное противостояние вопрошающего человека и безмолвной вселенной. Ибо зачем человеку человечность, если нет свободы? Зачем небесам сакральность, если нет Бога живого? Потому всякая вещь, вопрошая в своей вещественной немоте о своей сущности, обращает свое вопрошание к небу, что всякая сущность не ограничивается пределами самой вещи. Потому и человек, вопрошающий о своей сущности, взыскует в своем вопрошании не Бога вообще, но такого Бога, Который подтвердил бы человеческую сущность - свободу. И любая человеческая деятельность лишь тогда входит в свою подлинную сущность, когда осознается как богоборчество, и чем более она осмысляется как тяжба с небом, тем более она становится сознательной. Богоборчество возникает из неудачи отстранения Бога от зла мира. Неудавшаяся теодицея не только почва, на которой возникает метафизический бунт, но сам бунт есть продолжение теодицеи и, следовательно, та окончательная форма, в которую отливается человеческая тоска по Богу. Исток богоборчества раскрывается как стремление увидеть в мире действие Бога, сущность которого есть Любовь. Сущность богоборчества, таким образом, есть любовь к Богу. Богоборчество угодно Богу. Мало сказать, что богоборчество собирает вокруг себя все творческие импульсы человеческого духа, - оно само есть единственно творческий порыв человека. Все остальные формы творчества берут начало из этого бунтарства, и у него получают они свои истинные смыслы и ценность. Бунт удостоверяет, что человек еще жив. Ибо достойно человеку требовать невозможного и исправлять непоправимое. В той мере, в какой человеческое творчество - философия, искусство, наука - пропитано духом бунта, в той же мере оно истинно и плодоносно. Каждое великое и зрелое философское учение имеет основную идею, скрывающую в себе то главное, то существенное, во имя чего это учение вынашивалось, созревало и находило себе одеяние слов. Эта идея закрепляет за собой то обстояние, которое открылось философскому уму и определило собой всю дальнейшую судьбу его философского видения. Предметное обстояние, закрепленное в такой основной идее, становится тем содержанием, адекватное выражение которого оказывается жизненной задачей философствующего ума. То, ради чего философ несет бремя своего духовного опыта, то, чему посвящены его познающие усилия, составляет содержание этой основной идеи. Это обстояние есть историческая форма "смерти бога". Философская рефлексия настигает мыслящего после некоего события, знаменующего собой поворотный момент духа, после которого прежние мыслительные установки становятся недействительными. Новая философская идея, имеющая своим смыслом привести весь комплекс философских проблем в соответствие с новым метафизическим опытом, рождается как ответ на ситуацию богоутраты. В этом смысле всякая философия как учение о мире необходимо есть и богословствование. Как трагедия мысли, не находящей себе исхода, философия предстает в своем истинном свете как христианская ерисиология. История философии есть история трагедии мысли, прорывающейся к Богу путями богоборчества. Сущность этой трагедии состоит в том, что человек страждет здесь не индивидуальной болью, а страданием мира. Чтобы действительно, в самом существе понять философа, необходимо исследовать и понять суть того духовного переворота, который назван "смертью бога". Если философия есть осмысление открывшегося неблагополучия мира, то поэзия есть его переживание. Поэзия как голос человеческой боли прямо и непосредственно переживает богоутрату в том ее аспекте, который касается судеб эмпирического. Дело поэта - дело боли. Дождь, снег, любовь к женщине - не причина написания стихотворения, а повод. Повод сказать о боли. Поэзия рождается из смерти бога и, вобрав в себя боль мира, возвращается в "смерть бога", неся на своих плечах груз метафизического бунта. Поэт - это человек, сделавший обнаружение и переживание боли своей судьбой. И поэтому поэт не обязан быть хорошим, добрым и умным - дело поэтического творчества лежит вне области морали. Поэт должен просто быть. Поэт есть соль обезбоженной земли. Но ни одна книга, ни одна картина, стихотворение или музыкальное произведение не в силах изменить мир и изгнать из него страдание и смерть. Человеческое творчество никогда не становится пре-творением, в том единственно истинном смысле, в котором пре-творением будут "новая земля" и "новое небо". Цель и смысл человеческого творчества в другом - взывать к небесам из глубины своего отчаяния. Апология творчества возможна лишь на путях отхода от христианской традиции истолкования мира и человека. Тупик вопроса о творчестве в том, что в категориях христианского мира "творец" не может быть никем иным, как "святым". Образ и подобие Божие должны открыться Духом в ответ на творческую самоопределительную судьбу человека. В современном же понимании творчества мы имеем дело лишь с обоготворением падшего, в котором оспаривается у Бога способность к преображению мира. "Без меня не можете делать ничего", - заранее сказанная божественная поправка ко всем имеющим произнестись человеческим словам о творчестве. В сфере эмпирического свобода творчества есть фикция: художник захвачен законами эстетическими более, чем моралист своими нравственными убеждениями. Только воля к исполнению своего замысла есть область свободы, но эта область у художника не больше, чем у всякого другого осуществляющего свою волю человека. Истинное творчество есть только символизация метафизической боли. Бунт художника проявляется в стремлении спасти мир в отсутствие Бога. Но спасение мира без Бога невозможно, и в этом коренится трагизм всякого творчества. Над творчеством в отсутствие Бога Живого тяготеет дух антихристианский, особенно сильный тогда, когда творчество из бунта превращается в магию или игру. Богоборчество научной деятельности более неприметно, чем бунтарство философии и искусства, но и здесь внимательное исследование возникновения научных гипотез - а кроме гипотез, наука ничего и не может предложить - выявляет их исток в "смерти бога". Особенно показательны в этом смысле космологические гипотезы. В космологии "бог умирает" не потому, что вселенная открывается как бесконечная, но, наоборот, вселенная предстает бесконечной, потому что "умирает бог". И потому гераклитовское "этот мир не создан никем из богов и никем из людей" следует читать не как истину космологического характера, но как вопль человека, как трагическую истину, в которой человеческое сердце, взыскующее к Богу, прощается с надеждой обретения Бога, прощается с невозможным и обращается к возможному, прощается с чудом и обращается к закономерностям. В науке нет знания в том смысле, в котором понимали это слово Платон и Аристотель, то есть в том смысле, в котором оно влечет за собой окончательность. В науке мы никогда не достигаем достаточных оснований для уверенности в том, что мы уже достигли истины. То, что мы обычно называем "научным знанием", представляет собой информацию, касающуюся различных соперничающих гипотез и способа, при помощи которого они выдерживают различного рода проверки. Такое положение означает, что в науке не существует доказательств. В эмпирических науках, а только они могут снабжать нас информацией о мире, вообще нет доказательств, если под доказательствами понимать аргументацию, которая раз и навсегда устанавливает истинность теории. Поэтому и смысл научного творчества раскрывается как бунт, что историческое обличье богоутраты заставляет переосмысливать картину мира, исходя из новых, исторически обусловленных достоверностей. Смысл метафизического бунта говорит нам, что, стремясь к добру, истине и красоте, человек готов в своем стремлении пожертвовать даже Богом, если Бог не отвечает фундаментальной интуиции человека о Нем Самом. Именно эта непримиримость говорит об истинности его стремления, его внутренней обоснованности и укорененности в Истине, ибо если бытие мира есть страдание, то и бытие Бога должно быть со-страдание. Так мыслит богоборец. И он прав. Богоборчество начинается со знания того, что справедливость есть воплощенная несбыточность, гигантская неосуществимость, единственный идеал, о котором можно с уверенностью сказать, что он не осуществиться нигде и никогда, и которому противостоят все законы общества и природы. Поэтому богоборчество есть трезвое бешенство - не всякий, кто изведал гнев обстоятельств является богоборцем, богоборец тот, кто на этот гнев ответил собственным гневом. Богоборец не подчиняется тому, что есть, не служит некоему установленному принципу - вот почему он никогда не является совсем уж посторонним по отношению к тому, что выводит из себя, даже если из себя его выводит сам Закон. Закон сам по себе не способен победить богоборческий порыв, долю которого он в жизни тщится приуменьшить - ведь сам закон не что иное, как тщетный труд того же порыва, желающий забыть о своих истоках. Богоборец - это ересь в квадрате, победа индивидуального, существо, несущее раскол, еретик по природе, разбуженное чудовище, воплощенное одиночество, нарушитель порядка, который находит ценность в своей исключительности. Ценой своей жизни возмущает он покой других, утверждая в самом сердце установленного закона устав изгнанника. Богоборчество всегда аристократично, как аристократична мудрость, из которой оно исходит, ибо опыт трагической мудрости есть опыт личного страдания, другими словами, необходимо быть личностью, чтобы приобрести его. Этот опыт отрицает не только благонамеренных, но также и тех конформистов от нигилизма, кто совершает акт неповиновения только скопом. Богоборец - это человек, взявшийся жить в полную силу, взявший на себя предельный груз противоречий. Это высшее из возможных состояний жизни стоит дорого. Цена здесь - приятие тщетности бунта. Но следует видеть в сознании тщеты не крах надежд, а надежную опору. Безрезультатность трудна - оно требует от человека оставаться метафизическим иностранцем, ибо он на стороне того, что выше и долговечнее разрозненных человеческих предприятий, он на стороне «я». Богоборчество - это и есть подлинное безумие. Ибо не безумно ли протестовать против необходимости, против мира, который таков, каков он есть? Не нелепо ли противиться тому, что философия именует гармонией? Это безумие противостоит «мудрости мира сего», взыскуя Бога Живого на самом дне человеческого отчаяния. И поскольку мудрость мира есть безумие пред Господом, то богоборчество как подлинное безумие есть то истинное, что укореняет человека в его сущности - в свободе. Умудренный опытом боли, богоборец знает, что мыслить - не значит просто иметь мысли, а бунтовать - не просто высказывать свое недовольство. Богоборчество открывается нам как религиозное искушение. Религиозное искушение отличается от искушений нравственных: религиозное искушение есть искушение мысли жизненными противоречиями, несоответствиями между идеалом человека и его практическим состоянием. Религиозное искушение постигает человека независимо от его нравственного состояния - это богочеловеческое искушение. Острота искушения в намерении нарушить закон мировой несправедливости во имя своего человеческого божественного начала и таким образом утвердить свое человеческое достоинство в своей сегодняшней ограниченной униженности. Поэтому богоборческие требования приходится постоянно повышать до абсолютной степени. Нам нужно еще научиться распознавать в богоборчестве тайное веяние взыскуемой правды, возвести его на высшую ступень разумного сознания, закрепить их в высшем и преображающем синтезе. Вся проблема богоборчества состоит в том, что нравственно-благородная душа ищет в своей любви к Истине религиозно верного, волевого ответа на буйный напор внешнего зла. Богоборчество, проходящее в сфере метафизики, имеет свою редуцированную форму в эмпирическом существовании - невроз. Невротик соотносится с богоборцем так, как соотносится человек, бросивший на полдороге некое дело, с человеком, осилившим это дело. И невротик, и богоборец равно представляют собой ошеломленное, все на одном сосредоточенное сознание, но невротик ошеломлен своим личным потрясенением, в то время как богоборец уже взошел на ступень обобщения, преступив через добро и зло: метафизический бунт проходит в пространстве, где добро и зло утрачены, бунт взыскует не добра, а справедливости. Структура невроза замкнута на себя. Здесь человек не может понять самого себя, все ходит вокруг да около, вечными повторениями одного и того же. Повторение есть попытка проникнуть в то первоначальное потрясение, породившее невроз, повторение само невротично. Повторением человек укореняется в своем неврозе. Эта проблема не сводится к ошибкам в логических определениях, в способностях ума, ошибку следует искать не столько в мысли, сколько в духовном опыте. Верный опыт приобретается выходом человека из себя, из собственной боли к боли мира, к метафизике. Много думать еще не значит мыслить. Невротик много думает. Думание порождает невроз, а мышление освобождает: думание целиком находится в сфере феноменов, мышление же стремится к ноуменальному. Невроз, как и богоборчество, это всегда конфликт, только в случае невротика он не достигает разрешения в сфере всеобщего. Сущность невроза в вытеснении в бессознательное такого содержания, которое неприемлемо для сознания - не обязательно аморального, но всегда опасного, точнее, ужасного. В результате вытеснения всегда возникают новые образования - симптомы, замещающие, и тем самым символизирующие вытесненный материал. Психоаналитическое лечение невроза заключается в постепенном последовательном осознании больным того материала, который был вытеснен и самих мотивов такого вытеснения. Этот процесс всегда сталкивается с сопротивлением, который выражается в нежелании видеть реальность такой, какой она есть. Чем с большей силой вытесняется определенное содержание из сознания, тем к большему эмоциональному эффекту ведет его осознание. Исток невроза в потрясении, а потрясение, пусть даже и основанное на бытовом материале, символически указывает на то, что оно символизирует - на богоутрату. Аксиома психоанализа: невротик застревает в своем прошлом. А поскольку настоящее есть непрерывный изготовитель прошлого, то и возможность новых потрясений, а следовательно и неврозов, столь же вероятна, сколь и возвращение старого невроза. Исток невроза лежит глубже индивидуального потрясения, глубже феноменального. Вытесненное замещает вытесняемое некими символами, но само вытесняемое - то потрясение, которое служит основанием невроза - в свою очередь также есть символ - символ того онтологического ужаса, которое приоткрывает, обозначает само потрясение, ибо в феноменальном мире ни одно содержание непосредственно не дано, оно дано только через символы, которые опосредуют некие метафизические смыслы. Эта общая мысль в приложении к человеческому поведению означает, что у человека, в общем, нет достпупа к мотивам своих поступков, даже когда речь идет об осознанно мотивированном поведении. Хотя человеку иногда и дается непосредственное содержание его собственного сознания, он равно - подобно стороннему наблюдателю - может лишь косвенно судить о причинных связях в структуре своих психических состояний. Психоаналитическая интроспекция не позволяет пациенту понять ни источник заболевания, ни причины выздоровления до тех пор, пока волевым усилием ему не удастся возвыситься из глубин своего невроза до осознания своего трагического удела, разделяемого со всеми, а следовательно укорениться в том богоборчестве, в том религиозном искании, которое одно делает человека человеком. Преодоление невроза - единовременный акт, в котором наступает освобождение, переступается граница между неврозом и здоровьем. Это преодоление есть акт воли, в котором человек говорит «да» бытию мира, тому бытию, каким он застал его, говорит «да» тем обстоятельствам, в которые он этим бытием поставлен. Он принимает это как свою судьбу, как пространство того самоопределения, где действительно, всерьез вершится его сущность. Невроз - дитя повседневного, феноменального, поэтому излечить его способна только метафизика. Религиозное искание, о котором здесь идет речь под именем богоборчества, есть ничем не заменимый опыт апофатического богословия, в котором человек из событий ему современных, из фактов своей биографии, из потрясений и катастроф, что были ему уготованы его судьбой, доподлинно узнает чем Бог не является, тем самым впервые открывая значение того, ЧТО есть Бог, пусть даже пока в форме умственного знания. Следующая редуцированная форма богоборчества - преступление. Здесь юридическое преступление есть лишь символ метафизического бунта всякой самоутверждающейся индивидуации, всякой рождающейся и умирающей жизни, это - глубинная трагедия самой индивидуальной жизни, обреченной на рождение и смерть, это метафизика всякой единственности, пытающейся сохранить «я» от потока всепобеждающего времени с его сменой времен и смертью «я». Усмиренный законом человек, то есть не преступник, волей неволей принимает смену, капитулирует пред законом смены, его поступки определяются страхом пред законом смены, его мысль и слово подчинены цензуре сознания, он терпеливо дожидается смерти отца, искренне боится и оплакивает ее, искренне любит сына-наследника и искренне живет для сына. Такой человек не годится в богоборцы, он не актуализирует глубин, скрытых за нормальным (то есть усмиренным и обузданным) ходом жизни, не раскрывает ее метафизических противоречий. Бунт заложен в самую сердцевину самоутверждающейся жизни. Преступление не поднимается до своих метафизических высот, оно проходит в сфере социума, то есть почти всегда почти бессознательно по отношению к своим истокам, но и преступник, и богоборец равно соприкасаются в своем бунте с подлинной реальностью мира, и от этого соприкосновения рушится вся система официального добра. Жизнь преступна по самой своей природе, если ее утверждать, если упорствовать в ней, если осуществлять ее задачи и настаивать на своих правах «я» уникального, неуничтожимого. Так богоборчествовать - это значит любить и жалеть идинокое и покинутое Богом, наивно-жалкое бытие «я» и с беспощадной и бесстрашной трезвостью всматриваться в окружающую ее холодную пустоту, это значит бодрствовать и стоять на страже «я». И хотя эмпирия и поставляет постоянно все новый материал богоборцу, дабы он распалялся и гневался, все-таки, строго говоря, эмпирический опыт как таковой богоборцу не нужен. Нет необходимости в самом процессе переживания одного и того же. Если в каждом мгновении присутствует вечность, и чем случайнее событие, тем закономернее голос вечности, то достаточно гениального прозрения для понимания существа дела. В силу этого обстоятельства эмпирический опыт приобретает скорее чисто педагогическое значение. Он ничего не открывает нового и его функция в том, чтобы постоянно напоминать о том, что известно богоборцу до всякого опыта, но что человек в силу психологических особенностей склонен забывать. В конечном счете суть опыта сводится к поддержанию у человека определенного эмоционального состояния, то есть постоянного переживания трагизма человеческого удела.
СЛЕДСТВИЯ
"Смерть бога", становясь главенствующей идеей, побуждает мышление к нескольким неоспоримым следствиям: если "бог умер", если нет высшей силы, прежде законодательно повелевавшей моим поведением и дававшей некие определенные образцы отношения к миру, то отныне я сам вынужден принять на себя те божественные функции, что ранее принадлежали уже "умершему богу", следовательно, я отныне являюсь богом по смыслу своей деятельности, другими словами, если "бог умер", то "я есть бог". Если "я есть бог" и выше меня никого нет, то мне в моем законодательном и жизнеустроительном порыве "все позволено". Но если мне "все позволено", если нет никаких границ моему божественному произволу, то "бог действительно мертв". Каждый из этих выводов, включая сюда и саму идею "смерти бога", имеет собственное поле смысла, которое содержит вполне определенные отношения к миру и вполне определенные умонастроения, заставляющие человека, захваченного логикой богоутраты, в свете нового умонастроения переосмысливать мир, Бога и свои собственные ценностные установки. Логика этих выводов в своем историческом обличье требует целых веков, она требует всей истории. Собственное поле смысла внутри каждого метафизического следствия "смерти бога" порождает исторически определенный тип мышления и отношения к миру, которые, в свою очередь, формируют свой собственный идеальный тип человека и поощряемые сферы его деятельности. Ведь для того, чтобы развивать торговлю и добиваться прибыли, корчевать лес и выжигать его под пашни, планировать состав семьи и изменять формы общежития - для всего этого необходимо обладать определенной картиной мира и системой ценностей, стимулирующих соответствующие формы поведения. Своеобразная аксиология человеческой деятельности определяет их престижность или нежелательность. Понять логику этих запрещений и одобрений и означает в значительной мере понять и тот тип мышления, который присущ той иной эпохе.
УМОНАСТРОЕНИЕ
Исторический человек не создает, а открывает определенную метафизику. И, как правило, открывает он ее не целиком, но в силу ограниченности индивидуального сознания, некую ее часть. Поэтому вполне закономерен тот факт, что тот или иной мыслитель, мысляший в русле господствующей метафизики, которая выпала ему в его историческом времени, в силу меняющейся интеллектуальной атмосферы эпохи, начинает мыслить в некотопрых аспектах в русле новой, идущей на смену метафизики, для эпохи же остающейся все еще маргинальным образом мысли. Тогда говорят, что этот мыслитель «опередил свое время». Но сама интеллектуальная атмосфера зависит не столько от творческих усилий нескольких гениев, сколько от меняющихся взаимоотношений, норм, стиля огромного числа людей. Переход от Средних веков к Новому времени не был плодом деятельности Декарта, Макиавелли или Джордано Бруно. Одновременно с ними к тому же стилю мышления приходили сотни тысяч других людей. Философская рефлексия лишь легитимизирует такой подход. Великим мыслителям удается лишь более тонко сформулировать витающие в воздухе идеи: чтобы психоанализ сделался столь популярным, необходимо было, чтобы современники Фрейда узнали себя в нарисованном им портрете и имели основания считать, что этот портрет написан лучше, чем у Жане или Шарко. Постепенное, эволюционное накопление новых мотивов мышления, необъяснимых с точки зрения прежней метафизики, не замечаемых ею, не приводит к новой парадигме. Для этого требуется переворот во многих головах одновременно - открытие новой точки зрения, новой метафизики, основанной на других достоверностях, ведущее к возникновению нового «гештальта». Это открытие всегда обнаружением некоего целостного взгляда, метафизики, являющейся уже готовой изумленному взору мыслителя, и лишь то, что на формулирование этого целостного взгляда необходимо время и усилие не одного ума, создает впечатление, будто новая метафизика постепенно «складывалась», «возникала». Каждая отдельная философская система несет в себе такое тайное образное мировосприятие, которое явным образом никогда не включается в ход рассуждений. У любой системы знания имеются далее непроверяемые аксиомы, лежащие за пределами коллективного сознательного - они суть те достоверности, которые инспирируют «смерть бога», и, следовательно, могут быть при необходимости без остатка сведены к одному из этих четырех пунктов. В плоть истории они только облекаются и тем самым актуализируют себя, но не создаются историей. Поэтому задача философии истории - превратить скрытые предпосылки, молчаливо подразумеваемые онтологические интуиции в концептуально оформленную, внятно артикулированную, логически согласованную объяснительную конструкцию - некий опыт, обобщающий основы нашего собственного мышления. Прояснить это значит обнаружить те фундаментальные убеждения, от которых в последнем счете зависят ценностные предпосылки и предпочтения, образующие характер эпохи. Жизнь мира развертывается в смене и совокупности эпох, и каждая имеет свой лик, свою форму, свой образ. Каждая эпоха есть своего рода организм, цельность во времени. Каждый такой организм вносит свой принцип в мировую жизнь. Каждый такой организм сам в себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочия жить по законам, ему свойственным, а не обязан служить переходным моментом для другого. Сама история, когда у нее ищут ответа насчет пути развития, по которому непрестанно идет челоевечество, дает им сокрушительное опровержение. Но искомое единство истории как временного развертывания определенных содержаний, единственно неизменное, никакому развитию не подлежащее. От начла одинаковое есть правда души человеческой, взыскующей Бога Живого. История вовсе не монолог событий, а диалог событий с человеческим сердцем, которое устремлено к Истине. Знание, добываемое философией истории, есть ответ на определенные вопросы этого взыскующего сердца, ответ, который может дать только прошлое, но сами вопросы продиктованы настоящим, а именно тем историческим обликом нигилизма, каким он застигнут вопрошающим, ибо философия есть способ человека быть собой в отсутствии Бога. История как хронологическая последовательность человеческого богоборчества обретает формы действительности в зависимости от того, какое именно умонастроение актуально для человека бунта в его историческом здесь-бытии. Это основное умонастроение эпохи выявляется как сущность того склада мышления, которое в свою очередь вполне определенным образом мыслит мир, Бога и человека и располагает вещи вокруг себя в соответствии со своим метафизическим образом. Происхождение основного умонастроения из переживания неких конкретных исторических событий указывает и на ту область, в которой это умонастроение созревает - повседневность. Повседневность лишь недавно вошла в поле зрения историков. Связи между бытом и историей очевидны и сомнительны одновременно, они существуют - и их как бы нет, поскольку они не ухватываются обобщающим прищуром историка, стремящимся к общим основаниям исторического процесса. Но сами эти основания до сих пор не конца проявлены именно в силу того, что исследование повседневности еще не окончательно вошло в плоть и кровь исторического анализа. Связь быта и высокой истории существует до сегодняшнего дня и как данность, и как проблема. Люди сами делают свою историю. Они делают ее в повседневном труде, в заботах и проблемах, которые касаются только их. При этом они как-то одеваются, что-то едят, пьют, живут в домах, руководствуются в своем поведении привычками и традициями, и та грань, что отделяет быт от истории, весьма размыта, но именно в духовных и экономических отношениях повседневного открываются и созревают те силы, что лежат в основе исторических событий. История в целом - лишь итог, конечный результат изменений, происходящих в глубинах повседневья. Не менее справедливо и другое: люди делают свою историю на основе уже существующих условий и уже существующих нравственных ценностей. Непосредственные мотивы повседневной действительности и ее исторический смысл, бытовое поведение и поведение историческое не тождественны, а подчас и не связаны между собой. Но связь повседневья и истории интуитивно чувствуется, и если она до сих пор не стала ясной, то именно сейчас наиболее актуальна задача этого добиться. Исследование умонастроений, вытекающих из богоутраты, дает возможность перебросить мостик над пропастью, существую щей между социальной историей, историей духовной жизни, историей идей, с одной стороны, и повседневной жизнью человека - с другой. Общий характер мировосприятия, стиль жизни, язык культуры, ментальность, присущие данной человеческой общности, не зависят от социальных групп, они им заданы. Умонастроение эпохи образует невидимую сферу, за пределы которой принадлежащие к ней люди не могут выйти. Они не сознают и не ощущают этих ограничений, поскольку находятся внутри данной ментальности. Все социальные феномены исторической эпохи смыкаются в основном унонастроении эпохи. Речь идет не просто об обоюдных взаимовлияниях, но о том, что все исторически определенные формы эпохи исходят из сущности основного умонастроения и символизируют эту сущность. Термин "умонастроение" вбирает в себя неосознанное, повседневное, внеличное - основное умонастроение эпохи есть такое знание, доступ к которому имеет каждый человек, знание, известное всем, независимо от того, из какого источника оно получено,- из философских штудий или кухонных разговоров. Умонастроение лишь на высотах умозрения оформляется в логически внятную истину эпохи, присутствуя в повседневности как некий подспудный, полубессознательный мотив человеческих действий и человеческого мышления. Умонастроение - это то общее, что имеется у каждого человека данной эпохи. Термин "умонастроение" шире термина "ментальность". Ширина термина "умонастроение" позволяет говорить о всей эпохе целиком, воссоздавать ее метафизический облик. Умонастроение пронизывает всю человеческую жизнь, присутствуя на всех уровнях сознания и поведения людей. Умонастроение есть нечто противоположное идеологии эпохи с ее продуманной системой мысли. Идеология возникает из необходимости противостоять умонастроению, выдвигая в качестве нормы то, что для умонастроения является проблемой. В конце концов идеалом идеологии оказывается нечто противоположное тому, что является для большинства неписанным законом. Идеология - противовес умонастроению, хотя и идет по его стопам, так как "одобряемое" идеологией рождается из спора с основным умонастроением. Идеология формулирует то идеальное состояние человека и тот его тип, который встает перед умственным взором эпохи как задача, требующая решения проблемы нового мировидения. Идеология принимает вызов умонастроения, и если она существует как нечто цельное, то умонастроение оказывается более расплывчатым. Умонастроение во многом остается недифференцированным, это тот уровень общественного сознания, на котором мысль не отделена от эмоций, от привычек и приемов традиционного сознания. Умонастроение, понятое как основа психической деятельности человека в определенную эпоху, позволяет ввести историю идей в плоть жизни, их породившей, где мыслители уже не предстают в виде "бестелесных умов", выключенных из собственных исторически данных обстоятельств, в виде существ, обладающих одной способностью, протекающей в сфере "чистой мысли", свободной от груза всего повседневного, того, что присуще всемсмертным. При рассмотрении истории идей в свете основного умонастроения уже мало довольствоваться анализом самих идей и взглядов, вне той психологической почвы, из которой произрастают сами идеи и образы. Умонастроение эпохи как главная побудительная сила исторического творчества помогает осмыслить и понять закономерности изменений как в сфере мысли, так и в сфере обыденной жизни. Умонастроение есть та сила, которая формирует ментальность эпохи. Ментальность выходит из недр умонастроения, как Афина из головы Зевса. Оно создает ту основу, благодаря которой в каждую эпоху возникают свои специфические условия для структурирования сознания - культура, язык, образ жизни и религиозность образуют ту матрицу, в рамках которой формируется человек определенной эпохи. Умонастроение налагает неизгладимый отпечаток на мировосприятие, дает определенные формы психических реакций и поведения, и эти особенности в равной степени присущи как коллективному сознанию социальных групп, так и отдельному индивиду. Творчество мыслителей, писателей, художников, государственных деятелей подчинено тому умонастроению, что и все остальные сферы человеческой деятельности. Любой из них подвергается некоему неприметному принуждению, он пленен умонастроением. Приятие одних идей и неприятие других, зоркость и слух к одним феноменам мира и, наоборот, слепота и глухота к другим, восприимчивость или невосприимчивость к различным религиозным учениям и многое другое - все это формируется умонастроением. Интеллектуальная атмосфера умонастроения является той средой, из которой вырастает новая эпоха. Импульс, поступающий из ответа на "смерть бога" и обретающий в умонастроении конкретную историческую форму, имеет своим истоком богоутрату. Сущность новой цивилизации несравненно шире исторических событий, поскольку находится не в сфере истории, а в сфере нравственной метафизики. Отношение к небу, сгущаясь в конкретно-историческое умонастроение, переживает в новой эпохе свою энтелехию. Исторические феномены, возникающие из энтелехии более глубоких богоборческих импульсов, характеризуют не столько мировоззрение и творчество художников, мыслителей и политических деятелей, сколько мироощущение социума, настроение и тон, сквозящий в фактах культуры. Все явления на уровне форм и даже стилеобразования, не имеющие между собой ничего общего, глубоко различные по типу людей, сферам их общения, происхождению, политическим ориентациям, соотнесенные с общим умонастроением, начинают обнаруживать внутреннюю логику своего происхождения, ибо в исторической картине мира не выходит наружу ни одна деталь без того, чтобы в ней не была воплощена вся сумма глубочайших тенденций основного умонастроения. Изменения в умонастроениях служат толчком к новому отношению к действительности и внутри самой исторической целостности эпохи. Поэтому следует строго различать основное умонастроение эпохи и те умонастроения, которые, также проходя дорогами богоутраты, уже внутри эпохи представляют собой метафизическую реакцию человека бунта на сложившийся миропорядок. История умонастроений исходит из того, что за теориями и учениями кроется иной план реальности, иной уровень переживаний, укорененный в богоборчестве. Сам акт мышления имплицирует некие философские акты, независимо от того, осознается это или нет самим мыслителем, он содержит в себе некие последние достоверности, на которых строится мышление, достоверности, исходящие из исторически определенного факта "смерти бога". Те достоверности, которые принимаются эпохой в качестве оснований для своего мышления, есть одновременно и границы мышления, переступить которые значит изменить сущность своей эпохи. История как наука по необходимости вынуждена отвлекаться от эмпирического человека в сторону "человека вообще". На этих путях происходит рождение таких понятий как "человек античности", "человек средневековья" и множества им подобных абстракций. Разумеется, никогда и нигде не существовало "человека средневековья", как не существует и "человека вообще". Однако, оперируя этими абстракциями, можно вполне успешно исследовать ментальности исторических эпох. Но недостаток этого способа как раз в том и заключен, что за рамками осмысления остается отношение человека к самому умонастроению, сформировавшему новый взгляд на мир. Ведь если мы утверждаем, что "человек нового времени" так-то и так-то мыслит себе мир, таким-то и таким-то образом понимает пространство и время, видимое и невидимое, Бога и творение, то в нашем понимании, сколь бы истинным оно ни было, недостает элемента развития, наше описание метафизики эпохи статично, завершено в себе, оно есть нечто, что обладает самодостаточностью и непротиворечивостью, это вневременное, не нуждающееся в развитии, исторически определенное понимание мира и человека. И если не прибегать к метафоре развития общества, сравнивающей его с развитием органического мира (рождение, цветение, плодоношение и умирание), мы так и не сможем внятно объяснить себе тот простой факт, что непротиворечивая и гармоническая картина мира одной эпохи все-таки сменяется другой картиной мира, столь же внутренне замкнутой и непротиворечивой. Ведь не будем же мы всерьез утверждать, что более поздняя картина мира истиннее предыдущей, что древние греки хуже мыслили и хуже понимали мир, чем мы. Античная картина мира в своей статике самодостаточна, как и любая другая, и переход от статики вневременного к динамике исторического возможен лишь при понимании истории как истории развертывающегося во времени нигилизма. Этим нисколько не умаляется внеисторическая метафизическая значимость отдельных картин мира; наоборот, именно в этом понимании они впервые обретают свое истинное значение как архетипические формы, в которых символизируется богоутрата в ее вневременном аспекте. Именно в этом понимании осуществляется связь высокой истории с человеком повседневности и связь вневременного характера метафизики и ее воплощения в истории. Только в этом понимании античность как историческая эпоха и "античность" как состояние человеческого духа, средневековье как исторически обусловленное время и "средневековость" как метафизический склад ума впервые разграничены по своей сущности и в своей разграниченности готовы для нового понимания.
ТРИ ИСТОРИИ
Народы как люди. Рождению народа как метафизической общности полагает начало какая-то одна или несколько близких по времени великих катастроф, захватывающих и увлекающих в свою бездну все прежние умственные достоверности, катастроф, после которых уже невозможно опираться на прежние верования. Страдание рождает народ. Время страданий есть время наибольшей восприимчивости к изнаночной стороне мира, и в этот трагический и таинственный момент свершается незримое рождение народного духа. Народ в годы страданий приобретает некий опыт, из которого извлекает свою новую правду о мире и человеке. Вместе с этой правдой народ принимает на себя некую историческую задачу, которая становится национальной идеей народа. Национальная идея народа есть идея, своим смыслом собирающая вокруг себя людей и вещи, и изнутри такого собирания складывающая и национальную судьбу и человеческое местопребывание в ней. Пути народа исповедимы. Народ следует тому внутреннему импульсу, который в самом начале его судьбы возник перед ним как его заветная мечта о мире и человеке. Национальная идея может быть извращена, затемнена, включена в более обширную национальную идею другого народа, но в любом случае она есть исконное достояние именно этого народа. Всякая национальная катастрофа есть богоутрата, она всегда осмысляется как "смерть бога" - как утрата прежних ценностей. Катастрофа как метафизический факт важна прежде всего не сама по себе, а теми практическими выводами, которые народ извлекает из нее. Острие этих выводов направлено в будущее, к тем формам жизни, что избираются народом, пережившим утрату прежних установлений. Жизнь народа нисколько не походит на ту полубессознательную жизнь племен, которые живут и действуют лишь благодаря внешним раздражителям, на ту стихийную витальность, снимающую с народа всякую моральную ответственность за свой метафизический выбор, которая с легкой руки романтиков укоренилась в сегодняшнем понимании жизни народов. Жизнь любого народа в высшей степени сознательна. Внешние раздражители - климат, географические условия, природные катаклизмы, пассионарные толчки - не формируют национальный дух, а вопрошают его. На это вопрошание каждый народ дает свой собственный ответ. Катастрофа метафизически созидательна - она заставляет народ заново осмыслить основы своего бытия, поставить под вопрос привычное. Искусство, философия, культура, создаваемые народом на его историческом пути, суть способы интеллектуального оформления национальной идеи, где вещная культура представляет собой застывший символ отношения к абсолютному. Существование национальной идеи означает, что у каждого народа есть свое служение, свое призвание и своя миссия в мире. Иного решения нет и быть не может с точки зрения национального сознания, которое утверждено в том, что в доме Отца небесного обителей много. Национальная миссия в своей полной осознанности противоположна мессианству. Тому же, кому представляется, что именно сознание, проникнутое "верой в мессию", есть сознание вселенское и религиозное, тому рано или поздно не избежать дерзновенного обмана перенапряженного языческого национализма. Только отрешившись от мессианства, живые черты национальной самобытности перестают растворяться в абсолютном, и лишь тогда народ обретает свою подлинную душу. Одни и те же законы действуют и в жизни людей, и в жизни народов: чтобы сохранить свой национальный дух, народ должен не возлюбить, как в соблазне мессианства, свою душу, а возненавидеть ее в мире этом. История как история взаимосплетения, противоборств, побед и поражений национальных идей еще на написана. Но мы были бы наиболее далеки от истины, если бы все содержание истории сводили к истории национальных идей. История как таковая вовсе не равна истории народов, тем более, если речь идет об истории, которая исследует смены эпох, - истории нигилизма. История как целокупность представляет собой исторический и метафизический узел, который образуют между собой история национальных идей, история нигилизма и Священная история, и из этого взаимосплетения получает она свой окончательный смысл и подлинность. Творение мира, грехопадение человека, Завет Бога с еврейским народом, рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа - все эти события Священной истории проходили или вне истории или на ее периферии, но тот несомненный смысл, который проявляется в каждом из событий Священной истории, продолжающейся и сегодня и имеющей продолжение, выходящее за рамки истории мира, является одним из равноправных составляющих истории как целокупности. Малопродуманность того, что эти три истории разнятся по смыслам и результатам и в то же время являются тугим узлом, который необходимо распутать, чтобы внятно уяснить себе историософский смысл пребывания человека на земле, малопродуманность всего этого и породили тот сумбур вместо истории, находящий свой закономерный выход в сегодняшнем переживании "конца истории". И если мы когда-нибудь возьмем на себя труд продумать сущностные различия и взаимосплетения истории национальных идей, истории нигилизма и Священной истории, то перед нашим взором предстанет нечто совсем иное, что то, что мы сегодня привычно именуем "историей". Но труд этот не под силу одному человеку. Цели моего повествования неизмеримо скромнее: бегло, пунктирно наметить те исторические вехи богоборчества, которые прослеживаются в европейской логике смены исторических эпох. Дух эпохи имеет границы. Его ограниченность проявляется даже не в том, какие метафизические проблемы решает он и какие задачи ставит на своем пути, но гораздо более в том, какие вопросы он никогда не задаст и какие задачи он никогда не поставит перед собой. Любая историческая эпоха склонна к чему-то определенному, как к чему-то определенному склонен и дух народа. Дух эпохи не сводим к сумме национальных идей, вовлеченных в процесс исторического развития, здесь существует иная закономерность: первенство одного народа над другими в рамках исторической эпохи определено тем, что его национальная идея и его национальные особенности в большей мере совпадают с внутренним смыслом эпохи, более созвучны тому отрезку пути, по которому, ведомое железной логикой богоутраты, следует человеческое богоборчество.
АНТИЧНОСТЬ: БОГ УМЕР
ХАОС
Греческая цивилизация возникла на руинах еще более древней цивилизации.В исторической литературе она получила имя "талосократия (морское владычество) Миноса". Минойская цивилизация представляла собой морскуюдержаву, контролировавшую со своей базы на Крите (Эгейское море). В своих преданиях греки сохранили память о том, что критская держава стала господствовать в Эгеиде в правление царя Миноса. Царь Крита родился от брака самого Зевса с финикийской принцессой Европой, которую он, приняв облик быка, перевез на остров. Минос стал повелителем морей, владыкой Эгеиды и все окрестные народы платили ему дань. Мастер Дедал построил в столице Миноса сооружение, называемое Лабиринт, сооружение имело такую запутанную сеть переходов и корридоров, что всякий, попав туда, уже не мог выбраться самостоятельно. В Лабиринте жил Минотавр - существо с телом человека и головой быка. Обреченный блуждал по бесконечным корридорам до тех пор, пока его не находил ненасытный бекоголовый людоед. Каждые девять лет на Крит в качестве дани доставлялись семь юношей и семь девушек, которых отсылали в Лабиринт. Поздние греки сами не верили в это предание. Но раскопки подтвердили существование Лабиринта. Изумленному взору археологов открылись развалины колоссального здания площадью 16000 кв. Метров. Оно с полным правом могло быть названо лабиринтом, ибо представляло собой настоящий хаос комнат и корридоров. Раскопки показали также, что здесь. В Кноссе, древней столице Крита, за много веков до расцвета Эллады, существовало мощное государство с высокоразвитой культурой, не уступающей культурам Нила и Евфрата. Были найдены изображения, которые точно иллюстрировали греческое предание. Царство Миноса было морской империей, могущество которой держалось на лучшем в Эгеиде флоте, закаленном и обученном в упорной и успешной борьбе с многочисленными пиратами. На Крите были богатые рудники. В бронзовый век они являлись настоящим сокровищем для страны, давая возможность пополнить арсеналы и торговать с окружающими народами. Царь Миноса был жрецом, подобно фараонам Египта. К особе священного властителя стягивались все нити благополучия страны. От его заклятий зависело все, ибо он был воплощением божества на земле, средоточие таинственных сил, управляющих природой. Он посылал дождь, он был владыкой молний. Ему были послушны злаки и травы. Минойцы исповедовали культ быка. Они отождествляли Минотавра с богом неба и плодородия. Эзотерическая сторона этого культа включала в себя человеческие жертвоприношения. Миф о быкоголовом людоеде имел действительную основу. Экзотерическая сторона культа состояла из торжественных процессий, жертвоприношений и состязаний, напоминающих испанские бои быков. Вообще празднества и игры как составной элемент культов были весьма характерны для минойской культуры. Особенно торжественными были празднества в честь Великой Матери. Культ ее восходил к отдаленнейшим доисторическим временам. Крит минойской эпохи находился в полном духовном подчинении у женщин. Мужчины воевали, обрабатывали землю, плавали на торговых судах, женщины же были властительницами религиозной жизни народа. Рядом с царем-жрецом, если не выше его, всегда стояла великая жрица. Царь-жрец составлял часть общей религиозной доктрины: плодородие земли связывалось в конечном счете с женской обрядностью. Более того, продолжение жизни в лоне Великой Матери после смерти тела могли получить только женщины, поэтому на фресках мы видим души умерших мужчин, превращенных в женщин. Существовали тайные женские союзы, которые с ревнивой враждебностью охраняли свои оргиастические радения. Женщин-мудрецов, женщин-учителей древность не знала, зато она хорошо знала женщину шаманку, женщину-прорицательницу, женщину-жрицу. В матриархальных культах разум был оттеснен на самые задние роли. Вперед выступало священное безумие, в неистовых экстазах вырывалась на свет стихийная энергия дремлющих в человеке демонических сил. В религии Великой Матери не было никаких аскетических элементов, но, несомненно, имелась своя сотериология. И как всякая сотериология вне Откровения она спасала души ценой отказа от плоти. Характерно, что искусство Крита всегда подвергает образы зримого мира вполне сознательным деформациям. Животные и растения, изображенные на минойских фресках и вазах, нередко вообще не находят прямых аналогов в реальной фауне и флоре Эгейского мира. Цветы и листья, принадлежащие разным видам растений, произвольно соединяются на одном стебле, образуя причудливые, никогда не существовавшие в природе гибриды. У птиц с такой же легкостью меняется оперение. В изображениях фигур людей и животных можно без труда обнаружить массу анатомических отклонений от нормы. Критские мастера изображали летящими в воздухе не только животных, которым это свойственно по природе, но и совершенно не приспособленными к таким балетным «па» громоздких и тяжелых быков. Это искусство отторгает земное ради небесного. Это искусство больше говорит о небе, чем о земле. Культуру материковой Греции периода последней трети третьего тысячелетия до н. э. вплоть до XI века до н. э. именуют микенской, по имени одного из крупнейших городов той эпохи - Микен. Сегодняшние историки предпочитают называть ее "ахейской", а период 1600-1025 годов до н. э. - микенским. Расцвет ахейских городов приходится на XV-XIII века до н. э. В это время микенское государство представляло собой патриархально-бюрократическое государство восточного типа, основанное на барщинном труде. Существовала письменность, напоминавшая египетскую. Жизнь микенского государства концентрировалась вокруг дворца анакса (царя), регламентировавшего и вбиравшего в себя военную, религиозную, политическую, административную и экономическую роли одновременно. Через посредство писцов профессионалов и через сложную систему дворцовых сановников-бюрократов и надсмотрщиков происходил тщательный контроль строго унифицированной жизни государства. На местах власть осуществлялась вассалами анакса - басилевсами. Басилевс следил за административной деятельностью вверенной ему области, имея также некоторые религиозные функции. Его власть ограничивалась местным Советом старейшин.Царь был живым богом по образцу египетских фараонов. Об этом свидетельствуют хотя бы монументальные гробницы, безоговорочно превосходящие своим совершенством дворцовые и крепостные постройки Микен. Мастерство кладки гробниц, несомненно, принесено было из Крита. Небольшое государство вкладывало огромные средства в их создание. Только неукоснительная вера в священное величие царя и царского рода и соответствующие представления о загробной жизни могли произвести эти огромные купольные сооружения. Только свирепая царская власть, бравшая себе в пример восточные деспотии, могла направить силы своей маленькой страны на столь гигантский труд.Микенская цивилизация в противовес Криту основана не на стремлении к небесам, а на неистовой жажде самоутверждения перед лицом враждебных небес, на героической готовности к борьбе и на упоении этой борьбой. Этот эмоциональный склад, типичный для народа, узнавшего немилосердность богов, каким были первые ахейцы, создатели и носители микенской культуры, наглядно воплощали в своем искусстве. Многие из микенских вещей - щитки с печатями на золотых перстнях, бронзовые клинки кинжалов, инкрустированные латунью и золотом, золотые пластины, служившие обкладкой деревянного ларца, серебряные тритоны и тому подобное - украшены сценами войны и охоты, нападений хищников, выполненные в предельно выразительной, динамичной манере. Греки-ахейцы, отрицая минойские образцы, а тем самым и минойское «небо», и минойскую сотериологию, стремятся быть «верными земле», символизируя свою верность так называемым «реализмом». Некоторые главные черты микенского менталитета просуществовали вплоть до крушения греческой классики, эти черты сформировали духовный облик греческого героя, его богоборческий порыв, отрицающий надежду на потустороннее. Создатели микенской цивилизации относились к жизни серьезно и приземленно, поскольку слишком обременены были они своим опытом катастрофизма. К XII веку до н. э. относится вторжение греков-ахейцев в Троаду, описанное в "Илиаде". Троя, к тому времени ставшая обширным и богатым городом, гибнет. Но сами ахейские города - Микены, Тиринф, Пилос, Дентра, Орхомеи и другие - также гибнут в XII веке от нашествия дорийских племен. Это время характеризуется интенсивным перемещением народов. Дорийцы, жившие в условиях первобытнообщинного строя, но уже овладевшие железом, разрушили Микенскую цивилизацию и остатки критского могущества. Стихия варварского нашествия, вобравшая в себя и греков-ахейцев, обрушилась на империю Хати в Анатолии и Египет. Хетты были уничтожены, Египет выстоял, но уже не смог восстановить былого процветания. Египетские источники позволяют датировать сильные конвульсии движения племен 1220 годом до н. э. и 1125 годом до н. э. Таким образом, смутное время можно датировать периодом с 1426 по 1125 год до н. э. В этот период окончательно рушится та цивилизация, на руинах которой возникает новая Греция, та Греция, которую мы привычно называем "древней". Все эти потрясения, свидетелем и непо- средственным участником которых было греческое общество, дало такой мощный толчок к "смене вех", что когда в конце гомеровской эпохи греки снова стали восстанавливать связи с Востоком, они предстали перед ним преображенными и вполне осознающими свою самобытность. Оригинальность греков заключалась прежде всего в новом типе мышления, которое основывалось на опыте переживания катастроф. Из всех своих катастроф греками были сделаны небывалые дотоле выводы. Новый опыт включал в себя переживание хаоса как фундаментального состояния мира, из чего следовал вывод о неуправляемости судьбы, властвующей над человеком. Греки вышли из потрясений с убеждением, что все, бывшее истинным, отныне есть ложь и должно быть отринуто и забыто.Когда сгорает человеческое благополучие, гибнут привычные ценности, рушатся смыслы, человек сердцем приближается к вечному и безусловному. Благодаря крушению земных надежд происходит сдвиг в жизни духовной: человеческие помыслы переносятся из одного плана существования в другой. Именно в катастрофические эпохи человеческое сердце дает миру лучшее, что в нем есть, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в спокойное время заслонены повседневность. В катастрофе перерождается сама душа народа. Она выходит из нее изменившейся, взволнованной и подозрительной. Скитальческой и странной становится она. Ключ к истории идей следует искать в истории страданий, ведь воздействуют эти идеи через человеческую восприимчивость к боли, трагедии, ужасу. Трагедия в истинном смысле, как и истинная мистика, возможна лишь на почве миропонимания глубоко трезвого, сущностного, реалистичного. Трагическая борьба может быть только между действительными, а не мнимыми реальностями. Истинная трагедия всегда разыгрывается между отсутствием Бога и его необходимостью в человеке и в мире. Трагедия - это всегда свершившееся, взгляд в прошлое, это переживание прошлого ужаса, это жизнь с сознанием того, что открылось в этом ужасе, который именно сейчас и отныне навсегда выступает как то, что формирует судьбу. Когда небесное утрачивает способность будить и созидать, когда оно теряет доверие человеческого сердца к своей благости, то статус благого обретает земное. Эта простая и действенная логика непосредственно выводит нас из области нравственной рефлексии в пространство реальной человеческой жизни, которая теперь проходит под пустыми небесами. Метафизика земного - ибо небеса пусты и нет иной метафизики - всю свою любовь отдает земле в том смысле, который слышится в словах ницшевского Заратустры: "Будьте верны земле". Мир грека эпохи "смерти бога" насквозь материален и чувствен. В нем все духовное, идеальное, ментальное - вещественно. В нем даже метафоры, тропы и фигуры суть вещи. И наоборот - в нем все вещественное может обнаружиться как идеальное, оставаясь трехмерным, не выходя из органического космоса. Оно может стать вне естественных законов чувственного мира, вне категорий пространства, времени, причинности, сохраняя видимость логических отношений и связей, оно может действовать в полном разрыве с положениями формальной логики, и оно все же вещественно. Боги, душа, само бессмертие в этом мире телесны, физичны. Боги имеют особый состав - лимфу, - текущую в их кровеносных сосудах вместо крови. Но это не делает богов менее материальными. Их тела остаются трехмерными. Боги едят, пьют, вступают в половые отношения, рождаются, растут и так далее. Они не прозрачны и не тенеобразны, хотя могут быть и такими. Даже позже - уже в классическую эпоху - жизнь на блаженных островах все равно остается телесной. Сейчас же и тень смертного в Аиде не бестелесный предмет; она, хотя и не осязаемо телесна, "бесплотна", все же существо: она обоняет, она вкушает кровь жертвенного животного, она теряет память, пролетая мимо Белого Утеса перед входом в царство Аида, но, вкусив кровь, она выходит из состояния забытья, к ней возвращается память, она говорит, предвещает, но тщетно пытаться живому обнять его рукой: рука скользит по пустоте. Это миропонимание человека, сказавшего "нет" небесам, отвергшего всякую метафизику с ее успокоением в мире с высшими силами; это миропонимание человека, пережившего "смерть бога". Особенность гесиодовской «Теогонии» - отсутствие единого творческого начала, стоящего у истоков бытия. Не творение, а рождение согласно этой космогонии было причиной бытия, некий хаос, безличная и безымянная потенция. Во внебиблейском религиозном сознании мы повсюду встречаемся с образом предвечного Хаоса. Он является аспектом Богини-Матери. У шумеров богиня Намму, «мать, породившая небо и землю», есть ничто иное как предвечный хаос, у аккадцев и вавилонян он олицетворен в женском божестве Тиамат - это дракон хаоса, против которого выступает Мардук, бог света, создавший впоследствии земной мир. В Египте мы находим представление о Нуне, предвечном хаосе, породившем бога Ра, финикийская космогония открывается словами: «Вначале был смутный темный Хаос, беспредельный и вечный», гимны Риг-веды производят мир от безначального водного Хаоса, согласно китайской мифологии из Хаоса родились противоположные начал Инь и Ян, которые и образовали мир. Греки в своих представлениях о Хаосе не одиноки, но только у них мы застаем то отношение к Хаосу, которое можно расмматривать как стремление мыслить нравственным образом то, что по определению находится по ту сторону нравственности и безнравственности. Для греческого ума Хаос не нечто далекое, отстоящее во времени, он близок более, чем что-либо еще, грек чувствует его дыхание. Над истоками греческой космогонии носятся зловещие тени. Хаос рождает бездны: земную (Эреб), воздушную (Тартар) и Темную Ночь. Ночь извергает из их недр Судьбу, Гибель, Смерть, Позор, Скорбь и властительниц судеб - Мойр, ткущих нити человеческих жизней. Образы, один чудовищней другого, плодит и плодит земля в родовых конвульсиях. Ползет многоголовый Тифон, из его пасти вырывается вой и рычание, у косматой химеры из ноздрей пышет пламя, у нее женская грудь и три головы: львиная, козья и змеиная. Тифон рождает гидру - фантастическое смешение кальмара и ящера, адского трехголового пса Цербера и кровожадного Сфинкса - льва с орлиными крылами и женским лицом. В объятьях Урана зачинает Земля Океан и титанов, вслед за ними шествуют полчища циклопов. Сам Уран - отец этого стада - содрогается при от ужаса и отвращения. Уран страшится детей Земли. И не зря - именно Крон, бог плодородия, восстает на Отца. Оскопление Отца совершается по наущению Земли. Но обессиленный Уран предрекает, что и Крон окажется поверженным своим сыном. И потому в страхе за свое будущее кровожадный титан погружает в свое чрево всех рожденных от него детей. Но однажды Земля обманывает своего супруга: она подсовывает ему вместо новорожденного запеленутый камень, а ребенка скрывает на острове Крит. Так появляется на свет эллинский бог эфирного блистания - Зевс-Кронион. Зевс не только спасается сам, но и спасает своих братьев и сестер - поколение новых богов-олимпийцев. Из переживания хаоса и ужаса, рожденного зрелищами немилосердной катастрофы, выявляется и основная пластическая интуиция греков - остолбенелое живое тело. Эта интуиция выявилась в греческой культуре как преобладание скульптуры, а метафизически - в проповеди бесстрастия, к которому должен стремиться истинный мудрец. Бесстрастие (атараксия), к которому стремилась греческая мудрость, есть бесстрастие статуи. Это вовсе не равнодушие, это после-страстие, рождающееся из трагического ясного сознания ничтожества человека в опыте ужаса, бессмысленности всего после "смерти бога", то есть нечто противоположное равнодушию, тупой бесчувственности. Пустота, звенящая пустота богоутраты, когда рухнули прежние упования, чаяния и надежды на благость высшей силы, когда застывшему взгляду остолбеневшего человека открылся хаос - весь этот ужас символизирует статуя, ее неподвижность и окаменелость. Скульптура всегда стоит словно бы перед хаосом, она есть символическое напоминание об ужасе смерти. Подобное понимание скульптуры подтверждено православной традицией - именно православие сурово осуждает искусство скульптуры, не допуская его в храмы, и видит в нем языческий порок подчиненности стихиям мира, языческое отрицание личного бессмертия Пластика является тем искусством, которое в наибольшей степени способно выразить завершенное в себе пребывающее в равновесии всех своих моментов существование. За вычетом музыки, которая вследствие своей своеобразной абсолютности и абстрактности вообще занимает особое положение, то все остальные виды искусств больше втянуты в движение вещей, они как бы больше склонны к общению и менее закрыты от мира вне их. Но именно потому, что пластическое произведение являет собой самодостаточное, завершенное, находящееся в равновесии существование, оно окружено одиночеством как аурой, которую неспособна рассеять судьба. Это одиночество пластического произведения нечто совсем иное, чем одиночество изображенного существа, так же, как красота художественного произведения не есть красота изображенного предмета. Скульптуры - образы жизни, которые существуют по ту сторону вопроса об их бытии или небытии в других сферах существования. Они суть то, что они представляют, совершенно непосредственно, без легитимации потустороннего для них существования, они не изображают ничего, что могло быть иначе характеризовано вне этого изображения, то, что им как художественному произведению присуще, присуще им целиком и полностью. Если допустимо здесь несколько затасканное слово «идея» определенной жизни по ее смыслу, настроению, судьбе становится здесь столь же наглядной, как и при других условиях она может быть и в образе живого человека. Эти идеальные в их созерцаемости фигуры в своей непосредственнности и самостоятельности создают впечатление того бесконечного одиночества и доводят этим до ее высшей точки черту глубокой, собственно уже трагической сущности, что вообще коренится в сущности пластики. Скульптуре свойственно особая, превосходящая эти свойства в других искусствах замкнутость, невозможность делить свое пространство с другими существованиями, бытие только с собой, абсолютным внутренним равновесием элементов. Скульптура выражает мрачную, тяжелую серьезность прежде всего как завершенность чисто формальной обусловленности пластики как таковой. В скульптуре всегда речь идет о физической тянущей вниз тяжести и о том импульсе движения, который идет от души и противодействует этой тяжести. Тянущая вниз сила и стремящаяся вверх душевная энергия противостоят друг другу с непримиримой жестокостью в качестве двух разделенных непреодолимой дистанцией сторон жтзни, но одновременно они проникают друг в друга в борьбе уравновешивают друг друга и создают явление столь неслыханного единства, сколь неслыханно стремление к разъединению объединенных в нем противоположностей. Элементы судьбы и свободы, воплощенные в образе тяжести и противостоящих ей душевных устремлений, здесь близки, едины, сдвинуты в сторону большей эквивалентности, чем в любом другом искусстве. Ибо трагизм присутствует не там, где подавление или уничтожение одной жизненной энергии другой, ей враждебной, связаны не со случайным или внешним столкновением обеих потенций, а там, где судьба, предуготованная одна другой, в первой уже пред-образована как неизбежное. В скульптуре сама тяжесть тела являет себя как проникающей в душу, или, вернее, в ней самой возникающий момент. А конфликт между душой и телом одновременно показан как борьба противоположных интенций самого тела. Проблема скульптуры принадлежит к неразрешимым в этой жизни проблеме человеческого удела - найти спасительную завершенность жизни в самой жизни, заключить абсолютное в форму конечного. Трагизм противоречия и разрушения, все-таки возрастает из последних глубин самой воли к жизни. Трагизм состоит в том, что уничтожение происходит из той же почвы, на которой выросло уничтоженное по своему смыслу и своей ценности.<Если говорить об опыте русской культуры, то такое понимание наиболее ярко выразилось в творчестве Пушкина и Гоголя. Так, например, у зрелого Пушкина явственно начинает проступать отношение к статуе как к идолу, истукану, соотнесенному с потусторонними силами, враждебными живому существу. Таковы Каменный Гость, Медный Всадник и, в известном смысле, Золотой Петушок. У Гоголя же все герои при встрече с неожиданным ведут себя примерно одинаково - столбенеют. Апофеозом такого омертвения-окаменения можно считать немую сцену "Ревизора". Человек у Гоголя в таких случаях замирает, как будто "громом пораженный", остается как вкопанный. Чтобы в ужасе застывать при встрече с миром неизвестного, надо определенным образом мыслить сам этот мир - как нечто равнодушное к человеку, карающее и правого, и виноватого. Ведь и в немой сцене "Ревизора" сильно это ощущение воздаяния, которое распространяется на всех без рассмотрения вины. Немая сцена эта больше похожа на "Последний день Помпеи" Брюллова. (Здесь и далее прим. автора.)> Характерное для всей античности понимание событийности как слепой случайности, происходящей всегда "вдруг", неожиданно, понимание череды событий как хаотического сцепления удач и поражений - все это также исходит из переживания вселенского хаоса: вдруг появляется "бог из машины" в греческой трагедии, вдруг сваливаются на человека беды и несчастья, и даже Платон в своем "Пармениде" доказывает, что одна категория переходит в другую при помощи некоторого "вдруг", в котором неразличимы конец предыдущей и начало следующей категории. Если мир уже не строится по чертежам небесным, то само небесное теперь должно строиться по земным чертежам. И потому старый "номос" неба и "фюсис" земного разошлись в сознании пост-микенского грека. Этот "номос" небесного исчез из сознания как нечто, что определяет его смысл жизни, и свой новый "фюсис" новое греческое мышление начинает строить по единственному "номосу", который ему известен, - человеческому. Весь мир природы понимается и истолковывается на основе опыта "смерти бога" и того закона, который сам человек поставил законом себе и миру, законом своего нового мира.
ГОМЕРОВСКИЙ ВЕК
Новую эпоху в истории Греции, охватывающую XI-VIII века до н. э., обычно называют "гомеровским веком" - к этому времени относится появление "Илиады" и "Одиссеи". Это было время распространения железа, из которого до этого изготовлялись лишь украшения. С XI века появляются железные мечи, к X веку относятся также различные орудия и утварь, сделанные из железа. На территории Греции вновь распространился родо-племенной строй, на основе которого уже позже складываются греческие государства - полисы. В гомеровскую же эпоху гибнут и пустеют города, не строятся дворцы и гробницы, на несколько столетий забывается письменность. Дорийский грек пренебрег микенской каменной техникой и вновь взялся за деревянные постройки, вопреки микенским и египетским образцам. Магистральные и оросительные системы, существовавшие в микен скую эпоху, были запущены и забыты. Появляется сожжение мертвых в противовес микенскому захоронению. Происходит внезапный, мотивированный лишь психологически, переход к сожжению, которое совершалось с полным пафосом символического акта - торжественного уничтожения, отрицающего всякое историческое, всякую долговечность. Изменилось само представление о судьбе души за гробом и сам образ потустороннего мира. У Гомера ахейцы - это в собственном смысле грекоязычный народ Южной Фессалии, но поскольку они стали наиболее могущественнейшими из племен. Гомер часто пользуется этим именем для обозначения всех греков под Троей. Греческие историки и поэты называли ахейцев, как и пеласгов, автохтонами - коренными обитателями Греции, насколько простирается людская память. И хотя ахейская цивилизация во многом напоминает микенскую, она значительно отличается от нее. Микенцам железо практически неизвестно, гомеровские ахейцы хорошо с ним знакомы, микенская цивилизация хоронила своих умерших, гомеровские греки кремируют, ахейские боги-олимпийцы не имеют ни малейших следов существования в культуре Микен, ахейцы пользуются длинными мечами и круглыми щитами, ни одного предмета подобной формы не встречается среди микенских находок. Но все-таки четкого водораздела между микенской и ахейской цивилизациями не существует: это те же самые племена, только пережишие катастрофу. Ахеец живет в суровом мире, где каждый должен быть себе стражем, держа наготове стрелы и копье. Он безмятежно взирает на потоки крови. Каждый слабак становится его добычей. Добр не тот, кто мягок и снисходителен, а тот, кто отважно сражается. Его «арете» (добродетель) - свойство Ареса, бога войны.Эпоха Гомера была своеобразным средневековьем греческой цивилизации, родственной историческому средневековью по духу аристократизма, рыцарства и самодостаточности. Гомер - выразитель героической этики. Его идеал - подвиг. Подвиг - это не всегда дело только воинской доблести. Это умение стойко принять и до конца исполнить свое жизненное предназначение. Каждый эпитет, каждый глагол Гомера есть мужественное «да» вещам и действиям, коковы бы они ни были, именно потому, что они уже есть. Трагическая мудрость принимает мир, его удел и этим приятием говорит «нет» небесам. Внутри себя гомеровская эпоха светла и радостна - с разрушением Микен произошло освобождение от гнета централизованной регламентации. Власть царя-анакса исчезла, и все властные функции перешли теперь к прежним удельным басилевсам и новым дорийским властителям. Крушение Микен дало им в руки власть, которой они были лишены при Царе. Радостный свет героического периода греческой истории бросает свой отсвет на всю историю античности, поскольку именно эта эпоха свободы и раскрепощенности, простоты и героизма сформиро вала богоборческие идеалы античного мира. В "Илиаде" при перечислении кораблей говорится о наследственных царях, господствовавших над большими территориями, в которые входят несколько, иногда много местностей, известных впоследствии как города, они мыслятся как крепости, ряд которых властитель - в данном случае Агамемнон - готов дать Ахиллу в ленное поль зование. В Трое при царе были советники-старцы из знатных родов, вследствие преклонного возраста освобожденные от воинской службы. Во главе войска стоял Гектор, а при заключении договоров обращались к Приаму. Все отношения исключают управление, связанное с барщиной и патримониальной властью. Царская власть носит здесь харизматически-родовой характер. Но даже чужеземцу в городе - Энею - может быть приписана надежда заменить Приама, если он убьет Ахилла. Ибо царская власть рассматривается как должность, а не как владение. Царь - военачальник, он участвует в суде вместе со знатными людьми. Он представитель народа перед богами и людьми, владеет причитающейся ему землей, но власть его, как это показано в "Одиссее", подобна власти вождя, основанной на личном влиянии, а не на установленном авторитете. Военные походы, большей частью морские, также носят для знатных родов характер некоей авантюры, в которой они участвуют в качестве свиты царя, а не несут службу. Долголетнее отсутствие царя не считается причиной возможных беспорядков, в Итаке долгое время царь вообще отсутствует, и Одиссей поручает свой дом заботам Ментора, которому ни в коей мере не присуще царское достоинство. Войско состоит из дружин царей, успех сражения определяется личным поединком. Нигде не сказано, что население было зависимыми или рабами знатных землевладельцев, но нет и упоминаний о свободных крестьянах. Фигура Тирсита, во всяком случае, доказывает, что и рядовой может иногда противостоять знатным, но это считается дерзостью. Царь работает в доме, возделывает сад, его спутники ведут корабль. Вместе с тем рабы могут получить надел. Здесь еще нет особо резкой разницы между рабами и наделенными землей клиентами, отношения патриархальны, все необходимое удовлетворяется собствен ным хозяйством. Пиратские набеги осуществляются на собст- венных кораблях, торговля носит пассивный характер. Это патриархальное общество выдвигает своим идеалом образ героического одиночки, живущего умонастроением, формулой которого служит "я есть бог". Греческий героизм - это героизм человека, который никогда никому ничего не уступает, кроме как собственной страсти. Таков Ахилл. Ахилл одинок нечеловеческим одиночеством богоравности. Его богоравность - не какое-то по этическое преувеличение Гомера, стремящегося возвеличить своего героя, но констатация того нового качества человека, которое отличает эту эпоху, констатация качества, исходящего из основного умонастроения гомеровского века - герой равен богам. Ахилл мудр - это мудрость любви к жизни, мудрость земная, человеческая, пренебрегающая длительностью ради пол ноты. С самого начала греческой мудрости она мыслится не как дар, а как то, что человек может добыть в мире самостоятельно. Для этой мудрости слава в веках дороже, чем жизнь в безвестности и покое. Это мудрость противостояния судьбе, предпочи тающая невозможное и невероятное возможному и правдоподобному. Этой мудростью в полной мере обладает и Одиссей. "Одиссея" в отличие от "Илиады" не является увековечиванием какого-то коллективного события: это эпос, живописующий странствия одиночки, живущего в уверенности, что "бог мертв" и что теперь необходимо принять на себя прерогативы умершего божества. Отныне любое переживание богоутраты будет мета физической одиссеей. Одиссей полагается только на себя. Одиссей ведет борьбу с морем и судьбой, чтобы отвоевать свободу. И главное оружие в этой борьбе - его мудрость человека без Бога. Это практическая мудрость. Он умеет пользоваться слабостями людей, придумать, как спастись из безвыходного положения, он небескорыстен, но его корыстность иная, чем ко рысть буржуа. Одиссей обращает свою мудрость против враждебных богов, всевозможных препятствий, расставляемых на его пути завистливыми высшими силами. Одиссей своими рука ми сооружает супружеское ложе - он сам сооружает свою судьбу и счастье. Он орудует топором, плугом, рулем так же, как и мечом. Трагическая мудрость одиночки исторгает из себя волю к справедливости вопреки богам. Гомеровский эпос внутри себя не имеет единства и цельности в своих культурных характеристиках. Эти поэмы есть позднейший свод (или квинтэссенция) некогда существовавшего эпического цикла. Окончательную форму, ту, которую мы знаем, они получили не позднее VII века до н. э. в результате длительного литературного процесса. В них причудливо сочетаются новые и старые приметы жизни. В эпосе охвачена оченьдлительная эпоха, неоднородная по своим социальным и политическимпроцессам. Своими новейшими частями эпос заходит в весьма позднее время - в VIII век. Когда, например, изображается битва сплоченных фаланг, мы узнаем известный строй гоплитов, который греки противопоставили персам в V веке. А наряду с этим упоминаются колесницы - черта настолько архаичная, что сам Гомер не знает, что с ними делать: в тех боях, которые у него изображены, им просто негде развернуться. Открытие более древней истории позади гомеровского общества сделало невозможной мысль о том, что в эпосе отразилась жизнь общества, близкого к первобытному. Здесь следует говорить об обществе, близком к одичанию. Все, что происходит в эпосе, исторически правдоподобно, но сам автор, собиравший и составлявший "Илиаду" и "Одиссею" в единое целое, собирал их согласно своим мотивациям, привнося в поступки героев те умонастроения, которым он сам был совре менник. Гомер модернизировал своих героев. Сам миф обращается у Гомера в объект критики и переоценки. Миф становится истоком и материалом собственно литературного творчества, религиозное начало мифа здесь низводится до основы эпических сказаний. Миф редуцируется до эпоса. Эпос берет начало в мифе, удерживает некоторые его части, но является естественным отрицанием мифа. Миф не искусство, но "почва и судьба" искусства. В мифе религиозное сознание и самочувствие рационализируется в символах, имеющих сложную иерархию; миф есть познание богов. Эпос имеет другую природу: это уже не способ познания мира, а его вне-религиозная обработка. Мифологический реквизит выступает в эпосе как внешнее, под которым уже нет прежнего отношения к бытию. Греки, создавшие мифологию, и греки, создавшие эпос, относятся к разным эпохам. Эпос - критика мифологии. Гомер больше глумится над богами, чем повествует о них. Гомер кощунствует. Этим его помянул Ксенофан, сказав, что "все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод". Поэмы Гомера уже были воплощением трагической мудрости греков, уже были богоборчеством, заложившим фундамент греческой метафизики. Гомер придумал своих героев, сотворив их, как это делает настоящий художник, дополнив их действия своими мыслями и мотивациями. В плоть и кровь героев прошлого вошло новое умонастроение, которым жило гомеровское общество. Гомер не менее, чем Фалес, "повинен" в натурализме нового греческого миропонимания. Гомеровское "опрощение" богов есть возвышение природы. Высвечивая поэтической рефлексией бытие богов, Гомер делает их доступными и познаваемыми. Иерархия божественных сил становится взаимосвязью природных стихий. И когда позже Фалес скажет, что "воздух полон богов", он будет иметь в виду вовсе не олимпийский пантеон, а разлитых духов стихий, столь характерных для языческого миропонимания вообще. Между двумя поэмами есть разница, касающаяся быта, понятий и географического кругозора. Автор "Илиады" ближе к истории. Автор "Одиссеи" больше держится сказочных сюжетов. К этому надо добавить, что после того, как поэмы сложились, к ним были сделаны некоторые вставки, и содержанием, и языком обличающие свое более позднее происхождение: такова вся X песнь "Илиады", рассказывающая о ночных похождениях Одиссея и Диомеда в троянском лагере, затем так называемый каталог кораблей в конце XI песни "Илиады", где позднейшие редакторы, видимо, старались выделить почетное участие в старинных подвигах каждой общины. В гомеровких поэмах бросается в глаза единство цели, идеи, замысла, сложная техника; в них много намеренного, рассчитанного, много резонерства и рефлексии, тонкая психологическая разработка прихотливого ума, привыкшего полагаться только на себя и не ждать милостейвдохновения, посылаемых богами. Поэмы создавались для общества с развитыми вкусами, для общества, которое хочет наслаждаться искусно составленными рассказами о своих подвигах. Та старина, о которой повествует Гомер, отстоит от него на пять-шесть веков, он часто дает малопонятные ему самому сведения о царях, вооружении, обычаях микенской поры. Но сам Гомер живет в другом обществе, где законом служит кулачное право. Самое обычное дело у Гомера - усобица, не вызванная ничем, кроме жадности, удальства и своеволия.
БОГ-КОСМОС
Античное отрицает безмерное. Глубокий пафос этого отрицания есть отрицание хаоса. Страстная основа античной души символически отрекается в этом неприятии от всего, что она не хотела воспринимать как действительное. Античная вселенная, космос - хорошо упорядоченное множество близких и вполне обозримых вещей - замыкается физическим небосводом. Античная культура и начинается с грандиозного отказа от уже наличествующего миропонимания. Предназначение новой картины мира сводится к тому, чтобы критически подтвердить священную каузальность религиозно узренного неблагополучия бытия. Грек влюблен не в безличную и слепую текучесть бытия, но в его строгую оформленность. Чувственно-текучее бытие связано у него твердыми и резкими формами, и потому оно здесь не просто текучесть, но лоно, рождающее из себя оформленные и живые тела, и сама текучесть воспринимается лишь настолько, насколько она способна порождать из себя эти оформления. Текучесть здесь размерена, расчислена, упорядочена - причем, поскольку она все же остается материальной, упорядочена она именно в виде тел. Живое и даже разумное существо, но данное телесно - вот основной предмет метафизического созерцания грека. Отпечаток непосредственной телесности всегда оставался у греков там, где они начинали говорить о предметах самого высокого и духовного характера. Совмещение соматического характера мышления и склонности к чистому созерцательству станет понятно, если мы примем во внимание, что для греческого мышления все наиболее законченное, наиболее красивое, наиболее фундаментальное бытие - это космос. Космос не какой-нибудь, а космос видимый, материальный. Быть неспособным оторваться от созерцания сущего, пусть даже в его чистом бытии, быть зачарованным чисто материальным, мыслить это материальное живым, мыслить мир в своем предельном обобщении как некую важную вещь, материально-чувственную вещь, не сводимую к своим отдельным проявлениям и в то же время живую, самодвижущуюся и одушевленную - это и значит быть прельщенным тварным, быть под взором сущего. Вся греческая мысль есть протяженное во времени славословие материальному космосу. Фалес сказал: "Прекраснее всего космос, потому что он есть произведение бога". О "прекраснейшем виде космоса" говорит и Эмпедокл. Демокрит, учивший о вечном возвращении, возникновении миров из хаоса, их гибели и новом возникновении, полагал, что "наш космос находится в расцвете". Анаксагор, когда его спросили, для чего нужно родиться, ответил: "Чтобы созерцать небо и устройство космоса". У Еврипида читаем: "Счастливец тот, кто созерцает нестареющий космос бессмертной природы". Для греческого ума космос есть хаос, но только в собранном виде, исправно действующем состоянии, обратное верно: хаос есть космос, но уже в состоянии разобранности, распада. Из хаоса рождается космос - так в символической форме перенесли греки свой опыт катастрофизма в область метафизики. Этот космос рождается по моделям полисного устройства. В значении слова "космос" содер жится компонент чего-то обустроенного, обжитого - в противовес неизвестному, неподвластному. "Фюсис" (природа) древних греков меньше всего означает природу в нашем понимании этого слова. "Природа" греков в высшей степени социоморфна. Отказавшись от понимания природных сил как личностных начал, греческий философ вполне закономерно не различает физического и социального, а социальное, в свою очередь, основывается у него на неразличении физического и метафизического в силу опыта безличного переживания мира - опыта переживания мира как хаоса. Безличное первоначало мира непосредственно и опосредованно порождает все многообразие вещей, объемля все сущее, оформляя его в прекрасный и упорядоченный космос, управляет его движением и развитием, и надо помнить, что это безличное первоначало обладает для грека не физическим, а нравственным и богоборческим смыслом, поскольку оно есть хаос. Поэтому и совпадение противоположностей есть трафарет для досократовской философии, в то же время это совпадение нигде у досократиков не понимается как гармония - оно всегда понимается как трагедия. У досократиков еще нет теодицеи, они в большинстве своем еще богоборчествуют на той истинной высоте богоборчества, которая после Сократа постепенно исчезает из греческой философии под напором сотериологических исканий. В образе хаоса оказалась та смута, тот общественный и религиозный хаос, который сопровождал крушение Микенской цивилизации, и этот же хаос определил и натурфилософию греков, в которой социальные процессы служат моделью космических событий. Ранняя натурфилософия переносит такие понятия, как "космос" (порядок), "дике" (справедливость), "тисис" (кара, возмездие), из области права, где они сформировались, на мировой процесс. Социоморфные обороты в рассуждениях о космосе и природе выдают первичность того земного, трагического опыта богоутраты, по образу которого стал мыслиться весь универсум. Фрагменты работ ранних греческих философов вполне ясно говорят об этом. Ранние мудрецы, выводя свои умозаключения о космосе, всегда имели в виду жизнь полиса, и как бы высоко они ни забирались, вся их физика направлена на конкретную земную пользу. Все эти натурфилософские построения сразу и законы природы, и законы полиса. Моделирование космических процессов по образу полисной жизни объясняется и тем, что, поскольку в значении слова "космос" весьма силен компонент некоего ограниченного, обустроенного целого, то само удержание этого смыслового компонента становится понятным из того простого факта, что именно свою социальную жизнь грек начал обустраивать в первую очередь и именно из социального хаоса родился социальный космос греческой цивилизации. Понимание космоса как замкнутого, циклического целого определило и своеобразие греческой философии истории. Она основана на очевидном заключении: если планетарные периоды цикличны, то циклична и сама история. Античному миру чуждо представление о внутреннем единстве истории в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это словосочетание. И эта своеобразная философия истории греков тонко отвечает глубинным интенциям греческого духа - в нем исторические изменения суть вечно повторяющиеся возвращения к одному и тому же хаосу. Миропонимание греков основывалось на совершенно вне-историческом мышлении, на метафизике неизменных вне-временных законов, будь то идеи Платона, аристотелевские формы или законы природы Гераклита и стоиков, не говоря уже об элиатах, выражавших эту направленность особенно резко. История и дух были вставлены в твердые рамки вечных субстанций и порядка, смысл которых постигался не из мутных и изменчивых земных воплощений, а из логического созерцания вневременной сущности. Не история служила средством понимания этой сущности, а наоборот - из этой сущности вырастало понимание истории, поскольку в человеческой деятельности греки видели только колеблющееся приближение к умопостигаемым вечным идеалам. Именно потому у них и не было подлинно содержательного становления и действительного, из самого себя открывающего свое содержание развития, а существовало только находящееся в приближении осуществление вечного масштаба. Поскольку же к этому масштабу приближались только сами греки, а остальные были варварами, то не существовало и потребности в мировой истории. Смысл мира вообще не зависел от этого приближения, но представлялся блаженно пребывающим в самом себе и предназначенным для наслаждения в мире чистого порядка и чистых форм. Если из всех существ этого мира к этой сущности приближались только эллины, то это всего лишь счастливая случайность, не имеющая никакого значения для мира в целом. Индивидуально-конечное вообще не имеет значения для вечной сущности - наоборот, оно получает значение только от нее. И если вместе с вечностью мира установлена и вечность конечного бытия, то дурная безличная бесконечность этого наличного бытия может выражаться только в том, что оно в вечном круговороте все время предпринимает попытки к сближению с вечной сущностью. Это учение о вечном возвращении делает историю бессмысленной и превращает ее в бесконечное скопление смутных отражений того, что существует истинно. При таких метафизических предпосылках действительно нет необходимости в философии истории. Для античности история есть история космоса, а ее основные законы суть законы астрономические. Все живое и неживое живет тем, что получает из космоса и отдает в него. Тут нет неповторимости, нет историчности. Круговращение и переселение душ тоже ведь не история, а вид астрономии. Тут - навеки статичное и внутри себя равнодушно вращающееся статуарное бытие, самодовлеющее, вечное, беспорывное. Чувство предопределенности, ощущение космических сил, действующих за кулисами истории, пессимистический настрой, при котором развитие общества понимается как неуклонное вырождение, сам смысл предопределения, остающийся неизвестным даже богам, - вот основные принципы, на которых строится греческий взгляд на историю. Греческая история не обосновывалась будущим и потому мыслила его как случайное, не упорствуя во мнении, будто все прошедшее обретет свой смысл только в грядущем. Она исходила из убеждения, что последующие события подчиняются тому же закону, что и предшествующие, поскольку природа человека существенно не меняется и природа всех вещей - появляться и исчезать. В этом пункте греческое и христианское понимания истории совпадают, противостоя вере в прогресс: то, что государства, народы, империи, цивилизации умирают так же, как человек, для христианского сознания столь же очевидно, сколь и для античного. У греков даже не было специального слова для того, что мы сегодня обозначаем существительным "история" в единственном числе, они знали только истории - во множественном числе. Слово "история" в греческом языке подразумевает действие, являясь отглагольной формой, и означает просто известие, ознакомление, сведение и сообщение, но никак не осмысленную, выделенную предметную область, которую в качестве истории духа следовало бы отличать от природного мира. Классические историки сообщают истории и не помышляют о какой-то осмысленно развивающейся всемирной истории. То, что они сообщают, - события, проистекающие из действий людей и общественных обстоятельств, а не просто случающееся от природы, но сама по себе история может относиться также и ко всему вообще - в том числе и к природным явлениям. Ни одному греческому мыслителю не пришло в голову отождествить этот размеренный неизменный космос с преходящей человеческой историей. Отсутствие философии истории в нашем понимании у греков основано на ясном осознании того, что однажды случившееся и изменчивое требует сообщения и рассказа, но истинного знания о нем все равно невозможно добыть. Греческий ум не тематизирует историю, не задается вопросом о смысле истории, поскольку этот смысл был задан более важным для греков смыслом хаоса, точнее - бессмысленностью всего развития и невозможностью избежать всего этого, вырвавшись из-под гнета мировой необходимости в сферу подлинной свободы. Тот, кто понимает логику этого мышления, понимает и то, что античное мышление с необходимостью должно было быть ограниченным рамками проблемы "рабство-свобода", причем в ее строго безличностном аспекте. Ведь ни раб-вещь не есть человеческая личность, взятая в целом, но только один ее момент, ни рабовладелец-разум тоже не есть личность, взятая в целом, но только формообразующая сила. И соединение этих двух сфер образует космос, который также не есть личность, а только целесообразная вещь, целесообразно организованное всеобщее тело. Античное мышление ограничено этой на века идеально сформированной вещественностью. Вещь в античности настолько самодовлеюща, что даже боги оказываются не в состоянии создавать эти самодовлеющие вещи. Античные боги суть порождения мира: не они создают мир, а мир создает их са мих.
НЕВОЛЯ
Гесиoд в своей "Теогонии" не знает, что ему делать с Зевсом: с одной стороны, он как бог всех богов и людей предвечен, с другой стороны, сам Зевс обязан своим рождением длительному космическому развитию, в основе которого лежит темный и неразумный хаос. Равнодушный хаос не подает идеалов, не побуждает к созиданию - поскольку человек выведен из низшей материи, то он и сводим к ней. Без остатка. А древний грек, как и человек любой другой эпохи, всегда очень остро чувствовал именно этот остаток, отделявший его от мира природы. Если вселенная отдана во власть все-вечного ей противоречия, из которого нет выхода, если космическая жизнь развертывается как грандиозная драма, в которой поочередно берут верх то положительные силы любви, то отрицательные силы вражды, то какова в этом случае роль человека? Куда ему деть остаток - душу живую, взыскующую мировой справедливости? Здесь лежит главная проблема греческого трагизма, греческой героики, греческой мудрости и богоборчества - где выход из этого безличного круговорота мировых стихий? Античное недоверие к природе не исчезает никогда, оно только временами смягчается, заглушенное победными гимнами человека, познавшего что когда "бог умер", то он бог. Преимущественная сфера, в которой находит свои смыслы богоутрата, не трагедия, не искусство, не мудрость, но внутреннее умонастроение живого человека, из которого он черпает и символы своего отчаяния: трагедию, искусство и - символ своего самостояния в мире - мудрость бунта. В сердце человеческом бессмертие души, личное бессмертие вовсе не проблема, а интуитивно понятый факт своего бытия, ищущий своего рационального подтверждения. Трагизм и жизнь человека не отделены друг от друга, и эта нерасторжимость дает человеку неослабевающий импульс к самостоянию в мире вопреки отчаянию, вопреки неподвижной безучастности природы к человеческим делам, природы, в которой человеку нет места, если он хочет сохранить себя, а не слиться с ней в стихийном неразумии. Взгляд в глаза Хаоса вместе с неистребимой телесностью греческого мышления формируют лицо античного трагизма. Греческий трагизм - это трагизм неволи, трагизм невозможности выйти из-под гнетущего, давящего космоса, трагизм рабства миру. Древние греки, так ярко чувствовавшие гармонию и космическую слаженность, стройность мировой жизни, вместе с тем оставили нам вечные образцы сознания того, что человеческим мечтам и надеждам нет места в этой гармонии. Греки верили, что боги завидуют человеческому счастью и всегда принимают меры к тому, чтобы возместить случайную человеческую удачу горькими ударами судьбы. С другой стороны, они верили, что даже блаженные боги подчинены как высшему началу неумолимой судьбе. Более поздняя метафизика учила, что по законам мировой гармонии никто не должен захватывать слишком много для себя, что человек должен знать свое место и что даже сама индивидуальность человека есть греховная иллюзия, караемая смертью, ибо лишь в добровольном признании себя служебным, зависимым звеном мировой гармонии, лишь в смиренном принятии рабской доли и своего космического ничтожества человек исполняет свое единственное предназначение. Гомер утверждает, что
из тварей, которые дышат и ползают во прахе,
истинно в целой вселенной несчастнее нет человека,
и все греческие поэты согласно вторят ему в этом. "И земля, и море полны бедствий для человека", - говорит Гесиод; "Слаба жизнь человека, бесплодны его заботы, в краткой жизни его скорбь следует за скорбью", - сетует Симонид; "Человек в мире есть лишь дуновение тени, или еще менее - сон тени", - заявляет Пиндар. Вся античная философия от Анаксимандра, Гераклита, Эмпедокла до Платона, Марка Аврелия и Плотина в этом горьком признании бессмысленности человеческой жизни вполне согласна с поэтами. Никакого верховного Бога, никакой разумной силы не было для грека на небесах. Греки не утверждали существование Бога в начале мира - их настолько ужасали различные жизненные и природные явления, что они говорили о той или иной вещи: "это бог". Христианин говорит: "Бог есть любовь", - а древний грек говорил: "Любовь есть теос (бог)". Греческое слово "теос" имеет прежде всего предикативный смысл. Говоря, что "любовь" или "победа" есть бог, или, точнее, какой-то бог, грек имел в виду прежде всего то, что это нечто высшее человека, не подвластное смерти. Любую силу, любую энергию, которые не с нами родились и не с нами исчезнут, греки называли богом. Так понимая сферу божественного и таким образом ощущая свою неволю, греческий ум вполне закономерно понимал человека как существо, героически противостоящее мироустройству, и, следовательно, как существо, ниоткуда не ждущее помощи. В мире эллинов все выполняет сам герой. Даже помощь богов большей частью весьма относительна, так как без отваги или сметливости героя эта помощь оказалась бы несущественной. Герой греческой мифологии - имморалист, поскольку безнравственен весь окружающий его мир богов и природы. Моральная сторона выключена из логики раннего греческого мифа. Эллинский миф в самом начале не знает психологической игры, он психологически "заморожен". Он всегда по эту сторону мира. Герой греческого мифа - богоборец, направляющий острие своего оружия против незыблемых законов неба. Эти законы говорят: ни одно судно не должно проплыть мимо островов сирен, ни один смертный не может разрешить загадку Сфинкса, ни от одного человека нельзя отогнать гарпий до выполнения ими задания, ни один человек не может взглянуть в глаза Медузы, никто не может избавить Прометея от терзающего его печень коршуна. Но аргонавты проплывают между Симплеадами, но Орфей минует остров сирен, но Эдип разрешает загадку Сфинкса, но Персей смог безнаказанно взглянуть на отраженное в щите лицо Медузы, но Геракл истребляет гарпий и освобождает Прометея. Выполнение невыполнимого, достижение недостижимого составляет сущность героического подвига,
всегда обращенного против несправедливости небес. Герой сражается также и с предопределением, заранее зная свою судьбу. Тайна грядущего ясна - все предопределено Мойрами, предрешено богами. Боги - лишь блюстители велений Мойр. Там, где исход не может быть обнаружен явно, на помощь приходят опосредования: вещания - оракулы земли и неба или подземного мира. Иногда и сами боги раскрывают тайны смертным. И все-таки не все открыто - Зевс знает все, но не до конца. Уран знает, что будет свергнут собственным сыном от Геи-Земли, но не знает, каким. Кронос заранее знает, что будет свергнут своим сыном, ибо сам он сверг отца Урана, но и он не знает, каким. Все о своей судьбе знает и Прометей, но он не старается отвратить ее. Знание-не-до-конца дано и Ахиллу. Участь Ахилла заранее предсказана при его рождении: она известна его матери Фетиде, она известна самому Ахиллу. После гибели Патрокла ему еще не раз предрекает ее Фетида, ему предрекает ее и умирающий Гектор. Все открывая, но открывая не до конца, греческий миф учит тому, что страсти сильнее знания и знание не в силах предотвратить гибельного деяния страстей. Если Эгист убьет Агамемнона - предупреждают Эгиста боги, - то его постигнет жестокая кара; Эгист может и не убивать Агамемнона, и тогда сам не будет убит Орестом. Но предупрежденный богами Эгист все же убивает Агамемнона. Злая воля Эгиста, побуждая его к убийству, делает это принудительно - во исполнение рокового проклятия. Эгист сын Фиеста. Фиест сын Пелопса. На всем роде Пелопса, следовательно, и на Эгисте Пелопиде, лежит двойное проклятие. Следовательно, злая воля Эгиста - от Мойр. Выбора нет. Всякий раз, когда бог хочет, чтобы герой потерпел поражение, герой его терпит. Свобода героя мнима. Он нарушает волю необходимости, он мятежник, и боги, предотвращая последствия мятежа, противостоят его воле. Герой гибнет, но гибнет победителем и свободным, Ананке - природная необходимость. Мойры блюдут ее веления, предопределяя участь каждого, боги блюдут предопределения Мойр, но воля героя-человека для предопределения свободна. Он вправе не покориться Мойрам, хотя и не может выйти из-под власти Ананке. Свобода, понятая как героическое деяние, как бунт против неба и земли, и есть единственная свобода для грека. Античный человек до конца своей эпохи исходил из представления о всеобщем рабстве богов и людей. Боги являются рабами не только своих страстей, но и рабами судьбы в лице великих Мойр. Воля Мойр безусловнораспространяется и на все стремления человека, и любой властитель является рабом своей судьбы. Рабство нисходит на землю с самых небес, где восседает на троне необходимость. Рабство повсюду, никто не свободен. Зевс, узнав от Прометея тайну Мойр, отдает Фетиду в жены смертному Пелею, и рождается Ахилл - герой, но не спаситель, не создатель нового порядка. Ибо не будет ли новый порядок столь же подчинен необходимости, как и старый миропорядок Зевса, не будет ли человек рабом и на новой земле под новыми небесами? Не выход ли - примирение, ибо напрасны тысячелетние муки Прометея? Потому Ахилл - не спаситель мира, но герой, противостоящий богам. Ибо смысл богоборчества не только в богосвержении, но и в праве человека всецело создавать самого себя, вырвав себя из плена природных закономерностей. Трагическое миропонимание грека - это осознанный детерминизм при воле к свободе, тема Мойр, осложненная темой героя, это бесстрашное заглядывание в бездонную глубину, низвергнувшись в которую герою суждено погибнуть, ибо в итоге - необходимости не победить. И все-таки герой должен бороться против судьбы, побуждая к этой борьбе других, отвоевывая у судьбы свободу, зная, что отвоевать ее до конца никогда не удастся. Смысл борьбы скрыт в чувстве свободы и метафизической справедливости. В борьбе свободы с необходимостью для эллина прежде всего важно право человека на свободный акт. Конфликт детерминизма и героизма разрешается только психологически: свободный акт эллина все-таки предопределен. Но человек сам обретает свободу, пусть даже иллюзорную. Сочетание мотива победы и неотвратимости смерти вместе с сочетанием свободного акта героя с предопределенностью этого акта есть то неразрешимое противоречие, которое составляет ядро античного трагизма. Трагизм - это выражение жажды справедливости при интуиции о царящей над миром правде, столкновение этой интуиции с человеческим смертным уделом, где рождается все бессилие индивида в его борьбе против неба, и вся его слава - не сдавшегося, не прекратившего бунт, не смирившегося. Ибо ничем иным и не может завершиться богоборчество, кроме как стремлением стать не только превыше богов, но и превыше Мойр, чтобы чудом - чудом - преобразить не только собственное бывание, но и само бытие мира, воздвигнув новые небеса и новую землю. Понятие "воли" в привычном для нас значении имеет мало общего с античностью. Воля в своем чистом виде не есть античное понятие. В античной психологии главную роль играет ум, а все остальные психические способности трактуются как модификации ума. Когда Ум выходит из своей самоуглубленности, он переходит в сферу становления, в область постоянного изменения, в мир эмпирического. Если в этом становлении ум продолжает играть руководящую роль, то здесь возникает умственным образом и умом направленная воля, своего рода умственно-аффективное становление под руководством ума. Воля, таким образом, является в античности вовсе не самостоятельным в сравнении с умом принципом, но функцией ума. Когда же ум теряет свою руководящую силу и в своем внешнем становлении подчиняется неразумной стихии мира, то появляется нечто, что можно назвать "вожделением". Это внеразумно-аффективное состояние есть становление без руководства Ума. Стоит ли говорить, что это именно то состояние, которым охвачены все греческие герои, что это и есть то состояние неволи, бездушную силу которого ощущал каждый грек. Древний грек, как и мы, знал, что учение о круговороте мировых катастроф есть слабое утешение для человеческого сердца. Без этого знания не было бы никакого героического деяния и не было бы восхищения греков своими героями, отважившимися бороться с судьбой. Ощущение и знание космической неволи человека предопределило и отношение античности к творчеству как таковому. По Аристотелю, возникновение такого, например, предмета, как медный шар, предполагает наличие соответствующего материала (медь - материальная причина), далее - формы (первообраза), которую этот материал стремится приобрести ("формальная" причина шара - это его идеальная шаровидность), затем - цели (целевой причиной шара как раз и является его тяготение к абсолютной шаровидности) и, наконец, производства - производящей причины, благодаря которой бесформенный материал меди отливается в форму идеального шара. Таким образом, в основе аристотелевской схемы лежит имманентное стремление всякого предмета к своей смысловой и структурной завершенности - энтелехии (осуществленности), среди предметов любого рода существуют (или могут существовать) такие, в которых реализовались все внутренние возможности, свойственные этому роду, - таков шар с его воплощением идеальной шаровидности. Сразу же обращает на себя внимание та сугубо служебная роль, которая отводится Аристотелем деятельному субъекту, изготовителю предмета. Причина в том, что Аристотель, как и вся греческая метафизика, нигде и никогда не понимает творчество в современном смысле, то есть как активную и сознательную силу, как продукт индивидуального вдохновения и свободной самореализации субъекта. Напротив, человеческую деятельность он трактует как пассивное начало, подводя ее под понятие "искусство", которое в соответствии со всей античной традицией понимается как умение, техника, опирающаяся на знание правил данного рода деятельности, как мастерство, которое надлежит проявлять в любом ремесле. Важнейшей особенностью такого искусства является то, что ему можно научиться. "Наука", по Аристотелю, есть совокупность правил и предписаний, научающих этим искусствам, учение об искусстве как подражании природе также имеет своей основой понимание творчества как пассивного умения. Подражание в понимании античности всегда пассивно. Оно повторяет то, что является вечным образцом для всего и всегда. Принципиальный соматизм греческого мышления мешает греку быть ближе к бытию и жизни, ибо бытие и жизнь не есть тело. Тело связывает духовную энергию и приводит ее к пассивности. Тело и без того уже есть подражание идее, а художественное творчество есть подражание этому подражанию. Все наличное бытие есть подражание вечной и законченной модели идеального бытия, и подлинного творчества в нашем понимании тут быть не может.
МУДРЕЦ
Греки понимали свободу только как отсутствие внешнего принуждения. Онасводилась к разумному выбору средств для достижения целей. Греческая простота понимания свободы исходила из самого характера стремления к ней - этот характер был практическим. Само искание свободы было обусловлено той первейшей необходимостью, которая возникает при совершенно полном крушении прежних ценностей. В этой ситуации самое главное есть поиск и нахождение именно практических, прикладных правил жизни. Хорошо нам, сегодняшним, мыслить о свободе, применяя к миру абсолютные требования, ибо мы не пережили столь сокрушительного обвала прежних верований. Хотя и наша эпоха знала великие потрясения, но наши потрясения не затрагивали самых глубинных основ нашей метафизики. Мы, например, несмотря на принципиальное отличие нашей эпохи от нового времени, до сих пор мыслим новое время как нечто вполне понятное и близкое, в то время как пост-микенский грек был настолько другим, отличным от грека Микенской цивилизации, что долгое время считалось, что эти цивилизации принадлежали разным народам. Мы сегодня лишь в незначительной, весьма приблизительной мере, скорее умом, нежели сердцем, можем понять всю бесповоротность того умственного переворота, который произошел в эпоху гибели Микен в головах очевидцев и участников этой катастрофы. И только тогда, когда мы уясним себе, что в то время для народа, оставшегося без руководящих начал, поиск этих самых начал стал первой и единственной практической потребностью, мы поймем и то, почему философствование о мире, богах, о человеке и его судьбе в мире стало главным делом греческой цивилизации, мы поймем также и то, что тот идеальный тип человека, который каждая историческая эпоха преподносит себе в качестве образца для подражания, не мог быть никем иным, кроме как мудрецом, причем мудрецом именно житейского, практического склада. Обыденное сознание до сих пор живет с представлением о ранней греческой мысли как мысли стихийной, наивной, философствование которой существует и осуществляет себя просто как детская потребность объяснения мира и его природных закономерностей, как непроизвольная игра ума беззаботных и довольных людей, у которых много досуга и которые поэтому в силу собственной любознательности посвящают свой досуг философским размышлениям. Словно бы в то детское время человечества наивная впечатлительность незрелого ума находила свои объяснения природным явлениям так, как их находит ребенок, еще слишком мало знающий для того, чтобы делать правильные, научно-верные выводы о мире. Вздорность этих представлений, вынесенных из школьных учебников и, следовательно, бывших некогда некоей научной точкой зрения, сегодня, к счастью, обнаружена, и сами эти представления сданы в архив истории. Трагический опыт утраты всех прежних устоев, всех жизненных правил с суровой необходимостью требовал практического философствования, практической мудрости. Греки понимали мудрость как мудрость, в которой любое умозрение вырастает на почве жизненной умудренности. Греческие легендарные "семь мудрецов" суть собственно семь поэтов, устроителей и певцов вполне земной, обыденной жизни. О какой мудрости мог говорить народ, для которого сама "софия" (мудрость) есть, по корню слова "мастерство", умение создавать вещь, умение понимать ее устройство? Гомер прямо говорит о "мудрости" плотника или зодчего, это же понимание "мудрости" мы встречаем и в гимнах Пиндара, и у Еврипида. У Пиндара и Аристотеля мудрыми оказываются художники, у Архилоха, Вакхилида, Эсхила, Платона - штурманы, врачи, возницы, у Софокла - борцы. Древние грамматики прямо приравнивают эту "мудрость" к "искусству" и "ремеслу" (техне). Аристотель понимает ее как добротность умения. Удивительно ли после этого, что Плотин уже на излете античности дает эстетику и учение об уме на основании понятия о "софии"; удивительно ли что, по Плотину, "жизнь есть мудрость", что "сущность сама по себе есть мудрость"? И в самом истоке, и в самом конце своем античность понимает мудрость как искусство, как технику правильной жизни. Слишком хорошо знал древний грек, что мудрость - дело его ума, что небеса не говорят о мудрости. Этимология слова "техне" не имеет в виду ничего технического в современном понимании слова и вообще ничего такого, что связано с достижением чего-либо. Этот термин обозначает то, что обычно понимается под словом "видеть" - видение. Узрение истины есть исходное смысловое положение слова "техне", и для грека "техника жизни" - мудрость - заключалась именно в узрении, в ясном видении природы мироустройства, основой которому служит хаос. Но видение предполагает смотрящего, и у того нового грека, который вышел из Микенской катастрофы без веры в благость высших сил, но с убеждением, что именно ему теперь необходимо заново узреть в мире смысл, невольно стал складываться тот "технический смысл", который и слышится нам сегодня в слове "техне". На европейской философии до сих пор лежит печать греческой мудрости - мудрости как дела человеческого ума, ищущего истины без опоры на Божью Премудрость. И до тех пор, пока существует европейское мышление, будет существовать и греческий смысл его склада. Греческая мудрость - это искусство жить, мастерство делать выводы из немилосердности небес, умение строить свою жизнь под пустыми небесами, опираясь только на свой опыт переживания богооставленности. Именно "смерть бога" поднимает греческую проблему мудрости на высоту трагизма, выводя ее тем самым и из ряда искусств в область первого человеческого дела, ставя ее выше всех остальных умений и ремесел. В образе мудреца греческий ум собрал воедино все достоинства, которые, по его представлению, должны быть присущи человеку. Мудрец является образцом хороших "способностей, понятливости, мужества и возвышенного образа мыслей" (Плотин). Все эти качества соединены в одно понятие - "арете", переводимое на русский язык как "добродетель". Такой перевод не является вполне точным, так как у самих греков диапазон использования этого слова был крайне широким и с его помощью они обозначали не только добродетель, но и превосходное исполнение своих функций. Под словом "арете" они подразумевали и "достоинство", "благородство", "доблесть", "заслугу", "добротность", "прекрасную организованность" и тому подобное. Они могли говорить об "арете" в смысле высокой степени умения вообще. Кроме того, это слово тесно связано с понятиями "благо", "добро", "польза", "счастье", "благополучие", "процветание". Мыслить для грека значило мыслить, подчиняя свои размышления главной жизненной задаче - понять свое место в мире после "смерти бога". Мыслить для грека означало мыслить бесстрашно, ибо не переживает страха тот, кто уже перенес и пережил все возможные страхи и страдания и окоченел по отношению к своему страху и своему будущему. Греческий идеал мудреца на разные лады воспевает эту окоченелость духа, пережившего самое большое страдание и самый большой ужас - богоутрату. Грек становится мудрецом только тогда, когда достигает "атараксии", бесстрастия, покоя ума. Трагический миф, которым расцветает бытие у греков, ищет этого покоя. Он - миф - и есть тот трагический покой и всезнающая мудрость над бездной судьбы и случая. Греческий дух есть дух, окоченевший от ужаса открывшегося ему хаоса. Ибо трагическое есть материнское лоно мудрости, и всякая мудрость есть потому мудрость трагическая. Эта мудрость противопоставляет себя не безумию, поскольку сама является продолжением безумия; она противопоставляет себя надежде. Трагическая мудрость говорит "нет" любой сотериологии. Знание мира как космоса, который в любой момент - "вдруг" - может стать хаосом; неистовая страсть, поверенная ледяной мерой разума; ощущение мира как западни, порождающее богоборческую мощь человека; ясность духа, отвергающая оргиазм и сопутствующую ему сотериологию - вот составляющие греческой мудрости.
ПОЛИС
Грабежи, усобицы, военные предприятия ведут к большим переменам в имущественном положении. Одни быстро разоряются, другие быстро богатеют. Одни теряют свободу, другие расширяют свои владения, окружая себя множеством слуг и различных зависимых и обязанных людей. Превратности судьбы - главная тема размышлений в то смутное время, время брожений, поисков и утрат, умственного напряжения и физического упорства, время передела греческого мира. Более сильные и многочисленные семьи захватывают себе богатство и авторитет, стараясь придать ему священный характер. Материальное преимущество неприметно переходит в моральное: они лучшие. Бедные - "худые людишки". Аристократия держится сплоченно, и это дает ей преимущества. Ее представители могут с большей легкостью закрепить за своими сыновьями и передать по наследству приобретенное владение и влияние. Возникает право рождения, признаваемое за членами отдельных известных семей; через несколько поколений уже образуется представление об исключительности аристократических преимуществ. Богачи утопают в роскоши, бедные становятся еще беднее. Безнравственность и несправедливость делаются обычными явлениями. Беззаконие приходит на землю Греции. Человек этой эпохи живет в уверенности, что все позволено, если у тебя есть деньги и сила. Эпохи, сущность которых выражена формулой "все позволено", неизменно воспроизводят две наиболее характерные черты главенствующего умонастроения: развитие ремесленничества и законодательства. Эпоха Гесиода для Греции - время важных индустриальных изобретений. Особенно значителен прогресс в металлургии, в литейном производстве. Работы гончаров становятся предметом обширного вывоза. Это также время интенсивного законотворчества. И характерно, что, помимо своего основного направления - формулирования законов общежития нарождающегося полиса, - оно имеет и утопическую струю. Его утопизм рождается из общей смутности умов, когда каждый сам себе и законотворец, и теолог, и натурфилософ. Все в эту эпоху сдвигается с места. Сама земля сдвинута: старое ее разделение нарушено, она переходит из рук в руки. Земля стала дробиться - результат раздела между несколькими наследниками. У Гесиода мы находим мысль, что бедному лучше иметь одного сына-наследника. Множество людей лишается земли, им нечего терять, и они идут на чужбину. Образовывается целый разряд людей, которые носят техническое обозначение "переселенцев". Возрастает значение полиса, основанного на принципе права и местоположения вместо прежнего обычая и родства. Этот принцип впервые заявил о себе именно в заморских греческих поселениях и лишь позже, в силу сходных социальных процессов, был воспринят на европейском греческом полуострове. В городе-государстве, созданном по этому принципу, "клетками" новой политической организации стали не родственные связи, а землячества. Новая политическая система вносит нечто новое и в метафизику греческого богоборчества. Упразднение монархии повлекло за собой параллельное существование двух сил: общины и военной аристократии. Поиск равновесия между этими силами породил целую эпоху - эпоху Гомера, которая сформулировала и возвела в ранг идеологии героическое умонастроение богоравности, рожденное в аристократических слоях. Однако исчезновение царской власти было вместе с тем и исчезновением самой легитимности власти, находящейся в руках аристократии. Раз нет бога-царя, то и власть, ранее имевшая божественное основание, теперь не имеет силы закона. Эта власть ни на что больше не опирается. Следовательно, таким же правом на власть обладает и община в целом, а в конечном итоге и отдельный человек. Раз "бог умер", то все, что прежде было законно, умерло вместе с ним, и теперь все обладают равными правами. Исходя из того же опыта "смерти бога", социальные низы делают более радикальные выводы из богоутраты. Этот радикализм пролагает глубокую метафизическую границу между эпохой Гомера и эпохой Гесиода. Произвол аристократических родов требовал своего противовеса. Следовало как можно скорее положить конец притязаниям аристократии на неограниченную власть, подчинив их такому закону, который бы закрепил равенство, вынесенное из потрясений и катастроф. Масса общинников стремилась к уравниванию в правах с аристократией, причем смысл уравнивания состоял в том, чтобы поднять статус рядового общинника до уровня аристократа - это было требование свободы, где свобода понималась как принадлежность к законотворчеству, ранее бывшему сферой божественного. Божественное мыслилось как божественное и законодательное. Следовательно, имело место такое положение, когда то, насколько человек располагал правом законотворчествовать, определяло и то, насколько он свободен, то есть насколько он осуществлял божественную свободу и богоравность, доставшуюся ему от "умершего бога". Свободный человек в представлении грека потому и свободен, что на этой свободе лежит отблеск божественной функции законодательства. Сакральный смысл равенства в понимании греков в том и заключался, что после исчезновения бога-царя божественные функции распределились на всех поровну. Это воистину высокое равенство. Метафизика греческого полиса вовсе не противоречит греческой героической идеологии и опыту трагической мудрости, но является их продолжением, распространяющим социальные, политические и экономические следствия богоутраты на всех граждан полиса. Полис рождается из необходимости вывести героическое сознание из сословной замкнутости, сохранив ее ореол богоборческой святости. Ахилл, Геракл, Одиссей и другие герои стали образцами для подражания всей античности, и именно этот бунт, скрывающий в себе мощную культуросозидающую струю и законотворческую силу (ведь из этого же опыта греческие законодатели формулируют свои практические правила жизни и полисные законы), этот бунт кладется в основу полисной жизни. Идея богоравности сообщает полисному духу ту острую соревновательность, которая вышла из недр героической идеологии. Богоборчество, становящееся достоянием всех, всех и воздвигает своим героическим энтузиазмом против
всех. Так рождается греческая агонистика. Агон (то есть соревнование ради первенства с его славословием победителю при восторженном поклонении эллина герою и его культом героизма - ведь победитель и есть герой) пронизывает всю общественную жизнь Эллады: состязания конные, атлетические, в красоте, в умении слагать стихи, состязания драматургов, музыкантов, состязания в речах и философских спорах. Даже летоисчисление ведется по агональным ристаниям - Олимпиадам. И вся культура Эллады есть культура героического человека, живущего без Бога и потому столь ревностно оберегающего свою свободу от установлений небес, от природных закономерностей, от судьбы. Идея богоравности, ставшая национальной идеей греческого народа, требовала своего письменного законодательного воплощения. Тот богоборческий напор, который с эпохи крушения Микен влек греков к богоравности и теперь наконец прорвал сопротивление аристократии, требовал того, чтобы новое понимание жизни стало точной юридической формулой. Именно в области судопроизводства аристократия вынуждена была пойти на наибольшие уступки, ибо требовался закон, разумно согласованный и твердо зафиксированный, где мудрость и справедливость вместе устраивают новый полисный строй, основанный на равенстве. Ясно видно желание законодателей точно определить твердые нормы наказаний и осуществить возможность контролировать ход судебного процесса. Эти законы, как правило, лишают судью права самому устанавливать меру наказания и определяют точные размеры штрафов и виды телесных наказаний. Ясно видна линия освобождения закона из-под власти обычая. На основе полисной идеологии стало складываться и то отношение к рабу, которое известно нам из классических форм жизни демократического полиса, - отношение как к "говорящему орудию". Теперь, чтобы стать принадлежащим к свободе, необходимо было сделать свободу недосягаемой для посторонних, следовательно, не-свободное состояние также должно было получить абсолютный статус. Необходимо было развести свободу и не-свободу, субъект и объект, конечное и бесконечное, чтобы в итоге приписать свободное состояние людям, а не-свободное - не-людям. Так складывается полисный космос, причащая своей разумности всех граждан полиса, так складывается та организация социума, логикой богоутраты приведшая греческий ум к воплощению в своем социальном устройстве героической идеи богоравности.
АПОЛЛОН И ДИОНИС
Граница, отделяющая гомеровский век от века Геосида, есть в то же время граница, отделяющая трагическую мудрость в ее чистоте и рациональной ясности богоборчества от времени, в котором сама трагическая мудрость ощутила все возрастающую силу критики со стороны сотериологических исканий, возникших на волне вполне определенного разочарования в ригоризме героической идеологии. Рождается полисная Эллада с ее новой гражданственностью, отмирают родовые аристократические обычаи, нет ничего строго оформленного и устоявшегося. Колеблющийся мир побуждает греческую мысль заново осмыслить свои героические основания. Героическая идеология, трагическая мудрость, страстные подвиги героя и его неминуемая гибель-победа составляют ядро того нового, что греческая цивилизация внесла в интеллектуальную и религиозную сферу древнего мира. Поэтому, говоря о культе героев, о героическом пафосе, сопряженном с трагизмом человеческого удела, как об отличительной особенности греческого богоборчества, нужно всегда иметь в виду именно эту принципиальную новизну эллинского пафоса, столь отличного от богопочитания Малой Азии и патетических обрядов Сирии и Египта. Ибо только у греков специфическое развитие героического культа было основой трагического строя в мышлении и искусстве, а по отношению к богам - принципом того строго проведенного антропоморфизма, который составляет неоспоримую особенность религии греков. И если греческая мысль VII-VI веков до н. э. в своей религиозной сфере обращается к этим истокам, то это означает, что именно в это время олимпийская религия обнаруживает огромные незаполненные пространства всевозможных местных культов и суеверий, не охваченных никаким организующим смыслом, это означает глубокий кризис самой солярно-олимпийской мифологии и религии, разрешить который героическая идеология пытается во вбирании в свою сферу ранее отвергаемых божеств и религиозных представлений. Гомеровская "Илиада", возникнув из плача о героях, посвященная изображению их страстей, сохраняя отголоски стародавнего обряда, одновременно вбирает в себя религиозный опыт большого временного промежутка и становится посредником между ним и позднейшими формами развития страстной идеи. Эта роль посредника закладывает фундамент позднейшего умственного и религиозного развития, сама являясь результатом исканий предшествующего периода. Гомеровская идеология ищет противопоставить ясную, гармонически устроенную систему Олимпа темной демонологии масс. В этом смысле гомеровский эпос есть для своего времени сколь закономерное, столь и "модернистское" произведение, прокладывающее пути будущему облику греческой рациональности. Как известно, Гомер и Гесиод, по авторитетному свидетельству Геродота, научили греков богам. Они распределили между богами священные имена, принадлежащие каждому, и закрепили за ними определенные области владычества, подобающий каждому вид почитания, они наглядно описали образ каждого божества. Гомер и Гесиод из хаоса местных божеств и культов, в которых, вследствие различия обрядов и непрерывного обрядотворчества, изглаживались первоначальные черты даже общеэллинских божеств. Из всего этого хаоса собрали они национальную веру. Эта вера сводила к человеческой мере и форме смутные и часто ужасающие очертания призраков грандиозной и пугливой народной фантазии. Будучи исторически эманацией нового феодального аристократического строя, она (вера) придавала новой системе богов характер аристократический. Между семьей прекрасных, "бессмертных" и "вечноблаженных" олимпийцев и смертными людьми утверждена была непреодолимая пропасть. Все стремления этой веры были сосредоточены на выработке возвышенного понятия о Зевсе как "отце богов и людей", обеспечивающем высшую разумность темных для человека божественных предопределений, где сама судьба является выражением его дальновидной благости. И тем не менее, в силу коренных особенностей греческого опыта, который при всей своей пластичности неизменен в своей богоборческой сущности, все эти попытки приблизить Зевса к идеалу абсолютного божества должны были остановиться на полпути. Патетический характер греческих богов был неистребим, ибо неистребим был страстной характер самого национального опыта: олимпийское владычество не могло быть ничем иным, как только моментом космогонического процесса, намеченного уже и у Гомера, по которому Океан есть рождающее лоно богов. Новый вседержитель не вечен: позади него зияют сумерки былых, поверженных богов. Зевс в этой религии сам представал первым богоборцем - он силой смещает своего предшественника Кроноса. Зевс - это своего рода ахейский военачальник, а другие олимпийцы представляют его вооруженный отряд. Зевс правит на Олимпе как узурпатор. И он не всеведущ, будущее непроницаемо и для него. Чтобы представить могущество Зевса несокрушимым, Гомер вынужден настаивать на несравненном превосходстве его силы над совокупной силой остальных богов: все они вместе не стянут Зевса вниз, схватившись за конец золотой цепи, которую он свесит вниз, сам же он поднимет их всех на цепи, а с ними и землю и небо и, обвязав верхний конец вокруг Олимпа, оставит их качаться в пространстве. Возвеличивая Зевса, школа Гомера ограничивает мощь остальных богов, вознося верховного правителя на недосягаемую высоту. Но верование, заговорившее устами гесиодовской школы, обнажает страстную природу уже вообще всех богов. Понятие божественного "бессмертия" становится весьма относительным. Боги греческой мифологии так никогда и не поднялись до того надчеловеческого уровня, который был хотя бы в современных им религиях Египта, и все греческие боги были так же, как и люди, подвержены страданиям. Со стороны Гомера признание отдельных и исключительных страданий божества еще только вынужденная уступка трагической мудрости аристократа народному мнению о богах, у него бессмертные боги безусловно отделены от рода смертных словно бы эфирно-огненной стеной. Одному Гермию предоставлено право быть посредником между олимпийцами и подземным миром. Покровитель гомеровской общины Аполлон является верховным принципом этого разделения. Так возникает своеобразный обрядовый дуализм, на долгие века определивший весь строй эллинской религии: служение богам олимпийским и богам хтоническим строго различены по месту и времени, соединение того и другого в общем молитвенном действии строго запрещено. В культовой сфере устанавливается как бы двоеславие. То, что принадлежит области сил подземных, есть нечистое в обрядовом круге, посвященном Аполлону. Возникают две сферы религиозных представлений, две линии метафизической мысли, две мудрости, получающие свои имена по именам представляющих эти направления божеств - Аполлона и Диониса, то есть рационалистическая линия богоборчества и иррационалистическая линия сотериологических исканий. Причем возникновение сотериологии отталкивается и в определенном смысле отрицает трагическую мудрость героического человека, сотериология оформляется как несомненная ересь внутри греческого героического миропонимания, ересь, разрушающая цельность героического бунта. К этой ситуации приводят как минимум три предпосылки: историческая - смутное время есть время кризиса господствующей идеологии, время разочарования в абсолютной благости олимпийского пантеона: эти боги никому не помогают; религиозная - богоборческий импульс, исходящий из знания недосягаемости олимпийцев, нуждается как в своем противовесе в моральном основании, награде героя в загробной жизни за свою борьбу; философская - рациональная ясность сознания безысходности мироустройства, лежащая в основе героической психологии, должна быть дополнена иррациональным моментом, судьба должна быть дополнена случаем, который своей двойственностью открыт для моральной рефлексии. Все три аспекта новых умонастроений смутного времени имеют в виду одно - недостаточную обоснованность олимпийского пантеона в свете греческого опыта катастрофизма. Замкнутость героической идеологии в идее противостояния небесам есть в то же время и ее ограниченность сферой человеческого общества. В этой замкнутости нет выхода к миру, к "природе", и эта безвыходность при всей высоте ее трагизма, может быть, именно из-за самой этой высоты, не под силу обыкновенному человеку. Она под силу только герою, человеку же нужен выход, ему нужна надежда. Скажем, надежда на более лучшую загробную судьбу души, чем та, какуюповелительно устанавливает греческий трагизм. Учение о бессмертии души не казалось рядовому греку чуждым и недоступным, ибо оно полагалось традиционными верованиями. Догмат о бессмертии души не является изобретением орфико-пифагорейского учения, он сам основан на неустранимом убеждении человека в незыблемости бытия. Даже для старейших слоев гомеровских поэм вера в бессмертие души есть нечто само собой разумеющееся. Мир в глазах грека полон душ разного качества, разной силы; и пусть незавидным представляется живому могущество бесплотных, все же существование души, как и ее бессмертие, не подвергается сомнению. Греки той эпохи искали другого - синкретической формы, объединяющей обе формы религиозных представлений. Им предносился синтез бога и героя. Это был долгий процесс поисков, алчущих религиозной гармонии, целостного и утешительного миросозерцания. Рождались причудливые сказания, возникали иррациональные "могилы богов", бывали случаи, когда культовое прозвище бога, обособившись, давало начало самостоятельному пра-дионисийскому культу; впоследствии же этот последний примыкал к богопочитанию, его породившему, оставляя, однако, росток, коему впредь суждено было привиться к стволу дионисовой религии в качестве подчиненного культа ипостаси Диониса. Мудрость героического, аполлонического человека состоит в ясном, рациональном понимании бессмысленности сферы рационального: вселенная не нуждается в человеке. Она сама хранит себя. Если человек нарушает установленный порядок, вселенная восстанавливает его, карая нарушителя. Ошибка исправляется самим ходом вещей. Эдип, захотевший избежать судьбы, жестоко наказан. В этой вселенной нет Бога, Который есть Любовь. Высшая сила, сущая на небесах, всего лишь всеведение и всемогущество, она действует сообразно собственным законам, которые никоим образом не имеют в виду исключительно человека. Человеку остается только жить в этой бессмыслице, не теряя собственного достоинства. Зачем человеку разум? Ведь если Бог повинуется законам, которые есть в то же время и законы человеческого разума, если Бог есть нравственное сознание, если он совершенное выражение человеческой природы, то откуда в мире смерть и страдания? Героический человек, терзаемый этой проблемой, уже не считает более, что Бог должен содержать всю полноту жизни и выдерживать высокий нравственный уровень. Достаточно того, что этот Бог появляется в своей торжественно-триумфальной непреклонности, чтобы человек отказался от такого Бога. Человек жаждет веры, но веры в такой миропорядок, который не подавлял бы его могуществом и непреклонностью. Трагизм героического человека не в том, что он смертен, а в непреклонности богов, обнаруживаемой в самой смертности. Когда нет Бога, устремленного к человеческому сердцу, тогда величие человека определяется его не-подвластностью. Это величие поражения. Это величие горестей и испытаний, знающих одну меру - беспредельное несчастие и безвыходность смертного удела. Это величие уравнивает смертного человека и Бога, разводя их в разные стороны. Человек утверждает свое величие, которое лишено надежды, пропитано проклятиями, соткано из ясности, решимости и самообладания. Это ответ героя судьбе. Человек и мир, человек, желающий справедливости, и мир, не устроенный справедливо, сопрягаются в неразрывной битве, в которой неволя и стремление к освобождению составляют внутренний нерв устремленности человека за пределы мироустройства - к Богу-Любви. Героический человек понимает душу, невостребованную миром, просто и незамысловато, в этой душе трудно найти претензии на внутренюю самоценность. Так, у Гомера отсутствуют понятия, выражающие идею целого как единства частей. Гомер пользуется для выражения многообразия душевных функций целым арсеналом слов, каждое из которых обозначает душу, занятую одним делом. Душа героя проста, он не делает из нее тайны, она не представляет собой отдельного предмета его забот. Герой, подобно Мерсо из "Постороннего" Альбера Камю, ведет себя так, словно у него вообще нет души. Душа для героя - худшая часть естества, он герой лишь в той степени, в какой обладает телом. Душа отмерла за ненадобностью. Герой всегда по эту сторону мира, в свете дня, бодрствования, ясности сознания. Душа не входит ни в сферу порицаемых, ни в сферу одобряемых качеств героя, герой не душой ценен, а своими подвигами. Понятия "жизнь" и "тело" тождественны. Оставшаяся после смерти душа не исчезает бесследно, но участь ее незавидна, вместе с телом она лишается и героизма, и достоинства прежнего человека. Аполлонический человек свободен внутренне. К религиозному культу он приобщен телом, формально, внешне-поведенческим проявлением веры. Жречество смотрит за тем, чтобы благочестие не выходило за рамки социально одобряемой добродетели, ему безразлично, во что верует и верует ли вообще человек, лишь бы он исправно принимал участие в культовых обрядах и жертвоприношениях. Нельзя отсидеться дома в дни религиозных празднеств. Но внутренний мир не представляет интереса. В этой атмосфере формального благочестия культ Диониса неизбежно отходит в тень, оттесняемый олимпийской мифологией. Экстатичность, оргиазм культа Диониса плохо вписывается в рационалистические тенденции аполлонического мышления. Это мышление исповедует без-умие, покой ума, почти буддийское оцепенение мышления, оно исповедует свою отдельность, отделенность от мира, отвергая всякое слияние с миром неподлинного. Бог этого мышления - властный глагол, скрижаль непреложная, строгий, чуждый, недосягаемый, светлый, тот, кто, по слову старцев в Эсхиловом "Агамемноне", "уходит от плача" и чуждается меланхолического возбуждения, кто повелительно требует от своих поклонников самообладания и душевного равновесия, кто, став однажды покровителем, "не выдаст и не изменит", как говорит о том же Аполлоне Эсхилов Орест. Вот он, в длинных, спокойных белых одеждах, сильный убелить одежду молящегося, хотя бы она была забрызгана кровью, и зачурать его своим светом от порождений мрака, успокоить ропот мертвых и вернуть живого живым, оградив его от слишком ощутительных влияний подземного мира, - вот он, Феб-Аполлон. Мудрость дионисийского человека иная: как бы ни был упорядочен и разумен космос, под ним шевелится первоначальный хаос, определяющий конечность всего мира и человека в нем. Жизнь и смерть истекают из одного истока. Смерть причастна к красоте мира, к любви, к каждой вещи так же, как и жизнь. Смерть пронизана красотой и любовью. Смерть суждена деревьям, животным, птицам. Любовь и смерть предстают в "ауре" предметов, вещей видимого мира, в своей изначальной поэтической нерасторжимости. Божественное природно. Бог - в сверкании струй, в грации животного, в сокровенной простоте жизни природы. Бог - само многообразие бытия, включающее в себя человека и проходящее через него к неведомым пределам. Бог - это поток жизни космоса, увлекающий в свою глубину и безмолвие, в свои божественные недра, где сливаются воедино все творения. Ничто не отделено от Бога - ни земля, ни звери, ни птицы; один и тот же поток увлекает их и направляет в неизвестное, откуда исходит зов Бога, обращенный и к человеку. Однако человек не вполне причастен великому хороводу мировых стихий, и в этом его несчастье. Человек - некий отдельный мир, оторванный своим разумом от жизни природы и от бытия Бога. И эту оторванность он называет мудростью! Что мешает человеку присоединиться, раствориться в мире огня, воды, земли и воздуха? Не безумен ли сам разум человека, полагающий в мире справедливость и добро, обращенные к его сердцу? Пусть человек откажется от своей мудрости. В священном экстазе оргий Диониса он повернется к Богу. Только закружившись в пляске, которая сама встроена в танец стихий, надев шкуру животного, увенчав голову цветами, включившись в ритм сущего, человек достигнет единственно возможной мудрости - мудрости безумия, мудрости неистовства, страсти, той мудрости, которой одной дано постигнуть и увидеть Бога. Ибо страсть есть полнота человеческой жизни, она все вокруг себя делает подлинным, достоверным. Минуты подлинной страсти суть в то же время и минуты подлинного, это та страсть, от которой не следует очищать душу, но к которой душа очищенная постепенно приближается в экстазе Диониса. Дионисийский человек исповедует слияние со стихиями мира, где всякая отдельность есть вина, за которую нужно платить страданием; слияние, в котором человек познает, что он есть часть мира и часть Бога, часть гармонии целого. И это тоже трагическая мудрость, ибо она знает неумолимость безмерного, как и героическая мудрость; она знает хаос. Празднества в честь Диониса имели характер буйных веселий, сопровождались пьяными оргиями, разгулом эротических страстей и мистическими экстазами. Неистовые оргии, оглушительная музыка, исступленные пляски, освобождая от обыденного, давали участникам ощущение единения с Богом<Дионисизм есть религия тела. Это, несомненно, мистическая и умозрительная религия. Но это именно телесный экстаз и чувственная оргийность. Уже в конце античности дионисийский оргиазм породил из себя "умные" экстазы и "духовные" восхождения, но суть дела от этого не изменилась. Непосредственная чувственная воспаленность сменилась "умной прелестью", но прельщенность тварным, характерная для язычества как такового, осталась. Неоплатонизм, впитавший дионисийский оргиазм, с этой точки зрения есть сплошная "прелесть". И здесь не может быть никакого сравнения и никаких точек соприкосновения с христианством, основанном на мистике и умозрении действительно чистого духа. Дионисийское экстатическое состояние, доводящее до сердечного припадка и до мистически-сексуального бреда, не имеет ничего общего с мистикой христианства, которая тоже говорит о "сверхчувственном", но при этом не имеет и следа реальных, чувственных, почти животных аффектов. Из того, что здесь - аскетизм и там - аскетизм, здесь - экстаз и там - экстаз, ровным счетом ничего не следует. Также растерзание Диониса и распятие Христа только очень формально, отвлеченно могут быть сравниваемы в отношении некоторых сходных черт. Нет ничего общего между христианским причащением божественных тайн плоти и крови - и людоедством, которое, как известно, тоже основано на мистическом вкушении плоти и крови тех или иных важных или выдающихся людей. Для реальной характеристики греческой религии от этого сравнения получить ничего нельзя - наоборот, существует опасность потерять и то немногое, что мы имеем в дионисийском культе для сравнения с христианским.>. Интеллигентские рационалистические выдумки, вырастающие из отсутствия конкретного и живого опыта религиозности, как раз и приводят в теософии к утверждению равенства всех религий, что говорит лишь о чистейшем формализме их мышления и полной неспособности мыслить что-либо по его истинной сущности. На фоне резко анти-спасительного смысла героического трагизма душеспасительный, сотериологический смысл дионисийской религии был вполне ясен греку. Аполлон был богом мужчин, мужского начала, Дионис же не только женский, но и мужской бог, он антиномически включает в себя и монаду (единое), и диаду (множественное): он одновременно и творит, и разрушает текучие формы индивидуации. Аполлоново начало в дионисийском мире мыслится имманентным Дионису и, следовательно, принципом и залогом того сохранения личной монады за порогом смерти, без которого невозможно было бы производимое Дионисом возрождение личности, ибо Дионис, бог смерти, есть в то же время и бог возрождения. Судьба человека та же, что и участь Диониса. Только человека не весь от Диониса: его низшая природа "титаническая". Восставая против божественного всеединства, он утверждает свою отчужденную самость и тем самым сопротивляется дионисийскому побуждению к жертвенной самоотдаче. Он замыкается в своей индивидуальности. Он "хочет спасти душу". Так задерживает он сам себя в гробнице тела. Вопреки его воле, надлежит, по Анаксимандру, смертью уплатить пеню за вину своего обособленного существования, своей эгоистической отделенности. Человек насильственно распадается на составные части. Но и здесь цельность его духовного облика, Диониса в нем, спасена за порогом смерти, где текут "живые воды" и "озера смерти", восстанавливающие сознание забытого единства, и откуда новый зов выведет его на лицо земли, чтобы приобщиться ему и на этот раз, уже добровольно, свободно, страстям Дионисовым, своевольно "расточить душу свою". Вся эта сотериология героическому сознанию казалась несомненной ересью. Уже Алкей в послании своему другу Меланиппу выражает несочувствие разделяемому его товарищем и политическим единомышленником верованию в возврат умерших на лоно земли, на свет земного солнца. На взгляд Алкея, это превратное мудрствование, порождающее пустые иллюзии, богопротивно, как лукавство Сизифа. В военно-аристократических кругах сотериологиские искания дионисийской религии встретили мало сочувствия. Две несовместимые сферы религиозных представлений породили и два направления греческой мысли, известных под именами "ионийских муз" (Иония, малоазийские города, колонии) и "сицилийских муз" (Сицилия, Южная Италия, Великая Греция), или "физиков" и "метафизиков". Различие их выразилось в преобладающем внимании восточных греков к натурфилософским проблемам и более метафизически окрашенном интересе западных греков к религиозно-нравственным вопросам, яснее всего оформленном в орфико-пифагорейском учении. Вполне закономерно и то, что там, где полисный строй, как, например, в колониях, сформировался быстрее, преобладали натурфилософские интересы - полисный дух есть прямое продолжение героического духа гомеровского века. Здесь, на востоке, возникает направление мысли, озабоченное знанием о мире. Со старыми ценностями здесь расстаются более охотно, поскольку не верят в их прочное основание в самом мире. Мерой умственного отношения к окружающему миру становится здравый расчет, целеполагательная установка, где природа есть нечто такое, что можно использовать в своих интересах. "Физики" исходят из понятия хаоса в смысле неустроенного смешения первовещества, творчески-слепой стихии, порождающей все многообразие мира - и человека в том числе. "Метафизики" исходят из гармонии, приобщаясь к которой все получает смысл и красоту. Оба направления исходят из одних и тех же достоверностей, но делают разные выводы. "Метафизики" представляют дело так, что если произошел обвал ценностей, то это значит, что что-то случилось с самим человеком, отпавшим от гармонии мироздания, и теперь предстоит найти концы оборванной нити, связывающей его со сферой божественного. "Физики", в противовес "метафизикам", совсем не интересовались мировой гармонией. Космогенез более занимал их, чем бытие ставшее, в тайне рождения космоса видели они тайну рождения человека, правду его судьбы. Эта правда нелицеприятна - хаос есть отец всего, что выходит из недр его, и все покоится на этом основании. Ионийская космогония пессимистична. Хаос вечен, рано или поздно мир возвратится в лоно бездны. Эта правда бросает трагический свет на существование человека, эта правда "настигает глупцов и лжесвидетелей" (Гераклит). Натурфилософские изыскания, продолжавшие дело Гомера, не были проблемами типа "в чем сущность того-то и того-то", поскольку именно сущность мира была известна; греки задавали вопросы "как это устроено", "из чего это состоит". Идея атомарности не трудность для греческой мысли, и то, что сейчас видится как предвосхищение современной атомистики, есть всего лишь проекция опыта атомарной личности героя на мир природы. Трагическая правда сущности мира не была тайной для греческого мышления, она была первой его достоверностью. Ранняя греческая философия и развивается, исходя из этой достоверности, и потому мир природы предстает как брат-близнец полисного уклада. И это вовсе не греческая особенность мышления - между картиной мира и его метафизическим смыслом существует несомненная символическая связь, благодаря которой все высказываемые метафизические идеи суть проекция главного умонастроения исторической эпохи. Слова Гераклита о том, что "этот космос один и тот же для всего сущего, он не создан никем из богов и никем из людей, но всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим", должно читать как горестную констатацию обезбоженности мира: нет Бога, нет Творца, нет никого, кому сердце человеческое могло бы поклониться. Ибо гераклитовская философия (как и всякий эволюционизм) есть отрицание абсолютности бытия во имя относительности бывания. "Метафизики" более или менее равнодушны к миру. У них он вызывает не познавательный энтузиазм, а моральный, здесь нет исследовательского культа природы. Здесь мыслят о космическом истоке человека. "Метафизики" ищут в космосе начал, не сводимых к физической реальности и не выводимых из нее. Рассуждения о мире здесь суть рассуждения о сверхчувственном бытии ("число" у пифагорейцев и "целое" у элеатов). Пифагорейская мудрость, в отличие от мудрости Гомера, уже имеет явный сдвиг в сторону теодицеи и сотериологии: упор делается не на гармонию противоположностей, как у Гераклита, но на гармонию противоположностей. Пифагора следует представлять себе как проповедника. Не формализующий ритуализм, не благочестие сделали его властителем дум, а поистине реформаторский дух, который обращался к разуму людей, имевших с ним одинаковый опыт, но не имевших смелости сказать себе слова отречения от власти героической идеологии. Вся эта обрядовая, психологическая и метафизическая схизма была чревата глубокими последствиями. В религиозной психологии греков она послужила последним толчком к исканию новой синтетической религиозной формы в лице бога патетического по преимуществу, героя и небожителя вместе, равно могущественного и на Олимпе, и в обители мертвых, почти богочеловека, и эта форма должна была стать соединительным звеном между противоположными господствами, от которых равно зависело все человеческое. В обрядовой сфере то же двоеславие, отказав всему страстному в доступе к светлым служениям, постулировало разрешение всякого пафоса завершительным освобождением от него, которое в эту эпоху под именем "катарсиса" становится "очистительным" условием восстановления правильных отношений между участниками патетического священнодействия и высшими богами. Чтобы психологически почувствовать закономерность появления сотериологии именно в эту эпоху, необходимо принять во внимание общий патетический строй эллинской души, повышенная впечатлительность которой была источником болезненных реакций на воспринимаемую смуту и той меланхолической сосредоточенности на переживаниях хаоса мира, которые суть главные признаки греческой духовной жизни. Стих "смертной воле, насвлекущей, подчиняйся и терпи" в самом деле точно передает господство главной идеи античности, которая была рождена умонастроением первых аэдов и рапсодов. Неволя, столь остро ощущаемая греками, требовала в это время религии, которая говорила бы о возможности спасения из мира космической бессмыслицы. В гесиодовской школе заговорило религиозное сознание широких слоев, и в этом голосе слышны глухие жалобы на мировойпорядок. Мы видим, что религия Диониса с ее возродительными таинствами иозаряющими душу оргиями, с ее верой в нисхождение божества в страстном сыновьем лике, лике, который был подобен смертным, с ее просвещением темного царства души светочем умирающего и воскресающего бога, с ее идеалами мистической чистоты и святости, запредельного блаженства, героического страдания и милосердия, с ее новой пьянительной радостью бытия, - что религия эта была удовлетворением самой крайней потребности, она была исходом из того мрака неволи, в который трагическая мудрость загнала греческую душу. Эллинам было чуждо подозрение, что в мистериях и эзотерических общинах преподносится существенно новое и отличное от экзотерических культов вероучение. Поэтому возможно было не только гармоническое совмещение новых религиозных сфер в личном сознании, но и их общественно-историческое взаимодействие. Дельфийское святилище Аполлона и орфическая община независимо друг от друга стали выразителями этих новых тенденций религиозного поиска. Дельфийская реформа была возвеличиванием Аполлона за счет умаления и обеднения Диониса. Идея дионисийской беспредельности, чтобы стать вполне конкретной и действенной, требовала "своего другого" - противоположения и взаимодействия с тем, что не есть Дионис. Аполлон был необходим как восполнитель Диониса, поскольку представлял собой силу очистительного порядка. Помимо того катартического исхода, который патетическое сознание обретает в своем собственном круге обрядов, оно нуждается еще и во внешней катартике. Разнуздание дионисийских сил не только грозило гибелью как личностям, так и общественным группам, но и с формально-религиозной точки зрения требовало посторонних очищений. Речь шла об укрощении оргиазма во имя творимых именно в это время норм общественного уклада полисной жизни. Дионисийство было бессильно развить из себя начала этические, оно также не имело внутри себя и неподвижности, столь необходимой для обоснования религиозного авторитета. Дельфийская реформа была сознательным стремлением к формированию таких религиозных взглядов и обрядов, в которых гармонично сочетались бы рационализм и иррационализм, оргийность и бесстрастие, мужское и женское на основе глубоко воспринятой трагической мудрости. От имени Диониса можно было пророчествовать, но не законодательствовать. А между тем сила имени Аполлона была испытана. Недаром малоазийские аэды избрали его своим покровителем: он казался могущественным и грозным защитником этической, нормативной духовности, богом междуплеменным и над-национальным, богом, помимо всего, более формальным по своей сущности, нежели содержательным, то есть легко вмещающим новое содержание и требующим раскрытия сокрытых в его первообразе возможностей. Именно Аполлону можно было придать ряд новых атрибутов и прежде всего отдать в его ведение мантику, собственность дионисийских женщин. Аполлон должен был перевесить влияние Диониса, бога женщин, поскольку сам Аполлон был на стороне отцовской власти и против преобладания женских прав и святыни материнства. Узурпация достояний Диониса в пользу Аполлона была легка: кому принадлежит власть очистительная, за тем и остается решающее слово. Он один разрешает и вяжет. По новой концепции Аполлон овладевает Пифией уже как самобытно-действенное начало - она говорит то, что внушает ей он, а не бог темных недр. Борьба с Пифоном понимается как борьба "логоса" с "хаосом". Однако, как и в случае с Зевсом, последовательное проведение этого принципа было невозможно в пределах эллинской религии: он противоречил коренным историческим основоположениям греческого духа. Подчинение исступленной вещуньи Аполлону было насильственным. Кассандра, к которой он воспылал страстной любовью, обманывает Локсия посулом женских ласк и не держит слова, за что бог карает ее тем, что никто не верит ее вещаниям. И все же несомненная сознательность дельфийской реформы приводит к тому, что за Аполлоном окончательно закрепляются смыслы дионисовой иррациональности. В лоне орфической общины также свершилась великая литургическая и догматическая реформа VI века до н. э. Это было не создание новой религии, но систематизация наличных религиозных представлений. Цель, преследуемая орфиками в пересоздании культа Диониса, состояла в том, чтобы из рассеянных в народной религии намеков и предчувствий создать возвышенное и утешительное вероучение о бессмертии богоподобной человеческой души. Дионис уже нес необходимые элементы для такого вероучения, но нужна была проекция его в до-временной метафизической сфере, нужен был мистический страстной сын небесного отца. И когда оргаистический бог был принят и понят как сыновняя ипостась верховного бога, началась именно эллинская религия Диониса. Сделав религию Диониса в окончательном смысле носительнецей идеи бессмертия и вновь-рождения, орфики смогли обновить элевсинские таинства и слить их в единое целое с дионисийством. Из установленной орфиками дионисийской догматики логически развивается понятие мирового грехопадения и первородного греха всякой индивидуации тварного, столь мощно проявившее себя в последующей религиозной интерпретации жизни греческим умом. И хотя эта идея греха предносилась и натурфилософами, свою догматическую целостность она получила в новой религии Диониса. Так, с двух сторон, была воздвигнута новая религия, ставшая официальным культом и вероучением полиса. Сотериология, привнесенная в анти-спасительную трагическую ясность, всем своим смыслом свидетельствовала о бесповоротности того, что прежний аристократический бог действительно мертв. Героическая психология дополняется и тем самым видоизменяется психологической мистикой, в которой человек рассматривается как человек духовный, а душа приобретает самодовлеющую значимость. Душа теперь не пустое место, а проблема, загадка; разгадывание ее и есть мистерия. Смерть наполняется обнадеживающим смыслом, перспективы загробной жизни становятся более оптимистичны. Если в героическом варианте Ахилл за гробом бесплотной тенью в Аиде тоскует, то сейчас он на островах блаженства празднует вечную весну свадьбы с Еленой и уже ни на что не жалуется и не тоскует. Оргиазм вводится в русло государственных мистерий - элевсинских, орфических и иных - с их декоративной стороной, обращенной к народу, и эзотерикой, обращенной к посвященным. Трагическая мудрость, страстная жажда героя помериться силой с богами, достичь их вершинной власти, низвергнуть бога, утвердить в мире свое "я есть бог", - все это отныне ограничивается полисным благочестием. Теперь со стороны храма и полиса раздается грозное обвинение в высокомерном дерзании героя, в гордыне, за которую гордец долженбыть наказан. В столкновении Аполлона и Диониса рождается греческая трагедия. Демократический полис силой своей законодательной власти обуздывает древний оргиазм, не изгоняя его из своего культурного горизонта и в то же время сводя к нравственной проблематике трагическую мудрость аристократического своеволия. С VI века до н. э. культ Аполлона, до этого не имевший заметного влияния, распространяется по всей Элладе. Аполлон одновременно и пророчествует, и просвещает. Теперь забота о душе, то есть служение Дионису, означает и служение гармонии и красоте Аполлона. Былое исступление пляски силой умеряющей гражданственности превращено в торжественный процессуальный ход, былому хаосу дикарски пляшущей толпы придана в гимне форма каре, а наиболее яростному дионисийскому дифирамбу - форма замкнутого круга. Оргии плоти уступают место гармонизированным оргиям сотериологических переживаний. Эпоха напора, искания, брожения, освобождения, колонизаций, революций, непрерывного расширения метафизического кругозора, захвата власти демосом, эпоха тиранов - завершается. Идея божественного двуединства Аполлона и Диониса была несомненным религиозным компромиссом, в основе которого лежало мистическое утверждение некоей антиномии божества. Гармония не была осуществлена, но ознаменована, и жизнь отлилась в формы этого ознаменования. Хаос, случай, свобода Диониса уравновешивались космосом, судьбой и законом Аполлона. Отсюда "эстетический" феномен античности. Дионис действительно лежал погребенным под дельфийским порогом, и когда он воскресал, то воскресал вместе с душами, которые он выпускал из темных врат, и в душах, которыми он овладевал, свершались слепительные епифании духа. Все божества олицетворяли закон, один Дионис провозглашал и осуществлял свободу. Дуализм двух царств - ночи и дня - был до принятия Диониса началом невыразимого раскола, с Дионисом наступило примирение: человек перестал трепетать ночной бездны и отвращающихся от нее олимпийцев. Дионисийская катартика положила предел народному религиозному поиску, внеся в мир древнего грека гармоническое сочетание таинств земли и неба, законов жизни и смерти, явленного космоса и незримого Аида.
ДЕМОКРАТИЯ
Клисфенова реформа, то есть установление связи между земскими мирками и высшим политическим управлением Афин, была продолжением той общегреческой тенденции в жизни полиса, которая получала свой смысл в движении демоса к уравниванию в правах с аристократией. Демы и соединения демов были сделаны избирательными округами, где собирались главные должностные лица и представители высшего государственного совета. Эти новые округа заменили собой старые филы, где голосование было в руках аристократии, а главное - они раздробили старинные областные группы, между которыми существовали непрекращающиеся раздоры. Существеннейшей реформой в политическом развитии Афин было перераспределение округов: расширился круг избирателей, увеличилось активное избирательное право, но важнее всего было то, что избиратели распределились в другие группы, что было более благоприятно для самостоятельных действий отдельных лиц. Когда Клисфен ввел представительство в Совете пятисот, борьба за высшую должность утратила свой прежний острый характер. К этому времени в значительной степени сгладились прежние различия в военном отношении граждан полиса, конные воины гомеровского времени уступили место пешим ополченцам, вооружение которых мог купить каждый зажиточный крестьянин. Расширение субъектов аристократического права в значительной мере было осуществлено в аристократическом военном смысле: каждый, кто мог нести расходы на покупку вооружения гоплита, становился гражданином. Именно военная знать в свое время установила знак равенства между воинскими обязанностями и правом участия в жизни полиса, реформа лишь закрепила это право за более значительным кругом лиц. Таким же образом термины "исономия" (равенство перед законом) и "исократия" (равновластие) еще раньше в аристократических кругах были противопоставлены терминам абсолютной монархии, и потому весь тот смысл аристократического равенства, что был присущ сословию, стал достоянием всех. Грек этого времени просто не мог представить себе, что граждане одного полиса, то есть люди, не могут быть равны, равенство было для него той основой миропонимания, из коей он исходил в своей повседневной деятельности. Следовательно, само собой разумеющимся было и то, что государственными делами мог ведать любой гражданин. Еще позднее, после реформы Эфиальта, для людей низших слоев стало доступно даже архонтство. Так складывался классический демократический полис со своими вполне сформировавшимися нормами жизни и своей вполне внятно сформулированной идеологией. Общая тенденция к аполлонической рационализации в первую очередь коснулась духа воинственности. Она стала упорядоченной и контролируемой. Аристократическая доблесть мыслится как индивидуальное превосходство в военном деле. Гоплиту неведомы индивидуальная доблесть и отвага - он соблюдает строй. У него доблесть теряет ярость, обретая здравомыслие и подчиненность дисциплине. И в мирной жизни теперь ценятся не излишества, но скромность, аскетичность. Мудрость теперь - это здравый смысл, созидающий жизнь с опорой на разум. Идеология полиса возводит в идеал то, что является проблемой для основного умонастроения, и если умонастроение античного человека понимает удел человеческий как рабство миру, то эта идеология первым признаком человека делает свободу. Свобода возводится в ранг задачи, свобода становится долгом. Эта свобода выражается в культе досуга, праздности, в отсутствии необходимости заботиться о пропитании. Вокруг категории "досуг" собираются, в "досуге" разрешаются основные метафизические интенции греческой мысли. Греки очень ревностно относились к своему досугу - досуг был принципиальным условием, удостоверяющим свободное состояние человека. Аристотель уже на закате греческого духа свободы упрямо формулирует: "Досуг есть определяющее начало для всего". Аристотелевский страх и неприязнь ко всему профессиональному идет даже дальше, чем платоновский. Платон использует термин "механический" для того, чтобы обозначить плебейское, рабское состояние ума. Аристотель расширяет презрительное использование этого термина и подводит под него все виды деятельности, которые не являются чистым увлечением. Фактически аристотелевское использование этого термина равно нашему пониманию термина "профессиональный". Для Аристотеля любая форма профессионализма предосудительна. Величайший профессионал античности не желает быть профессионалом, а предпочитает оставаться дилетантом и светским человеком, и в этом желании он неуклонно следует античному пониманию метафизической значимости досуга. Представление о специализации любых занятий с большим трудом доходит до греческого сознания, гордого своим досугом и своей свободой. По мысли грека рослый, свободнорожденный детина уже заранее обладает всеми необходимыми достоинствами и способностями. Его аттестат зрелости подписан его физическим строением. Производное от праздности - праздник; в Афинах, например, было очень много праздников - более сорока дней в году. Главные из них продолжались по нескольку дней. Праздник и канун праздника - естественное бытовое состояние грека. Атмосфера праздника проникает повсюду. В диалогах Платона Зенон и Парменид приехали на Великие Панафинеи, Ион возвращается из Эпидавра с празднества Асклепия, торжественно приподнята атмосфера в "Пире", устроенном по случаю победы Агафона на Леннеях, "Горигий" начинается репликой: "А что, разве мы, так сказать, опоздали на праздник?". Особым уважением окружена дружеская пирушка с возлияниями, на которой обсуждаются самые различные вещи - от городских сплетен до высоких метафизических вопросов. Так был устроен полис в свои лучшие времена, что свободный и полноправный гражданин, имея жилье в городе, надел в деревне, одного-двух рабов для ведения хозяйства, мог ничем больше не заниматься специально. Греку была непонятна прикрепленность к службе, будь то государственная служба или служение музам. Автаркия, в которой обретается полная независимость, была его главной заботой. Вся область регламентированной деятельности (асхолия) сопряжена с необходимостью так или иначе приспосабливать свои решения к понятиям и требованиям других, а потому нежелательна. Хорошим тоном считалось не искать случая приобщиться к политической деятельности, сопряженной с корыстью. Впрочем, вопреки знаменитому утверждению Перикла о том, что в Афинах каждый может жить так, как хочет, истинное положение дел было не совсем таковым. Строго каралось плохое ведение хозяйства, расточительное распоряжение унаследованным имуществом, нарушение супружеской верности, дурное воспитание сына, непочтительность по отношению к родителям, безбожие, гордыня и вообще любое поведение, представляющее опасность для военного и гражданского порядка и способное вызвать гнев богов. О личной свободе не могло быть и речи, а там, где она фактически существовала, как в Афинах, это было следствием меньшей дееспособности гражданской милиции. Экономически город тоже полностью распоряжался имуществом граждан: при неуплате долга город еще в эллинистическую эпоху отдавал в залог кредитору имущество должника и его самого. Гражданин был прежде всего воином. Военные походы десятилетиями, из года в год, в тех же самых Афинах именно в это время были интенсивными, как никогда ранее. На каждое достаточно крупное состояние демократический полис накладывал свою руку. Литургические обязанности, снаряжение военных судов, устройство больших праздников, представлений, принудительные займы - все это вызывало неустойчивость в образовании денежных состояний граждан. Абсолютный произвол народных судов настолько снижал уровень судопроизводства, что удивление вызывает скорее сохранность имущества, чем его утрата. В каждом греке таился социалист. Идея богоравности в бытовом выражении воплощалась в том, что наиболее осознанным стремлением большинства оказывалось желание поделить все поровну. К завоеванию власти стремились только затем, чтобы завладеть чужим имуществом. Всякий государственный переворот ознаменовывался или конфискацией, или насильственным возвращением отнятого ранее. Многие демагоги подражали Мольпатору Хиосскому, который убивал зажиточных людей или изгонял их и раздавал их имущество народу. И, наконец, само богоборчество было введено в твердые рамки театрального представления.В развитии эллинской поэзии со своеобразной отчетливостью разделены господства эпического, лирического и драматического жанров. Трагедия с конца VI века до н. э. сменяет уже отжившую гегемонию лирики и собирает в одном фокусе все лучи эллинской духовной жизни. В классическое время трагедия служит всенародным выражением основной идеи дионисийства как страстного культа. Это выражение было не непосредственным, как в мистериях, чьи замкнутые действия являли без покрывал лики и деяния богов, но опосредуемым в художественном сознании и только символизируемым. Под маской выступала перед толпой трагическая муза и воспрещала публике как таковой последнее разрешение священного пафоса - плач над богом. Не страсти бога разоблачала она, но участь одержимого богом человека, не Диониса в его запредельной тайне, но Диониса в герое. Эта символика вполне ясно читалась греком, понимавшим своих героев как родной язык. Да и вся культовая обстановка театрального действа как бы воздвигала перед ним божественный прообраз созерцаемых героических страстей. Самоограничение аттической трагедии пределами героической саги, с устранением прямого изображения деяний божественных, было подсказано стремлением возвысить богопочитание Дионисово. Можно было лишь вызывать тени героев - ипостаси Диониса, - покрытые священными масками, в элевсинских "столах" и на богослужебных котурнах, но страсти самого бога не могли служить предметом всенародного зрелища, созерцать их приличествовало только участникам мистерий. Все сюжеты выдающихся античных трагедий исчерпываются случайностями, которые глумятся над справедливостью и осмысленностью мира. Совершенная бессмыслица слепого рока олицетворяла для неисторической души грека весь смысл его века. У Софокла, правда, нет верховной воли судьбы, намеренно обрекающей целые поколения на преступления и несчастья. Но зато у него еще "античней" - не разумное решение судьбы, но слепой случай. Эдип случайно убивает отца и случайно женится на матери, здесь нет виновных. Ибо все из-за этого проклятого гесиодовского хаоса, разобраться в котором не могут сами боги. Захватывающая сила трагического питается скрытым в нем оргиазмом. Трагедия есть высшее гармонизирующее выражение оргиазма, страстного характера греческого миропонимания. Классический герой - оргиаст. Изначально - он сам Дионис. Дионис преступает черту, начертанную ему Мойрами, он нарушает гармонию. По этой же модели трагедийный герой преступает закон новых Мойр - закон полиса, в силу бушующего в нем оргиастического бунта. Конфликт трагедии - целиком внутриполисный, закон полиса взрывается героем, ибо этот закон - не абсолютен. Герой не приемлет рукотворную гармонию. Прослеживая оргиазм от Эсхила к Еврипиду, мы видим, что тем обнаженнее неистовство героя, крушащего рукотворную гармонию, чем ближе мы к эпохе расцвета полисной демократии, пока неистовство само не становится темой трагедии даже в заголовке - "Неистовый Геракл" Еврипида. От образов Кассандры и Электры Эсхила - к Кассандре, Гераклу, Пенфею, Агаве Еврипида тянется кривая богоборчества, которое взыскует гармонии и справедливости божественной и отвергает гармонию человеческую. И знаменательно - завершающей трагедией Еврипида были "Вакханки". Здесь дионисийский оргиазм вместе с Дионисом выступил на сцену перед зрителем, растерзав героя Пенфея руками вакханок, как бы для того, чтобы обнажить трагедийный корень страстного миропонимания и спеть покаянную песню за всех, кто мало безумствовал на краю бездны. Даже хор неистовствует в "Вакханках". Хор трагедии бездействен. К чему вмешательство в необоримый ход событий - все предопределено, помощь бесполезна. Хор даже не на сцене, он в орхестре, ниже сцены. Он хранитель тайного дара гармонии, которую пытается взломать герой трагедии. Задача хора - силой одной лишь морали сдержать богоборчество нарушителя. Попытка хора броситься на сцену, на помощь, предотвратить бедствие и тем самым преодолеть свой собственный детерминизм в принципе неосуществима. Но неистовство хора в "Вакханках" доказывает, что и хор, и герой есть Дионис с той только разницей, что мудрость, изрекаемая хором, прошла сквозь усмиряющий закон полиса, представ как здравомыслие моралиста, склонившегося перед правдой космической неволи. Мятеж героя вовсе не чужд хору, но отношение хора к бунту сдержано смирением перед судьбой - мудростью побежденных. В эсхиловой трагедии хор океанид, при всем сочувствии к Прометею и стихийном родстве с ним, одновременно и негодует на Зевса, и тут же трепещет, в ужасе от вольноречия возмутителя спокойствия, и советует Прометею отбросить гордость, испить мудрость благоразумия. Покорность - вот мудрость хора. В той мере, в какой рядовой зритель был способен задумываться о сущности своего полисного устройства, в той же мере он рано или поздно приходил к мысли, что его космос ограничен стенами полиса, а за стенами бушует хаос. Закон полиса, ставший одновременно и законом его космоса, все равно был относителен, искусственен, и точного знания о мире не было. Можно было бы успокоиться и жить законом полиса, но слишком часто хаос врывался в замкнутый мир этого космоса. Герой трагедии и был напоминанием об относительности "закона", ибо требования героя исходили из знания абсолютного. Богоборчество героя трагедии было богоборчеством, прошедшим школу полисного закона и не удовлетворившимся этим законом. Богоборчество героя протестует и против неволи, которая уже со стороны полисного "закона" опутывает человека. Полисный "закон" мыслит божествен ное вмешательство в ход трагедии не как драматургическое бессилие, а как выражение глубокого благочестия, которое на языкепобежденных говорит человеку, что если мир до сих пор не разрушился, если небо еще не упало на землю, то это только потому, что эту землю хранит высшая сила, ибо человек не способен сохранить даже себя. Актер, надевший маску героя, заставляет и зрителей надеть маску хора. Теперь сцена и зал (хор) существуют таким образом, что герой - относителен, а зал - абсолютен. Зал есть бездна, где исчезает отдельный человек и рождается хор как неподкупный Судия. И этот Судия есть неволя, ставшая Законом. Но этот Закон зыбок, подвижен, изменчив. В самой полисной гражданственности отсутствуют прочные основы законности, в ней самой нет полной гарантии безопасности индивида от произвола, сама гражданственность является фактором, порождающим сознание нестабильности мира, не укорененного в божественной правде, ибо когда "бог умер", то законности нет нигде и, как бы человек ни воображал себя способным дать самому себе и миру закон, его иллюзии рано или поздно разбиваются о собственный произвол. Реформами Клисфена не закончилось законотворчество демократии. Реформа Эфиальта (462 г. до н. э.) состояла в ограничении авторитета ареопага. Старый совет на холме бога войны применял известного рода вето по отношению к народному собранию; составляясь из бывших архонтов, ареопаг был в то же время местом особого влияния на дела высших социальных слоев, так как в нем преобладали еще родовитые люди. От этой аристократической сдержки радикалы стремились освободиться. Сама реформа состояла в том, что народное собрание отняло у ареопага ряд функций, при посредстве которых он вел надзор за государственным управлением. В области уголовного суда ареопаг утратил круг самых важных дел, главным образом, разбирательство в тех случаях, где имели место проступки, касающиеся всей общины; он потерял также право налагать наказания и штрафы на нарушителей общественного порядка. Ареопагу оставили лишь религиозные функции, надзор за приходами и уголовный суд по убийству, которое по-старинному рассматривалось с религиозной точки зрения. В целом у аристократического учреждения отняли контроль за гражданством. Реформа оказала самое решительное действие на демократизацию Афин. Она притягивала неимущие классы к активному участию в управлении. С отменой вето ареопага установилось непосредственное господство демократии: народное собрание эмансипировалось от опеки бывших чиновников, избиравшихся из среды высших классов. Вместе с тем отпали все сдерживающие скрепы для решений общего собрания, в силу чего эти решения могли быть и все чаще бывали произвольны и недостаточно обдуманы из-за случайности состава или минутного настроения. Платон позднее говорил, что "Эфиальт опоил демос неумеренной свободой". Комедия той поры полна насмешек над праздными мещанами, которые заседают в судах, кладут в карман легко достающиеся деньги и жадно выслушивают расточаемую им лесть. Закон Перикла 450 года об исключении от прав гражданства детей, происходивших от браков с матерями-иностранками, решительно ограничивал число конкурентов в получении раздач и потому был популярен среди граждан. Но в этом решении демократия достигла своего интенсивного предела. В более общем смысле закон этот знаменует глубокий кризис демократии. Она стала исключительно замкнутым кругом, подобно тем социальным группам, против которых она боролась. Число граждан Афин не превышало двадцати тысяч, а между тем в Афинах проживало четыреста тысяч человек. Демократия стала некоей кастой, невосприимчивой ни к новым политическим, ни к новым религиозным идеям. Новые речи слушались до первого доноса и обвинения в святотатстве, которое мог внести любой гражданин. Демократические реформы Эфиальта завершили долгий путь греков к богоравности. Национальная идея греков сбылась. Эта идея прошла суровую проверку персидскими войнами и подтвердила свою жизнеспособность. С персами сражалась сама метафизика греков, и именно она была их главным оружием. Сбывшаяся национальная идея, утратив свой интенсивный напор, с необходимостью требовала своего интенсивного расширения. В этом смысле возвышение Афин, заключение Делийского союза, Пелопоннесская война, походы Александра Македонского есть звенья одной цепи - звенья экстенсивного расширения греческой национальной идеи. Но, строго говоря, афинская демократия для самих греков никогда не была образцом воплощения национальной идеи. Бесконечные политические скандалы и првительственные кризисы, публичные потасовки демагогов, превративших афинскую демократию в своеобразный ринг для сведения счетов со своими политическими противниками, удручающая близорукость и некомпетентность державного демоса, нередко становившихся послушным орудием в руках своенравных и своекорыстных политиков, позорные провалы во внешней политике, не раз ставившее государство на грань катастрофы, бесцеремонное вымогательство денег у состоятельных граждан, иногда осуществлявшихся под предлогом так называемых литургий, а нередко выливавшихся в непрекрытый грабеж посредством судебных конфискаций имущества, скадальные политические процессы против лучших людей государства - все это было слишком хорошо известно, чтобы не питать никаких иллюзий по поводу афинской демократии. О пороках ее злорадно толковали авторы бесчисленных политических памфлетов, ее язвы безжалостно высмеивал Аристофан, Сократ в своих безыскусных беседах подводил собеседников к идее недостаточности демократического устройства. Ближе всего к осуществлению национальной идее богоравности по мысли греков подошли не афиняне, а спартанцы. Многие греческие мыслители, не ожидая ничего хорошего от хаоса и вульгарности демократии, нашли убежище в поклонении кумирам спартанского порядка и закона. Плутарх и Ксенофонт не уставали восхвалять обычаи спартанцев. Именно здесь Платон нашел очертания своей утопии. Все мыслители, склонявшиеся к аристократизму, всегда ставили в пример спартанцев. И, надо сказать, в том, что касается глубинного смысла греческой национальной идеи они нисколько не ошибались. Греческая национальная идея - это, еще раз повторюсь, идея богоравности. Это, несомненно, а) религиозная идея, поскольку ставит своим идеалом божественную свободу, б)аристократически-героически-богоборческая идея, поскольку оспаривает эту свободу у богов, в) элитарная идея, поскольку говорит только о греках в противовес варварам. Отсюда совершенно понятно, что впрактическом исполнении идеальное воплощение греческой идеи не могло быть ничем иным, как религиозной сектой избранных. Спарта и была таким воплощением идеи в ее логической чистоте. Согласно Геродоту, Ликург, дядя и опекун спартанского царя Харилая, получил от Дельфийского оракула некие указы, которые одни считали самими законами Ликурга, а другие божественной санкцией для внесенных им законов. Помня об этом, Спарта, несомненно, ощущала себя избранной из избранных, призванной самими богами осуществить то, на что у других не хватило религиозного рвения и пыла. Спартанское общество последовательно и упрямо осуществляло героический, аристократический, «гомеровский» идеал - формирование богоравного человека, методично осмысляя последствия «смерти бога». Пример Спарты для остальных греков был вполне понятен и смысл его был для них весьма прозрачным, поскольку из тех же метафизических предпосылок строились и остальные греческие полисы, в той или иной степени приближенности к идеалу стремились они создать такую же жизнь, в которой бы полис, общественное, внешнее было бы важнее частного. И не вина спартанцев, что парадоксальным образом идея богоравности на практике приводила к тому, что мечтаемая свобода приходила в форме насквозь зарегламентированного и несвободного быта - они просто старались быть последовательными и жили в соответствии с тем, что требовала идея. Идея требовала равенства, а равенство, если оно претендует на абсолютность, должно быть абсолютным и в повседневной жизни. В спартанском обществе даже взрослый, уже достигший призывного возраста и вступивший в брак мужчина все равно оставался на положении человека как бы несовершеннолетнего и не вполне правосопосбного перед лицом своего государства и выражающего его коллективную волю закона. Предоставив своим гражданам максимум свободного времени, избавив их от необходимости работать, освободив от занятий торговлей и ремеслом, то есть с максимальной точностью приблизив их жизнь к той жизни, которую по их представлениям вели боги, спартанский полис тут же подверг всю их жизнь самой мелочной упорядоченности, заполнив ее точными предписаниями и запретами, которые в своей совокупности и образуют космос Ликурга. В этом удивительном космосе предусмотрено абсолютно все, вплоть до прически и формы усов. Абсолютное единообразие быта, каким обернулась идея богоравности у спартанцев, не было в общем-то, чем-то уж из ряда вон выходящим в мире греческих полисов - и во многих других греческих городах-государствах нарастание уравнительных тенденций шло вслед за усилением демократии. Спартанская прямолинейность лишь довела до предела то, что было задано ей самой природой греческой национальной идеи.
ФИЛОСОФИЯ
То новое качество "закона", которое открылось греческому уму в полисном законодательстве, и его взаимоотношения с "природой" стали предметом размышлений софистов. В софистике получил свое наибольшее развитие принцип противопоставления совершающегося по природе тому, что делается по установлению, "искусством", став одной из главнейших опор субъективистского применения диалектической гибкости понятий к жизни. "Закон", "искусство", "техника" сливались для греческого ума в одно целое. Законы полиса как то, что своими усилиями возведено, накрепко слились с "искусством" и "умением", "мастерством" и "техникой", то есть с тем, что рождается не "по природе", а в мире людей и из мира людей распространяет свою организующую и упорядочивающую власть на природу как таковую. Софистика - обширное умственное течение V века до н. э., задающее тон всему полисному устройству Греции - вошла в обыденное сознание как однозначное выражение умного и утонченного, но вводящего в заблуждение и не заинтересованного в истине способа рассуждения. За этим значением мы до сих пор не вполне ясно различаем напряженность софистической мысли, ее мужество искания правил жизни после того, как полис законодательно оформил равномудрость каждого гражданина, приписав ему мудрость от рождения. Полисный закон возвел в ранг непререкаемой истины мудрость гражданина и самим возведением ее на высоты закона сделал ее отчужденной от рядового человека. Трагизм ситуации заключался в том, что мудрость как умение жить уже перестала принадлежать индивидууму, но стала принадлежностью полисной идеологии. Нам следует видеть в софистах не ловких интерпретаторов мысли, но трагических мыслителей, впервые выделивших этот трагизм мудрости в чистом виде в период, когда сама мудрость отошла от социальных схваток общества. Парадоксальность ситуации состояла в том, что софисты выделили новый трагизм именно тогда, когда рядовой грек, как никогда ранее, был уверен в своей богоравности и своей природной мудрости в силу своего рождения свободным. Новая софистическая ученость вряд ли имела заранее определенные цели, но логикой греческой мудрости неуклонно вела дело к тому, чтобы поставить человека в центр своих размышлений. Софистика уже не интересуется натурфилософскими проблемами - исчезла сама необходимость в обустройстве полиса и мира, бывшем главной заботой "физиков". Софистика сформулировала это обстоятельство в виде требования воздержания от умозрений о мире и обращения мыслей к человеку: "Познай самого себя". Хаос, изжитый в законодательстве и религиозном реформаторстве полиса, хаос укрощенный служит теперь основанием специфического антропоморфизма софистов. И даже когда софисты обращаются к традиционным проблемам и говорят о "природе", их рассуждения неизбежно соотнесены с человеком. Трагизм мира перенесен теперь в человека, который сам стал полем борьбы космоса и хаоса, добра и зла, справедливого и несправедливого. Софистами был впервые извлечен из пут социоморфности вопрос о характере противопоставления "природы" и "закона". Софисты были выразителями того умонастроения, который на языке греческой метафизики говорил рядовому греку, что "бог умер". Ибо умер тот неоспоримый новый бог греческого ума, который сам в себе нес авторитетность и истинность своего предначертания - Закон. Полная демократия сделала из закона нечто смехотворное, произвольное, подчиняющееся минутному настроению - непрерывно зудящее законотворчество и сутяжничество, которое позволяет каждому неучу и недоумку оспаривать решения государственных мужей. Ко времени софистов понятия "закон" и "природа" уже несомненным образом тяготели к антитезе. Софисты занялись исследованием этой антитезы с рассмотрения "природы закона". Природа закона вполне ясна - она дело человеческого разума. Человек в закрытом завершенном полисе остался наедине с законом, который сам для себя установил, отгородившись стенами полиса от "природы". Оставшись без "природы", "закон" потребовал своего другого - "новой природы". Дело, в сущности, заключалось не в противопоставлении "закона" "природе", но в том, в какой стороне этой противоположности находится подлинное, где находится подлинность самого человека. И этот вопрос напрямую касается проблемы свободы и неволи - фундаментальной проблемы античности. Мудрость, понимавшаяся сразу и как социальное, и как космическое дело, здесь, в стенах полиса, предстала как нечто отчужденное, как то, чего следует еще достигать, - мудрость стала любовью к мудрости, философией. Полисная демократия, отгородившись от "природы", обнаружила, что "закон", созданный человеком, враждебен "природе". Внутри софистической мудрости происходит перемена мест "природы" и "закона": то, что было "природой", стало теперь "законом", а "закон", в свою очередь, превращается в "природу". Отсюда открывается путь всей европейской философии после софистов: закон обращает в рабство, природа предписывает свободу. Черное стало белым. Белое стало черным. Героическое мышление софистов выговорило "смерть бога" - закона (космоса) для человека полиса, открыв ему ту бездну собственной богоравной свободы, которой он так долго добивался. После уничтожающей критики софистов стало невозможно прятаться от суда собственной совести за "природу" прошлой мудрости. Мудрость как искусство жить умерла, и на смену ей пришла мудрость как искусство умереть. После софистов новая философия существует и осуществляет себя в отталкивании от полисной идеологии, от самого факта осуществленности национальной идеи - и потому существует на фоне всеобщей подозрительности, в атмосфере враждебности, охраняющей от новой философии демократические завоевания. Национальная идея сбылась, и потому новая философия есть уже нечто над-национальное, идущее вразрез с национальными интересами и национальной идеей и со стороны консервативного большинства не без основания подозреваемое в подрыве устоев. Вся пост-софистская философия живет теперь в атмосфере скандала, где в лучшем случае она осмеивается как бесплодные выдумки, а в худшем - осуждается на смерть. Нужно также заметить, что атмосфера скандала, спора, упреков, дрязг, начиная со спора Ахилла и Агамемнона под стенами Трои, составляет естественную среду повседневной греческой жизни. Нервный, взбудораженный, постоянно заряженный на спор греческий характер, начиная с гомеровских времен, не имел стабильности внутри себя в силу особенностей своего метафизического опыта, а следовательно, не вносил стабильность и в свою политическую и религиозную жизнь. Полисный строй лишь укрепил это свойство греческого духа, наполняя повседневное существование постоянными столкновениями между людьми, родами, партиями и сословиями. Эта оборотная сторона агонального греческого духа придавала полисной жизни такой накал, при котором результаты столкновений были неизменно катастрофическими для побежденной стороны: они подвергались гонениям, казням, конфискации имуществ. В свою очередь, обратившись в эмигрантов, побежденные поднимали войну против родного города, призывали вооруженное вмешательство его врагов или сами приводили наемные силы. Был изгнан и обвинен в измене сам Фемистокл, потом его противник Кимон, другой видный деятель войны с персами. Погиб насильственной смертью вождь радикальных низов Эфиальт, причем от рук своих же более радикальных последователей. Под судом оказался и Перикл по обвинению в подкупе вождей спартанского войска во время Пелопоннесской войны, его друг, скульптор Фидий, кончил свои дни в тюрьме: нашлись люди, доказавшие, что на щите изваянной им Афины Паллады один персонаж похож на Перикла, а другой напоминает самого Фидия - кощунство! По обвинению в святотатстве под судом был и Анаксагор: в его учении усмотрели ту мысль, что Солнце не одухотворено божественной силой, а представляет собой раскаленную каменную массу. Анаксагор с трудом избежал осуждения на смерть - он должен был выплатить большой штраф и уйти в изгнание. Целый ряд обвинений был выдвинут против Демосфена, который, мол, сам так ратовавший за сопротивление македонянам, в битве при Херонесе покинул свое место в строю и бежал, бросив оружие. Легенда доносит нам, что почти все члены пифагорейской секты погибли в огне во время одного из своих собраний в доме Милона в Кротоне (500 г.). Демокрит был предан суду за то, что истратил унаследованное от отца имущество (впрочем, был оправдан после того, как прочитал судьям свои сочинения "Великий космос" и "О том, что после смерти"). Глава Академии Ксенократ (он стал им после Платона и Спесивпа) был выведен на продажу за то, что не смог уплатить подать с иногородних, ведь он был из Халкедона. Суд над Сократом в этой атмосфере охранительной бдительности не представляет собой чего-то исключительного, это вполне сознательная анти-метафизическая политика сформировавшейся, окрепшей, осознавшей себя и почувствовавшей свою силу национальной идеи. Стоит ли удивляться, что судьба новой греческой умственности была столь тяжелой! Новая умственность и внутри себя не имела той гармонической цельности, которойобладала трагическая гомеровская мудрость. При всем том, что в союзе Аполлона и Диониса была достигнута некая гармония, она оставалась лишь эстетическим утешением. Никуда не делись хаос, неволя, случай, немилосердность богов - все то, что было предметом греческого отрицания, оставалось на своих местах. И если в силу обретенной осмысленности ушла необходимость изучения "физики", то размышления над "метафизикой" мира стали еще напряженнее. Ибо человеку нужна не только эстетическая, но и нравственная радость осмысленности мира и своего места в нем. Впустив Диониса внутрь полиса, сотериологические искания новой картины мира, до этого отвергавшиеся рационалистическим бунтом, вместе со страдающим богом вошли в плоть греческой мудрости, сделав ее философией. Вобрав в свой космос хаос дионисийства, в свою судьбу его случай, в свой закон его свободу, новая философия столкнулась с необходимостью заново прояснить метафизические основания человеческого бытия, заново ответить на вопрос: каким образом существует человек в этом эстетически осмысленном, но все же равнодушном мире. И чем дальше, тем больше рациональная ясность, ранее гнавшая от себя всякую сотериологию, становилась душеспасительным рассуждением, в котором дельфийский завет "познай самого себя" наполнялся смыслом "спаси самого себя", а дионисийство все более становилось богоборчеством. Новая мудрость из гонителя сама превратилась в гонимую и преследуемую, вплоть до того, что наступил момент, когда афиняне приняли постановление, согласно которому никому не разрешалось открывать философскую школу без разрешения совета и народа. Нарушение этого запрета каралось смертью. Мудрость, ранее окруженная почетом и уважением, становилась мудрствованием презираемым и осмеиваемым.
СОКРАТ
Подвергать сомнению, как это делал Сократ и "все прочие софисты", способность любого свободнорожденного грека управлять государством и законодательствовать, иными словами, сомневаться в его прирожденной мудрости означало подвергать сомнению самые фундаментальные устои греческого миропонимания. Весь смысл низведения рабов до статуса говорящих орудий, весь смысл греко-персидских войн, вся полисная жизнь с ее агональным духом мыслились как шаги, направленные на то, чтобы грек был богоравен. И не есть ли верх богопротивности и дерзости сомнение в этой богоравности? Сократовская критика изнутри разрушает мудрость как умение. Ведь всякое умение и мастерство предполагает и некие таланты, способности к восприятию этого умения, а также и учителя. Но именно это обстоятельство теперь наиболее сильно расходилось с полисным пониманием мудрости, поскольку для рядового гражданина мудрость связывалась не с умением, а со свободой: свободен - значит мудр. Рядовой грек привык к мысли, что установленные мудрецами-законодателями правила жизни и религиозные обряды суть нечто неизменное. Но весь ход жизни вел греческое мышление к обнаружению сущностных несоответствий между полисной мудростью и действительным положением дел, ибо утрата веры в справедливость закона неизбежно ведет к разочарованию в законе справедливости, так же, как разочарование в действительности разумного приводит к утрате веры в разумность действительного. Сократ разделял уверенность софистов в "смерти бога-закона", но не разделял их субъективизма и релятивизма. Проблему, обнаруженную софистами (если нет абсолютного закона, то человеческий закон есть беззаконие), Сократ решал на основе того внутреннего убеждения, что если нет в мире конечного такой истины, которая могла бы стать окончательной, то это вовсе не значит, что ее нет вообще. Сократ призывал ограничить то, что зависит от самого человека, от того, что от него не зависит. В этом призыве скрыт вопрос о границе свободы, вопрос о возможности выбора между добром и злом. Человеку подвластно то, чем он обладает. Тем самым Сократ утверждал, что человек имеет нечто в своей собственности. Сократ последовательно проводил мысль об автономности человеческого знания добра, он очерчивал границы между небом и землей и вручал человеку способность быть нравственным по собственной воле. Тем самым он проводил границы по-новому, увеличивая пространство, принадлежащее человеку, за счет божественной компетенции. Он вручал человеку некое знание добра и зла, где "добродетель есть знание" и "знание есть добродетель". В этом новом пространстве и происходило превращение знания неистинного в истинное для самого Сократа знание. Сократовское "я знаю, что я ничего не знаю" горделиво утверждает "я" вместе с присущим ему знанием о неистинном - "я знаю". Новая достоверность, обретенная "я" внутри себя, на языке богоутраты и есть утверждение такого знания о "я", где "я есть бог". С точки зрения Сократа, подлинная мудрость и подлинная добродетель не могут не совпадать. Для Сократа Бог не добр, но разумен, и разумность его есть добро. По словам Аристотеля, Сократ упразднил вне-разумную часть души - дионисийскую часть. Сократ стремился в многообразии этических изменчивостей найти твердую основу и находил ее в разумности "я". Сократовское "я" по-новому смотрело на сущность божественного. Божественное у Сократа подобно безликому всеведению хора из греческой трагедии. Сократовский бог не обладает ни индивидуальным обликом, ни собственным бытием, ни собственным именем. Бог Сократа - безличный вселенский разум, экстраполятивное следствие разумного "я". Сократ возвел в добродетель разумность автономного "я", он вдвинул истину в самого человека и повернул его к миру идей, первым в новой греческой рациональности указав на самобытность человека и на автономность самостояния идеи в душе человека. По мысли Сократа, знание о нравственных ценностях не существует готовым и не передается по наследству, но приобретается исследованием души. Сократовский метод майевтики предполагает человека свободного и ответственного, способного познать истинное и принять верное решение. Сократовское "я знаю" покоится на его уверенности в способности человека познавать разумно устроенный мир. Эта уверенность подкреплена присутствием в душе некоего внутреннего голоса, который Сократ называет "даймонион". "Даймонион" по своему смыслу несколько отличен от "даймона". "Даймон" предполагает отдельное особое божество, в то время как "даймонион" носит более отвлеченный характер и означает "божественное". Сократ имеет в виду наличие в душе божественного, причем акцент делается на уникальности "даймониона" - каждому человеку присущ свой даймонион, что и делает человека отдельным автономным "я", а это, в свою очередь, позволяет человеку говорить "я знаю". Индивидуальный характер даймониона делал человека неподвластным общим установлениям. И эта неподвластность вызывала наибольшее раздражение. Проблема, связанная с Сократом, заключалась в противостоянии власти и человека, свободы и подчиненности. В суде над Сократом речь шла о власти Власти над человеком. И хотя сам Сократ ставил пределы своеволию человека, ограничивая ее подчиненностью поиску и обретению знания истинной добродетели и справедливости, все же пространство автономии было очерчено им, и оно было достаточно велико, чтобы голос даймониона заглушал голоса полисных установлений. Даймонион Сократа вел его новыми путями - путями индивидуального искания истины и добродетели. Отныне внутренний голос берет на себя роль высшего судии истинности или ложности чего бы то ни было. Два обстоятельства являются у Сократа характерными признаками его теории: вера в существование общеобязательной истины, выросшая из протеста против крайностей релятивизма софистов и убеждение в возможности ее адекватного постижения и выражения. На этих двух допущениях строится онтологическая и гносеологическая концепция Сократа, служащая в свою очередь обоснованием его концепции этики. Сократ как слуга Апполона, то есть рационального, не допускает в поступки людей, обладающих истинным знанием, каких-либо инстинктов, непознаваемых импульсов, как это делал Гераклит. Сократом завершился процесс, наяатый гомеровским веком, в котором путем разумного размышления и признанаия общеобязательного были найдены нормы общего сознания. Общая направленность рассуждений Сократа была интеллектуально аристократична, и это обстоятельство снова напоминает об Аполлоне. Враждебно-ироническое отношение к демократии и нескрываемые симпатии к аристократическому строю Спарты органически связаны с этическим учением Сократа о том, что только знание делает человека лучше. Традиция трижды фиксирует важную роль Аполлона в духовной биографии Сократа. Первый раз это было во времена молодости. Тогда роль мощного побудительного стимула в обращении Сократа к проблемам познания сыграло его знакомство со знаметитым изречением, украшавшим фасад святилища Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». В другой раз оракул Аполлона в Дельфах является в жизни Сократа в связи со знаменитым ответом Пифии другу философа Херефонту. Он обратился к оракулу с вопросом «есть ли на свете кто мудрее Сократа» и Пифия ответила, что никого мудрее нет. И, наконец, находясь в тюрьме, Сократ обращается к поэзии - пишет гимн в честь Аполлона. Свою деятельность Сократ рассматривает как служение Аполлону и Музам, и даже свое отношение к смерти толкует как пророческое ясновидение, подобное радостной предсмертной песне птицы Аполлона - лебедя. И именно Аполлон отсрочил казнь Сократа: заключенный после суда в темницу, он провел там целый месяц. Отсрочка объяснялась тем, что в тот момент на Делосе справлялись празднества в честь Аполлона, для участия в которых из Афин посылали специальное священное посольство - закон воспрещал приведение в исполнение смертных приговоров до возвращения в Афины корабля с этим посольством. Даже мантика - исконно диониссийское искусство - у Сократа приобретает аполлоническую значимость - в то время как полис продолжал общаться с богами и угадывать их волю исключительно через разного рода внешних посредников, Сократ услышал голос в собственном разуме. Если не было больше реального божества вне природного инстинкта жизни, то нужно было искать божественное в нормативности разумного сознания, обожествить объективные нормы нравственности. Нравственностью должно было заклясть хаос покинутого Богом бытия. От нехватки рационального Сократ стал моралистом. Сила проповеди Сократа заключена в предпринятом им всеобщем испытании ценностей, утверждаемых людьми по своеволию и потому преходящих, и ценностей, лицемерно утверждаемых во имя Бога, на самом же деле только человеческих и временных. Адекватности безусловной норме требовал он у всего, на что обращался его недоумевающий взгляд там, где люди условились о взаимопонимании, или недоверчивый там, где люди согласились не сомневаться. Сократ не был переоценщиком ценностей, он был обесценивателем условного, то есть безбожного, просто человеческого.
СОТЕРИОЛОГИЯ РАЗУМА
Кризис античной "физики", обнаруженный софистами и Сократом, проявил необозримое множество мнений о началах всего сущего. И чем многочисленнее были ответы на вопросы о том, из чего возникли и во что с течением времени обратятся все вещи, тем более подрывалось доверие к ним. Слушатель новых философов склонялся к тому, что все эти мнения не имеют отношения к истине. Талант Аристофана ярко выразил это презрение к пустым мудрствованиям. Главный упрек, извлеченный софистикой из развития античной диалектики в рамках физики, состоял в том, что суждения о космосе насквозь противоречивы. Но как тогда быть с самим космосом? Не иллюзия ли он, и не следует ли вообще отказаться от исследования того, что недоступно разуму? Выход нашел Платон. Как писал Аристотель, Платон смолоду сблизился с гераклитовцами, учившими о том, что чувственные вещи находятся в постоянном изменении. И тогда знание о них невозможно, ибо знание есть знание постоянного, устойчивого, общего. Платон поставил вопрос о чувственных вещах в их отношении к общему и устойчивому и, идя этим путем, назвал общие определения идеями. Что же касается чувственных вещей, то о них речь у него всегда идет только отдельно от идей, но в то же время в соответствии с ними, ибо все множество вещей существует в силу приобщения к одноименным сущностям. Противоречия чувственного мира снимаются - одновременно уничтожаются и сохраняются - в понятии идеи. В результате диалектика как мыслимая структура мира была одновременно и четко вычленена из чувственного многообразия, и резко этому многообразию противопоставлена. Это, с одной стороны, позволило Платону рассматривать диалектику в ее всеобщей, чистой форме. С другой стороны, было разрушено наивное единство космоса, угаданное "физиками". Диалектическая мысль Платона всегда бьется вокруг двоякой задачи: как соотносится Единое, то есть идея мира, и Многое, то есть сам мир, и каково место человека в этом соотношении. Глубинный импульс философии Платона, несомненно, сотериологический - он озабочен судьбой человека в мире, лишенном надежных ориентиров. Безосновность лишенной руля демократии и лишенной норм философии заставила его искать абсолютные основания для нравственных ценностей. Суд над Сократом и его казнь, к которой приговорила его афинская демократия, оставили глубокий след в сознании Платона. На собственной судьбе испытал он демократическое "все позволено" и укрепился в мысли о необходимости законов - как политических, так и нравственных. В традициях греческого мышления, при обсуждении специфики философского знания, в сочинениях платоновского корпуса слова "наука" (эпистеме), "искусство" (техне), "ремесло" (демиургия), "мудрость" (софия) употребляются одно вместо другого как синонимы. Но, помимо сократовского - аполлонического - рационализма, Платон впитал многое из мистики орфиков и последователей Пифагора. Обновленный орфизм и пифагореизм открывали мистические горизонты платоновскому поиску истины. Подлинное бытие присуще только идеям. Если мы можем совершать справедливые поступки, то только потому, что сохранили смутные воспоминания о "справедливости самой по себе", если мы способны увидеть красоту реальной вещи, то только потому, что наша душа уловила в этой вещи присутствие чистой Красоты. Все сущее имеет в мире свои прообразы, они являются на наш зов в силу нашего воспоминания об их сущностях, которые вещи копируют с той или иной степенью истинности. Ведь душа, говорит Платон, уже жила в окружении этих божественных красот до того, как ниспала в могилу тела. Душа, наполовину ослепленная, и не смогла бы познать "идей", если бы не было этих моментов узнавания истинных ликов вещей, заполненных конкретностью материального. Душа жила прежде тела, она будет жить после смерти, идя по пути, ведущем ее к добродетели. Не единожды смерть должна освободить душу, прежде чем она сможет достичь высот добродетели. Земная жизнь - жизнь неподлинная, она только увертюра к жизни истинной, она есть искусство умирать, приготовление к кончине. Положительная ценность смерти была известна еще пифагорейцам, но у них смерть не была предметом пропаганды, ибо, по воззрениям пифагореизма, самоубийство не лучше обыкновенного убийства, поскольку жизнь дана человеку не в дар, а в наказание за совершенные им некогда прегрешения, и самоубийство есть способ избежать справедливого наказания. Спасение человека не в наложении на себя рук, а в наложении на себя аскетических обетов, очищающих душу. У Платона несколько иные акценты. Смерть у Платона имеет тенденцию стать неким показным жестом обреченного, актом презрения к миру. Платон провозглашает ценность бесконечного, небесного в ущерб земному, "поэтому и следует пытаться скорее убежать отсюда - туда. Бегство - это посильное уподобление богу, а уподобиться богу значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым". Бессмертие платоновской души - это не бессмертие индивидуального человека, а бессмертие одушевляющего человека разума. Дело философа - созерцание истинного. Следовательно, философ есть высшая форма человека и потому обладает правом быть царем как в переносном, так и в буквальном смысле. В своем идеальном государстве Платон именно философам отводит высшую должность. Мудрец, достигший атараксии, овладевший страстями, умеющий господствовать над собой, достоин не только трона на земле, но и блаженства на небесах. В полном соответствии с духом эпохи, сущность которой выразилась в формуле "все позволено", платоновская философия в отличие от пассивности натурфилософии есть дело активное. Платон сам творит свой мир таким, чтобы он был лучше человеческого, разумнее, красивее его. Человек эмпирический мало интересует Платона - в его идеальном государстве-утопии благо отдельного есть благо, поглощенное общим благом. Пафос переделывания мира движет платоновским энтузиазмом реформатора. "Государство" - это не просто набор теоретических споров о правительстве, но уверенный в осуществимости проект практического преобразования, предложенный человеком, который захвачен страстью переустройства. Платон с глубоким социологическим талантом обнаружил, что его современники страдали от жесточайшего напряжения и это напряжение своим происхождением обязано демократии. Ибо что делать человеку, когда небеса пусты и "все позволено"? Где сам человек? "Ищу человека", - кричал Диоген, выкрикивая тем самым суть того нового, что было обязано новшествам философии. Кинизм - другое течение новой греческой мысли - обнаружил недостаточность сотериологии Платона. Нигилизм киников озабочен судьбой отдельного человека, он обращен не к идеальным сущностям, но к земным людям с их земными проблемами. Все эти безземельные крестьяне, нищие, нофы, метеки, вольноотпущенники и рабы - тоже люди. И они тоже страдают. Кинизм отворачивается от высоколобой мудрости. Нигилизм киников отрицает все - материализм и мистицизм, веру в разум и сотериологию, культуру и науку. Воззрения киников вырастали на благодатной почве крушения Афин как великой державы и потому находили
живой отклик в душах слушателей и последователей. Отец кинизма - Антисфен - был учеником Сократа. Но, в отличие от учителя, Антисфен проявлял больший пессимизм относительно человеческих способностей познать мир и божественный закон. Мудрость киника претворяет теоретические положения в практику с той радикальной настойчивостью, которая появляется, когда необходимо в самой гуще жизни проверить пределы человеческого своеволия, пределы своей новой индивидуалистической свободы - и проверить их произволом, богохульством и нигилизмом, проверить терпение богов, на своей судьбе узнать обширность того пространства вседозволенности, которое открылось греческому уму в хаосе рушащегося мира. Афины после 404 гола уже далеки от своих золотых дней. Следы упадка слишком явны: везде нищие, бездомные, к раздачам дарового хлеба прибегают все чаще, но они становятся все скуднее, чтобы хоть что-то получить, приходится драться. Деньги делаются из всего - закладывают мебель, утварь, оружие, дома, все, что возможно. Крепостные стены и государственные постройки лежат в руинах. Казна почти пуста, жалованье выплачивается только из доходов от конфискаций, к которым прибегают все чаще. Море принадлежит пиратам. Голод уже не редкость. Жизнь дорожает. Декреты, которые пытаются помешать росту цен, не выполняются. Войны, вторжение врага, разгром флота, блокада, сдача, чужеземные завоевания, диктатура, остракизм, гражданская война - вот калейдоскоп горестных событий упадка. К 399 году Афины унижены, истерзаны и бессильны. Пережив крушение, восстановление и окончательное упразднение стен родного полиса, еще так недавно бывших символом могущества, киник как бы поневоле начинает ощущать себя гражданином мира - космополитом. Как герой трагедии, киник воспринимает удары судьбы не как возмездие, но как всемирную несправедливость. Он ограничивает свое знание эмпирически доступным; логическое познание, основанное на вере в разум, заменяется познанием чувственным. Довольствуясь наличным бытием, он отвергает всякое теоретизирование. Бытие понимается как наличное присутствие феномена в чувственно-воспринимаемом мире. Реальность признается только за конкретными единичными вещами. Тотальное отрицание пронизывает все составляющие кинической философии. Для киника все, что по природе, - благо, все, что от искусства, - подлежит осуждению. Софистическая оппозиция "закон-природа" окончательно разрешается в пользу природы. Нет никакого закона, самим человеком поставленного себе в качестве руководящего и организующего смысла. Какие бы то ни было законы вообще бесполезны, поскольку хорошим людям они не нужны, а плохие их не исполняют. Нет ни государства, ни родины. "Нет у нас родины, нет и изгнания", - говорил киник. Можно ли испугать человека изгнанием из города, когда он изгнан из гармонии мира? Кинизм отрицает рабство. Учение об автаркии (независимости) дополняло и подкрепляло аргументацию киников в пользу свободной жизни в согласии с
природой. Отрицание традиционной морали сопровождалось легендарными манифестациями кинического бесстыдства. Диоген на глазах у всех справлял свои нужды, относящиеся "как к Афродите, так и к Деметре". Своеобразие кинического критицизма берет исток в разочаровании в самой действительности божественного разума, не отягощенного заботой о человеке. Жизнь человека - пузыри на воде и листья на ветру. Современник Платона, проживший около ста лет, в раннем детстве застал бы Афины в зените славы, наблюдал бы строительство Акрополя, в отрочестве увидел бы смерть Перикла и чуму, в юности смотрел бы трагедии Софокла и Еврипида, беседовал бы с софистами и Сократом, в зрелые годы сражался бы в битвах Пелопоннесской войны, в старости увидел бы упадок и унижение Афин, а на смертном одре узнал бы о греческих походах Александра. По словам Демосфена, народ с мужеством отчаяния избрал для себя рабство, он уже готов к покорности завоевателю, лишь бы тот принес с собой порядок и стабильность. Человеку той поры, если он хоть в самой малой степени был способен оценивать пути своей метафизики и своей истории вместе с их результатами, было ясно, что вся эта история и вся эта метафизика были лишь одной огромной претензией, не способной реально себя удостоверить в бытии. Он, оглядываясь, видел лишь руины.
ЭЛЛИНИЗМ
Интеллектульным прологом эллинизма можно считать «Киропедию» Ксенофонта. «Киропедия» демонстрирует прежде всего совершенно творческую личность того именно типа, который особенно импонировал греческой элите. Здесь показано как герой, обретя надлежащие возможности, становится творцом нового идеального государства - мировой монархии. В порядках этого государства воплощена высшая справедливость для аристократа - «лучшие» сплочены в привелегированное сословие господ, а «худшие» сведены на положение крепостных. Эта аристократическая идиллия имеет много общего со спартанской политией, но ее отличают и новые качества: аристократическая ориентация общества сочетается с сильной монархической властью, а само государство возникает вследствие завоевания народом - носителем высшей метафизической истины - прочих стран Востока. Идея этой державы принадлежит уже недалекому будущему. Ряд идей, высказанных Ксенофонтом, стали лозунгами нового века: идея единения греков и организация походов на восток, требование внутренних преобразований, учреждение наемной армии, признание монархии как наилучшего государственного устройства. Подобно тому, как поход наемников Кира, в котором Ксенофонт принял столь деятельное участие, был прологом к грандиозному предприятию Александра, так идеи Ксенофонта, выраженные в «Киропедии», явились идейными провозвестниками эллинизма. Переправляясь через Гелеспонт Александр Македонский считал, что идет по стопам Ахилла, покоряя Ближний Восток, он завершал труды, начатые его предком под Троей. Во всех своих походах он возил с собою список «Иллиады» с пометками Аристотеля, ночами он клал поэму под подушку рядом с кинжалом. Кинжал и «Иллиада» - орудие и цель. С походами Александра греческая национальная идея из силы превратилась в плоть - она стала империей. Эллинистический грек уже не ищет разумного, божественного начала в мире: жизнь вокруг все чаще представляется ему нагромождением случайностей, совершенно лишенным внутренней логики. Трудно поверить в то, что столь неразумным миром может править какой-то божественный разум и что все происходит согласно его предначертаниям. Бурные события своего времени, трагический, заранее обреченный на неуспех подъем гражданственности и патриотизма и последовавший за поражением глубокий упадок духа, стремлений и чувств - все это печальная реальность, определяющая образ жизни и взгляды на мир, та почва, на которой уже не взойти даже самому отборному зерну и где способны произрастать только сухие, горькие травы безысходности. Не во что верить: старые олимпийские боги умерли или удалились в какие-то неведомые пределы. Вечный Дионис, животворящий и всемогущий, стал теперь чем-то вроде румяного, подвыпившего гуляки, утратив в глазах уже ничего не ждущих людей свою грозную силу. Всеведущий даймонион умолк вместе с Сократом. Вселенский Логос, вещавший Гераклиту, неизвестен массе людей, погруженной в заботы обыденной жизни, сводящиеся к одному - уцелеть. Теперь люди верят во что угодно - в приметы, в знамения, в случай, но богов, придающих жизни ясность и понятность, уже не существует. Ощущение какого-то огромного поражения, пусть смутного, не часто высказываемого, лежит в основе эллинистического способа жить. Как и во все времена, большинство людей живет, подчиняясь обстоятельствам, не особенно их анализируя и еще меньше анализируя себя. В большинстве своем они просто приспосабливаются к независимому от них ходу вещей. Ничем особенно не занятые обыватели, вынужденно праздные бедняки, не знающие зачастую, что они будет есть вечером, - вот потомки тех, кто определял ход истории, ставшие самодовольными болтунами. Это о них с горьким бесстрастием повествует Феофраст. Равнодушие ко всему на свете, кроме собственного благополучия, какая-то преступная беспечность в отношении всего того, что казалось когда-то жизненно важным, все более овладевает потерпевшим поражение народом. Крушение полисной жизни приводит, с одной стороны, к нивелировке массы людей к примерно равному статусу подданных царя, а с другой стороны, рождает апофеоз индивидуализма, освобожденного от груза полисных обязанностей. Теперь уже не гражданственность, не полис выносит эту личность наверх как героя-победителя в соревновании-агоне. Теперь личность выносит стихия, живая масса, организованная по внешнему виду в гражданственность. Теперьу полиса отнята та сила, которая раньше позволяла ему гармонизировать свой оргиазм. Эллинистический грек не хочет верить ни в какую гармонию - софистика разложила эту веру. От свободных и демократических городов не осталось и следа. Четыре-пять государств, управляемых монархами, занимают теперь пространство, завоеванное Александром. В каждом государстве имеется большой город - столица, административный и культурный центр. По воле монарха в нем поддерживается культурная жизнь, художественное творчество, преемственность наук и ремесел. Александрия, Пергам, Антиохия - это уже не города свободных граждан, народ в них полностью отчужден от власти, здесь много чиновников, исполняющих сложные, кропотливые обязанности. Много и аристократов-выскочек, вокруг которых крутятся целые армии зависимых от подачек людей. Население представляет собой беспорядочную толпу лиц отдельных профессий, вероисповеданий, вкусов, едва объединенную внешней лояльностью к монарху. Деревни большей частью населены рабами или теми, кто подчинен более изощренной зависимостью. Характерные черты этого общества - нищета и рабство, зависимость, безысходность и неустроенность. Деятели науки и ремесел, искусства и литературы разобщены несмотря на то, что правитель видимо и ощутимо заботится о процветании наук и искусств. Боги далеки и сомнительны. Манерная, формальная красота ценится лишь узким кругом образованных, ищущих развлечений и удовольствий. Сама планировка новых городов рациональна и неприхотлива: Александрия разделена на четыре квадрата двумя магистралями - с севера на юг и с востока на запад. Каждый из этих квадратов носит название одной из первых букв алфавита. В четырех прямоугольниках улицы перпендикулярны и параллельны. Везде царствует строгая логика. Поэты и литераторы заняты созданием неких вымышленных поэтических миров, своего рода убежищ, уголков отдохновения. В их произведениях преобладает псевдосерьезное описание и мотивация сохраненных преданием событий, в реальность которых теперь не верит никто, а скрытая ироничность угадывается лишь в строгом сопоставлении глубины психологического проникновения в причину поступка и примитивности самого действия, в дотошной обстоятельности, аргументированности, мистической интерпретации исторических примет. Все это составляет неподражаемый сплав поэтики постмодернизма античности. Риторичность, привнесенная Платоном, превращает ремесленные приемы построения художественного произведения в основной принцип освоения действительности - правда не имеет никаких преимуществ перед правдоподобностью. Поэты эллинизма пишут не о том, что было, есть и будет, а о том, что может быть. Эстетика вероятностного правдоподобия получает название ученой поэзии. Даже в оригинальных произведениях той поры содержится очень много ученых намеков, которые требуют мифологических, исторических, географических и многих других знаний; сама эта эрудиция настолько утяжеляет поэтический порыв, сам по себе небольшой, что чтение становится своеобразной пыткой ученостью или, что то же самое, ученым удовольствием. Единственная оригинальная форма, прибавленная эллинизмом к сложившимся жанрам греческой литературы, - идиллия, сельская поэзия для горожан. Каждая из философских школ располагает своими наставниками, традициями, помещениями и дисциплиной. Нет никаких отшельников, даже киники подчиняются общим правилам. Аскетизм прежних философских учений сохраняется, но теперь он опирается на "науку", отчего неизвестный ранее догматизм сообщается всем направлениям философской мысли. Две главенствующие школы - стоиков и эпикурейцев - отразили перемены в умонастроениях. Эти школы во многом были направлены на этическое увещевание относительно того, к каким философским укрытиям следует прибегать, чтобы пережить тяжелые времена. Философия стала набором неких нравственных положений, где страсть к постижению истины уступала место потребности предоставить людям устойчивую систему верований и тем самым дать им некоторое внутреннее спокойствие перед лицом хаоса и враждебности. Философия эллинизма все более становится сотериологией, и внутри этой сотериологии уже почти незаметен бунт. Главный выбор философских школ эллинизма был сделан в пользу освобождения от мира и от собственных страстей, привязывающих к миру. Даже атомизм Демокрита переосмысляется человеком той эпохи в сотериологическом ключе: лишившись определенного, централизованного упорядочивания полиса, человек ощущает себя демокритовским атомом, по велению безликих сил хаотически движущимся в лишенной центра беспредельной вселенной. Божественная действительность рассматривается либо как бесчувственная и безразличная к человеческим делам (эпикуреизм), а если и имеющая какой-то провиденциальный смысл, то все равно неумолимо детерминированная (стоицизм), либо как вообще недоступная человеку сила (скептицизм). Философия Эпикура развивалась из нравственной необходимости отстоять маленького человека, отчего и вся физика Эпикура есть лишь вспомогательный момент его теории противостояния жестокости мира. Обоснованию возможностей личной свободы каждого человека служило его учение о пребывающих где-то в междумириях богах, его насмешливое отношение к демокритовской сплошной необходимости, "от которой нельзя требовать ответа" и которая "еще хуже верований в богов". Эпикурово учение о мироздании при всей наивности отдельных толкований и определений является прежде всего непримиримым протестом против тех сотериологических исканий, что были рождены пост-сократовской рациональностью, но само тоже идет в русле сотериологии. Это протест против примирения с небесами, которые равнодушны к человеку. Эта единственно возможная мудрость человека без бога должна была, по мысли Эпикура, объединить людей в некое братство, соединенное солидарностью непримиримых. Эпикур возвысил голос в защиту человека, не смиряясь с ролью бессильного объекта неведомых космических сил, бросая подлинно человеческий вызов идее предопределенности, стремясь доказать и в своей жизни, и в своем учении возможность героической мудрости в эпоху, когда все оказалось в прошлом. Но проходя в границах античного мышления, эпикуровская философия неизбежно приходит к тем же положениям, что и вся новая рациональность. "Страдание" - мотив богоборчества. "Счастье" - мотив примирения с небесами. Поиски счастья у Эпикура влекли его на те же пути отрешения от мира, что и его предшественников и современников. Эпикур приходит к простому и ужасающему в своей простоте выводу, что главное для человека - не голодать, не жаждать, не зябнуть, не стоять с протянутой рукой, не подбирать отбросы на рынке, не валяться в канаве, не бросать на верную гибель своих детей. Эпикур понял, что счастлив тот, кто может довольствоваться малым. Но от мысли Эпикура ускользнуло иное - тот, кто может довольствоваться малым, сможет удовольствоваться еще меньшим, и нет границ этому умалению. Тот же, кто не может удовольствоваться малым, не удовольствуется ничем, ибо бунт - это требование невозможного. Абсолютность требования - вот чего не хватало эллинистически вялой мудрости Эпикура, и потому его философия есть лишь слабый отблеск героической мудрости. В то же время его философия есть единственное направление, на котором этот отблеск еще лежит. В глубине своей иссякающей души Садослов не мог заглушить прорастающие сомнения: можно ли быть действительно счастливым, зная, что вся земля живет, страдая, и что ни ты, ни кто-либо другой не в силах уменьшить эти страдания? Индивид, выращенный в саду Эпикура, помнит о своей героической сущности и в желании сохранить свою свободу героизма и свою сущность богоборца замыкается в эпикурейском блаженстве в силу невозможности осуществить идеал героя в этой измельчавшей жизни. Эпикуреизм и стоицизм - два полюса греческой угасающей жизни, где Эпикур - умирающее прошлое героизма, а Зенон - будущее, примиренное с небом античной неволи. Стоицизм был философией космополитической по преимуществу, возвышавшейсяь над всякими национальными подразделениями и проповедовавшей всеобщее братство людей и их духовную свободу в мире тотальной несвободы. У стоиков термин "логос" впервые получил неизменный смысл универсального вселенского Разума и тем самым окончательно отторг от себя человека. Идею Логоса стоики популяризировали и развивали так подробно, что все последующее учение о Логосе в Александрии, в Малой Азии, в Греции и Риме стоит в несомненной связи со стоицизмом и его терминологией. Этический мотив стоицизма несомненно имеет преобладающее значение во всем строе этой философии и всецело основан на традиционном аполлоническом рационализме, душеспасительность которого способна удовлетворить только высоколобого интеллектуала. Неоплатонизм в этом смысле был более плодотворной попыткой дать некую сотериологическую теорию, затрагивающую и разум, и сердце человека. Из дельфийско-орфических корней, с неуклонной последовательностью и существенной верностью первоначальным религиозным интуициям, развивается в эллинизме то умозрение о метафизической природе Аполлона и Диониса, которое в форме, близкой к философеме, школа неоплатоников нашла в греческой мистике более или менее определившимся. Согласно этой концепции, Аполлон есть начало единства, сущность его - монада, тогда как Дионис знаменует собой начало множественности - миф, исходящий из понимания божества как живого всеединства, отражает это обстоятельство как растерзанность, страдательность бога. Бог строя, со-подчинения, согласия - Аполлон - есть сила связующая и всесоединяющая; бог восхождения, он выводит из разделенных форм к объемлющей их верховной форме, от текучего становления к неподвижно пребывающему бытию. Бог разрыва - Дионис или, точнее, Единое в лице Диониса, - нисходя, приносит в жертву свою божественную полноту и цельность, наполняя собой все формы, чтобы проникнуть их восторгом избыточествующей жизни, переполнения экстаза. Но экстаз не может быть долговременным, и от достигнутого этим экстазом бесформенного всеединства Дионис вновь обращает живые силы человека к переживанию разделенного бытия в новых и новых формах, пока волна дионисийского прибоя не смоет последних граней индивидуальности, погружая ее тайнодействием смерти в беспредельный океан Единого. В эллинизме завершается переход от философии к богословию. Умственность эллинизма движется к посредству между философией и религией, к универсальной философской религии и положительному религиозному гнозису. Перед эллинистической сотериологией стоит задача согласования философского теизма с наружным, экзотерическим поли-демонизмом, которую она разрешает в переходе от отвлеченного монизма к монизму конкретному. Но и здесь лежит то непреодолимое препятствие для всей античной сотериологии, которого не в состоянии преступить самый утонченный античный ум, - такой переход невозможен в силу того, что понятие Единого Бога по необходимости остается безличным, отвлеченным понятием, которому в действительности не соответствует никакое реальное представление, никакое действительное начало. Для античного ума божество вообще, которое не есть ни Зевс, ни Аполлон, ни какой бы то ни было другой бог, не имеет никаких конкретных определений или отношений, но есть лишь абстракция, предмет утонченного умозрения. Эллинизм в этом смысле есть торжество греческого рационализма, в самом своем триумфе ощущающего свою ограниченность. Эллинизм - это героическая тема античного интеллектуала, непрерывно переваривающего свое бессилие; это ставший публицистикой цинизм, нашедший примирение свободы и необходимости в мудрости типа "добровольного судьба ведет, а непослушного тащит"; это стремление углубиться в свое человеческое тело или же унестись за тридевять земель от "быта", от раболепия перед правителем, перед всеми этими птолемеями, от самой действительности; это мучительная жажда чуда, которое одно способно вырвать человека из тисков природных закономерностей; это эклектика; это бессильная и безрадостная критика прошлого. Философ эллинизма - это комментатор, корректор и библиотекарь, хранитель сокровищ, не им созданных. Да и что остается делать этому философу, если не следовать рецептам прошлого, где так тонко различаются отсутствие потребности от воздержания, воздержание от равнодушия, равнодушие от покоя души, а покой души от недостижения, как будто все эти нюансы не обозначают одной и той же сути. И вся эта возвышенность и утонченность ума живет в век господства религиозного сумбура, ученого универсализма, музейной науки и площадного суеверия, всеобщего синкретизма, смешения всех обрядов и обычаев Востока и Запада, среди непрерывной ярмарки, где поклоняются Случайности, в век, когда великий эрос Платона смешон, когда уже утихла боль от вины за смерть Сократа, когда сама трагедия уже никому не нужна. Трагедия теперь стала развлечением, забавой. А для очищения есть бани и врачи. Зритель теперь требует от театра сокрушения и умаления былых богов и героев, и на потребу публики героический идеал умаляется и осмеивается, свидетельствуя, что бесповоротное поражение героического духа свершилось. Трагическая мудрость, став философией, изжила себя в примирении с небом. "Бог действительно умер".
ИТОГИ
С рождением греческой цивилизации родилась не только античность, вместе с нею из недр Востока явился Запад как метафизическое единство богоборчества и сотериологии. Походы Ксеркса были попыткой возвратить отступников Востоку, наказать ересь богоравности, так понимали дело и сами греки, сражавшиеся при Марафоне. До Марафона греческая история оставалась еще всецело национальной, как вполне национальны были досократовские мудрецы, решавшие вопросы национального бытия, бившиеся над решением метафизических проблем, актуальных в то время только для греков. И только с завершением - осуществлением - национальной идеи с реформами Клисфена, с Марафона, с появлением софистов греческая история становится европейской и греческая мудрость становится европейской философией с ее особым пристрастием к личностной субстанциональности. Греки так и не стали по-настоящему единой нацией. Говоря на одном языке, поклоняясь одним богам, они тем не менее оставались политически разобщенными и в конце концов стали в силу этого легкой добычей более единого завоевателя. Причина этой разобщенности и в самой национальной идее греков - идея богоравности требовала отъединенности, отдельности, автономности. Каждый полис на протяжении всей истории классической Греции упорно цеплялся за свои традиции, своих богов и свой государственный суверинитет, стремясь во что бы то ни стало сохранить свою самозаконность. При этом они отчетливо осознавали свою причастность к тому метафизическому опыту, который повелительно требовал именно этой раздельности: быть «автономным», «автаркичным» - это идеал полисного устройства, и идеал философской жизни. И хотя вся греческая метафизика в своих эллинистических формах стремится к прорыву исторически заданного ей, ее сотериологический порыв к внутренне непротиворечивой теодицее не выходит за пределы того, что открылось греческому духу в его фундаментальной интуиции первоначального хаоса, не выходит за пределы мира как такового. Античная религиозность имеет знание об "Отце богов и людей", но "Отец" этот так же принадлежит миру, как и космос, им знаменуемый. Ибо античный человек знает и о власти судьбы над всеми, включая высших богов, и потому высшие силы греческой метафизики не противопоставлены миру, а образуют его первооснову. И даже когда античный философ пытается мыслить абсолютное божество свободным от несовершенства, как "чистое бытие", которое кажется отделенным от всей конкретности, он сводит множественность познаваемого к последнему и неизменному - как щит, выставленный против бренности мира. Так, и "благо" Платона, Первосущность, не отделяется от вселенной, а остается ее вечной частью. Неподвижный двигатель Аристотеля обретает свой смысл лишь в целокупности бытия именно этого изменчивого мира; предельно напряженное усилие Плотина вырваться наружу из мира сущего - Единое - остается все же крепко к этому миру привязанным: оно исток, из которого изливается поток множественности, оно же и цель, к которой этот поток устремляется в обратном движении, направляемый эросом и очищением. Античная идея эманации божества исходит из самоочевидного: Бог должен быть в мире, должен присутствовать в нем, пронизывать его своей благостью, быть "все во всем". Для античной мысли, как и для всякой мысли вне Само-Откровения Бога, проблемой является не бытие Бога, а способ присутствия Бога в мире. И до Откровения Бога о Самом Себе эта интуиция разрешается признанием имманентности Бога миру. Неизбывный натурализм и космологизм эллинистической мысли с особенной остротой и силой сказался в эпоху тринитарных догматических споров, когда столь тяжело давались различения внутренних тайн Божественной жизни и тайн Домостроительства, тайны рождения предвечного Бога-Сына от тайны творения мира. Античная мысль и здесь не могла преодолеть представлений о Божестве как об имманентной космической силе и о Провидении как о законосообразной сплошности мира. Греческая религия не имела своего Священного писания и своего Откровения в узком смысле слова именно в силу отвлеченного, абстрактного способа, каким она понимала Бога. Безличный космос греков формировал и столь слабый интерес к проблемам личностного субстанционализма, каким он известен из античных теорий личности: когда Бог не есть Личность, тогда и человек лишается возможности мыслить свою персону субстанционально. Эта отвлеченность определила и тот характерный античный дуализм, от которого эллинистическая мысль не смогла избавиться. Божество вообще, античное Единое всегда несло в самом себе свою границу в самой своей отвлеченности. Там, где оно не сливалось с миром, не растворялось в мире, оно ему противопоставлялось. Но в самой идее телесной субстанции не заключалось оснований для различения противоположных начал. Противоположность была задана, но философски ее нельзя было свести к единству субстанции и отрицать один из ее моментов в пользу другого. По примеру Платона можно было мыслить одно отрицательным, а другое положительным, но это лишь обостряло дуализм, поскольку отрицательное нельзя свести к положительному. Античное понимание абсолютного не конкретно. Конкретное абсолютное не отрицает относительное, но обосновывает относительное в самом его отличии от себя; абсолютное есть не относительное, но сверхотносительное начало, которое не отрицает отличное от себя, а заключает в самом себе потенции своего другого. Отвлеченное же понятие об абсолютном ограничивается лишь противопоставлением его всему относительному. Такое понятие противоречиво, ибо, отличая абсолютное от относительного, мы все же устанавливаем какие-то связи между ними. К тому же такое понятие и ложно, ибо абсолютное, противопоставляемое чему-либо внешнему, есть мнимое абсолютное. Такое понимание абсолютного как отвлеченного составляет предел всей античной мысли вообще, над которым она не может возвыситься до тех пор, пока в своей сущности хочет оставаться античной мыслью. Этот мыслительный предел обусловливает и весь высокий трагизм античной мысли: она не находит Бога, безусловно достойного поклонения, Который мог бы вступить в совершенный союз с человеком и дать ему в таком союзе начало совершенной жизни и уверенность в искуплении. Эллинизм как умонастроение определен темной тоской усталого и одинокого духа, не нашедшего Бога Живого ни в аскетизме, ни в отречении от мира, ни в культе, ни в философии. Сама философия со своим философским божеством капитулировала перед демонологией народных верований, пытаясь дать рационально обоснованное суеверие. Но высота античного трагизма определена именно невозможностью обретения бога без самодоказательства Бога. Сотериология античности страстно искала Бога, в Котором заключались бы "истина, путь и жизнь", но она не могла знать Его, ибо все, что подсказывают человеку его плоть и кровь, не выходит за пределы творения и, следовательно, не может знать истинного Бога. Здесь необходимо явление Самого Бога, а не только отвлеченный греческий логос. И этого Явления требовала не только философская мысль, но и человеческое сердце, не искушенное в философских спекуляциях. Этого требует фундаментальная человеческая интуиция о Боге. Античная мысль пыталась найти путь удовлетворения этого требования и искала откровений в своих старых суевериях, своих оракулах и богах, не замечая, что ни один из них не может претендовать на абсолютность. Ибо мистический синкретизм, свойственный греческому мышлению, свидетельствовал в пользу того, что боги - люди. Отсюда и неустранимый антропологизм греческой метафизики. Человеческое обожествление есть вполне сознательное богоборческое стремление всей античности, к нему она движется, изживая "смерть бога", в целеустремленном религиозном реформаторстве, в опыте трагической мудрости, не основанной на божественных откровениях, в переживании мира как неволи, в стремлении к богоравности всех граждан полиса. В этом противоборстве бунта и сотериологии вся античность раскрывается перед нами как великая религиозная смута, так и не нашедшая своего внутреннего разрешения в законченном религиозном культе, так и не сформировавшая внятной теодицеи, так и не сумевшая удержаться на той высоте богоборчества, которая была дана в самом начале греческой истории. Язычество вообще не способно решить дилемму: или боги недвижны и бесстрастны, и тогда вся греческая религия есть лишь народное суеверие, или боги - существа, подверженные страстям, и тогда они не абсолютные сущности. Ни дельфийская догматика, ни орфическая реформа не объединили в одно целое изначальной анархии верований. Оба потока, соединенные в одном русле всеэллинской религии, - Аполлон и Дионис - никогда не соединились до конца. Гармония не превозмогла Хаоса, но и Хаос не поглотил Гармонию. В своих итогах античное мышление не устояло в "смерти бога" и не преодолело богоутрату. Первое трудно, ибо обрекает народ на историческую неподвижность, для которой нужен другой национальный характер, чем у греков; второе невозможно вне Откровения Бога о Самом Себе. Греческое богоборчество трагической мудрости стало рационалистической сотериологией, ищущей пути примирения с небесами. Этот путь закончился в эллинизме самым диким мракобесием и самой пошлой магией, ибо примирение с Богом, который не есть Любовь, есть ложное примирение, есть неизбежное рабство миру и оправдание необходимости зла. И чем напряженнее античная мысль от Пифагора до Плотина искала мир с небом, тем более античный дух удалялся от своей сущности богоборствующего духа вплоть до того момента, когда, обессилев и истощив свои равноистинные религиозные порывы во взаимной борьбе, Аполлон и Дионис нашли примирение уставших в неоплатонизме. Но если грекам и не удалось удержаться на высоте своего трагизма (это не удавалось еще никому), у них хотя бы хватило религиозного чутья искать Бога Живого и религиозного вкуса мыслить гомеровское время как свой потерянный рай.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: Я ЕСТЬ БОГ
БОГ-ЛИЧНОСТЬ
Античное мышление к концу своей эпохи превращается в диалектику небывалой ранее персоналистической онтологии: изживая "смерть бога", оно, ведомое логикой богоутраты, приближается к открытию в божественном и человеческом личностного содержания. В классической античной диалектике максимальная общность, свойственная Первоединому, ровно никакого отношения к личности не имеет, и еще Плотин пишет целые трактаты об отсутствии сознательно-целевой направленности в эманации Первоединого. Абсолютное, как его понимает античное мышление, есть материальный космос, пребывающий в вечном круговращении, то обращаясь в хаос, то возвращаясь к той же самой структуре. В этом понимании нет места личности, если понимать личность как нечто единое и неповторимое. Все существующее для античности, в том числе и личность, является лишь истечением безличного космоса. Эманация и субординация, присущая космическому целому, необходимо мыслится и в рассуждениях о личности, которая возможна здесь только как результат того или иного изменения космоса, поскольку не обладает никаким своим вечным и неразложимым содержанием. Античность весьма богата рассуждениями о личности атрибутивной и вовсе лишена интуиции о субстанциональной личности. Античным богам и героям свойственна только такая личность, которая вовсе не субстанциональна, а только идеальна или только материальна. Именно опыт "смерти бога", столь полно пережитый античным мышлением, требовал понимания личности в ее существенной зависимости от ее вещественной стихии, от тела. За всеми античными рассуждениями о личности стоит в качестве окончательной причины строго-внеличностный космос. Позднеантичная метафизика - это уже солнечный монотеизм, где все языческие боги становятся множественным проявлением одного верховного бога Солнца. Определенность религиозной формулы не мешала античному уму проповедовать одновременно и абсолютный синкретизм, где не только все религии провозглашались равноправными, но и за каждым человеком признавалось право на личное восприятие Бога. Помимо защитной реакции на христианство, этот синкретизм питается еще и новым опытом личности. Позднеантичный монотезм в этом смысле не является неким противодействием наступающему христианству, как не является он и беспомощной агонией отжившего свой срок верования перед лицом нового и молодого, он представляет собой ту форму, в которой самостоятельно находило свои пути выхода богоборчество античности, двигаясь в сторону личностных аспектов истолкования своего Единого. Если классическая античность мыслила Единое оформлением множественности, Единое как философское понятие, рассматриваемое в своей абстрактной всеобщности, то принцип позднего языческого монотеизма связывал Единое с одним богом, сознательно синтезируя диалектику и мифологию. При этом не мифология служила своего рода иллюстрацией диалектики, а диалектика становилась внутренним инструментом превращения мифологии в монотеизм. Из монотеистической идеи естественным путем вырастала идея Бога-Личности. Для нас весь этот процесс проходит как бы в тени утверждавшегося в это время христианства, для которого идея Бога-Личности есть фундаментальное знание, полученное из Самооткровения Бога. Но как бы ни заслонял этот факт самостоятельности движения античной мысли, оно представляет собой то обстоятельство, на основании которого только и возможен был триумф христианства, каким за три с половиной столетия развития новой веры завершился античный мир. Ведь эти новые христиане в своей до-христианской жизни прошли школу языческого мышления, некоторые даже долгое время преподавали его приемы и методы. И только самостоятельно пробившая себе дорогу идея Личности в умах поздних античных мыслителей давала им возможность узнавать искомую правду Самооткровения Бога и принимать новую религию. Именно сознание недостаточности Единого, отсутствия в нем личностных аспектов приводило их в ряды христиан. И если представить непредставимое - представить, что не было бы в это время Самооткровения, - то и тогда бы античная мысль пришла бы к идее Личности. Христианство "всего лишь" наложило на языческую интуицию свою печать, удостоверяющую ее истинность. Поэтому не следует думать, что идея Личности есть нечто, пришедшее извне и разрушившее античную метафизику. Отсюда следует, что неверно также трактовать приход средневекового образа мысли на смену античному как приход христианства на смену язычеству. Христианское учение о мире и человеке, о Боге и творении как деактуализация язычества принадлежит сфере Священной истории, в то время как смена античного миропонимания средневековым находится целиком в ведении истории нигилизма, ибо христианство не есть некий образ мысли в равнозначном ряду других способов мышления о Боге, но самораскрытие Истины. Средние века были не более христианскими, чем все остальные. Дело не только в том, что католицизм был еще далек от окончательной разработки своей догматики, самая строгая ортодоксия разрешала себе тогда гораздо больше вольностей, чем после реформации. И не столько в том, что на зыбкой границе, где христианская ересь вырождалась в противостоящую христианству религию, древнейшее манихейство сохраняло своих приверженцев. Приходское духовенство, вербуемое без должного контроля и плохо образованное, оказывалось не на уровне своей задачи. Наряду с этим религиозная жизнь питалась многими верованиями, которые были завещаны язычеством. Прекращение гонений и официальное признание новой религии сначала полноправного, а потом и господствующего характера, произвело в большей части перемену к худшему. При Константине Великом к христианству привалили языческие массы не по убеждению, а по рабскому подражанию или корыстному расчету. Явился небывалый прежде тип притворных христиан. Он еще более умножился, когда при Юстининане язычество было запрещено законом. Из образовавшихся таким образом христиан по убеждению и христиан поневоле существовало множество переходных оттенков. Но все этого без всякого различия было прикрыто организацией внешней церкви. Христианство словно бы растворилось в языческой громаде. Преобладающее большинство притворных христиан не только сохранило верность языческой религии, но сознательно или бессознательно старалось утвердить рядом с христиансвом старый языческий порядок. Здесь и была положена первая основа того христианско-языческого компромисса, который определил собою средневековую жизнь. В пользу сущностной самостоятельности перехода от античности к средневековью говорит и тот факт, что новое ощущение личности могло сопровождаться, а могло и не сопровождаться уверованием в Иисуса Христа, как это видно, например, из учений гностиков или герметиков. Главное в этих учениях - это выдвижение личностных интуиций в противовес чувственно-материальным интуициям античности. Абсолютная личность и абсолютный материальный космос представлены здесь во всем своем мучительном противоречии. Борьба этих воззрений с христианством составляет сущность той пропасти, которая существует между средневековьем как эпохой европейского нигилизма и Священной историей, свершавшейся через средние века. И пусть эти и им подобные антихристианские направления мысли есть попытка мыслить человека как некое личное божество (а это и есть сущность антихристианского понимания личности), пусть слишком сильны во всем строе этого мышления старые дрожжи языческого героизма, для нас важнее то, что сознание человека конца античности есть сознание, в которое входит личностная идея, разрушая античный универсум эманационного пантеизма не извне, а изнутри античного трагизма. Так, герметическая философия была, во всяком случае, креационизмом, но вовсе не эманационным пантеизмом или метафизическим дуализмом. Сущность герметического взгляда на мир есть персонализм. Герметические авторы вовсе и не думают оставаться на внеличностном характере божества, подобно неоплатоникам. Абсолютное для них не только "тонкое интеллектуальное дыхание". Оно везде именуется Отцом, рождает своих сыновей с их определенными функциями, оно рождает первочеловека и радуется своему созданию, оно разрешает человеку возноситься вверх и вступать в брак с природой. Помимо этого, оно является предметом молитвы, оно жалеет человека, спасает его и возводит к себе. Здесь перед нами не просто неоплатоническое Единство, но самая настоящая Личность, универсальная и надмирная. Это единое и вполне личностное божество увлекается в свои же собственные создания и начинает действовать в них уже не как абсолютная личность, но как личность ограниченная. Она принимает на себя все человеческие черты, как положительные, так и отрицательные; это натуралистический персонализм. Здесь сверхбытийный и непознаваемый бог рождает из себя уже реально существующего, мыслящего и познаваемого, а также мыслящего и познающего первочеловека. Он тоже есть бог. Такое предвечное богочеловечество выговаривает осознанную потребность античного ума мыслить божество как единую и абсолютную личность. Гностицизм также мыслит характер самого "я" человека божественным. У гностиков существенно ощущение личности как чего-то неразложимого не только на вещи и тела, но также на душу и на дух. Кроме того, полноценная личность существует только там, где она схватывается и в своем собственном теле, хотя это тело уже не является для гностиков другой субстанцией. Гностицизм переживал острейшее чувство плененности человеческого "я", и это переживание, несмотря на свой античный характер, все же достаточно ново для античного человека в силу той новизны, которую придавало этому переживанию чувство личности. Гностический порыв есть стремление сбросить с себя оковы своего темного телесного существования. И пусть гностический персонализм есть персонализм весьма сниженный, сниженный до чувственно-материального космологизма и до фактически ограниченной человеческой личности, но этот персонализм не известен классической античности. У гностиков хватило смелости учить о богочеловеческой личности, но не хватило силы довести эту богочеловеческую личность до материальной, земной и физической области. У них также не хватило смирения признать земное богочеловечество Христа. Человечески бытовое снижение абсолютной личности обязательно означало также и преувеличенную оценку человеческой личности, то есть уже не нуждалось в земном и телесном богочеловеке Христе. Христианская ортодоксия представлялась гностикам как что-то чересчур материальное и чересчур экзотерическое, ибо сами гностики учили о спасении не всех людей, но избранных, а именно - их самих, умозрительных пневматиков. Но именно на этих путях совершился переход античного нигилизма в нигилизм средневековый. Гностические умозрения выводили и к правилам обыденной жизни: полная свобода от каких-либо принципов, теорий, воззрений, запретов. Гностицизм разветвляется в двух направлениях: гностики одного стремятся к чрезмерной одухотворенности, гностики другого погрязают в этическом анархизме, не останавливаясь ни перед какой формой разврата. Представители гностицизма разделяются на энкратитов (воздержанных) и антитактов (противников порядка и законности). Эти последние грешили по убеждению. Как тесно соприкасаются распущенность и одухотворенность видно на примере архонтиков, где одна и та же секта распадалась на энкратическое и антиномическое направления. Гностики на практике изживали и проверяли на крепость все измышления своей теории в свете открывшейся им категории личности. Новая личность проверяла здесь своя «я есть бог», доводя свой эксперимент своеволия до самых крайних пределов.Считалось, что если задача гностика есть достижение знания, а знание о вещах само вовсе не есть вещь, то тот, кто обладает знанием, тем самым свободен от подчинения вещам и каким бы то ни было установлениям действительности. Эта свобода сообщает новому человеку - человеку средневековья - ту уверенность в своем "я есть бог" и ту степень независимости от мира, когда его божественность может проявиться на путях своеволия. Чаемая свобода античного человека осуществилась, и новое умонастроение открыло и новую историческую эпоху. Средневековье - это принцип личности. Личность есть единственная и неповторимая единичность, предполагающая обязательное наличие других таких же единичностей, от которых она чем-нибудь отличалась бы и без сравнения с которыми не имела бы своей специфики. С другой стороны, существование этой единичности предполагает, что существует единичность вообще, то есть универсальная единичность, без сравнения с которой каждая отдельная личность не была бы чем-нибудь единичным. Августин первым назвал неоплатоническое единство Личностью. Для языческих неоплатоников это Первоединство, конечно, тоже было личностью, но, не имея опыта личности, они понимали свое Первоединство математически, эстетически, понятийно, не давая ему никакого собственного имени и никакой священной истории. Термин личность вносил во всю эту проблему большую ясность и уже навсегда преграждал путь к субординации, пусть даже личность в августиновском понимании носила все черты неоплатонического Первоединства. Это небывалое чувство личности со всей его трепетной и трагической настроенностью к миру водит рукой Августина, осмысляющего для нового мира его фундаментальный опыт. Настоящая сущность, которую Августин понимает как принцип бытия, есть не просто бытие как факт существования, но именно Личность, а три ипостаси Бога есть именно три Его Лица. Личность не есть ни род, ни вообще понятие. Она связана с тремя Лицами не в порядке формального процесса ограничения понятия и уж тем более не в виде какого-нибудь вещественного сотворения. Три Лица в троичности, как бы они ни соотносились одно с другим, есть одна и та же Личность, хотя каждое из них тоже есть полноценная личность. Если Бог есть Личность, то человек получает неизвестную античности цельность, при которой уникальность каждого удостоверена Богом. Жизнь человека становится слепком библейской истории, и история предстает как единый монолог событий, возвещающий о грядущем конце мира, конце страданий, о спасении праведных, о собирании плеромы истории в лоно Божьих обетований. Путь человека лежит от смерти к жизни, от града земного к Граду небесному, от греха к праведности, от зла к добру. Заря средневековья окрашена в радостные тона утренней надежды на возможность такого устроения земной жизни, которая была бы в согласии как с Богом, так и с природой самого человека. Человек, каким он предстает перед нами со страниц августиновских произведений, - ничтожный тростник, колеблемый ветром, но он черпает свое "я есть бог" из сознания своей удостоверенности, идущей от Бога, с самих небес. Рожденный на краткий миг, бессильно уносимый быстротекущим потоком времени и обрекаемый им на неминуемую гибель, он в своем сознании обладает вечностью, ибо взор его может витать над бесконечным прошлым и будущим, может знать вечные истины и вечную основу мира. В своей разумности он ощущает свою принадлежность к миру иному и свою неподчиненность бессмысленным силам этого мира, он имеет соприкосновение с чем-то иным, некую точку опоры, подлинную и нерушимую. В своей разумности он имеет знание об этом вечном, сознает действие сверхприродного, действие Бога. В нем открывается ему особое сверхэмпирическое пространство и очевидность самого бытия. И вместе с этим сверхприродным бытием его самого средневековый человек открывает в себе нечто гораздо большее - самоочевидное и в себе утверждающееся бытие самой Истины, хотя пока и в форме только теоретического знания. Ведь в акте познания не из человека рождается знание, оно только узнается как нечто независимое от познания. Поэтому не бытие человека есть в этом размышлении первая и самодовлеющая ценность и самоочевидность - оно само не могло бы раскрыться взору человека, если бы в самом бытии не было Истины, которая озаряет человеческую жизнь. Этот свет Истины средневековый человек познает как единый для всех, ибо нет ничего принципиально недоступного человеческому знанию; этот свет Истины не есть что-то человеческое, ни что-либо от мира, ни что-либо обусловленное, - не исчерпывая полноты Бога, этот свет есть Его отблеск и обнаружение в человеческом бытии. Вместе с бытием человека здесь обретается самоочевидная укорененность человека в Истине. Ибо всякий постигающий, что он сомневается, сознает нечто истинное, то есть уверен в том, что он постигает, то есть уверен в том, что есть нечто истинное, в чем он не сомневается, а нечто истинное не может быть таковым иначе, чем в силу Истины. Так простой и неприметный факт общеизвестного знания удостоверяет человека средневековья не только в собственном бытии, но и в бытии сверхмирового начала. Здесь приоткрывается наличие абсолютного бытия и истинная принадлежность человека к этому бытию. Здесь еще умонастроение идет рука об руку с рождающейся идеологией, здесь еще ересь не отделена от ортодоксии, ибо и Сам Бог-Личность еще никак не проявил Себя в делах человеческих, а только возвестил о Себе; здесь все сомнения, все недопонимания и все трагическое затоплено радостью обретения нового Бога, радостью Богопознания. Здесь личность - это универсум духовной природы, наделенный свободой выбора и составляющий, в силу этой свободы, независимое целое по отношению к миру, так что ни природа, ни государство не могут покушаться на этот универсум без его согласия. И сам Бог, который есть и действует в этом внутреннем мире, действует здесь с особой деликатностью, ибо Он уважает свободу в человеческом сердце; Он Сам живет этой свободой и, домогаясь человеческой свободы, никогда не принуждает. Развернутое понимание личности приходит к пониманию себя как неповторимой единичности, которая, соотнося себя с самой собою и со всем другим, есть специфическое тождество общего и единичного, души и тела. Без этой предельной обобщенности и предельной единичности личность не могла бы соотносить себя ни с самой собою, ни с чем другим, а без этого соотнесения личность вообще не могла бы быть личностью, поскольку ее положение в мире определял бы кто-нибудь другой, но не она сама. В средние века это самосознание личности выражалось еще не в индивидуалистической рефлексии, а в самом движении метафизической и теологической мысли. Средние века дают нам целую галерею несравнимых друг с другом мистиков, в которых самосознание это выражено на языке символического откровения и экстаза, но никогда не на языке индивидуализма. Мистика средневековья понимает мистический акт как акт творческий, как высшее проявление личности, тем самым связуя этот акт с самопознанием, с обнаружением в субъекте, понимаемом как символ Бога, того, что составляет для субъекта необходимое условие самой возможности быть символом, - внутреннего родства с символизируемым. Самопознание есть богопознание - это уравнение лежит краеугольным камнем в здании средневекового мистицизма, покоясь на фундаменте мистики гностического толка. Вся эта необычайно напряженная мистика возможна только перед каким-то Лицом, пред Ликом, Который может быть предметом человеческого общения, Который может коснуться человеческой души Своими интимными прикосновениями. Вся эта апофатическая музыка души есть как бы упоение благодатью, исходящей из этой неведомой, но интимно-близкой Личности. Она движется потребностью достигнуть положительных основ, чтобы общаться уже не со слепым становлением вещей и даже не с самими вещами, а с Личностью, Которая ясно дает знать Себя и знает иное, Которая способна к разумной жизни и человеческому общению. Это мысль средневековья в самом существе ее первичной интуиции.
ПЕРЕХОД
Средневековому человеку не нужно было объяснять всю эту метафизику личности - он получал это знание во всей его целостности вместе с землей. Сама земля говорила ему о том, что он уже не слепое орудие внеразумных сил, а сознательное единство воли и духа. Способы, какими интуиция личности связана с метафизикой земли, во многом таинственны, но они есть, и они определяют не только жизнь человека земли, но и характер цивилизации, основанной на интуиции личности. И потому, имея глубинную, непосредственную связь с вопросом о земле, с правом собственности на землю, идея личности, преподносившаяся античному уму, обрела свою плоть именно в сфере маргинального для античного сознания крестьянина. У неспециалистов феномен гибели античности обычно вызывает в памяти драматичные картины: орды варваров штурмом берут города, убивают, насилуют. И хотя все это имело место, но вовсе не было типичным. Даже потрясшее весь античный мир взятие Рима Алларихом в 410 году не сопровождался особо страшными эксцессами - вождь готов отдал строгий приказ: грабить можно, убивать нельзя. В большинстве своем варвары уже были христианами арианского толка, что, разумеется, в большой степени определяло характер их действий. Более типичным было мирное проникновение варваров на территорию империи. Их принимали, давали участки земли или же брали на государственную службу, где они нередко достигали высоких ступеней. Когда наемные солдаты в 476 году лишили власти императора Ромула Августула и отослали знаки императорского достоинства в Константинополь, этот факт остался едва замеченным. Бывшие провинции чисто номинально признали власть константинопольского императора, и жизнь в них продолжалась своим чередом: прокураторы собирали налоги, префекты решали в судах гражданские дела, квесторы вели приходно-расходные книги, курульные эдилы покрикивали на базарах, чтобы не было воровства. Никому и в голову не приходило, что он вступал в «средние века». Хронологические границы Средних веков охватывают время с V по конец XIV веков. Между разрушением рабовладельческой формации, прошедшим свою решающую фазу еще в III-IV веках, и сколько-нибудь осязаемым нарождением феодальной формации к VIII веку лежит широкая - в полтысячелетия - полоса. На средневековье как бы падает тень рабовладельческого прошлого, тень античного мышления, медленно прощавшегося со своими идеалами. Рушились многовековые устои, отменялись освященные временем традиции - и боги не карали преступников. Воистину боги потеряли власть и силу над людьми. Воистину "бог умер". Из мироощущения человека той эпохи исчезло главное - вошедшее в плоть и кровь многочисленных поколений ощущение, что твой город есть единственный на свете, начало и конец твоего бытия, что только здесь ты защищен непосредственными правами гражданства, родней и друзьями, законами и стенами. Стены оказались ненадежны, а права граждан мог купить любой вместе с землей. Полис стал космополисом, община - населением, и это значило, что античный мир, античность как особая духовная фаза в истории кончилась. Античность постепенно разрушалась, и когда распад ее определился окончательно, начался тот предсмертный кризис, который заполнил собой целую эпоху - эпоху перехода от античности к средневековью. Историки, изучавшие средние века, много рассуждали о происхождении Средневековья. Знаменитый спор "романтиков" и "германистов" был рожден стремлением найти родину того уникального состояния человеческого духа, которое мы сегодня называем "Средневековьем". Стремление найти предпосылки средних веков в предшествующей эпохе невольно сводило проблему сущности средневекового духа к вопросу об истоках феодальных отношений. Но даже знание этих истоков не дает нам в руки то знание, которое скрывается внутри средневековой цивилизации, ведь качественные сдвиги, произошедшие на грани античности и средневековья, создали нечто отличное от того, что мы именуем античной ментальностью. Узнавание сущности эпохи не равно поиску преемственности. Конечно, характерный для средних веков общественный строй существовал в том или ином виде еще на предшествующей стадии, и исторически переход от античности к средним векам знаменовался лишь постепенным преобразованием и укреплением порядков, которые вошли в сущность средневековья как неотторжимая символизация человеческого духа. Эпохи не отделены друг от друга подобно главам в книге. В историческом бытии новое всегда переплетено со старым. Но европейское средневековье не является суммой архаических пережитков. Оно возникло сразу - как умонастроение, отталкивающееся от опыта античности, само в себе оно есть нечто цельное, законченное, раз и навсегда определившее свои пристрастия и антипатии и в историческом бытии лишь развертывающее их с упрямой последовательностью знающей свою правоту духа. Средневековый дух вообще не ограничен классово, он включает в себя все слои, не исчерпываясь лишь аристократическим, рыцарским фасадом: сеньерия, господское владение много старше феодализма в узком смысле слова, и эти отношения надолго переживают средневековье как исторически сложившееся умонастроение, но именно в этот период ленный строй и сеньерия объединяются со многими другими факторами в то неповторимое своеобразие, которое нам известно как средневековая цивилизация. Именно новая ментальность, основанная на идее личности, пронизывающая все аспекты юридических, художественных, семейных, религиозных отношений, определила историческую индивидуальность средневекового общества. Поместная организация хозяйства с крупными землевладельцами и зависимыми крестьянами, воинский строй тяжеловооруженных всадников не есть лишь средневековые особенности. Однако крупное землевладение древнего Востока или императорского Рима не превращалось в феодальное, а сидящий на коне воин тем самым не становился рыцарем. Уникальной в истории была специфическая природа этики, системы ценностей и ментальности, связанной с принципом служения, которое не превращало низшего в раба, оставляя место для свободы каждого. Средневековая ментальность основывается на умонастроении, сущностью которого является миропонимание, рождающееся из непреложной уверенности в абсолютной ценности личности. Римская империя не погибла от каких-либо внешних причин - ни от многочисленности варваров, ни от недостатка умных и деятельных политических руководителей. Античность как историческая форма человеческого бунта прекратилась в силу внутренней изжитости богоборческого импульса, рожденного "смертью бога", и необходимости перехода к новой форме общежития, основанного на умонастроении, логически вытекающем из античного миропонимания. Восстановление крестьянского сословия было первым шагом на пути изживания античности. С расселением обитателей казарм по крестьянским хижинам производство для сбыта должно было исчезнуть. Нити обмена, протянувшиеся поверх натурально-хозяйственной основы, постепенно истончились и порвались. Уже поздние римские писатели-агрономы советуют по возможности устраиваться так, чтобы труд принадлежащих к поместью людей покрывал все потребности поместья и делал покупку чего бы то ни было излишней. Если женщины помещичьего двора издавна пряли, ткали, а также мололи и пекли, то теперь и все кузнечные, плотнические, токарные и другие работы совершались при помощи несвободных крестьянских работников. Вместе с тем еще больше терял свое относительное значение и тонкий слой городских свободных рабочих: передовые в экономическом отношении хозяйства землевладельцев покрывали свои потребности путем натурального хозяйства. Покрытие собственных потребностей путем разделения труда постепенно становится все более главной хозяйственной задачей. Большие изменения подрывают связь имения с городскими рынками. В соответствии с этим масса средних и мелких городов все более теряет почву, питавшую их хозяйственную жизнь. Этому падению городов способствует также финансовая политика государства, приобретающая все более натурально-хозяйственные формы. Большим сдвигом было также и то, что исчез главный источник спекуляций - сдача налогов на откуп, заменившийся теперь непосредственным взиманием налогов государством. Поставки хлеба государство обеспечивало путем земельных раздач, вместо того, чтобы прибегать к услугам предпринимателей. Выгодна в финансовом отношении была и все развивающаяся монополизация многочисленных отраслей торговли и взятие в казну горной промышленности. Все это, разумеется, препятствовало образованию частных капиталов и устраняло всякую возможность развития того слоя общества, который соответствовал бы современной буржуазии. Развитие этой натурально-хозяйственной организации финансов совершалось по мере того, как империя изменяла свою физиономию и превращалась в государство, стремившееся объединить в одно политическое целое и организовать находящиеся на стадии натурального хозяйства континентальные области. Как феодально-сословное общество, так и феодальный способ защиты от врага - ополчение - были той конечной целью, к которой вел весь ход позднейшей римской истории. Когда пятьсот лет спустя исполнитель заветной мечты Диоклетинана Карл Великий снова восстановил единство Запада, то совершилось это на строго натурально-хозяйственной основе. Это была уже другая империя, другого народа и другого времени. Исчезло постоянное войско, чиновничество, а вместе с ним, разумеется, и налог. Своих должностных лиц король сам кормит за своим столом или наделяет их землей. Вооружающееся на свои деньги войско близко к тому, чтобы окончательно превратиться в рыцарское ополчение и тем самым - в военное сословие рыцарей-землевладельцев. Исчезает город: как административно-правовое понятие он вообще не известен эпохе каролингов. Поместья - вот носители культуры. Землевладельцы отправляют политические функции. Самый крупный землевладелец - сам король. Культура делается деревенской. Семейный очаг и частная собственность возвращены несвободной массе, сами несвободные из говорящего инвентаря переходят в круг людей, семейное существование которых торжествующее христианство ограждает прочными нравственными гарантиями. Общество того времени знает куплю и продажу, но оно не живет куплей и продажей. Вялость товарооборота и денежного обращения до крайности снижает общественную роль жалованья. Ведь выплата жалованья предполагает со стороны работодателя владение достаточно большой наличностью, а со стороны нанимающегося - уверенность, что полученные деньги он сможет тратить на приобретение необходимого. В первой половине средних веков нет ни того, ни другого. На всех ступенях социального устройства приходится прибегать к форме вознаграждения, не основанной на периодической выплате некоей денежной суммы. Это способствует установлению человеческих связей, весьма отличных от возникающих при наемном труде. Чувство привязанности у «кормящегося» к его господину куда более интимно, чем связь между хозяином и рабочим. И, напротив, эта связь неизменно ослабевает, как только подчиненный обосновывается на реальном наделе, который по естевенному побуждению начинает считать его своим собственным. При том, что система харчей не могла получить столь широкого распространения, как система наделов, неудобство коммуникаций и худосочность торговли препятствует этому. Феодальное общество постоянно колеблется между двумя этими полюсами - тесной связью с человеком и ослаблением уз при земельном наделе.
КРЕСТЬЯНИН
Средневековье пахнет крестьянином. Отношение к природе, непосредственная включенность в нее, отсутствие дистанции между человеком и его собственностью, циклическое восприятие времени, подчиненное природным ритмам, идея аналогии макрокосма и микрокосма - мира и человека - все эти существенные черты мировосприятия обусловлены аграрным характером цивилизации. Сельская жизнь с ее неторопливой размеренностью и периодической сменой вечно возвращающихся производительных сезонов была главным регулятором социального ритма общества. Предельная приверженность традиции с ее установкой на старину и враждебность ко всему новому, консерватизм всей общественной жизни, начиная от способов хозяйствования и кончая навыками мысли, устойчивость магического мышления - все это от крестьянина. Средневековый человек - это прежде всего домохозяин, хозяин своих людей и вещей, личность, взаимоотношения которой с богом и вышестоящими основаны на принципе личной верности: религиозное служение этого человека является взаимоотношением личности с верховной Личностью, и его вассальные обязательства есть обязательства, относящиеся лично к нему. Мир средневековый - мир вещный. Хозяйство средневекового феодала не имело больше вещей, чем хозяйство античного землевладельца, но именно в средние века вещи, службы, продукты, производимые в имениях и на полях, получают новую значимость как объекты личной заинтересованности хозяина. Карл Великий в своих капитуляриях не ленится перечислять все эти службы, повинности, вещи, продукты и даже травы, которые должны были быть доставлены к господскому столу, - он лично знает их, и обширность этого знания способна сделать честь любому ботанику Мир представал в своем предметном содержании как сумма вещей, требующих собирания и сохранения, где примером такого собирания и сохранения служила верховная Личность - Бог, собирающий праведников и весь спасенный им универсум. И если новое время можно в известном смысле назвать временем умножения (капитала, знаний, техники), то средние века будут временем сложения (земель, вещей,государств, богословия) - "суммой" всего. Средневековье было временем сложения - временем по преимуществу одного этого арифметического действия, в котором царствует целое число, целое, и где дробь как таковая находится под подозрением. Здесь сложение целых, равных смыслов опирается на ощущение равной важности всех частей универсума. Многим хватало умения считать до ста, чтобы прожить всю жизнь. Средневековый дух везде ищет целое, цельность, единое, он складывает, собирает, притягивает, привлекает к себе во имя универсальности. Существовала своеобразная арифметика набожности: часто семикратно повторенная молитва «Аве Мария» употреблялась даже вместо длинной вечери. Четки - живой символ этого арифметического благочестия. "Не трудящийся да не ест" - этот принцип христианства знаменовал отрицание установок античности на досуг и безделье, труд стал расцениваться в качестве нормального состояния человека, праздность же была причислена к тягчайшим грехам. Христианское учение оценивало земные установления с точки зрения их пригодности как средства приближения к Богу. Труд для крестьянина - суровая необходимость, тем не менее в средневековье он впервые предстал как признак морального достоинства. Собственно говоря, в представлениях того времени труд не выделялся в какую-то особенную категорию жизненных явлений. Согласно взглядам того времени, всякая функция, выполняемая человеком или группой, расценивалась с точки зрения ее полезности и необходимости для поддержания социального целого. В средневековой теории трехфункционального членения общества - на тех, кто молится, кто воюет и кто пашет, - труд нашел свое место наряду с воинской активностью и проповеднической деятельностью, получив тем самым высшую санкцию божественного установления. В этой системе представлений существенным было не разграничение труда на производительный и непроизводительный, а служение каждого из сословий на пользу всему общественному организму. Телеология труда включала в себя практический аспект - труд как средство богоугодности. Обогащение и накопление осуждались. Праздность - враг души, угрожающий ей всякими пороками, а труд призван обуздать своеволие плоти и способствовать выработке смирения и прилежания. Имелась в виду не столько практическая, сколько нравственная цель - этим труд допускался, возвеличивался, но в то же время и ограничивал круг одобряемых занятий. Жизнь на земле, в союзе с землей порождает некую отдельную форму ментальности, тип ментальности, тип сознания, лежащий неизмеримо глубже сословных идеалов и предрассудков. К признакам этого сознания можно отнести: самостоятельность, замкнутость на себя, своеволие в границах своей собственности, договорность как принцип взаимоотношения с окружающим миром, со всем внешним. Натуральное хозяйство, полностью обеспечивающее крестьянина и отгораживающее его от мира, с наибольшей полнотой символизирует умонастроение, выражающееся формулой "я есть бог". Здесь "я" есть символическая абсолютизация своеволия в пределах собственного ограниченного пространства. Одной из главных проблем этого умонастроения с необходимостью становится проблема определения границ, размежевания, проведения демаркационной линии между миром и человеком, между человеком и Богом на основе договоренности. Религиозность крестьянина отдает предпочтение той религии, где он защищен путем договора с высшими силами от стихийных бедствий, неурожая, постороннего вмешательства. Всеми его религиозными устремлениями движет желание заключения мира со стихиями и в первую очередь с землей. Религиозность крестьянина утилитарна, непосредственна и натуралистична. Крестьянин вообще предпочитает жить в мире как с "верхом", так и с "низом". Живя в ладу со всем, что есть, крестьянин все-таки ближе к земле, к ее заботам и блаженствам, от нее он ждет удачи, приплода, здоровья. Крестьянин мало вникает в трансцендентный смысл религии, его больше интересуют практические нужды, он рассматривает религию скорее как кладезь магических ритуалов, чем как учение. Человек в аграрном обществе старается обеспечить свое благополучие и свою безопасность, не разбираясь вполне точно, кому он адресует свои молитвы. Крестьянин непосредственно включен в природу и ему более близки те религиозные воззрения, которые обнаруживают в человеке такие же качества, что и в мире. Замена одного бога другими - или Другим - существенно не тревожит глубинные интуиции крестьянина о трансцендентном. Он вступает в переговоры с природой, больше веря в действенность магических приемов, чем в абстрактную помощь Бога. Для того, чтобы не нарушался космический порядок, нужно совершать определенные магические обряды, произносить заговоры и заклинания. Такое отношение к природе есть не просто некое дополнение к вере, но представляет собой саму веру в ее практическом применении. Средневековый характер был по своему характеру средневековым. В изображении календарей в памятниках литературы и искусства каждый месяц в году символизировал определенные сельскохозяйственные работы. Этот тип календаря был унаследован от античности, но античные изображения месяцев представляли собой сочетания астрологических знаков с пассивными человеческими фигурами, между тем как в период средневековья сложилась другая схема: месяцы персонифицировали активно действующие люди, от абстрактных категорий произошел переход к трудам месяцев, возник новый по смыслу жанр, где земная деятельность человека совершается перед лицом небесного мира и включается в единый гармонический ритм природы. И мир природный, и мир небесный крестьянин воспринимает как соседей, в чьи владения доступ без предварительной договоренности нежелателен. Укорененность в своем образе действий и в своем образе мысли предполагает такую же укорененность в других: человек должен быть таким-то и таким-то, ангел - таким-то и таким-то, зверь - таким-то и таким-то, и нарушение этого порядка воспринимается как посягательство на его собственную укорененность. Укорененность предполагает неподвижность, и мир крестьянина неподвижен, консервативен, раз и навсегда установлен. Феномены мира в своей незыблемой укорененности обладают собственными сущностями, своим достоянием и в этом качестве как собственники равны другим и крестьянину, а потому предполагают к себе внимательное и бережное отношение. Обладание собственными сущностями делает мир феноменальный ценным и самодостаточным, таким, с которым в повседневном общежитии возникают взаимоотношения соседства и близости. Вещь вместе со своей собственностью - сущностью - и человек с его собственностью живут в сознании крестьянина нераздельно именно вследствие неспособности мыслить нечто вне своей "вещности", благодаря чему личность и сфера ее собственности мыслится в неразрывности друг от друга. Этот своеобразный стиль мышления приводит в средние века к весьма любопытным правовым отношениям. Для неспособного к абстракции ума физическая среда, в которой постоянно и регулярно происходят те или иные отношения между людьми, начинает восприниматься как фактор, порождающий эти отношения. "Пятно рабства" само собою сходит с раба, когда он вступает на свободную землю. Для этого не требуется никаких действий со стороны тех, кто приемлет его в свою среду. Процесс "очищения" раба от рабства совершается автоматически единственно благодаря таинственной силе территории. В средние века личность настолько связана с территорией, что ее правовой статус всецело зависит от местопребывания. Стоило человеку выйти из ворот "освободившего" его города, как он тотчас же терял все свои свободы. Юридическая окраска лиц определяется окраской сред, через которые они проходят. Права и отношения в средние века имеют свойство неотъемлемой прикрепленности к местам, где они осуществляются. Получить лен значило тем самым признать себя человеком земледателя, стать к нему в отношение личной верности. Поэтому вассальные отношения совпадают с ленными, иерархия лиц совпадает с иерархией земель. Первой, неделимой клеткой людского общежития является личность плюс территория. Проекция этого состояния в метафизическую сферу обнаруживает средневекового человека определенным как личность плюс территория своеволия. Земля никогда не отчуждалась без сидевших на ней, и с этой точки зрения имеется мало различий между полусвободными и рабами. Действительная картина средневекового общества, конечно, неизмеримо сложнее чистой формы натурально-хозяйственных отношений, но эти отношения были неоспоримо главенствующей тенденцией. Экономическая независимость, самоудовлетворяемость - таков был идеал, к которому стремился человек средневековья. Все иметь у себя и поменьше покупать - вот верх экономической мудрости хорошего хозяина, и эта же мудрость стала идеалом средневекового государства. Все собрать вокруг себя, всю систему универсума - это и стремление средневековой метафизики. Формула "личность плюс территория" формировала и государственную мудрость. "Государство - это я" есть именно средневековое понимание власти, где все, что затрагивает государство, есть личное делокороля. Как средневековый космос, средневековое государство имеет центр гравитации - короля. Необходимо отметить, что писанные конституции, отчетливо трактующие права монарха, есть явление сравнительно позднего времени. В средние века государственный строй слагается и держится гораздо более религиозной санкцией, политическим импонированием, традицией, естественностью сана, обычным правом. Это не отсутствие закона, а законность неписанного обычая.. Строго говоря, ни при Меровингах, ни при Каролингах, ни при первых Капетингах не было права наследования даже у ближайших членов королевской семьи. Короли должны быть избраны, предпочтены, но именно из этой династии, в порядке обычного права . Лишь постепенно из этого возникало право наследования. О каком верховенстве монарха можно говорить, если он с каждым из более могущественных сеньеров должен был отдельно договариваться о количестве подати, налагаемой на его территорию. Монархия существует только тогда, когда налицо имеется носитель монархической власти. Личное присутствие обеспечивает функционирование государства, как личные договора этого короля с другими личностями обеспечивают прямое и полное личное подчинение власти. Со смертью короля все узы, связующие элементы в одно целое, рушатся, разрываются, а все обязательства и все договоры утрачивают силу. Во время этого перерыва в действие вступает своеволие договаривающихся сторон, так как никаких самостоятельных связей между ними не было. "Общая воля" мыслится средневековым умом как простая сумма всех индивидуальных воль. В средние века любой союз был союзом личностей и распадался легче, чем создавался. Средневековая жизнь есть непрерывный процесс выделения малых общественных мирков, тяготеющих к обладанию универсальным положением, великая мечта средневековья о единстве реализуется на короткое время в форме образования частичных соединений, каждое из которых хочет стать общим единством. С чрезвычайным усердием и невероятным напряжением воли все снова и снова воздвигается иерархия общественных ячеек для того, чтобы снова распасться. Как символический объект отождествляется с тем, кого он символизирует, вбирает в себя его свойства и, становясь фетишем, вытесняет собой символизируемую реальность из сознания, так и каждая дробь в средние века старается приобрести значение целого, каждый микрокосм стремится заступить собой макрокосм. Для средневекового ума все понятия, все отвлечения - в равной степени "вещи", и это роднит их между собой. В силу родства, присущего понятиям, поскольку они все подводимы под категорию вещности, стираются различия между явлениями природы и продуктами человеческой деятельности, между природой и культурой. Универсум слагается из Бога, ангелов, людей, зверей, зданий, войн, одежды, утвари и всего, что относится к обиходу. Нет такой вещи, которая не нашла бы своего места в средневековых трактатах, от Рая до печных горшков. Трактат может открываться сведениями о Троице Единосущной и заканчиваться главой о конской сбруе. Руководящей тенденцией средневековья как исторического времени является тяготение к универсальности - стремление охватить мир в целом, вокруг центра-Личности, как некое всеединство в экономических, социальных и художественных сферах. Это стремление ясно дает знать себя в работах средневековых художников: для старых мастеров не существует второстепенного, ничего не должно пропасть зря, все выписывается одинаково добросовестно, на деревьях можно пересчитать все листочки, на крыльях ангелов - все перышки. Поскольку мир воспринимается средневековым человек в личностном аспекте, то и абстрактные идеи были доступны уму лишь с помощью аллегорий, о-лице-творяющих отвлеченные понятия. Идее необходимо было обрести одежду, отличие, голос - лицо. Идеи должны были нарядиться в костюмы, сообщить себе некую внятную жестикуляцию. Сознательность человека той поры более естественным образом мышления считала такой, который испытывает потребность обособить идею по ее сущности и уже отдельные идеи встраивать в иерархическую субординацию. Всякая вещь или идея имеет четкие границы, и средневековый человек, уважая всякие границы, воспринимает их только в них: мир в своих границах, человек на четко ограниченной территории, идеи в своих границах - вот одна из главных мыслительных особенностей того времени, утверждающих незыблемость мирового устройства и, следовательно, удостоверяющих незыблемость Божьих обетований о будущем спасении праведных и наказании нечестивых. В средние века мир был конечным, ограниченным, он имел начало в Творении и конец в Страшном суде. Конечность, ограниченность средневекового человека имела непосредственную связь с бесконечностью Бога. Магическое и символическое восприятие создавало символический мир, где каждый символ входил в общий порядок мира. Планеты, ангелы, люди - все было вовлечено в иерархию. Истинность мира и его неизменность служила главным гарантом справедливости. Отдельные исторические события получали свой смысл по отношению к этой конечности Творения. Культура, вещи, молитвы, страдания - все это складывалось к престолу Бога, в служении Богу проявлялись вещи, выступая из тьмы небытия в свет славы Божьей для свидетельства значимости Творения. Природа была бледным, но все же подобием небесных совершенств. Чувственный мир представал лишь как некая маска, за которой происходило все истинно важное, язык также служил для выражения более глубокой реальности. Результатом такого взгляда было то, что наблюдением пренебрегали ради толкования. Мир видимостей был также преходящ. Картина Страшного Суда была для человека той эпохи актуальней повседневности. Когда человек пускался в размышления, меньше всего он думал об огромном будущем - он ждал конца мира. Средневековье везде видит символическое содержание бытия. Вселенная состоит из образов, а не из материи. Образы есть символы, каждый из которых указывает на небо. За пределами образа, там, наверху, лежит его родина - исток, залог его собственного здесь-бытия. Философско-теологические суммы выстраивают в иерархию то, что есть, с тем, что символизируется этим "есть", схватывая, помимо содержания буквального, еще и все его формы соотнесенности с иерархией бытия. Средневековый человек мыслил свое место, исходя из представления о лестнице бытия. На ступеньках этой лестницы феномены располагаются по степени близости к Творцу. Иерархия атрибутов, объединившая в одно целое науку, религию, философию и мистику, представлялась выстроенной по вертикали по принципу множественности атрибутов. Миру органическому присущ атрибут существования, миру растительному еще и атрибут питания, миру животному - еще и атрибут движения, а человеку, кроме того, - еще и атрибут разума. Вещь, будучи встроенной в иерархию, порождает внутренне взаимосвязанный и стройный мир.
СВОЕВОЛИЕ
Средневековье, помимо античного и христианского, получило еще и варварское наследие. В эпических произведениях варварских племен выразились представления о мире и человеке в его высшем бытии, оформились взгляды о герое и героизме, о ценном и ничтожном, актуальные для всего средневековья. Рыцарскому идеалу было присуще сознание того, что истинная демократичность, основываясь на добродетели, предполагает равенство людей по природе. Мысль Григория Великого о том, что "все мы, человеки, по естеству своему равны", вполне разделялась рыцарским сословием. По мысли рыцарских идеологов, добродетель людей благородных есть залог блага церкви и государства, благородство, соединенное с истинной добродетелью, обеспечивает справедливость общественного мироустройства. Рыцарский идеал обладал для ментальности средневековья даже более общезначимым характером, чем идеалы учености и благочестия. В этом идеале по-особому переплетались мотивы идеологии и умонастроения: с одной стороны, он испытал воздействие христианской мысли, с другой стороны, был основан на вне-христианских добродетелях, уходящих в глубь варварской психологии. В том весьма непростом смешении вне-временного, аграрного, средневекового, языческого, что представляет собой идеал рыцаря, наиболее ясно дала о себе знать разница между идеалом и его реальным воплощением, умонастроением и идеологией эпохи. Мышление средних веков отдает предпочтение лишь такому идеалу, который наделен добродетелями, неотторжимыми от личной свободы, что неизбежно порождало напряжение между стремлением к независимости, свойственным всему укладу психики и экономики того времени, и единительной идеологией общего служения. Даже высокомерие рыцаря скрывает внутри себя нетерпимость к нарушению установленных границ общественной иерархии, то есть исходит опять-таки из представления о справедливости, о должном вообще. С одной стороны, ядро идеала рыцаря составляет образ воина, отстаивающего непреходящие ценности Божиих установлений, с другой стороны, рыцарь, стоящий на границе своеволия и противостоящий чужому своеволию, будь то враг, соперник на турнире или судьба, предполагает, что он тем самым стоит на границе своего "я", где его роль защитника границ осуществляется только в минуты противостояния и противоборства. Здесь мы уже имеем дело с героической психологией, с той "гордыней", против которой более всего ополчались христианские проповедники средних веков, прекрасно чувствовавшие богоборческий слой этого склада мышления. Рыцарская этика по отношению к христианской была довольно автономной этической системой, особенно в своих сугубо светских, то есть наиболее существенных моментах. Рыцарская этика представляла собой целую концепцию жизни, она определяла и смысл жизни и ее нормы. Будучи всеобъемлющей, она несла в себе и свой взгляд на все вопросы, актуальные для духа средневековья. И не случайно именно рыцарские ордена в эпоху позднего средневековья становились, наряду с ремесленными цехами, очагами ересей. Это противоборство требовало аскетизма и самозабвения, а также влекло за собой поиск возможно частого повторения моментов противостояния, то есть возможно более частого осуществления смысла своего служения. В те времена повсюду возникали отдельные конфликты, в основе которых невозможно обнаружить никакого политического или экономического смысла. В основе этих стычек и распрей лежала необходимость "своеволия заявить". С той же необходимостью, с какой формула "я есть бог" предполагает своеволие, идеология средневековья в качестве противовеса основного умонастроения эпохи выдвигает Идею Авторитета. Средневековое всевластие Авторитета, будь то авторитет Священного писания, римского папы или Аристотеля, невозможно в полной мере понять, не учитывая жесткую обусловленность идеи Авторитета самим своевольным духом Средневековья. Ничем не ограниченное своеволие хозяина необходимо нуждалось во внешнем авторитете, дабы указывать человеческому, слишком человеческому, его границы. Средневековый человек ни о чем так не заботится, как о границах и их неприкосновенности, будь то границы его социального статуса, земельного надела или границы познания Бога и его Творения. Замкнутость натурального хозяйства, стремление к удельности - отсюда. Замкнутость психологического мира, нетерпимость к вторжению во внутренние пределы души выразилась и в том, что средние века не знают исповеди в том смысле, как мы сегодня понимаем это слово. И хотя средневековье как историческая эпоха началась с "Исповеди" Августина, хотя каждый человек средних веков, как правило, регулярно исповедовался у своего священника, мы мало знаем о внутреннем мире человека того времени, он не раскрылся ни в литературе, ни в мистических откровениях. Из документальных свидетельств средневековых мистиков мы меньше всего способны узнать об их внутренних состояниях, столь мало средневековый мистик заботился об их объективации. Литература средневековья начисто лишена продуманного и недвусмысленного рефлексивного исследования сознания и самосознания. Исповедь, как это следует из "покаянных книг" (пенитенциалий) средних веков, была актом пассивным, при котором священник зачитывал перечень общих грехов, своего рода вопросник-анкету, на вопросы которой кающийся отвечал положительно или отрицательно. Средневековый человек ограничивается проявлением чувств, положенных этикетом, обычаем. Иногда, как, например, в погребальных обрядах, формы выражения этих чувств были весьма бурными и картинными, но сама картинность предписывалась обычаем. Всякий поступок следовал выразительному и разработанному ритуалу. Отправление правосудия, свадьбы, похороны, всякое общее действие становились церемониями, пусть даже для нового действия приходилось придумывать новые церемонии. Средневековый человек любит форму, формальное - значки, эмблемы, гербы, словом, все, что сообщает о какой-либо принадлежности к чему-либо, и при этом сама форма мыслится как граница, на которой должно остановиться желание проникновения внутрь. Влюбленные носили цвета своей дамы, члены братства - свою эмблему, сторонники той или иной партии - соответствующие знаки, кокарды, отличия, во всем было стремление выставить вперед некую принадлежность. Из чуткости к границам исходит и такой феномен средних веков, как договорность: вассал договаривается с господином, подчиненный народ - с феодалом, сословие - с сословием, человек - с Богом и дьяволом, причем все проходит церемонно, согласно этикету, с соблюдением всех установленных правил. Средневековая регламентация движется желанием установить правила, пo которым можно было бы жить всегда, не испытывая вмешательства со стороны, чтобы раз и навсегда положить конец распрям и устранить возможность нарушений. Средневековая ориентация на авторитет, традицию и регламент, находящая удовлетворение в повторении истин и формул, мыслилась как утверждение стабильности мира, как стремление создать такой мир, который был бы достоин Божьего Града, ибо он создавался по небесным образцам. Средневековый человек не ощущает авторитет как оковы, он чувствует его как опору на земле. Значение каждой вещи не исчерпывается ее непосредственной функцией и внешней формой, хотя одновременно подразумевает и то, и другое. Без соотнесенности с другими вещами всякая вещь утрачивает свое место, попросту исчезает, становится бессмысленной. Найдя вещи и расставив их на лестнице бытия, человек средневековья обретает тем самым и свое место, и свое собственное бытие.
КАРЛ ВЕЛИКИЙ
Средневековье как духовная цельность есть великая мечта человека о жизни, устроенной по Божьим законам. Средневековье возникает и исчезает вместе с этой мечтой, и потому понимать его следует, исходя из нее. Мечта формирует главную особенность эпохи: стремление к универсализму, к всеохватности, ее «интернациональность» - средние века, по крайней мере, первая половина, на знают наций в современном понимании, все народы суть лишь племена, соединяющиеся в правде истинной веры. Мечта о Божьем Граде на земле, об осмысленности жизни, о возможности «жить по правде» в мире с Богом, естественным образом вырастала из отрицания опыта античности, противопоставляя ему новое знание о Боге, открывшемся как Личность, и новое понимание человека. Бог, Церковь, личность, соответствия между земным обществом и небесным Градом - вот главные понятия, которые непрерывно питали работу средневекового интеллекта. Нужен был народ, который бы взял на себя работу строительства новой жизни. Претендентов было много. Но только франки приложили к этому делу достаточно усилий и целеустремленности, религиозного пыла и терпения, дополнив эти качества исторической удачливостью. Мечту новой эпохи они сделали своей национальной идеей. Национальная идея всегда движется от племени к государству, и, далее, от государства к империи. Это естественный, органический рост всякой идеи, независимо от ее содержания: от раздробленности к собиранию, от собирания к оформленности, от оформленности к территориальному расширению. В этом расширении существенно стремление приобщить к открывшейся истине другие народы, внести осмысленность и оформленность в чужой хаос и нестроение, в чужую бессмысленность и неразумность - «спасти» их. То «бремя белых», о котором в свое время говорил Киплинг, есть судьба всякой расширяющейся идеи. Последовательность от племени через государство к империи определена тем, что всякая национальная идея по существу своему над-национальна, осуществление ее одним народом дает миру идеал, чаемый многими, тот идеал, который заведомо мыслится и как над-национальный, и над-временной. Национальная идея в буквальном смысле стремится осчастливить все народы. Своим внутренним смыслом она отрицает и национальное, и расовое, и временное, и условное. Зарождаясь в союзе племен (начало национальной идеи имеет в себе нечто мистическое: в нем вместе с национальным характером, историческими обстоятельствами и преходящими умонастроениями участвует замысел Бога о народе), идея приводит одно из плмен, выводя его из ряда других указующим перстом судьбы к образованию государства. В котором сбываются по мнению народа мечтаемые формы земного воплощения идеального, и затем в порыве смыслоустроения всей ойкумены ведет народ к тому, чтобы распространить идеал как можно шире, поделиться опытом осмысленности от полноты переполняющей радости. Отсюда следует, что внутренний смысл национальной идеи самим носителем всегда мыслится как долг по отношению к себе и как благоденияе по отношению к другим народам. Долг и необходимость высшего порядка требуют перехода от национального государства к многонациональной империи. И какие бы мифы не сочинялись о «воле к власти», о «захватнической сущности» империи, любая империя рождается из идеи смыслоустроения. История империи франков есть классический пример этих общих положений. Таинственный момент рождения национальной идеи франков приходится на время правления Хлодвига. Этот человек, объединивший под своим военным и политическим владычеством три четверти Галлии, получил подтверждение своей власти из рук императора Анастасия, который находился слишком далеко от Галлии, чтобв всерьез рассчитывать на возможность реально влиять на положение дел в ней, но все еще пользовавшийся в глазах галло-римского населения немалым авторитетом. С незаурядным искусством воздействуя на умы современников, Хлодвиг сумел убедить их в законности своего правопреемства как наследника императора Константина, и через него - наследника Рима и самого Христа. В глазах современников Хлодвиг воссоздавал на Западе Восточную Римскую империю Константина. Аргументами Хлодвига были принятие христианства, победа над еретиками, триумфальное вступление в должность римского консула и, наконец, строительство своего мавзолея - шага к святости. Динамизм франкских племен и отсутствие какой-либо власти, кроме императора Восточной Римской империи, придавшего власти Хлодвига подобие законности, открыли перед ним возможность овладеть огромным пространством земель, имперской казной и обширными населенными местностями. Образовывается огромный земельный фонд, своего рода материальная основа будущего идеала, капитал, который еще долгое время будет питать и обеспечивать нужды национальной идеи. Хлодвиг смог «насадить» на захваченных территориях своих воинов и таким образом обеспечить себе возможность контроля над приобретенными землями. Уже со времен Хлодвига королевская власть предполагает владение территорией и всеми, кто ее населяет, независимо от их гало-римского или иного происхождения. С самого начала правления Хлодвига честолюбивые устремления франкских королей были направлены на объединение Галлии и присоединение Средиземноморского побережья - средоточие всего лучшего и престижного из наследия прошлого. Два поколения королей, следовавших после основания династии, все еще оставались подвержены влиянию римского имперского наследия. Им не претило признание их Восточной Римской империей в качестве представителей ее власти - столь сильно тяготело над ними обаяние римского прошлого. Чтобы мы ни взяли - основыне направления культурных и экономических связей или вопросы распространения христианства - во всем Галлия на протяжении долгого VI века предстает как трансформированное на варварский лад наследие римлян. Хотя нам не так много известно об уровне развития культуры при наследниках Хлодвига, мы все же можем судить, в какой степени они были очарованы наследием античности. Миф о троянском происхождении франков, который зрел в умах с VI века, прежде чем появилось его письменное воплощение в VII, безусловно является результатом такого ослепления. Впрочем, не стоит преувеличивать обаяние Римской империи - это было лишь одним, и не главным, побудительным мотивом к действованию. У франкских королей, как Меровингов, так и Каролингов, был свой, одновременно и учитывающий и отрицающий римский (античный вообще) идеал мироустроения. И для осуществления этого идеала потребовалось огромная энергия и предприимчивость Карла, сына Пипина II (714-741), Карломана (741-747), Пипина III (741-768) и Карла Великого (768-814), чтобы власть их дома распространилась на всю Галлию, а имя франков приводило в трепет племена за Рейном, Альпами и Пиринеями. Накопленные силы и влияние позволили первому из них управлять государством без короля Меровингской династии, третьему - провозгласить себя королем, а последнему возродить империю на Западе. Пипин стал королем благодаря личной доблести. Доводам устаревшей сакральности предков он противопоставил свою личную дерзкую самоуправность. Он, безусловно, сознавал факт узурпации власти. При помощи папы ему удалось создать новую сакральность, заимствованную на этот раз не из германо-языческих традиций и преданий, а из библейско-христианской культуры. Была восстановлена иудейская ритуальная практика, засвидетельствованная Ветхим заветом. Он повелел священникам помазать себя на царство. В качестве образцов для себя были избраны библейские цари. Христианская харизма насаждала сверху новую традицию, освобождая франкских монархов от преемственности с царями-волхвами, населявшими германские дремучие леса, превращая короля франков в наследника жезла Моисеева. Вот к каким берегам причалила ладья народа, построенная Хлодвигом. Карл Великий, таким образом, является вершиной долгого пути национальной идеи, ибо сумел превратить свое правление в синтез унаследованного от предшественников римской империи и христианского государства, каким он в ту эпоху виделся. Отец Карла, Пипин Короткий, оставил ему государство, готовое стать империей. В его правление созрела подлинно франкская идеология, взращенная на мечте о Божьем Граде, представлявшая Пипинидов не как ликвидаторов, а как продолжателей дела своих меровингских предшественников. Именно это хотел выразить монах из Сен-Дени, автор нового вступления к салическому закону, пересмотренному по приказу Пипина: «Прославленная раса франков создана Богом, они смелы на фойне, надежны в мире, глубоки в своих замыслах, отличаются благородной осанкой и белой как снег кожей, исключительны красивы, отважны и тверды, франки, обращенные в католическую веру и в варварстве были свободны от всякой ереси, это раса, ищущая ключ к знаниям по наущению Бога, стремящаяся к справедливости в своем поведении и склонная к милосердию. Те, кто были ее вождями, продиктовали в свое время салический закон. Именно тогда, благодаря Богу, король франков Хлодвиг, неудержимый и великолепный, стал первым, кто получил католическое крещение». Узурпация императорского титула в Византии Ириной и смена папы Адриана, умершего в 795 году слабодушным Львом III оказались благоприятными обстоятельствами процесса возрождения империи на Западе. Но этот процесс не может быть понят без осмысления роли того, кто до 799 года называл себя «Королем по велению Божию франкского и лангобардского королевств и римским патрицием». В Карле воплотились идеальные черты, которые явно или неявно предносились средневековому духу: он был Хозяином, Землевладельцем. Не может не подкупать его серьезность и деловитость неутомимого работника, его одинаковая углубленность и добросовестность в любом деле - подсчитывает ли он доходы от одного из своих поместий, дает ли указания администраторам или решает проблему государственной важности. Времена его правления стали "золотым веком" Средневековья. При Карле открываются школы, исправляются старые книги, составляются своды законов - жизнь приобретает формы, которые навсегда стали олицетворением жизнеустройства средних веков. Свою жизнь и свое правление Карл рассматривал как осуществление мечты Августина о Божьем Граде - средневековой мечты о единстве универсума и разумности мироустройства. У него была мечта, Идея, и смысл этой идеи он неутомимо распространял среди своих сподвижников. В результате идея Божьего Града на земле стала национальной идеей франков. Под угрозой смертной казни были запрещены языческие обряды и суеверия. Всякий, кто отказывался креститься, кто приносил жертвы языческим богам, кто не посещал по воскресеньям церковь, не крестил в течение первого года ребенка, не хоронил на церковном кладбище умерших, наказывался смертью. Смерть грозила и тем, кто оскорбил духовное лицо, похитил церковное имущество, высмеивал христианские учреждения. В Карле Средневековье узнало свой дух, свой смысл, свои устремления и свои способы достижения этих целей. Программа превращения христианского общества в преддверие Града Небесного нашла свое воплощение в строительстве дворца в Ахене. Поблизости от термальных бань и королевской виллы, которую использовал еще Пипин III, Карл построил дворцовый ансамбль, имевший действительно совершенные пропорции, строго ориентированные по сторонам света, в который были вписаны здания для жилья, хозяйства, отправления правосудия, проведение культовых мероприятий и королевского представительства. Земной Град Небесного Иерусалима - вот что хотели Карл и его советники увидеть в этом дворце воплощенным. Превратившись сначала в зимнюю резиденцию Карла, Ахен постепенно стал постоянной, а с 807 года - настоящей столицей империи. Именно здесь с конца VIII века заседали самые крупные ассамблеи, принимались самые важные решения. И именно здесь свой окончательный вид приняла идея христианской империи в ее франкском варианте. Не меньше Карла этой идеей был поглощен папа Лев III, что отчетливо проявилось в мозаике, украсившей по его заказу в 800 году апсиду главного зала приемов в Латеранском дворце: с обоих сторон центральной стены, где представлен Христос, отправляющий апостолов в мир, расположены две отдельные картины - слева Христос вручает папе Сильвестру и Константину одному ключи, другому стяг, то есть символы духовной и земной власти, справа в абсолютно симметричной оппозиции изображен св. Петр, передающий Льву III паллиум, а Карлу стяг. Таким образом, Карл выступал как новый Константин, как истинно христианский император, облеченный мирской властью св. Петром, представителем которого на земле был Папа. Осенью 800 года Карл отправился в Италию. 23 ноября он был встречен Папой в 12 милях от Рима, согласно ритуалу, установленному для императоров, в декабре открыл в базилике Св. Павла собор, на котором было представлено франкское и римское духовенство и несколько мирян. Собор, среди прочих принял решение: «Поскольку в настоящее время в стране греков нет носителя императорского титула, а империя захвачена местной женщиной, последователям апостолов и всем святым отцам, участвующим в соборе. Как и всему остальному христианскому миру представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где все время имели обыкновение жить цари...» С 29 мая 801 года Карл именовал себя в официальных документах «Его августейшая светлость Карл, коронованный Богом, великий и миролюбивый император, правящий Римской империей, и милостью Божьей король франков и лангобардов». Он немедленно приказал чеканить свое изображение на монетах. Как когда-то Константин, с лавровым венком на голове и в великолепном плаще, и так же, как Константин взял за правило ставить на некоторые из своих документов печать в виде буллы с изображением ворот в Риме и надписью: «обновление Римской империи». Если коронование Пипина Короткого было призвано превратить королевской функции в настоящее служение светлому делу, то возведение Карла на императорский трон превращало его в представителя Бога на земле в целом комплексе государств, специально уполномоченного устанавливать порядок, при котором каждый занимал бы место, установленное для него Творцом, и устанавливать мир, позволяющий всем в условиях справедливости и милосердия участвовать в построении Града Божьего. Период процветания франкского государства есть результат вполне осознанной политики, вдохновляемой идеалами мира, порядка и равновесия, а это был конек Карла. Августиновская идея о божественной порядке, согласно которой каждый из людей поставлен Богом на свое место и должен выполнить выправшую на его долю миссию, неуклонно воплощалось в жизни империи - Карл сделал максимум возможного, чтобы место каждого было ясно определено. Престиж Карла был одновременно и престижем его народа, которому пели дифирамбы как богоизбранному народу, как новому Израилю, ведомому новым Давидом. При Карле, казалось, исполнилось пожелание монаха, писавшего в 763 году: «Христос любит франков, он покровительствует королевству, наполняет души его руководителей светом благодати, заботится об их армии, дает им опору в вере, дарует им радость мира и счастья тех. Кто властвует над временем».И именно в это время происходит - при непосредственном участии Карла - событие, метафизический смысл которого ощущается во всем строе западного мышления и сохранится до тех пор, пока западный человек не перестанет быть западным человеком. Исторически это событие развивалось следующим образом: в 787 году был созван второй Никейский собор. На соборе присутствовало 307 епископов, в том числе и легаты папы римского. В результате папа Адриан I получил возможность торжественно объявить о восстановлении единства церкви, осудив распрю, столько лет терзавшую христианский мир. Франкские представители не были приглашены в Никею, и это не понравилось Карлу. Он никак не хотел допустить, чтобы пальма первенства в церковном споре досталась Византии. Это не сходилось бы с образом харизматического боговдохновенного строителя Божьего Града. По его приказу лучшие богословы страны взялись за составление отповеди папе. В результате их усилий было подготовлено послание, в котором перечислялись 82 огреха, якобы допущенные отцами собора. Однако упреки основывались либо на недоразумении, либо на незнании, либо на сознательном передергивании. Папа Адриан дал достаточно твердый ответ "блюстителям чистой веры". Карл стерпел. Но он полностью отыгрался в вопросе, который частично был поднят еще в послании и достиг затем своего полного разрешения уже во времена империи. То был вопрос о нисхождении Святого Духа. Еще первый Никейский собор 352 года принял символ веры, согласно которому Святой Дух исходит от Отца. Этот символ веры, известный под названием Никео-Цареградского, был принят христианской церковью и долгое время не вызывал споров. Но в VI веке, когда принимали христианство вестготы, на Толедском поместном соборе "в целях лучшего изъяснения догмата" в символ впервые были добавлены слова "и Сына" ("филиокве"). В результате появилось словосочетание "Святой Дух... который исходит от Отца и Сына". На грани VIII и IX веков, в период понтификата Льва III, преемника Адриана, эту формулировку повторили франкские монахи из аббатства Монте-Оливо, за что и были обвинены в ереси. Монахи обратились за третейским судом к папе, тот переслал дело Карлу. Император поручил разобраться в этом вопросе корифею западного богословия Алкуину. Алкуин написал трактат, в котором стремился обосновать западную точку зрения. Его утверждения сводились к тому, что Никео-Цареградский символ веры из-за краткости неправильно понимается простым народом, а потому указанное добавление необходимо. Упорство императора принесло свои плоды: его символ веры с "филиокве" распространился по всей Европе, и папы, следовавшие за Львом III, приняли его в качестве догмата. Таким образом, вопреки общепринятому убеждению, будто раскол между западной и восточной церковью произошел только в 1054 году, в действительности он вполне определился за два с половиной века до этого. Метафизические последствия спора таковы, что мы с полной уверенностью можем датировать рождение западного человека-индивидуалиста временем правления Карла Великого. В этом смысле Карл Великий предстает одной из центральных фигур, благодаря которым сформировался европейский культ индивидуализма. Вместе с лаврами великого полководца и великого императора ему по праву принадлежит и слава великого богослова. Христианство с самого начала учило о Трех Лицах Божества, которые, в силу противоположности христианского Откровения Бога о Самом Себе языческому мудрствованию о небесах и стихиях, могли быть мыслимы только лишенными всякого тварного привнесения, исключая тем самым и всякую субординацию между Собою. Католический символ веры, каким он стал при Карле, в вопросе об истечении Духа Святого недвусмысленно подразумевает то из Лиц Божества, Которое отличается наименьшей конкретностью и "реальностью" - Святой Дух, - подчиненным Двум другим. "Филиокве" сразу обеспечивает и формализм первоисточника, и субординацию в общей природе Божества, и близость, реальность жизненных действий этого Божества в мире эмпирическом. Здесь объединяются и христианский опыт бесконечной личной стихии с ее антитезами человека и богочеловека, и вне-христианский исторический опыт прельщения тварным, понимающий безбожную тварь как обожествленную духовно-индивидуальную стихию, тот опыт, который обрел западный человек-богоборец в умонастроении "я есть бог". Католичество, которое тоже имеет опыт личного и всесовершенного Бога, самим привнесением субординации в природу Божества - а это ведет к формализации и опустошению первых Двух Лиц и нарочитому принижению Третьего Лица - получает в результате такое понимание христианского Откровения, которое носит все признаки ереси. По общепринятому на Востоке учению Отец рождает Сына, Сам будучи нерожденным, Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит отОтца. Допустим, что первые два начала тождественны в отношении к третьему, что третье исходит от первого и второго. По точному диалектическому смыслу исхождения, истоком его может быть только то, что само уже ниоткуда не происходит, но является первоединой единичностью. Если допустить, что второе начало есть такой же исток, то это означает одно из трех: или второе начало считать подлинным истоком третьего и тем самым лишить подлинности первое начало, или продолжать считать первое начало истоком, то есть признать приниженным второе начало и признать равноправие первого и третьего, или, наконец, считать первое и второе равноправными и отделить их от третьего начала, то есть принизить его. "Филиокве" возникает на почве стремления усвоить человеку самостоятельность на почве его внутреннего субъективного устроения. Это происходит путем отнятия его у Бога, так что Божество, при всем своем противостоянии тварному, необходимым образом получает субординационную структуру, то есть структуру пантеистической системы, где нет раздельности Божества и твари и где несовершенство твари приходится признать обоснованным в самой природе Божества, делая в Нем иерархические подразделения. Католицизм, конечно, не пантеизм, но в своего не-пантеистического Бога он привносит пантеистическое строение, откуда и получается, что Дух Святой ближе к тварному миру и ниже двух первых ипостасей. "Филиокве" является основным, самым глубоким и самым первоначальным расхождением католической и православной церквей. В православии в основание положена сущность или идея как таковая, и личностное бытие тут управляется высшим принципом, идеей, в то время как в католичестве в основание общего христианского опыта личности Божества была положена не просто сущность или идея, но ее тождество с материей и телом, что и есть для католиков основное Первоначало. Православие базируется на апофатической Сущности, которая равно проявлена в трех равночестных ипостасях. Католичество, отвергая абсолютную апофатику, приняло за основу объединенность сущности с другими, более материальными сторонами личности. Опыт символического понимания мира и интуиция значимости тварного, которые принадлежат "средневековости" средних веков, столь властно и определенно обустраивавшей новый мир, воплотился теперь и в богословском понимании Божества. Теперь сама область Авторитета служила опорой для своеволия индивидуума. В споре об исхождении Святого Духа и в "победе" в этом споре сбылась средневековая эпоха как самостоятельная и центральная эпоха европейского нигилизма. И такова была мощь этого богоборческого духа, что он пересилил даже Откровение. Родился западный человек, и, удостоверенный своим символом веры, он мог теперь сказать: "я есть бог". Издалека начавшийся подкоп под Откровение завершился - "филиокве" нарекло дальнейшую судьбу западного человека. Есть глубокая символика в том, что это событие произошло именно с средние века. Человек как личность есть несомненное завоевание средневековой мысли, но понимание природы человека как символа Бога, повлекшее последующее разочарование во всем строе средневекового символизма, было тем истоком, из которого вышел весь универсум европейского имманентизма. Мыслить человека символом Бога значит совершать последовательно несколько подстановок: на символ переносятся свойства символизируемого, символизируемое окрашивается цветом символа, при таком сближении субъекта и Бога Бог нисходит до субъекта и до известной степени деградирует. Но тот же Августин прямо и недвусмысленно предостерегал от того, чтобы проводить прямую аналогию между личностью Бога и человека. Отношение между философски обоснованной триниатарной доктриной Августина и его же психологическими построениями не являются отношениями равенства, это даже не соотношение по аналогии, это соотношение между никогда не достигаемым и вечным идеалом, с одной стороны, и становящимся во внешнем мире и конечным по своей природе человеческим сознанием, с другой. Для нас в бытии Бога всегда есть абсолютная тайна, мы можем лишь с помощью находящихся на пределе усилий вскрыть и осознать в себе ту основу своей личности, которая нам дана от Бога, но даже и окончательно достигнутый и совершенный для человеческой личности предел ни в коем случае не будет аналогом Божественной Личности.
НАДЛОМ
Плоды политики Карла пожинал его сын Людовик (Хлодвиг) Благочестивый. Поистине великолепное и грандиозное сооружение представляла собой империя франков в первой трети IX века: император Людовик в окружении мудрых аббатов и епископов, руководимый Высшей Силой, уверенно ведет бесчисленное братство по пути к спасению. Привлечь милость Божью на народы, которых доверило императору Провидение - вот в чем заключалась его миссия, как ее сформулировала Церковь. Главная цель - согласие, мир, слава Божия и слава служащих Богу. Динамика предшествующего периода сменилась статичным созерцанием уже созданного. Распространение христианства, казалось, приняло всеохватывающий характер. Завершились завоевательные походы. Обогащение былых времен сменилось эпохой щедрых даров, приносимых Богу. Светским вельможам предписывалась жизнь в духе набожности и смирения. Но править империей, объединенной по религиозному признаку не то же самое, что управлять королевствами. Если Церковь едина и вечна, то почему бы и империи не обладать такими же качествами. Но реальная сила вещей, те противоречия, которые изначально существует между Кесарем и Богом, между идеалом и реальной жизнью, начали необратимо разрушать империю. Людовик был единственным сыном и преемником умершего императора, но у него самого было трое сыновей, равноправных по своему положению, и придет время, когда империю необходимо нужно будет делить. Разделить империю - не означает ли это то же самое, что разделить тело Христово? Один Бог, одна Церковь, одна Империя - вот главное начало, долженствующее преобладать над всеми остальными - так мыслили люди того времени. Но именно Людовик и создал ситуацию, которая в конечном счете привела к развалу империи. Овдовев, он предпочел жениться в 819 году вторично. В июле 823 года в этом браке родился сын Карл. Определение порядка наследования, произведенное в 817 году обесценилось: рано или поздно нужно будет часть наследства выделить и Карлу, наряду с Людовиком и Пипином. В 831 году Людовие Благочестивый изменил условия раздела наследства, вводя в долю юного Карла Лысого. «Упорядочивание империи», которому Людовик требовал присягнуть своих вельмож, было безвозвратно разрушено.Начинается война из-за наследства, названная "войной трех братьев". Кульминацией войны стало сражение при Фонтенуа-ан-Пюизе, произошедшее 25 июня 841 года. Это была самая кровопролитная битва средних веков. По преданию, в ней пало 40 тысяч человек - цифра для того времени невероятная. Современники были потрясены этой бойней, в которой все европейские народы истребляли друг друга ради прихоти свои господ. "Война трех братьев" для средних веков имела те же самые метафизические последствия, что и Первая мировая война для нашего времени; по сути, она и была мировой войной средневековья - здесь свершился надлом средневекового духа, рухнула мечта о Божьем Граде на земле, сообщавшая осмысленность землеустроительным усилиям человека "каролингского возрождения". После этого потрясения средневековому уму стало ясно: нет более связующей идеи, нет обязательств, которые она накладывала на жизнь каждого, теперь всякий может жить по собственному произволу, теперь "все позволено". Внутренний хаос и отсутствие сильной личности, которая могла бы возглавить государство, приводят к тому, что части империи, раздробленные опустошительными набегами сарацин и норманнов, остаются на произвол судьбы. Процесс усиления феодальной раздробленности и поворот средневекового ума к новым достоверностям есть следствия одной и той же причины. Церковь также не избегает втянутости в общий процесс деградации. Из-за светского характера поставленных перед монастырями задач им угрожает утратить истинный дух подражания и быть вовлеченными в общий процесс распада. Везде наблюдается непомерная жажда власти, корыстолюбие и разврат. После папы Николая I папство превращается в предмет споров отдельных группировок римской знати. Папы быстро следуют друг за другом, их смещают или убивают. Появляются анти-папы. Процветает симония. После X века средневековый мир приходит в движение. Идилличность феодальных вольностей окончательно нарушена. К концу XI века мелкие князьки и рыцари, в силу укрепления положения магнатов, теряют прежние позиции. Еще недавно они были независимыми хозяевами, теперь же их независимость сильно поколеблена. Крестовые походы - последняя попытка придать разваливающейся цельности средневекового универсума старое объединительное религиозное звучание. И как всякая сбывшаяся национальная идея требует экстенсивного расширения, так и средневековая идея стала прорывом вовне в общем-то замкнутого мира тогдашней Европы. Поход на "врага христовой веры", провозглашенный папой Урбаном II, собрал под свои знамена большие людские силы. Неурожаи, голод, дороговизна гнали в армию бедноту. Мелкие рыцари стремились исправить свои пошатнувшиеся дела, магнатам новые походы сулили новые богатства. Гарантированное папой вечное блаженство развязывало руки. Перераспределение богатств, изменения в сфере мысли, новые акценты в идеологии выдвинули новый слой - ремесленников и торговцев. Во второй половине XIII века торговля и ремесла окончательно укладываются в формы цеховых объединений, политическая роль которых постоянно возрастает. Разложение феодального хозяйства неизбежно приводило к тому, что некоторая часть бывших крестьян попадала в город, пополняя быстро растущий слой ремесленничества. Цеховые мастера, накопившие различными путями большие суммы денег, стремятся расширить свои мастерские и нанимают сотни рабочих. Мастерская чисто цехового типа, где сам мастер работает, начинает превращаться в мастерскую нового типа, в которой мастер слишком занят финансовыми операциями, чтобы работать самому. Четко обозначились стремления королей противопоставить непокорной светской власти феодалов верхушку неблагородного населения городов. Эта прослойка получала от королей льготы и дворянские звания. По мнению идеологов рыцарства, мужицкие главари возомнили, будто скопленные богатства позволяют им претендовать на власть. Преступление сословных границ в средние века тем менее поощрялось, чем более низкое сословие пыталось их преступить. В XIII веке заметно стремление к замыканию сословных групп внутри своей сословной идеологии. Если ранее средневековье знало рыцарский класс лишь фактически, то с XIII века он оформляется и социально. К этому времени окончательно складывается обряд посвящения в рыцари, как бы символизируя рождение самосознания рыцарского класса в его отдельности от других сословий. Возрастает презрение одного сословия к другому. Крестьянский труд получает негативную оценку, крестьянское сословие презирается феодалами как низшее, на волне разочарования официальной картиной мира возникает сословная рефлексия: рыцари-трубадуры воспевают презрение к крестьянам, ваганты презирают всех не-клириков, вилланы и цеховые ремесленники слагают песни, в которых осмеивают всех сразу, всех, кто стоит выше их на социальной лестнице. Грани социальных разрядов видятся все более жесткими, все менее проницаемыми. Университет и ученость в XIII веке уже не имеют того высокого смысла и социального престижа, которые имели еще столетие назад. Наблюдается даже перепроизводство ученых людей. Это, несомненно, обесценивает саму ученость и понижает значение ее носителей. Внутри ученого сословия намечается явное понижение статусного самосознания. Ученость уже не связывается с добродетелью. Ученость обмирщается, нисходя вместе со своими носителями с высот богословия на равнину повседневного мирского философствования. "Школяры учатся благородным искусствам в Париже, судебным кодексам в Болонье, медицинским припаркам в Салерно, демонологии в Толедо, а добрым нравам нигде", - пишет один средневековый ревнитель высокого назначения книжной культуры. К этому времени складывается новый тип человека - интеллектуал, чему способствует рост городов, активно обособлявшихся от сельской округи с ее феодальным бытом и быстро менявших известные формы жизни и, соответственно, умонастроения. Все снова перемешивалось. Вокруг нормы нарастало такое количество нарушений, что они отменяли понятие нормы. Тяготение средневековых философов к определенности и форме во многом обуславливались мельчайшей социальной, хозяйственной, правовой детализацией, нашедшей приют в обычном праве, в «житиях», в ремесленных и монастырских уставах. Именно острое переживание конкретного заставляло обращаться к поискам «формы вечного порядка». В поисках подобной формы и родился средневековый интеллектуал, отсутствовавший во времена Августина - не просто грамотный человек, но человек, который взял в поводыри разум, которому он возвращал достоинство после долгого существования под сенью веры. Служение разуму со стороны интеллектуалов обусловило, с одной стороны, дух критицизма этой эпохи, а с другой, - способствовало выработке всеобще-логического подхода к тому, что есть Слово как Творец мира. Соучастие разума в чуде Слова выявило его особый, именно средневековый характер. Он был мистически ориентирован, так же как и мистика была рационально организована. Ученые умы все больше увлекает идея философски мыслить Бога. Замена Святого Имени понятием Абсолюта превращает восприятие Бога в индивидуальное переживание - в XII веке Бернард Клервосский положил начало впоследствии широко распространившемуся умилению страстям Христовым, делая акцент на человеческой ипостаси Христа. Еще ранее католическое учение усилило внимание к учению о благодати, в котором она рассматривалась как мистический индивидуальный опыт - переживание. Придавая переживанию слишком большое значение, католическое познание Бога все менее становилось познанием верой. Этим самымсоздается предпосылка отклонения веры в сторону отвлеченного разумения. Общий дух перемен сказался и в учении главного богослова того времени Фомы Аквинского. Касаясь правил и принципов, которыми должен руководствоваться человек в повседневной жизни, Фома предпочитает говорить о "золотой середине". Отдавая предпочтение праведной жизни вдали от земных забот, Фома не отрицает и попечений о земной жизни, ибо богатство само по себе не есть нечто греховное, человек может обладать им и заботиться о его сохранении. Он не должен только нарушать заповеди Божии в стремлении к этому богатству. Блага земной жизни следует рассматривать не как самоцель, а как средство для поддержании духа, и потому умеренность в заботе о приобретении богатств и умеренное пользование ими вполне дозволены. Этот принцип справедливой середины, разумеется, не выходит за рамки христианской доктрины, но не будет преувеличением сказать, что это небольшая уступка новому сословию купцов и ремесленников отозвалась позднее - в Реформации - полнейшим оправданием богатства как свидетельства богоугодности. Как завершитель схоластики Фома собрал в свою "Сумму" все, что накопила ученая мысль средневековья за долгие столетия своего развития, и как реформатор он проложил пути новому пониманию мира, поворачивая схоластику к опыту и миру. Естественный разум получает большую свободу в деле познания мира. Подобное доверие к разуму, несомненно, идет в русле изменений в умонастроении, в котором все большее значение приобретает здравый смысл и практический расчет горожанина. Ремесленнический опыт индивидуализма заставил Фому по-новому взглянуть на человека и его разум. Для Аквината уже существуют чисто философские вопросы, философия у него получает право, помимо своих основных обязанностей, поступить также на службу естественным наукам, опыту, самой действительности. В стенах университетов зреют и развиваются мысли о том, что разум настолько всемогущ, что в состоянии сам, вне всякой веры и Откровения, так сконструировать свои знания о мире, что они по своему содержанию будут вполне равны тем истинам, которые получены из Откровения. Богословие рассматривается как учение о вере, философия - как учение о разуме. Вечность и несотворимость материи и движения, единство души и тела, отрицание бессмертия души, божественного провидения, свободы воли, учение о "двух истинах" - вот перечень идей, крепнувших в средневековом сознании, потрясенном до самых основ крушением своей мечты. Учение о двойной истине недвусмысленно говорило о существовании противоречий между верой и требованиями науки, причем предпочтение отдавалось все-таки собственным влечениям науки: авторитет естественного разума вступил в соперничество с авторитетом истин Откровения. Теперь считается, что законы разума реализуются вне и независимо от Божественного вмешательства, все события совершаются не как результат регулирующей Божьей воли, а в силу естественной необходимости. Побуждения человеческой воли также причинно связаны с собственными интенциями. Интеллект у всех людей один и тот же, что говорит о над-индивидуальности души. Принцип воздаяния в таком случае подлежит сомнению, поскольку если нет у человека индивидуальной души, то и некому воздавать и не с кого спрашивать. Человек отторгается от разума, от воли, от истины, от души и поражается в своей неотчужденности от сферы божественного. В огромной степени именно рост знаний о философии Аристотеля, которая ничем не была обязана иудео-христианской традиции, сделал необходимым проведение четкого различения между философией и теологией. Философская рефлексия существовала и до XIII века. Но еще в первой половине XIII века не было ни одной определенной философской системы, которую можно было бы назвать августинианством и которая в то время, когда аристотелизм стал более известен, восстала бы против него и защищалась как единственно верная философская система. Такой системы не существовало, несмотря на широкое хождение августиновских идей. Ибо некоторые основные категории Аристотеля стали к этому времени уже расхожими, другие же идеи «консерваторов» были заимствованы у неоплатоников или из других источников, отличных от Августина. Различие философии и теологии есть не просто различение их предметов. Существуют богооткровенные истины, которые не могут быть доказаны философскими методами, существуют также философские истины, которые не были сообщены в Откровении. Но имеется некоторое ограниченное совпадение предметов теологии и философии. Например, метафизика доказывает существование Бога, и Бог, очевидно, является предметом размышления теолога. Но в теологии размышление начинается с Бога, предполагая Его существование как постулат веры, тогда как философ начинает с объектов чувственного восприятия и приходит к знанию о Боге только в той мере, в какой его приводит к этому умозаключение. Под напором критики, тесные связи философии и теологии, существовавшие до сих пор, начинают разрушаться. Это очевидно как в метафизической области, где сомнению в обоснованности традиционных аргументов сопутствовала изрядная доля теологического фидеизма, так и в областях этики, где существует сильная склонность ставить моральный закон в зависимость от божественной воли, а значит укреплять и развивать тенденцию, различимую у Дунса Скота. Попытка Аквината синтезировать аристотелевскую и христианскую этику обнаруживают явные признаки путаницы.Готика как художественное направление взошла на дрожжах разочарований в идеалах средневековья. Готический человек уже переходит к фиксации себя как индивидуума, к рефлексии над собой, над собственными переживаниями, переходит к изображению того, что с ним происходит в минуты его небесных порывов и восхождений. Одно дело - христианское стремление ввысь, понятое как объективное состояние, и другое дело - рефлексия над тем, что происходит внутри влетающего субъекта. Готика развивается в виде такого стиля, который пытается изобразить не просто порывы христианской души, но те эмоции, чувства, аффекты, которые при этом возникают в глубинах внутреннего самочувствия. Самочувствие человека этой эпохи изменилось настолько, что рефлексия, направленная на внутренние области души, первым и главным делом требовала веры, пошатнувшейся в лихолетьях. Мир горний и мир дольний настолько отделились друг от друга, что теперь требуются нечеловеческие усилия, чтобы достичь неба. Безоглядная устремленность ввысь есть в данном случае безоглядное разочарование в земном, в том, что еще недавно было подобием неземных совершенств. Сама предметность, вещность, материальность должна теперь отвлечься от себя. Готика стремится уничтожить всякие преграды для стихии воздушного пространства - духа. Тут уже нет никаких стен, нет ограниченного пространства. Оно здесь по своему существу бесконечно и нематериально. Камень тут не имеет значения материальной среды. Это эстетически утонченная хаотичность. Вся романская громада настолько расчленяется на отдельные едва заметные вертикальные линии, что уже и от самой громады ничего не остается, но только порыв и взлет. Камень превращается в одухотворенность, он перестает быть камнем: средневековье перестает быть средневековьем.
ПУСТОТА
Труд как разновидность аскезы - таков идеал средневековья. Существовала иерархия оценок разных видов деятельности. В категорию осуждаемых безоговорочно попадали ростовщическая деятельность, осуждавшаяся принципиально, торговая деятельность, на которую смотрели подозрительно, и ремесла. Наилучшее из трудовых занятий - сельское хозяйство. В агиографической литературе нередки упоминания о святом, который мирно идет за плугом или пасет стадо. Средневековая идеология знала только три сословия: духовенство, рыцарство, крестьянство. Ремесленники и купцы не вписывались в стройную систему социального устройства. В богословских наставлениях при перечислении лиц, которые попадут в ад, среди неправедных священников, рыцарей-грабителей и купцов-обманщиков неизменно присутствуют "почти все" ремесленники. Напротив, крестьяне "по большей части спасутся", ибо "ведут простой образ жизни и кормят народ Божий". Сознание человека средневековья вообще анти технично, в те времена люди за каждое изобретение расплачивались тем, что их подозревали в связях с сатаной. Строительство почти всех соборов и мостов завершалось сплетнями о том, что их строители продали душу дьяволу. Сказание о сооружении Вавилонской башни, столь живо воспринятое средневековьем, своим смыслом предостерегало от технической заносчивости. Человек средних веков никакой симпатии к ремесленнику не испытывал, для земледельца ремесла и ремесленники были необходимым, но вовсе не главным предметом его забот, ремесло относилось им к сфере бытовых услуг, имело служебный характер, и уж во всяком случае за ремеслом не признавалось никакой значимости для средневековой метафизики. Один средневековый писатель, рассуждая о достоинствах того или иного сословия, в том месте, где речь заходит о городских ремесленниках, походя замечает: "Сословие, коему не приличествует столь же пространное описание, как иным, по причине того, что само по себе оно едва ли способно выказать высокие свойства, ибо по своему положению есть сословие услужающее". Что должен был думать тогдашний ремесленник о своем времени, в каком черт догадал его родиться, об обществе, где подозрительно всякое умение, о Боге, Который только грозит адскими муками, об идеологах, вещающих от имени этого Бога и Его именем презирающих ремесла и одновременно пользующихся его трудом, о своем государстве, где он живет без права знать, на что расходуются деньги, которые он платит в казну в виде налогов? Этот ремесленник живет в социальном вакууме, в пустоте, ущемленный не только в своих экономических интересах, но и идеологически. И разве не логично с его стороны было бы заключить, что сама эта социальная пустота есть всего лишь символ более страшного - пустоты небес? Город был тем местом, где зарождались сомнения. Здесь в наибольшей степени концентрировалась маргинальная для аграрного общества прослойка ремесленников и купцов, здесь встречались люди разных стран и городов, приносившие новые идеи и новые толкования религии. Здесь скорее, чем в деревне, увеличивалось количество грамотных людей, способных читать религиозные книги и размышлять над их содержанием. Городской ремесленный слой был достаточно имущим, он был тесно связан с городским плебсом и крестьянством, но не был ни крестьянством, ни плебсом. Этот слой не был буржуазией в современном нам смысле. Ремесленники были работающими собственниками. На этой основе в средневековом городе формируется особый вид хозяйственной деятельности, покоящийся на прибыльной самоэксплуатации. Однажды приобретенная экономическая независимость вместе с неоформленным социальным статусом порождали такую сознательность, которая неизбежно становилась на путь оправдания и возвышения своего положения в форме индивидуалистической ревизии христианских догматов. Средневековые ереси наиболее благоприятную почву для своего распространения находили именно в ремесленных цехах, впитывая страхи и неудовлетворенность этой среды, вбирая в себя ее метафизику и волю к переменам. Вникая в психологическую атмосферу этого слоя, мы погружаемся в трагические глубины маргинального сознания, нравственная ригористичность которого создавала тот особый духовный настрой, когда суровой мерой божественного и сатанинского оценивается каждый поступок, когда события жизни видятся как ристалище добра и зла, где добро и зло понимаются с той степенью абсолютности, которая перехлестывает границы здравого смысла, когда за человеком в неистовом богоборческом порыве отрицается всякая вина в падшести мира и к высшему смыслу предъявляются требования, не сдерживаемые никакими догматами и не признающие за человеком никакой поврежденности, когда противоположность земного и небесного столь непримирима, границы света и тьмы столь непроходимы, что человеческому сердцу на его вопрошания отвечает только его собственное эхо, тающее в пустоте неба. Трагическое в средние века живет в мастерской ремесленника, и имя ему - пустота.
ГОРОД
Не впадая в большое преувеличение, можно сказать, что город разрушил средневековье. Западный город был местом перехода из несвободного состояния в свободное. В городах Европы возник известный принцип: городской воздух приносит свободу. По истечении разного, но всегда довольно короткого времени господин терял право притязать на подчинение раба его власти. Средневековый город был прежде всего союзом, понимаемым как братство. Он был "коммуной" с момента возникновения, независимо от степени осознания этого факта самими горожанами. Разрыв родоплеменных связей в период великого переселения народов также напрямую способствовал рождению города как союза лично заинтересованных граждан. При основании городов бюргер входил в городскую корпорацию как отдельное лицо и в качестве такового приносил клятву городу. Его личное правовое положение, а не род и не племя, гарантировало ему личную принадлежность к союзу. Когда экономические интересы горожан направляли их к созданию городской корпорации, они, с одной стороны, не встречали препятствий в магических, племенных или религиозных ограничениях, а с другой стороны, над ними не стояло управления политического. Возникновение в средние века автономной и автокефальной корпорации с управлением городского совета - явление, существенно отличающееся от тех, что наблюдались не только во всех азиатских, но и античных городах. В формально-правовом отношении корпорация горожан как таковая и ее учреждения "легитимно" конструировались посредством действительных или мнимых привилегий, данных политической, а иногда и вотчинной властью. Образование города обусловливалось не политическими или военными интересами, а экономическими мотивами основателя, рассчитывающего, таким образом, на получение пошлин, налогов и других торговых доходов. Город для основателя был прежде всего не военным предприятием, а хозяйственным. Характерная для средневековых городов автономия различной степени достигалась еще и потому, что административный и судебный аппарат сеньеров еще не располагал достаточными знаниями, чтобы руководить делами городских ремесленников и предпринимателей. Интерес же властителя сводился только к денежным поступлениям, и если жителям города удавалось этот интерес удовлетворить, он не вмешивался в их дела, чтобы не ослаблять притягательную силу его власти при основании новых городов и не терпеть поражения в соперничестве с другими феодалами. Соперничество между феодальными сеньерами, а особенно между центральной властью и могущественными вассалами и церковными властями шло на пользу городам. То были города небывалые, города нового типа, как новым был и тип человека, стараниями которого рос и развивался город средневековья. Это был замкнутый мирок, защищенный своими стенами, мирок агрессивный, упорный труженик неравного обмена. Свою судьбу город обеспечивал своими дорогами, своими деньгами, своими мастерскими. Он обеспечивал выход все возраставшим излишкам сеньериальных доменов, этим громадным излишкам продукта, накапливавшегося в результате уплаты налога. Городская верхушка, монополизировавшая право заседать в совете, могла удерживать это право до тех пор, пока не существовало резкой противоположности между ними и не допускаемыми к власти гражданами. В противном случае их ждали революции, которые осуществляли связанные клятвой объединения, а за ними стояли цеха. В некоторых случаях движение ремесленников приводило к тому, что в совет города входили только представители цехов и полноправным гражданином мог стать только член цеха. Подобный рост значения цехов означал практически полное завоевание власти бюргерами в экономической сфере. Господство цехов в той или иной степени всегда совпадало со временем господства города вообще и с наибольшей политической независимостью города внутри страны. Главный экономический интерес в экспансии средневекового города составляло не землевладение. Средневековый город ориентировался на доходы, получаемые посредством рационального ведения хозяйства. На рубеже XIII-XIV веков на башнях соборов и городских ратуш впервые появляются городские часы. Не зная более мелких подразделений времени, они отбивают только часы. Но отбивают их безотносительно к тому или иному лицу. Их появление в этот период очень симптоматично. Изобретение, в котором нет метафизической надобности, никогда не будет сделано. Метафизические потребности эпохи - это необходимость символизировать новый опыт, идущий на смену старому миропониманию. Открытие, не имеющее под собой метафизического обеспечения, если и будет сделано, то не найдет применения. Механические часы появились на башнях в тот момент, когда городское население стало более остро нуждаться в точности определения времени. Бой часов на городской башне символизировал притязания "новых людей" на господство. Переход к механическому отсчету времени подготавливал новый и в высшей степени нововременский сдвиг в сознании - время не зависит от человека, не связано с ним, оно не антропоморфно и внутри себя безразлично к своему содержанию. Время стало этически нейтральным. В обществе, в котором течение времени ощущалось в меньшей степени, в обществе с относительно низким темпом изменений преобладает настоящее, оно как бы охватывает прошлое и будущее. Теперь же время вытянулось в прямую, ведущую из прошлого в будущее, но соединяющее их настоящее при этом превратилось в точку, скользящую по этой прямой. Овладев секретом измерения времени, человек вместе с тем начал утрачивать свою связь с ним. Позднее средневековье уже, в сущности, не является таковым. Экономическое развитие запада - завершение внутренней колонизации, развитие городов, а значит, и товарного производства, сопровождавшееся демографическим подъемом, укрепление социальных позиций бюргерства, коммунальное движение и объединение государств - породило глубокую переориентацию внутреннего мира европейца. Позднее средневековье ознаменовано перестройкой ментальной оснастки средневекового человека. Общей чертой этой перестройки становится перемещение внимания с небес на землю. Нет уже того презрения к миру, которое знало раннее средневековье, изменяется отношение к труду ремесленному, меркнут авторитеты, технические новшества уже не синоним сговора с дьяволом. Изменяется соотношение между устным и письменным словом в пользу последнего, письмо десакрализуется, возрождается интерес к картографии, интерес к точному знанию земли. Изменяется топография потустороннего мира: появляется чистилище. Идея чистилища была порождена потребностью людей ремесла сохранить надежду на спасение. Люди, хорошо умеющие считать, и мир потусторонний превратили в контору купца, где скрупулезно подсчитываются грехи, покаяния и плата за них. Эволюционирует и понятие святости: наряду со старыми религиозными образцами складывается светская аристократическая модель безупречно честного человека, соединяющего мудрость с мужеством. XIII век - это время появления портрета, время выявления "я" в искусстве, проникновения субъективности в литературу, появления линейной перспективы в живописи. Примечательно, что романы и лирические поэмы уже не ограничиваются описанием деяний, но весьма усердно стараются анализировать чувства. Даже в военных эпизодах поединок двух бойцов становится более важным, чем столкновение армий. Новая литература стремится к реинтеграции индивидуального. В этой склонности к самопознанию существует перекличка с религиозным началом: практика исповеди «на ухо», которое долгое время была в ходу лишь в монастырском мире, распространяется среди мирян. Эпоха истинного феодализма кончилась. То, что затем следует, - это княжески-городской период, где господствует торговое могущество бюргеров и основывающееся на нем денежное могущество монархии.
МИСТИЦИЗМ
При всяком нарушении правильного распорядка жизни, в общем-то покойной и уютной, людей средневековья охватывала паника, мир начинал казаться невыносимым и с неудержимой силой тянуло разделить участь тех, на чью долю выпала привилегия нищеты, лишений и отказа от собственной воли. Создавались религиозные братства мирян, старавшиеся хотя бы в меру своих сил осуществить идеал жизни вне мира, братства по-своему спасавшихся людей, рано или поздно делавшиеся добычей ереси. С конца XIII века в Европе начал в невиданных ранее масштабах распространяться мистицизм. Религиозный пыл, охвативший людей, был в высшей степени благочестив, христоцентричен и направлен на непосредственное единение с Богом, но по большому счету игнорировал официальные церковные институты и установления. Людей волновал прежде всего вопрос непосредственного просветления жизни, освящения ее христианской любовью и служением. Однако такой акцент на значении внутреннего единения с Богом, а не на неуклонном выполнении установленных церковью таинств и форм поклонения ставил под сомнение роль самой церкви. Как только появилось мнение, что непосредственный религиозный опыт доступен не только духовенству, но и мирянам, на епископов и священнослужителей перестали смотреть как на обязательных посредников в духовном стремлении к Богу. С точки зрения новых проповедников-мистиков и новых духовных братств, личное благочестие предпочтительнее обрядов, подобно тому, как внутренний опыт выше соблюдения ритуала. Истинная Церковь теперь все более отождествлялась со смиренными душами верующих, озаренных благодатью, а не с официальной церковной иерархией. Новая ориентация на Библию и веру в Слово Божье как основание для этой самой Церкви стала вытеснять церковный упор на догму и папскую непогрешимость. Время позднего средневековья - это время, когда простой народ воспринимал все происходящее вокруг как одно непрерывно длящееся зло. Бедствия, эпидемии, дороговизна, вымогательства, разбой - все сливалось перед глазами как неоспоримые свидетельства конца мира. В этой атмосфере человек невольно поддавался чувству всеобщей беззащитности. Мир земной как мир зла, где повсюду разгорается пламя ненависти и насилия, повсюду царит несправедливость, возвещающая о последних временах, ожидание Господнего гнева - вот мироощущение той эпохи. Горькая тоска и усталость - вот хороший тон высшего общества. Пессимизм заката средних веков питается умонастроением "действительной смерти бога". Это умонастроение разочарования в идеалах своего общества, в фундаментальных достоверностях, на которых основана вся человеческая жизнь; настроение депрессии в той мере, в какой его выражают все, не религиозно по своей сути, если под религиозностью понимать разочарование в христианском вероучении, - это разочарование сущностно шире, это разочарование в Боге-Личности и в человеке, вырастающем на основе веры в Бога-Личность, независимо от того, понималось ли под Личностью христианское учение о Боге или нет. На исходе XIV века в народе всерьез верили, что с начала Великой Схизмы никто уже не попадал в рай. Мысль позднего средневековья знает только два полюса чувствований: радость по поводу обретения спасения души и печаль по поводу бренности всего земного. Позднее средневековье идет по стопам номинализма, приучающего человека к тому, что в мире познания он познает только единичные вещи, познание есть познание единичного, остальное - "слова, слова, слова". Вещь существует теперь только в процессе восприятия и мышления, а что такое вещь сама по себе, уже не важно. Здесь в основе взаимоотношений человека и вещи лежит отсутствие всякого различения между мыслимым и мыслящим. Достоверности нет, все одинаково. Мыслить можно все что угодно. За чертой мира - пустота. Обилие слов схоластики в той области, где мыслится невыразимое, обесценило само слово. Слово, говоря о несказанном, становится как бы образом невыразимого, где опосредование словом воспринимается как утрата непосредственного ощущения присутствия божественного. То новое умонастроение, которое пробивает себе дорогу в толще отжившего, добывается из глубин нового мистического опыта, на путях невербального постижения Бога. Экхарт и немецкая мистика XIII-XIV веков стоят в самом начале долгого пути европейского имманентизма, когда абсолютное на все лады трактуется как соизмеримое с человеком, когда вместо абсолютного та или иная человечески пережитая и человечески осмысленная предметность проецируется в качестве абсолютного. Абсолютное выступает то как мистическая глубина индивидуальной души, то как вселенский хаос - предмет романтических чувств и исканий, то как рациональная схема логически построенных законов и понятий, то как бессмысленная, но вечно жаждущая жизни мировая воля, то как возвышенная и моральная проповедь некоего мирового "Я" и так далее. От Мейстера Экхарта ведет свое начало история освобождения логики от абсолютной трасцендентности и все большее приближение ее к человеческому имманентизму, вплоть до того момента, когда Гегель само абсолютное начинает мыслить как систему диалектических понятий. В основе этой мистики лежит опыт пустоты, который был свойствен средневековому трагизму, опыт постижения бытия как иррационального в своей основе: где-то в неизмеримо большей глубине есть безосновность, к которой неприменимы не только никакие человеческие слова, но даже категории бытия и небытия. Это глубже всего, и это есть исток, который составляет "темную природу в Боге". В природе Бога, глубже Его лежит какая-то изначальная темная бездна, и из ее недр совершается процесс Богорождения, процесс вторичный по отношению к самой бездне, которая и есть истинно абсолютное, иррациональное, ни с чем не сравнимое и не измеримое никакими категориями бытие. Отсюда берет начало европейская телеология, видящая сущность мирового процесса в просветлении этого темного и иррационального начала в космологии и теогонии. Экхарт трактует Бога как абсолютную пустоту и отсутствие каких-либо различений: абсолютный мрак и абсолютный свет, абсолютная тишина и абсолютный шум, абсолютное отсутствие сознания и абсолютное сознание. Когда Бог начинает различаться в себе, он сознает Себя как Отец и Сын. Это различение есть одновременно и рождение мира. Бог нуждается в мире, чтобы создать Самого Себя. Весь мир, все сущее есть эманация Бога, и каждый человек божественен, то есть является Богом по своей природе, по своей тайной сущности, и потому бессмысленно говорить о богочеловечности Христа, ибо каждый обладает такой же, как Он, природой. Напряженное чувство богоподобности, обостренное желание спасения, Бог, растворенный в Творении, и Творение, растворенное в Боге, сходятся в учении Экхарта, чтобы принести в жертву абсолютному человеческую индивидуальность. В немецкой мистике уже почти не упоминается церковь и ее таинства. К позитивным значениям Бога добавляются и негативные: пустота, мрак, ничто. Бог, по Экхарту, пра-основа всего сущего, предсуществующая во всех сущностях. Преодоление пропасти между трансцендентным и миром происходит посредством слияния человека с Богом. При слиянии с Богом исчезает всяединение, и в погружении этом утрачивает все схожее и несхожее, и в бездне той теряет дух сам себя и ничего больше не знает о Боге, ни о нем самом, ни о схожем, ни о ничто, ибо он погрузился в божественную единость и утратил все различения" (Таулер). "Но после потерянности в пустынной тьме там не остается ничего, ибо там не дают и не получают, там, единственно, лишь простейшее бытие. Там - Бог и воссоединение с ним в потерянности, и никогда больше не смогут они его найти в этом безвидном бытии. Тогда отпадают они от самих себя в потерянность и бездонное неведение, тогда вся ясность возвращается обратно, во тьму, где три лица уступают сущностному единству" (Рюйсбрюк). Как только душа постигнет, говорит Экхарт, что в Царство Божие нет никакого доступа ничему сотворенному, оно встает на собственный путь и не ищет уже Бога. "Все твари суть ничто. Я не говорю, что они малы или суть нечто, - они суть ничто. Не имеющие бытия суть ничто. Все твари лишены бытия, ибо их бытие зависит от присутствия Божьего" (Экхарт). Поскольку Бог - невыразимое ничто, то все порывы человека к Богу есть тем самым отказ от себя - самозабвение и отречение. "Выйди же ради Бога из самого себя, чтобы ради тебя Бог сделал то же самое. Когда выйдут оба - то, что останется, будет единое и простое" (Экхарт). Путь мистика - от видимого к невидимому, от осязаемого к бесплотному, от вещи к духу, от духа к ничто. Троица здесь есть нечто пограничное между ноуменальным и феноменальным мирами, дверь для возвращения в абсолютное Божество. Душа, пытаясь освободиться от телесности, полученной при грехопадении, устремляется именно к Божеству. «Искорка», изначально присутствующая в душе человека, единосущная Божеству, побуждает душу прорваться за Троицу, увлекая ее в погружение в божественное. Если мы верим в Бога, значит верим и в то, что конечные вещи на самом деле зависят от Него. Но существует естественная тенденция человеческого ума изображать Бога как своего рода дополнительное сущее. Посредством вызывающих утверждений и смелых антиномий Экхарт старается привлечь внимание своих слушателей, заставляя их лучше понимать имплиуации исповедуемых ими религиозных верований и вместо того, чтобы рассматривать твари как устойчивую реальность, а Бога как фигуру на заднем плане, учит рассматривать Бога как единственно бытийствующее. Термин «мистическая теология» двусмыслен. Он может означать теорию мистицизма - например, анализ типичных последовательных ступеней мистической жизни. Однако термин этот может использоваться и для обозначения такого актуального опыта, которое отличное от размышления и рассуждения. В XIX веке поиски непосредственного контакта велись в разных формах. Они могли проявляться в мистицизме, который удерживался в рамках учения церкви. Вместе с тем поиски проявлялись и в народных движениях, которые либо с самого начала, либо с течением времени становились враждебны церкви. Есть также соблазн видеть врасцвете спекулятивного мистицизма в это время как реакцию на споры и пререкания между школами. Но пререкания между школами имели место в университетах, тогда как тенденции мистицизма были широко распространены и выражали скорее общее стремление к непосредственному соединению с Богом. Оккамовская критика традиционной метафизики также способствовала развитию мистицизма, поскольку если человеческий разум неспособен доказать существование Бога или сообщить нечто важное о Нем, позволительно сделать вывод, что приобщиться к Богу можно единственным путем - опытным, мистическим. Мистические настроения самоуглубления и отрешенности, пронизывающие это "новое благочестие", выражает туманное, но довольно решительное неприятие формальной и громоздкой религиозности, которая здесь заменяется на религиозность моральную и сугубо личную. В "новом благочестии" по-своему высказывается настроение серьезности и внимательности к внутренней рефлексии перед лицом скорого конца света. Появляется новое чувство истории. Из спокойного и несуетного средневековое мышление превращается в мышление, мечтающее о молочных реках и кисельных берегах Царства Божьего на земле. "Объективирующее мышление" средневековья исключало постижение истории как процесса. Преходят царства и народы, рушатся цивилизации, города и государства, как стареют и умирают люди, но во всем этом нет смысла и связи, нет движения. Переход от эсхатологических представлений о прерывании истории к хилиастическим проектам Божьего Царства на земле инспирирован именно новым мистическим опытом. Для "нового благочестия" характерно убеждение, что то, что обещано человеку в будущей жизни, осуществимо для избранных натур, душа которых освобождена от земных преград уже здесь, на земле. Отправляясь от идеи индивидуальной души, личности, достигающей в мистическом акте своего завершения, мистики смогли прийти к совершенно новому взгляду на историю. С эсхатологами у них один источник - Откровение Иоанна. Но между тем как эсхатология проходит мимо 4-7 стихов 20-й главы, хилиасты сосредоточивают на них все свое внимание. В своих предвещаниях они говорят об эпохе "первого воскрешения" праведных на земле, когда будут реализованы залоги, оставленные Небесным Женихом своей земной Невесте. Земная история, таким образом, получает свое завершение уже на земле. Мистики смягчают радикализм эсхатологов. Мистики стоят решительно на той точке зрения, что история проходит поэтапно. Из привычных представлений о двух эпохах в истории человечества, соответствующих двум заветам, мистики извлекают надлежащий вывод и вносят в историю понятие прогресса, до известной степени имманентного исторической действительности, поскольку цель исторического развития мыслится ими осуществимой в тех самых условиях, в которых протекает история. В истории человеческого духа у Августина нет движения, нет развития, потому что Августин не ощутил его в собственной душе. Августин говорит о скитаниях Божьего Града среди земного, о течении обоих Градов, но речь идет о движении в пределах времени, а в смене приносимых и уносимым временем феноменов не видно какого-либо усиления или ослабления напряженности между ними. Августиновской философии истории недостает историчности. Мистическое богословие позднего средневековья, напротив, в большой степени исторично. Мистики перерабатывают в духе историзма идейное наследие Августина и вливают в созданные им формы новое содержание. Вековечное состязание двух городов они обращают в процесс вырастания Божьего Града непосредственно из земного, и в этом раскрывается им новый смысл истории, подобно тому, как смысл личной жизни они видят в вырастании Бога непосредственно из глубин человеческого духа, в противоположность Августину, потрясенному пропастью, отделяющей его от Бога. Завещанную Августином форму "Исповеди" и монолога мистики употребляют совершенно для другого - для автобиографии как истории личного самосознания. Так завершается средневековье в области духа. Человек, обоснованный философски, заменяется человеком, обоснованным имманентно человеческим.
ЧУМА
Экономическая жизнь позднего средневековья опережает аграрное мышление. На обширных пространствах свершается переход от домашней экономики к экономике рыночной. Наблюдается демографический подъем. Но вся эта жизнь рушится из-за неслыханного размаха эпидемии чумы. Смерть становится суровой повседневностью. Обострение страхов и апокалиптических настроений находит самые разные формы: от распространения массовых самобичеваний и еврейских погромов до истерических плясок, с помощью которых пытаются одолеть страх смерти, от роста численности изображений Страшного суда до лихорадочной поспешности, с которой пользуются радостями жизни, пока не порвана ее нить, от своеобразного культа мертвых в облике надгробий до идеи триумфа смерти, уравнивающей все сословия. В потрясениях и массовых истериях менялась коллективная психология. Кошмарное и неотвратимое бедствие, не разбирающее ни правых, ни виноватых, ни своих, ни чужих, ни святых, ни грешников, порождало человека, чувствующего свою полную беспомощность перед этим скопищем ужасов и бедствий. Для человека, попавшего в это напряжение, единственной возможностью укрыться было психическое расстройство. Для человека средних веков чума означала мрачные кортежи, рвы, в которых находят свой последний приют те, кто победнее, костры, в пламени которых сжигают умерших. Она означала также отправляемые обозы с провизией обратно, блокированный в порту товар, закрытые лавки. Эпидемия - это голод и безработица. Иконография, которой к этому времени было уже более тысячи лет, предлагала видение смерти, начертанное на фронтонах соборов - смерти, побежденной искуплением. Страшный Суд, воскресение из мертвых - звенья одной цепи. Иллюстрация смерти была лишь предупреждением о семи смертных грехах. Все меняется, когда смерть осмысливается поколением, познавшим наваждением чумы. Смерть перестает быть переходом к вечным мукам и вечному спасению. Теперь уже не Бог забирает жизнь, чтобы потом воскресить, ее самовольно забирает смерть. И новая иконография отводит смерти место, которое ранее принадлежало дьяволу и иже с ним. С изображений смерти Христа и детей человеческих сходит налет просветленности, присущей ранее. Появляется трагическая маска смерти, отражающая муки, пережитые в момент перехода от жизни к смерти. Болезненный дух XIX века порождает изображение «мертвеца» - разлагающееся тело, разрушаемое смертью не во время кончины, а уже в вечности. Тема «Пляски смерти» властвует умами. В праздники ее исполняют на площадях. Каждый вводит в нее свой персонаж, соответствующий его фантазии или положению в обществе. Смерть всюду вмешивается в жизнь. Смерть с косой тоже танцует. Начало неизбежно, конец неумолим. В этом самочувствии одновременны как принижение веры итак и возвышение человеческих ценностей. Судьба измеряется теперь эталоном жизни, а не вечности. Равенство перед смертью заменяет равенство перед Божьим Судом. Ничего теперь не отличает избранных от обреченных. У них одна судьба. Смерть жива, а живой мертв. Движение живых к смерти порождает иллюзию жизни. В «пляске смерти» нет ни Девы, ни святых. Бог - Судья, а смерть - враг, и этот враг заведомо побеждает. Население Европы сократилось наполовину. Ужас охватил людей, церкви были переполнены, проповедники объявляли, что это гнев Божий, прихожане публично каялись в грехах. Чума опустошила целые монастыри и провинции. Тех, кто оставался жить, охватывала неистребимая жажда жизни. Многие монахи отказываются от послушания, распределяют между собой монастырскую собственность или распродают ее. Чтобы снова заполнить поредевшие ряды, в монастыри принимают всех без разбора, что еще больше подрывает монастырскую дисциплину. В глазах мирян общий упадок монастырской жизни выглядит еще более зловеще, чем все предыдущие неурядицы и бедствия. Жизнь замирает, между прошлым и будущим зияет разрыв. Что есть Бог, если Он карает и правых и виноватых? Что есть жизнь, в которой нет укрытия от немилосердной судьбы? И человек, вышедший живым из этого бедствия, уже знал, что тот Бог, которому он поклонялся столько лет, "действительно мертв".
НОВОЕ ВРЕМЯ: ВСЕ ПОЗВОЛЕНО
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ослабление средневекового духа нарушило всю архитектонику средневекового универсума, начался демонтаж его основных несущих конструкций и на смену универсализму пришел индивидуализм, иерархии - антииерархизм, теоцентризма - антропоцентризм. Человек средневековья утверждал себя через общее и в общем, новый человек весь окружающий мир утверждает через себя и для себя. Он сознательно отказывается от старой социальной доктрины с ее идеалом общественного обустройства и общественного служения, ибо в ней обнаружилась ложь. Он рассматривает жизнь с рационалистической точки зрения и берет ее в том виде, в каком она предстает его проницательному взору - со всем присущим ей злом, войнами, распрями, не считая это чем-то ненормальным и не строя никаких иллюзий насчет нравственного несовершенства людей. Наоборот, все это для него естественно, поскольку проситекает из природных склонностей людей. Новый человек возводит в норму ту социальную жизнь, характерные явления которой были для прежней социальной доктрины недопустимой аномалией. Он видит в мире не борьбу божественного и земного, добра и зла, добродетели и порока, а естественное столкновение частных интересов. Ренессанс не возник из небытия только благодаря индивидуальным исканиям отдельных философов. Слово «возрождение» вовсе не обозначает «возрождение наук и искусств» античности, за ним стоит многозначное смысловое образование, коренящееся в человеческом богоборчестве. Ведущий пафос эпохи - яростное богоотрицание. В средоточии идей, скрывающих в своих недрах боль человека, ясно различимо знание того, что «бог умер». Возрождение занято проблемой вне-религиозного обоснования нарвственности без надежды на посмертное воздаяние, проблемой рационального объяснения мира, отвергающнго сверхприродные причины. Для средневекового человека каждый поступок, каждый жизненный факт оценивался положительно или отрицательно в зависимости от того, вел ли он к вечному блаженству или вечной гибели, был ли он добродетельным или греховным с точки зрения ценностей, исходящих от Бога и к Нему приводящих, то есть с точки зрения, обусловленной связями и объектами, находящимимся вне человека и его земной жизни. Для нового человека и его новой идеологической системы поступки и жизненные факты оцениваются в их человеческой земной ипостаси, вне их привязки к высшим идеалам, оцениваются с точки зрения пользы или вреда, приносимых ими реальному человеческому существу и обществу, а существование Бога доказывается ссылкой на порядок и гармонию вселенной. Бог и есть этот мировой порядок. Он уже не нуждается в любви человека и сам не имеет к человеку особенной приязни, он пригоден только на то, чтобы оправдывать философские системы. Человек Возрождения только рад такому положению дел. В его веселости нет ничего натужного, нет судорожного цепляния за удовольствия, это естественная радость человека, с души которого свалился камень обязательств высшим силам, радость человека , освободившегося от своих долгов. «Бог умер» и это знание приносит радость безудержного переживания своей раскрепощенности, радость небывалой еще свободы. Эпоха Возрождения - это героическая эпоха ремесленника, триумф его метафизики. Повсюду - в горном, мореходном, военном, книжном, стороительных делах - появляются новые механизмы, коренным образом меняющие жизнь и образ мышления человека. Станки, механизмы, усовершенствования, кажется нет пределов умению, мастерству, остроумию «человека умелого». Техника в руках человека открывает новые горизонты и наполняет его радостью первооткрывателя новых тайн, земель, чувств, мыслей. Человек Возрождения - это деятель, агент истории, который опираясь на способность непосредственно воздействовать на мир, смело претендует на то, чтобы стать самой несолмненной действительностью. Именно то бурное, полное борьбы и потрясений время формируется новый тип человека - хозяина жизни. Это вышедший победителем из всех метафизических схваток зажиточный и энергичный, гордый своими успехами и уверенный в себе горожанин. Он неукротим в своей жажде наживы, он не знает предела своим страстям и стремлениям, и не хочет ограничить себя ни в чем, и он в то же время расчетлив, он глубоко индивидуалистичен, он не только не считает свои худшие качества недостатками, но гордится ими и выставляет их напоказ. Таким рисуют его многочисленные мемуары, своеобразно сочетающие откровенность с элементами бухгалтерской книги, мемуары, которых так много появилось именно в итальянском треченто. Таким он хочет видеть себя на страницах литературных произведений, которые иногда заказывает, иногда создает сам, стремясь отразить мир земных завоеваний, земных прелестей и земных радостей, что впервые после долгих лет господства аскетической идеологии открылись перед его взором. Манера вести себя, одеваться, даже двигаться и говорить радикально меняются, и сам темп изменений становится более быстрым. Появляется мода, созидательницей которой становится Италия, передающая в большинство государств Европы не только гуманистическую идеологию, увлечение античностью и классической латынью, но и новое реалистическое искусство, моду на узкие и пышные прически у мужчин и роскошные парчовые платья у женщин. Подобно тому как Реформация гипертрофировала положения христиансткого учения о первородном грехе, оптимизм Ренессанса гипертрофировал одно из положений христианства, но иного содержания - убеждение в ценности человеческого бытия, которое есть живой образ Бога. Чума своим катастрофизмом и обыденностью смерти породила свой противовес - приятие земного. Чувство избыточности бытия, радость познания мира и свободы, жажда научных открытий своим смыслом словно стремится заклясть смерть, оставляя мертвым хоронить своих мертвецов.
Но ранняя и безоблачная радость Ренессанса кончилась довольео быстро. Очень скоро стала ясна полная невозможность базирования на такой беззаботно-привольной личностно-материальной основе. Ренессанс в этом смысле представляет собой борьбу между этой беззаботной и привольно чувствующей личностью и постоянным стремлением базировать нормы человеческого поведения на чем-нибудь ином, гораздо более солидном, чем иллюзорно-свободной личности. «Смерть бога» помимо радости освобождения от обязательств несет с собой и горечь утраты собственной достоверности, укореннной в достоверности прежнего «умершего бога». Принято отмечать интенсивность жизни и творчества в эпоху Ренессанса, но знакомство с философией эпохи свидетельствует о несомненном общем ослаблении мысли по сравнению с XIII-XIV веками. Людям Ренессанса вместе с радостью знакома и «меланхолия», но не в нынешнем значении мягкой печали, а в значении «тягостного раздумья», унынния. Если будущее открыто, то в нем может случиться все, в том числе и самое ужасное. Ужас, охвативший Европу в 1000 году, когда все якобы ждали конца света, сильно преувеличена именно ренессанскими историками. переносившими страхи своего времени в прошлое. В 1500 году светопреставления ждали напряженнее. И во всем - в падении Константинополя, открытии Америки видели знаки скорого пришествия Антихриста. Свобода от морали, от обязательств прошлого не замедлила сказаться безнравственностью, а всемогущество нового человека - произволом сильных мира сего. В глубине нового человека сошлисьи горечь распада старого мира и хладнокровная решимость осуществить своей деятельнстью новые смыслы. Действительность мира уже не казалась прочно связанной с Богом, не была таким повелительным выражением его сути, каким выступали теперь рок, судьба, фатум. Фортуна стала одним из самых любимых тем в поэзии, изобразительном искусстве, философии, политике и повседневной жизни. Антропоморфизм, явившейся результатом «смерти бога», закономерно обрел магический оттенок. Магия есть единственная возможность взять на себя власть упарвления миром, когда небеса пусты. Потому так понятно то небывалое распространение, которое получили маги, колдуны, алхимики именно в это время. Веры в приметы и предзанменования, демонологический мистицизм набирают силу именно в эпоху Возрожения и полностью созревают в XVI и XVII веках. Торжество городской идеологии изменило отношение к ведовству, отныне оно понималось совершенно отличным от того, что мыслило под ведовством средневековье. Это была рационализированная вера во всемогущество оккультных сил, в ясновидение, в алхимию, астрологию, которые в угнетенном виде сохранялись на протяжении средних веков. Уверенность в «смерти Бога» придала этим воззрениям жизненную актуальность.
РЕМЕСЛЕННИК
Если средневековый человек очарован разумностью иерархии Творения Божьего, то сознание ремесленника более внимательно к самой вещи, к самому миру вне его иерархии. Ремесленник больше пленен умелостью Бога-Творца, ему важнее понять механизм Творения. Купцы и банкиры, шерстяники и соляники, зоркие и энергичные политики, кондотьеры и авантюристы - вот герои нашего времени.. чем бы ни занимался человек, от него требуется виртуозность мастера, знание ремесла, умелость, которая все может и на все решается. Ремесленник всегда имеет больше знаний в практике своего искусства, чем в науках, на которых оно основано. У ремесленника свои пристрастия и свои требования к миру. Ремесло сообщает некоторые свои особенности всему миропониманию человека, оно привносит в него преобладание прикладного характера добываемого знания. стремление реализовать свою теорию на практике, доверие к инструменту и механизму, «упорядочивание» природы в соответствии со своими целями, которые полагаются внутри человека, избыточный характер труда, принципиально нацеленный на товрно-денежные отношения, опредмечивание природы, увеличение вещности мира, стремление к созданию искусственного мира на основе техники. Техника выступает как сущностное содержание человека нового времени. Техника как объект - приборы, инструменты, механизмы, техника как умение и знание - правила, теории, способы изготовления, техника как процесс - изобретение, проектирование, изготовление, использование, техника как волеизъявление - воля, потребность, мотив, намерение - вот круг интересов ремесленника. Любовь и доверие к механизму как к видимому проявлению верности теории, опора на опыт в самом широком смысле - жизненный опыт и опыт-эксперимент - вот основа его науки. Весь мир представляется ему одной огромной машиной, и сам человек предстает как подобие мира - «человек-машина». Ремесленник стремится собрать из частей целое, предварительно разобрав целое на части. Ремесленнику больше важна возможность оперирования вещами, чем сущность самих вещей. Ремесленник останавливается на границе, где начинается сущность вещи. При всей любви ремесленника к знаниям и учености, сфера его интересов лежит не в самой науке, он знает границы, после которых начинается пространство, где ему нечего делать. Эти границы определены пользой. Для ремесленника наука как таковая вполне вспомогательна. Он останавливается на пороге вещи потому, что его удовлетворяет факт обладания вещью, он спокоен. пока механизм функционирует нормально. Переходя на «ты» с вещами, ремесленник все же достаточно благоразумен, чтобы не делать шагов, способных привести его к конфликту с вещью. Он понимает, что увещи есть свой собственный способ бытия в мире и не стремится насиловать волю вещи. Наука ремесленика больше занята составлением грамматики мира, где каждая вещь обретает красоту статики и завершенности. Мир ремесленика - мир разделенный. Ремесленик в отличие от аграрного человека. знает разделение труда и отдыха. Так же и внутри труда происходит все более частная специализация ремесел, профессий, знаний, умений. ремесленик - буржуа в самом прямом и точном значении этого слова. Предпринимательский дух протестантизма есть единственно адекватный выразитель сущности духовного мира ремесленика. Робинзон Крузо - персонифицированный идеал нового времени. К психологическим составляющим этого образа буржуа можно отнести активность человека, уверенного, что мир принадлежит только ему. Принцип индивидуального опыта весьма многоцелевой - он определяет подход ко всем проблемам, встающим перед человеком нового времени: религиозным, экономическим, нравственным, политическим, историческим. В применении к буржуа можно говорить и о гносеологической, и о моральной, и о теоретической робинзонаде. Индивидуум, действуя на свой страх и риск, своим произволом осуществляет смысл своего бытия, понимаемый как фундаментальное одиночество человека в необитаемом мире. Индивидуализм, исходящий из такого одиночества с необходимостью требует такого постулирования моральных норм, которые узаконили бы принуип самосохранения - хорошо то, что хорошо индивиду. Одиночество перед лицом необитаемой природы распространяет принцип самосохранения и на историческую действительность, и на социум. Буржуа не только эгоист-собственник, он вовсе не лишен чувства социальной отвественности, при условии, что этот социум скроен по его лекалам. Индивидуализм, рожденный из одиночества, выбирает себе такую религию, которая уже не нуждается в откровении. Буржуа мечтает о такой религии, в которой были бы примирены все разновидности религиозных представлений, он более всего склоняется к широко понятой «естественной религии», освобожденной от догматизма. Чувство самосохранения подсказывает ему, что для того, чтобы окончательно исчезли все распри на религиозной почве, нужно свести все религии к нескольким непротиворечивым принципам, основанным на ественных склонностях человека. Ему близка мысль, что для возникновения морали нет необходимости в Боге, но понятие «Бог» небесполезно для ее укрепления. Чудо религиозной терпимости появляется всюду, где наблюдается скопление купцов и ремеслеников. Утопии, фантастические грезы о рае на земле лишь тогда начинают появляться, когда человека чувчствует себя достаточно могущественным, чтобы не смотреть под ноги. Утопии требуют такой ментальности, которая в своих сущностных предпосылках радикально отлична от ментальности человека аграрного. Новое время породило множество утопий самого различного характера, но существенной стороной этих предвидений идеального будущего стало то, что социальная жизнь государства-мечты формируется как слепок с цеховой организации ремеслеников. при ближайшем рассомтрении «м\семья» утопийцев в значительной мере оказывается искусственным образованием, созданным на оснвое профессиональной принадлежности его членов. Знаменательно, что техника является в качестве существенной составляющей всех утопических проектов. Упование на разум и собственную умелость питает сознание исключительности, избранности. Он охотно организует братства, доступ в которые ограничен строгим уставом, примыкает к сектам, проповедующим спасение немногих, он любит шифры, тайны, секреты, будь то секреты мастерства, или эзотерика религиозного учения. Опыт, профессиональные навыки, секреты мастерства отгораживает его от профанов. Механицизм, любовь к технике так формируют взаимоотношения человека и природы, что, не отвергая технику человек уже не может пробиться к природе. Техника начинает определять не только взаимоотношения человека и мира, но и человека и человека. И поскольку человек нового времени прежде всего завоеватель, технические изменения происходят прежде всего в военной технике. Битва средневековья как количественно увеличенное торжество рыцарского турнира, состязания личностей, к концу XVI века сходят на нет. Начинается буржуазный милитаризм нового времени. Военные устройства, пушки, огнестрельное оружие, механический звук барабанов, новые тактические приемы - все это приметы буржуазной войны. Война буржуа - это осторожная, медленная, методичная война. Это война, где разрушают интендантские склады, предназначенные для питания вражеской армии, где отнимают у противника то клочок земли. то крепость, то вытесняют его с поля сражения путем всевозсожных маневров, маскировок, приманок, диверсий, и применяют сражение только как крайнее средство, да и то при условии, что сама битва даст больше преимущества, чем маневры. Армия буржуа - это не армия индивидуальностей, а машина, где безликие солдаты-винтики приспособлены только для лучшего выполнения приказов. это действующее огнестьрельное устройство, идеалом для которого служат часы. не будучи опустошительной в предшествующую эпоху, война нового времени приобретает иной характер. Вместо локальных и сравнительно кратковременных распрей между отдельными сеньерами - длительные, истощающие конфликты.
БОГ-ПРИРОДА
Природа в понимании нового времени - это бесконечное единство, существующее путем непрерывного возобновления своих частей. Смерть - фундаментальный. неотъемлемый атрибут бытия природы, где жизнь одного есть результат смерти другого. Пока эти бесчиленные части природы существуют бессознательно, саму природу можно рассматривать как единый организм. Разлад вносится существованием человека с присущим ему сознанием неповторимости и внутренним несогласием с фактом своей смертности. Когда мир становится бесконечным, когда земля теряет свое место центра во вселенной, то свое место теряет и Бог. Новое время за счет Бога возвышает человека, делает его основой всего действительного, но зато превращает его в часть природы. Мир распадается, не имея прежнего центра, и различные виды деятельности теперь опираются на законы и закономерности, присущие им имманентно. Природа уже открыта для эксперимента и рационального исследования, политика представляется игрой человеческих страстей, экономика основана на частном интересе, а искуссство есть производство вещей по законам эстетики. Каждая область существует автономно, в своей совокупности составляя культуру. «Культура» как обозначение новой ситуации в сфере духа появляется именно в новое время. Весь сакральный смысл, ранее принадлежащий Богу и Его Творению переходит к природе и человеку. Человек берет на себя построение совего бытия, вооружаясь знаниями науки. Просторанство техники - это место встречи человека и природы в новое время. «Встречный» характер техники исходит из активной установки человека по отношению к миру. Мерой техники выступает полезность. Польза при этом понимается не только в смысле материальном, но и в духовном, предполагающем самосознание нового человека, его самоудовлетворение в свободе и могущественности собственного произвола, в силе его воздействия на материю, на дух, на жизнь, то есть самосознание во всем объеме его нынешнего госопдства. Человек умелый сосознает себя основой сущего - субъектом- который произвольно полагает свои цели, усматривая их в податливости природы внешнему формированию. В этом субъекте техника располагается внутри человека как врожденная способность и потребность изменять мир. Техника мыслится как онтолгическая основа всякого познания и изменения. Больше того, поскольку польза полагается человеком, и полезность и бесполезность чего-либо находится в компетенции самого человека, то техника иначе, чем искусство, коренится в свободе человека, поскольку взаимосоотночимость технического произведения и целеполагающего проектирования более велика, чем произведения искусства и замысла художника. Философия природы как основополагающего творческого начала, своей энергией пронизывающего мироздание, в новое время является своего рода идейным договором, на основе которого приходят к согласию представители разных вероисповеданий и разных политических убеждений. Причем в таком философском поклонении природе благоговение перед ее земными ликами сочеталось с научной теорией, которая рассматривала природу эмпирическую как вне-разумный, мертвый материал. Метафизика нового времени потому и не знала философии истории, что, во-первых, ощущало свою эпоху как осуществленный «золотой век», в котором происходит раскрытие всего подлинно человеческого, во-вторых мыслила природу и человека имманетными друг другу, принадлежащим к миру ставшего. Человек в этом понимании выведен из области изменчивого, то есть из истории как изменчивой череде событий, эпох и лиц, и приписан к абсолютному по имени Природа. И потому история предстает не только как то, что может возбудить философский интерес, но и как нечто враждебное человеку, поскольку в истории собираются смыслы, которые несут порчу ставшему. Потому история в понимании нового времени есть просто собрание анекдотов, из которого извлекаются преимущественно моральные уроки. И даже у Канта в конце нового времени сохраняется это противопоставление природы и истории. Человек как субъект, как принадлежащий миру ставшего, неименен, его природа и его сущность одна на все времена, и именно такая, какой ее мыслит новое время. Сфера истории для нового времени естественным образом представляет собой сферу стоического противостояния внутреннего самозаконного порядка человека внешенму хаосу становления. Как происходит рождение Бога-Природы? Во-первых оно опирается на прочно усвоенный человеком опыт самостоятельности своего субъективного устроения, выненсенный из опыта средневековой метафизики. Во-вторых он питается метафизическим мудрованиями платонизма, заново открытого гуманистами Возрождения. Бог и мир в платонизме как категории вполне раздельны и противоположны. Но субстанционально это вполне одно и единственное бытие, обоженный космос и вещественное божество. Какое бы ни было противостояние Бога и мира в платонизме, он всегда мыслит Бога абсолютным имманентным миру и бытию - вся мировая субстанция, а следовательно, принципиально и все отдельные субстанции, входящие в ее состав, уже мыслятся как вечные и спасенные, и здесь уже нечего преображать, а можно только совершенствовать на основе уже данной субстанции. Платонизм мыслит принципиально всех людей как богочеловеков, подобно тому как всякий образ для него есть таинство. В христианстве единый и неповторимый Бог только однажды и только неповторимо воплотился в человеках субстанционально, а все остальные люди воплощают в себе этого Бога только энергийно. В платонизме все люди одинаково суть субстанциональные, ипостасийные воплощения Божества, и тут не может быть никакой существенной разницы между богочеловеком и человеком. Платонизм вообще не различает бытие божественное и бытие тварное. Сочетание христианского учения с платонизмом приводит к тому. что Бог как самостоятельный объект и сущность остается сам по себе в виде абсолютной непознаваемости и расчлененности Трех Лиц Божества, а божественные энергии отделяются от Бога и считаются тварными. Этим сразу сохраняется и христианская трансцендентность Бога, то есть Его нетварность, и платоническое неразличение тварного и нетварного в мистическом опыте. Возрождение, а следовательно, в дальнейшем и все новое время именно таким образом совместило христианство и язычество. При этом совмещении неизбежно впадение в дуализм. Дуализм при усилении рационального аспекта становится картезианством, при усилении субъективизма - кантианством, при ослаблении трансцендентного чувства - позитивизмом, поскольку такая идея как предмет христианского богочувствования рассечена тут на две абсолютные - онтологически и гносеологически - сферы. Для возрожденческого гуманизма, как и для православного учения. так же принципиально самостоятельна неизреченная божественная сущность, но в силу разделения тороичности Бога, фактически оказывается самостоятельным только тварное, так. что бог, оставаясь неявленным, превращается в абстрактное понятие, в принцип, в «бога философов». Бог - абсолютная Личность, но языческий опыт требует, чтобы в Нем были две совершенно несоизмеримые стороны - идеальная, она по необходимости должна быть формально-абстрактной, и реальная - она должна быть иерархийно-подчиненной в отношении первой и обладать самостоятельной созерцательной и жизненной ценностью. Таким образом, Бог-Личность, опредмеченный католицизмом, открыт к слиянию с платонизмом, с тварным миром, и неизбежно становится Богом-Природой. Для нововременского мышления первичные качества вещей являются существенными свойствами субстанций, пространственно- временные отношения которых образуют природу. Упорядоченность этих отношений образует порядок Природы. Природные события некоторым образом схватываются умом, который связан с живым телом. Прежде всего умственное действие вызывается процессами, происходящими в некоторых частях тела, например, мозговыми процессами. Но работа сознания связана также с восприятием ощущений, которые, строго говоря, представляются свойствами самого ума. Поэтому немалая часть того, что якобы предоставляет природа, должна быть по справедливости отнесена к нам самим. Природа скучна: она лишена цвета, запаха, звука, в ней есть только суета бесконечного и бессмысленного вещества. Философия природы создала такую систему мышления, которая была начертана математиками для математиков. Главная особенность математического ума состоит в том, что она до крайности развивает в себе способность иметь дело с абстракцией и выводить из них четкие доказательства, полностью устраивающие вас до тех пор, пока вас устраивают эти исходные абстракции. Поразительный успех научных абстракций, подчинивших себе, с одной стороны, материю с ее нахождением в пространстве и времени, а с другой - воспринимающий, страдающий, рассуждающий ум, остающийся при этом безразличным к самой реальности, навязывал философии задачу восприятия всего этого в совокупности как простой фиксации совершенно конкретного факта. Философия нового времени колеблется между этими тремя точками. На одной из них находятся дуалисты выдвигающую материю и дух на равных, а на других - два типа монистов, одни из которых помещают дух внутрь материи, а другие - материю внутрь духа. Но это жонглирование абстракциями обречено на глубинную путаницу, вызванную требованиями неумолимой конкретности схематизма, построенной новым пониманием природы. Насколько вообще можно противопоставить друг другу интеллектуальные атмосферы различных эпох, настолько новое время является противоположностью средневекового. Предшествующий период был веком веры, основанной на разуме, наступил же век разума, основанного на вере в природу, в равнодушный ход законов Природы. Следует заметить, что именно августиновское понимание детального предопределения со стороны рационального личного Бога выступило здесь одним из факторов возникновения веры в природную упорядоченность. Из опыта личного переживания Бога, известного всему средневековью, было отсечено лишь переживание Бога как Личности. Бунт исторического нововременского человека следует рассматривать как насквозь антиинтеллекталистское движение, но ни в коем случае не призыв к разуму. Новый подход к миру был возвратом к рассмотрению грубых фактов, и это было реакцией на застывшую рациональность средневековой мысли, а, следовательно, и рационализма. Непосредственная связь этого нового мышления с иррационализмом и дальнейшее значение этой связи на формулирование исходных предпосылок нововременской науки не подлежит сомнению.
РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
Буржуа в конце ХV-го начале ХVI века уже как бы проигрывает в прагматизме верхним слоям общества, причем проигрывает в качествах, которые ему наиболее присущи. Он не может достичь размаха своих конкурентов в искусстве удержания прибыли и не способен вернуться к патриархальному производству. Отсюда понятен вселенский пессимизм, который овладевает бюргерством в XVI веке. Бюргерская культура этого времени пронизана ощущением хрупкости, заброшенности, случайности человеческого существования. В этой ситуации крайне остро встает вопрос о формах жизни и способах спасения от мира и царящего в нем зла. Для Буржуа необходимо было полностью оправдать свою жизнь так,чтобы она сама становилась бы гарантом спасения. Нужен был человек, который перевел бы смутные настроения бюргерства в четкие формулы вероисповедания. Таким человеком стал Мартин Лютер. В результате удара молнии во время страшной грозы 2 июля 1505 года Лютер оказывается в смертельной опасности и в этот момент принимает решение стать монахом. В том же месяце он поступает в орден августинцев в Эрфурте, через год принимает постриг и в 24 года становится священником. Благодаря своему дару красноречия и таланту он становится профессором и проповедником. От природы ему свойственно большое самолюбие. Он предрасположен к спорам и преувеличениям. перегрузки, неустойчивость психики, обостренное сознание своей греховности человека и понимание невозможности достижения праведности приводят его к острой душевной борьбе, накладывающей жесткий отпечаток на его жизнь и учение. Душевная борьба - это следствие и его внутреннего мироощущения и самого характера благочестия эпохи. Мучительная борьба со страхом смерти, доводящая до отчаяния, посты и умрщвления плоти, непрестанная молитва и покаяние, монастырская дисциплина - ничто не вселяет в него уверенность в примирении с Богом. Слишком остро он чувствует несоответствие между высокими требованиями святости и своей греховностью. Ощущение карающего правосудия Божьего отодвигает на второй план личный опыт спасения. Учение Лютера - это точный слепок его личной борьбы. Его реформированние христианства было в то же время и актом освобождения от мучительных душевных страданий. Теология Лютера есть одновременно и опыт эпохи, сконцентрированное знание Бога, которое было дано людям в их повседневном опыте. Аскет, уставший от аскезы, в глубоком приступе отчаяния обращается к известному месту из Послания к Римлянам (1,16-17), где говорится, что справедливость Божья открывается из веры в веру. отчаяния и неудачи. неверие в свои силы прямо указывали лютеру на веру как на единственную спасительницу. где аскетические подвиги становятся излишними. Через пять лет, 31 октября 1517 года Лютер обнародовал свои ситорические 95 тезисов, направленные против торговли индульгенциями. Так началась Реформация. В юности Лютер не был чужд мистических размышлений в духе средневековой немецкой мистики, но в зрелом возрасте он предстает как противник всякого мистицизма. Лютер отторгает веру от разума, но и отрицает сверхразумные способы слияния с Богом, ориентируя разум на посюсторонние проблемы. По отношению к способностям человека Бог есть абсолютная трансцендентность. Лютеровское обличение схоластики есть по преимуществу обличение разума, превысившего свои полномочия и возможности. Эта критика имеет двоякий эффект: она превращает веру в сугубо личное дело и возбуждает доверие разума к земным пробелмам. вера и разум разводятся в разные стороны. Движение реформации положило в основу своих нововведений «только Святые Писания», свято веря в однозначность библейского слова. И совершенно неожиданно для самих реформаторов явилось то обстоятельство, что в одно и то же время появляются разные формы протестантизма, что из круга приверженцев Евангелия выделяются направления, каждые со своим толкованием Писания. Это заставляет сомневаться в подлинности каждого из них. Духовное все больше попадает в зависимость от политических сил, споры все чаще решаются с помощью насилия, власть имущие определяют конфессию для подданных. Во имя евангельской свободы христианина они идут против воли людей, лиша их возможности жить по евангельским заповедям. К концу своей жизни Лютер уже вынужден идти на то, чтобы формулировать нечто вроде догматов, он вынужден авторитетно защищать чистоту своего учения и единство общего евангелического вероисповедания, входя в противоречие со своей же проповедью свободного толкования Библии. Этой свободой уже во всю пользуются для различных уверток, для избавления от обременительных обязательств. Общественные волнения и безграничный фанатизм, участившиеся расколы и нововедения в осуществлении таинств крещения и причастия, появление новых пророков - все это свидетельствует в пользу того, чтобы новое вероучение также имело авторитеты в области вероисповедения и богословия, богослужения и общественного руководства общинами. Но поздно, все отныне стали сами себе священниками. как того и добивался Лютер. Все положительное содержание протестантизма сводится и небольшой и весьма относительной правде: к возврату к чистоте и простоте первоначального христианства. Но вместо того, чтобы сделать эту правду большой и относительной, реформаторы встали на путь индивидуалистического воссоздания «потерянной» церковной традиции. В силу этого индивидуализма протестентский богослов во всех вопросах экзегетики, философии, филологии всегда решает уравнение с двумя неизвесными, ибо мерою индивидуального сознания он хочет поверить над- и сверх-индивидуальное, уединенно-личным ое хочет вымерять всецерковное, субъективно-человеческим стремится охватить объективно-божественное и принцип онтологический подчинить принципу психологическому. Эта основная особенность протестантского богословия превпащает протестантскую мысль в постоянное дедуцирование. Весь мыслительный материал проводится во всех своих частях сквозь машину протестантского «объективизма» и в этом нефилософском процессе и состоит главным образом мышление богослова-протестанта. Элементы христианского вероисповедания искажаются в самом первом пункте трактования и затем из отдельных и поддельных психологизипрованных элементов каждый протестант творит на свой лад общие картины миропонимания. Человек существенным образом испорчен первородным грехом - в этом главная мысль протестантизма. И теперь этот испорченный человек, который не обладает никакой ценностью для неба, хочет быть ценным для земли в том своем виде, в каком есть, в самой испорченности своей природы. Этоиу очерненному существу место только здесь, ибо необходимо, чтобы оно жило в самом аду. Такова трагедия протестансткого сознания с его мрачным, но собственно человеческим пониманием греховности. Тварное говорит о своей греховности. Но только оно и больше никто. Непоправимо испорченный человек взывает к Богу. Лишенный всего, человек хотя бы обладает способностью взывать.
Реформация в своих итогах стремится за пределы теологии. Из свободы веры, которая декларируется, вырастает интеллектуальная автономия, из критики церковной организации - идеалы правого государства. В недрах споров о таинствах и догматах рождается посюсторонняя ориентация мышления. Это мышление формулирует ценности буржуазного правосознания, отделение церкви от государства, новое понимание смысла человеческого существования, частного предпринимательства, которое перерастает в четко обозначенну. деловую этику. Реформация в своих итоговых пунктах оптимистична, несмотря на то, что человек рассматривается как абсолютно несоизмеримое существо по отношению к богу. Но эта несоизмеримость наделяет его сознанием исключительности, потому что ничтожество человека есть качество, которое соотносится только с совершенством Бога. Идея ничтожества в таком случае оборачивается идеей господства над миром. Протестант по-новому выражает умонастроение, формула которого - «я есть бог». в его устах это звучит предельно ясно и определенно: « я есть бог для этого мира» - рабское повиновение, только Богу - атрибуты совершенства и трансцендентности, все остальное - компетенция человека и его разума. Мир земной лишается сакральности , символичности и иерархии. Реформация порождает установки сознания , созвучные эксмпериментаторскому сознанию нововременского ученого.Отрицание авторитета, недоверие к приданию , небывалая свобода в вопросах толкования Библии, неприятие схоластической умозрительности роднят Реформацию и Возрождение. Если протестанская теология есть теология благодати без свободы,то гуманизм есть теология свободы без благодати. Исторические результаты Реформации оказались чудовищными. Лютеровская апологетика автономии отозвалась в самовластии сильных мира сего.Тридцатилетняя война привела к доселе неслыханной деморализации.Однтм из самых тяжелых ее последстий стал кризис всяких убеждений.Если в конце XV века Макиавелли вполголоса наставлял правителей в цинизме, то в конце XVII века Монтень констатирует распространение незамысловатого цинизма уже во всех слоях общества. В немалой степени он опирался на лютеровский принцип свободного толкования Библии. Смена веры стала рассматриваться как обычное дело, как использование своего права на свободу совести. Все стали циничны и ловки, и поэтому в войне «всех против всех» цинизм уже неэффективен, и как раньше разочаровывались в добродетельности, так и сейчас наступает разочарование и в цинизме.Всеобщая апатия требует каких-то правил,любого мира, любой твердой власти. Разум берет на себя обоснование руководящих ценностей. Обращение к разуму происходит фоне гамлетовского юмора, в сердцевине которого живет уверенность в полной бессмыслице мироздания. Человек, приученный считать себя центром вселенной, полагающий свой антропоцентризм в автономной свободе и собственном разуме, отрицающий опорные принципы христианского вероучения, уже точно знает,что ему теперь «все дозволено». Реформация внесла новую психологическую доминанту в умоенастроение человека той эпохи. Отвергая церковные таинства, протестантизм породил ситуацию, когда верующий начал ощущать себя чуть ли не брошенным на произвол судьбы. Согласно протестанской теологии, человек сам должен отражать происки дьявола, оставшись один на один с силами тьмы. Самодостаточный натурализм протестанского человека не может не нуждаться, однако в своей особой вере, и на первых порах ее идолами становятся звезды, философский камень, амулеты и заклинания, магически спасающие в беде и поражающие врага. Астрологи, колдуны, алхимики как бы узурпируют роль Бога. В таком натуралистическом истолкованном и в то же время оставшемся таинственном мире живут темные силы, ищущие души человеческой. И человек должен вступить в борьбу с ними, не надеясь на помощь извне. Началось преследование ведьм. Ответственность за разжигание демонологической истории вместе с «Молотом ведьм» несет и «Малый катехизис» Лютера, заполненный рассуждениями о происках сатаны. Когда Бог отступает в тень сознания, на первый план выступает дьявол. Печатный станок, знакомивший с наследством античности, также способствовал наводнению Европы сочинениями демонологов. Руководства по допросу ведьм были в числе первых печатных книг, а самые многочисленные гонения происходили в центрах книгопечатания. Первые листки новостей - газеты - стали издаваться, чтобы оповестить население о новых разоблачениях и сожжениях ведьм. Авторами демонологических сочинений были не узкие фанатики, а высокообразованные люди, эрудиты, авторы специальных исследований в различных областях знания. Помимо прочего, истерия гонений была попросту выгодна в политической борьбе, позволяя обвинять в ереси и сотрудничестве с дьяволом противников. Наиболее свирепые преследования происходили в Германии в районах, которые служили ареной борьбы между католиками и протестантами. Немаловажно и то, что «охота на ведьм» совпадает с усилением абсолютистских государств: возникновение абсолютистских монархий порождало рост бюрократии с присущей ей тенденцией ко все более полному контролю над частной жизнью людей.
ПРОИЗВОЛ
Вопреки поползновениям различных протестантских деятелей придать форме своей христианской веры статус верховной и абсолютной догматической истины, мысль о священстве всех верующих и авторитет личной совести в толковании Писания на корню подсекала любые попытки внедрить какую-либо ортодоксию. Уже никакие притязания на непогрешимую правоту не могли быть более признаны законными. Непосредственнымрезультатом освобождения от тисков прежней схемы стал апогей личной веры - отныне протестант, не стесняемый более тяжестью догматов, оставался один на один с миром и со своим собственным произволом. Человек нового времени - это человек в отчужденном мире, угрюмо взирающий на разлаженную поверхность горизонтального пространства, от которого веет холодной, промозглой бесконечностью. Это состояние бездомности порождает в нем новое «нет» как ответ миру, в котором отныне должна вершиться его судьба. Такой мир подлежит переделке. Отныне он будет таким, каким его хочет видеть человек. Так рождается произвол нового человека. Бог далек и недоступен, это строгий Владыка и Судия, пред которым человек может быть преисполнен священного трепета. Этот Бог свершает в мире Свою волю, сообразуясь только со своим собственным произволом. И человек как бог этого мира ставит свой произвол законом миру. и с той же необходимостью, с какой своеволие средних веков требовало присуствие Авторитета, произвол нового времени требует существование Закона. Новое время есть госопдство Закона в идеологии - идеи закона, религия возвращается к образу ветхозаветного Бога-Судии, к ветхозаветному «закону», наука ищет законы природы, правосознание размышляет над законами, призванными усмирить произвол индивида и ввести его в рамки государственной лояльности и подчинения. Природа как материя, равномерно распределенная по всему пространству, уравняло в правах все сущее,все предстало как тот или другой набор качественно однородных частиц. где и натуралистически истолкованный человек представляет лишь относительную ценность. Последовательно распространяя этот натурализм на учения о праве, на политику, этику мы неизбежно будем мыслить социальное управление как авторитарное насилие, из чего рождается практика абсолютистской монархии того времени, религия предстанет как собрание нравственных сентенций душеспасительного характера, ничем не обеспеченных нравоучений о долге и богоугодности, а наука окажется эвристическим методом нахождения десакрализованных закономерностей. Бог нового времени списан с высших функций человеческого духа и представляет собой их абсолютизацию. Религия нового времени освобождена от христианской догматики, в ней. в этой «естественной религии» нового человека полным молчанием обходится догмат о троичности, догмат воскресения отнесен к числу тех, до которых разуму нет дела в силу его недоказуемости. Истинность христианства вообще остается только в предположениях. Предположения эти весьма шатки, так как они не выдерживают условий с позиций вероятностного знания. «Естественный» характер законов морали имеет санкцию в человеческом разуме и правомерен во всех областях жизни и во всех сферах его деятельности.
БЕЗДНА
Гуманизм - это лицевая сторона нововременского трагизма, нервная улыбка стоика, улыбающегося пустым небесам. Апатия - вот господствующий тон этой исторической эпохи. Скука - тягостная метафизическая реакция на темный смертный лик мира. Скука - от неизбежности смерти, нелепой в своей всеобщности, от зрелища дурной бесконечности равнодушного круговорота природы. Скука - онтологическое определение бытия мира. Творение скчно в себе. Голая, бесстыдная смертность человеческого существоания в скуке встречается лицом к лицу с человеком без Бога. На смену культуре Возрождения приходит культура барокко. То, что пробуждало в людях Возрождения радость, теперь воспринимается как трагедия: там вечное движение мира в пространстве и времени было основой убеждения в безбрежности человеческого господства, здесь ощущение изменчивости и неуловимости пространства и времени приводит к пониманию жизни как непрерывного умирания. Мучительный вопрос о границах бытия порождает текучесть времени. Движение времени трагично, ибо человеку не дано задержать мгновение, как бы оно ни казалось прекрасным. И сама жизнь есть краткий сон, разделяющий две пропасти мрака. Человек пытается обнаружить в изменчивом мире нечто устойчивое и определенное, некую достоверность. В этом поиске уже нет различий между скептиками, мистиками, деистами, католиками и протестантами. Страх довлеет стремлению к счастью, самосохранение - полноте жизни, апатия - инициативе. То новое, что произошло с человеком в новое время заклюсается в том, что он стал субъектом. субъект, то есть подлежащее подо всем сущим, основа мира, за которой уже нет никакой оосновы, определяет и сущностную границу между трагизмом человека нового времени и теми формами трагизма, которые были присущи человеку в предыдущие эпохи. Коль скоро человек есть основа мира, то в тот самый миг, когда он усомнится в этом, ему открывается безосновность его существования, беспочвенность - бездна. Человек, становясь субъектом, тем самым отчуждается от своего «я», ибо метафизическое значение понятия субъекта не имеет ближайшим образом никакого подчеркнутого отношения к человеку эмпирическому и тем более к «я». Этот человек, утративший все прежние смыслы, все высшие ценности былого. есть субъект только в редкие минуты своего экзистенциального сосредоточения на таких высотах умозрения, для которых повседневная жизнь с ее будничными заботами оставляет слишком мало пространства. Из этого метафизического конфликта несоотвествия человека-субъекта и человека эмпирического берет начало барокко с его трагизмом отчужденности от своего «я» и от мира. Человек барокко есть человек бездны, человек, узнавший о совей безосновности. Барокко создает свой, отличный от символического, язык, новый текст мира, который не считывается с небесного языка, а создается им самим на основе условности - так рождается аллегория барокко, из средства превращающаяся в сущность языка нового времени, где само отношение к языку как к сфере условного есть следствие глубинных процессов и метафизических сдвигов в ментальности нового человека. Там, где пролегла стена между сущностью и явлением, там властвует аллегория: она разрушает видимость тотальности действительного. Аллегория возникает как ответ на вызов мира, в котором утрачены внутренняя разумность. Обычно в аллегории видят условность выражения смысла, в то время как более важен другой момент - выражение условности. Иначе говоря, метафоричность изобразительных или смысловых средств в их случайном, произвольном соотношении к заключенному в аллегории смыслу вовсе не случайны, а само их условное отношение есть специфическая для аллегории форма, представляющая всю действительность как случайную и условную. Объект, адекватному изображению которого служит аллегория - мир смыслов, лежащий в руинах. В аллегории нет и намека на синтез изобразительных и смысловых средств с целью достижения большей выразительности здесь идет речь о том, чтобы сохранить за человеком хотя бы последнее - его свободу воображать. Здесь действительность предстает как простая видимость, а мечты обретают статус действительности. Аллегория есть бунт против бездны, разверстой внутри и вовне человека, осмелившегося бросить взгляд под ноги своей субъективности. Ибо если человек становится первым и исключительным субъектом, то это означает, что он делается тем сущим, на которое в роде своего бытия и в иде своей истины оприрается все остальное сущее. Человек становится тоской отсечта мира как такового. Это изменение сказывается в том , что мир отныне предстает как картина - мир предстает плоскостью мыслимого, которая пред-стает человеку-субъекту как его предикат, сказуемое. Картина мира есть как бы полотно сущего в целом. Следовательно к миру приступают как к тому, на что человек нацелен, как к тому, что человек хочет предатвить себе как пространство своего законодательного произвола. Сущее теперь только тогда становится сущим, когда оно пред-ставлено самим человеком перед собой, и представлено именно так, как сам человек этого хочет. Утрата высших смыслов, связывавших человека с небом, трагическое несоответствие человека эмпирического высоте своих метафизических задач, мир, понятый как картина в своем взаимосплетении образуют мировоззренческие основы нового трагизма. Возникает новый тип человека - человека светского, галантного, отсроумного, «порядочного», и новый мир его обитания - салон. Вырабатывается некий кодекс чести, правила поведения «порядочного человека». Он должен быть личностью приятной во всех отношениях. Туалет его кокетливо-опрятен, а манеры галантны и учтивы. Точно также выглядит и его ум, и его беседа. Физическое очарование дополняется интеллектуальным. «Порядочный человек» должен в совершенстве владеть искусством трогать ум собеседника необъяснимой пикантностью. Помимо этого «порядочный человек» обладает храбростью, жизнерадостностью, и вместе с тем мягкостью, уступчивостью. Он всегда спокоен, избегает излишней аффектации и пристрастия, везде проявляя тонкие возвышенные чувства, во всем зная меру, он рассудителен и уравновешен. Мягко-элегантная экстерьерность «порядочного человека», его сознательно лишенное глубины бытие, имеет свою метафизику - пож элегантным платьем дамского угодника живет стоический мудрец, слишком хорошо знающий неблагосклонность небес и тяжесть долга. Он знает, что страдания неизбежны, но мужество повелевает ему не удручаться и искать пути к счастью, а сотальное представить естественному ходу событий. Своим внутренним смыслом концепция «порядочного человека» напрвлена как раз против механистического энтузиазма своей эпохи, под гладкой и элегантной одеждой живет бунт против пониамния человека как механизма. Бесконечно богатая, разнообразная и изменчивая реальность этой личности противопоставляет себя однолинейному и абстрактному схватыванию разумом, это живое и действующее отвержение рационализма, жестких формул нововремнского культа «счета» и «пользы». «Порядочный человек» слишком хорошо знает обратную сторону метафизики своего века - ведь это человек бездны. Поверхностность и экстерерность призвана скрыть глубину трагизма, скрыть боль под тонкой шуткой, боль, вышучивающего свою несбывшуюся надежду.
НАУКА
Наука нового времени исходит из того, что порядок природы стабилен и универсален, и человеческий разум познает его с помощью столь же устойчивых и универсальных категорий мышления, что материя инертна и принципиально отличается от сознания, что сознание есть самопроизвольная деятельность. Познание мира осуществляется с помощью универсального метода, предметом науки оказывается «общее», и открываемые в науке знания и законы верны для всех и всегда, что позволяет их математическое выражение. Наука опирается на эксперимент, стремясь объяснить целое, исходя из свойств его частей. В науке преобладают рациональные принципы и человек рассматривается в ней как контрагент природы, контролирующий и подчиняющий себе ход ее процессов, наука есть самостоятельная форма деятельности со своими задачами и принципами. В понятие «новая наука» как неразрывное целое включается и традиция натурфилософии, и косомлогия, и теория материи, и многое другое, что принадлежит философскому осмыслению, и традиции техники - механика, горное дело, хронометрия, навигация и так далее. «Время купцов» предъявляет свои строгие требования к научной деятельности. Осознание математики как универсального языка науки, желание свести философию к физике, физику - к математике, а качественные различия - к количественным, преобразовать наличные знания о мире в единообразную систему количественных закономерностей весьма характерны для существа требований новых людей к своей науке. Количество в этом случае становится в этом случае высшей реальностью, богом «новой науки», а ученый уподобляется торговцу-счетоводу. Точные науки функционируют и управляют всем за счет приведения «всего» к конечно-количественной проблематике, то есть известного замещения первоначального предмета. Абстрактыне интеллектуальные схемы, лежащие в основе рационального математического знания, преобразовывают и тем самым как бы заменяют, «уничтожают», вводя в систему уже выработанных соответствий, строго определенных понятий и делая их конечными, сичляемыми. Наукообразный интеллект занимается выравниванием и упорядочиванием, унификацией, отказываясь от объемности вещи, проблемы, отвлекаясь от многочисленных свойств, которые не соотвествуют выработанным им схемам, которые «бесполезны», Природа в целом становится источником блага через пользу. Польза - вот идеал нового времени. Польза - высшая цель новой науки, она же нерушимый предел нововременского исследования. Фундаментальная установка новых людей на переделывание мира в противовес средневековому созерцанию выразилась в борьбе смысла и пользы. Перевес, несомненно, имела польза. Уставы большинства научных институтов, возникших после основания Британского королевского общества и Французской академии наук, предполагали исследования. которые должны были приводить к результатам «новым и полезным». Однако гармоническое сочетание новзины и полезности продолжалось недолго. Технические нововведения продолжали в силу внутреннего стремеления эпохи, играть немалую роль в войнах, внешней торговле. производстве предметгов роскоши, стандартизации и измерении (как способы налогообложения) и на транспорте, другими словами, полезность никоим образом не упускалась из виду. Однако бурное развитие техники не привело к созданию «единой технической науки» именно потому, что начиная с XVII века проблемы собственно науки начинают осознаваться как независимые от технических проблем. В форме более глубокого понимания различий конечных целей техники и науки проходила на первых порах борьба в сфере теории. Появляется, с одной стороны, новая техника, соединенная с научным методом, и с другой стороны, новая естественная наука, которая интерпретирует природу в соответствии со своими собственными моделями. Хотя идеи ученых были связаны с техническими проблемами, сами они вовсе не руководствовались техническими интересами в познании. Различие целей влекли за собой отделение науки от техники. где новизна часто не представляла собой никакой парктической ценности. В то время как инженер проектировал технику и совершенствовал ее функции, технически реализуя практические цели, ученый пытался понять, как она - техника - функционирует и направлял свое внимание на теорию. По мере того, как исследование ученого развивалось, оно обретало собственную жизнь, назависимую от технического начала. В центре внимания ученого встала «истинная натурфилософия». Научный интерес в понимании природы и исторических событий стал, таким образом, самостоятельным источником возникновения внутренних проблем, делая науку автономной и не ориентированной на производство техники. Здесь важно заметить, что процесс разделения науки от техники, ученого от ремесленника, был выявлен в сфере техники, но вовсе не был ее порождением. В этом разделении впервые выявилось не только разность подхода к технике и смыслу научной деятельности, но и разности тех метафизических оснований, на которых базируются интересы ремесленика и ученого, здесь впервые дала о себе знать маргинальная метафизика нового времени и ее носитель -ученый. Интерес к исследованиям стал преобладать уже к тому времени - даже в Королевском обществе - когда его членом стал Ньютон. Поскольку ученые стали действовать независимо, и поскольку их вклад в прогресс техники становится все меньше, совершенствование в сфере техники перешло к инженеру. Можно проследить как это различие оформлялось в самих научных теориях нового времени. Даже если механистические теории выдвигались при предположении, что в конечном счете они направлены в сторону пользы, в процессе их формирования необходимо было разработать понятия, которые никакого отношения не имели к технике. Для ученого наука представляет собой особую цель, которая вступает в область самоосуществления вне сферы практического применения. В такой самосознающей себя науке как нечто рудиментарное сохраняется воспоминание о возможности практического применения добытого знания, наука ученого сама по себе становится фундаментом, то есть становится фундаментальной наукой,чистой теорией, невнимательной к тому, что практически получится из ее выводов. В недрах нововремнской учености постепенно зреет осознание отличий задач науки от задач пользы, ученый как таковой мало удовлетворен своей вспомогательной ролью при «пользе». Казалось бы декартовская модель природы реализовывала единство задач техники и учености, она была прежде всего технической моделью - изменение движения вызывалось исключительно толчком, притяжением и давлением, то есть он объяснял естественное искусственным движением, предполагающим сохранения постоянного количества движения. Таким образом силы, которые известны как действующие в механических устройствах, являются. как это мыслил Декарт, единственно возможными силами, существующими в природе. Но даже если не обращать внимания на собственные трудности этой концепции, то все равно ей недостает убедительности, поскольку. чтобы объяснить природу, исходя изпринципов технического механизма, необходимо чтобы сама техника была объяснена из природы. Таким образом, даже в области естествознания возникли причины, подвинувших ученых к более полному осмыслению метафизических различий техники и науки. Все более ощутимый антагонизм пользы и новизны на протяжении XVII века находил свое выражениев стремлении новой науки к примирению противоречий. Единство истинности и полезности стало ядром подхода Бекона. его философия приняла намеренно жесткую позицию против разделения науки и техники, ручного и индивидуального труда, механических и свободных искусств. Если то, что считается причиной в теоретической сфере, рассматривая в качестве правила в операционной сфере, то тогда действительно это единство возможно. Однако, если декартовско-беконовский подход на время и сгладил остроту проблему, то тот же самый подход подразумевал поиск универсальных принципов. А универсальные принципы расположены вне сферы техники. Наука как особая метафизическая можедь понимания мира и способ отношения к миру с самого начала содержала в себе модели. которые направили ее развитие за пределы опыта.
Нетрудно заметить, что в явном виде тема истории начинает присутствовать в философской мысли Нового времени с XVIII века. Достаточно вспомнить имена Болингброка, Вольтера, Мабли, Вико, Тюрго, Кондорсе. И это закономерно: маргинальная метафизика, осознавшая свою отличность от господствующей системы взглядов, начинает осознавать свой предмет мышления. Ученый начинает противостоять Ремесленнику. Метафора жизни как Театра наиболее адекватно передает существо нововременского взгляда на историю. Жизнь являет собой сцену, где все представлено. Остается правильно смотреть. Жизнь всегда одинакова, поэтому меняются маски, одежды, декорации, но роли и актеры остаются теми же. Актеры олицетворяют субстанциональное начало, роли остаются атрибутами субстанций, а маски и одежды выполняют в этой метафоре функцию модусов. Жизнь есть игра, ибо смысл существования состоит в получении удовольствия. Статус роли как атрибута удерживается тем, что удовольствие связано с внешним объектом, поэтому роль воплощает необходимость отношения к внешнему. Но она же внушает устойчивое ощущение общей несерьезности жизни и несерьезности познания в сфере истории. История оказывается зрелищем, на которое приходят поглазеть, в лучшем случае поучиться искусству игры. Подлинное же знание черпается из другого источника - из Природы. История предстает однообразным и монотонным возникновением и падением государств и наций, разгулом страстей и невозможностью сохранить что-либо устойчивое вследствие ограниченности человеческого опыта и, соответственно, ограниченности и тщетности всяких человеческих целей. Опыт истории, следовательно, говорит только об одном: о преходящем характере всего. Логика нововременского эмпиризма, и без того сводившая историю к поверхности природного момента, а опыт истории к педагогическому воздействию, подрывает саму возможность науки в области человеческих деяний, объявляя игру стихий фундаментальным законом природы. Полагание «представления» как единственного непосредственного свидетельства о действительности подрывает всякую возможность найти основания для связи представлений: любое предписание сводится к описанию. Все оказывается одинаково оправданным и одинаково обреченным. Поэтому и описание в области истории становится бессмысленным. Для истории это обстоятельство имеет еще более катастрофические последствия, поскольку прошлое как представление имеет бытие лишь в памяти, так что даже целесообразность его запоминания оказывается сомнительной. Эмпиризм Нового времени мог поставить вопрос о необходимости изучения исторического факта и критериев его достоверности, но закрывал себе дорогу к осмыслению истории как специфической области анализа, поскольку признание непосредственности самого факта выступало условием возможности самого эмпиризма. На пути опытного, эмпирического познания истории не только не удается для такого мышления приобрести статус научного знания, но, больше того, возникает угроза того, что история вообще может оказаться иллюзией, связанной с особенностью воспирятия. Поэтому для этого типа мышления в области истории остается только попытать счастья в причастности к учению о справедливом и несправедливом. Ведь уже Гоббс указывал, что гражданская история может составить основу науки о государстве и морали. Но парадоксальным образом рождению интереса к истории невольно способствовала сама нововременская парадигма мышления. Началось все с естественной для «новой науки» постановки вопроса о том, как возможно научное знание в сфере человеческих дел. Критика средневековой традиции делала исходным пунктом анализа человеческие познавательные способности. Критика декартовской позиции Гоббсом превратила чувственность в первоочередной объект изучения. Более того, чувственный опыт в парадигме эмпиризма выступал не только основанием жизненной мудрости человека, но и условием формирования разума как такового. Пока эмпиризм XVII века еще не перерос в юмовский феноменализм века XVIII, возникали два направления анализа: изучение действия самих познавательных способностей и основания выделения индивидом области значимого. Поскольку предполагалось, что правильное умозрение позволит определить присущее самим вещам, то открывалось возможность обнаружить такое достоверное знание в области человеческих дел. Процедура получения научного знания выглядела следующим образом: так как содержание разума в конечном счете суть представление или мнение, то оно должно быть сведено к основанию, которое находится за пределами разума. Поэтому в основе всех человеческих дел следует искать привычки, все то, что можно назвать «нравами». Последние, в свою очередь, также должны быть сведены к чувствам удовольствия и страдания как к причинам, порождающим эти нравы. Таким образом, возможность науки проявляется в том, что последовательно может быть проведена редукция всех сфер социальной жизни к единому основанию. Уже методика Гоббса заставляла видеть во впечатлениях результаты воздействия акциденций на органы чувств. Отбрасывание несущественного позволяло обнаружить в качестве непосредственно усматриваемого тело. Но важно то, что впечатление выступало формой явленности тел. Тем самым любую индивидуальность можно было рассматривать как степень явленности сущностного. Поэтому история как сфера индивидуального снова могла быть возвращена в область научного интереса. Индивидуальное следовало интепретировать как многообразие проявление одной и той же сущности, то есть стремление к удовольствию, а поведение индивидов следовало трактовать как движение и столкновение тел под воздействием влечений. Естественно, что исторические события выступали в роли поверхности или представления, и уму, не обладающему методом «новой науки», казалось хаосом. И только применение метода позволяло увидеть в этой пестроте порядок. Разумеется и то, что для мышления нового времени, даже и при применении нового метода, сфера событийного обладала меньшей предпочтительностью для изучения, чем политическая или социальная организация или область нравов и народного характера. Последник наиболее устойчивы, поскольку непосредственно обусловлены чувственностью. Переход к анализу процессуальной стороны истории также невольно задавался самой методологией эмпиризма. Ведь приведение внешнего хаоса событийности в порядок преследовало прагматические задачи - «пользу». Как в познании природы разума - правильно организовать чувственность, и именно в познании природы это возможно сделать, так и в познании человеческой природы главная задача - так же правильно организовать чувственность. Порядок связи идей должен определить порядок связи социальных вещей. Ясно и направление. В области человеческих дел социальное предстает лишь поверхностью, в основе которой лежит закон природы, подобно тому, как само человеческое восприятие захватывает лишь поверхность вещей. Из всего этого с необходимостью следовало, что только Этика становилась для нововременского мышления единственно подлинной наукой в области человеческих дел. Ведь методология эмпиризма исходила из возможности в самом чувственном восприятии открыть достоверное. Но - и это «но» знаменует едва заметный еще поворот от мышления нового времени к зарождающемуся мышлению времени новейшего - если опыт есть основание формирования разума, а его накопление способствует развитию благоразумия и мудрости в сфере познания, то правомерно экстраполировать это положение дел на суть деятельности человека в истории. Поэтому редукция событий к социально-политической организации и нравам выступает лишь предварительной стадией познания, подобно тому как метод обнаружения достоверного требовал отбюрасывать модусы для обнажения субстанции. Вторая часть познавательных процедур состояла в дедукции достоверного знания из полученных оснований. Любой социально-политический строй представлял собой в этом смысле степень осознания людьми своих интересов и возможности их осуществить. Каждая эпоха оказывалась совокупностью продуктов, созданных для удовлетворения потребности в удовольствии, а ее специфика говорила о том, что в каждую эпоху осознавалось как счастье. Научность теперь состояла в том, чтобы многообразное, казавшееся бессвязным, объединилось одним основанием, а из него потом могли выводиться закономерности связи правового и социального устройства. Чувственность может быть поставлена на службу разуму, ибо из самого потока впечатлений возможно извлечь пользу. Так открывается пространство для включения исторического знания в сферу уже философского анализа. Теперь история - это философия, которая учит с помощью примеров. Другими словами, единичное может свидетельствовать о необходимом. Само превращение истории в сферу опыта становится необходимым там, где многообразное, если и не считается ценным, то, по крайней мере, признается данностью. Поэтому расширить свое познание на более широкий круг явлений за счет истории имеет смысл, когда допускается потенциальная возможность встречи с многообразным. При этом разнообразие наделяется различными значениями. Оно состоит не только в выходе за приватные цели индивида, но и вообще в выходе за пределы полагания значимости единичной цели. В перспективе это шаг на пути преодоления привелегированного положения моральных ценностей. Здесь впервые продуктивной оказывается временность, поскольку длительность выступает условием многообразия опытоф и условием осуществления исторического опыта как такового. Теперь в формирующейся философии истории открывается пространство для разработки методик создания исторического знания. Проникновение новых - маргинальных - идей в стройную картину мира нового времени вскоре затронуло сердцевину нововременской метафизики - понятие «разума». «Разум», ранее мыслившейся как принадлежащий каждому ( человек=субъект) стараниями маргинального мышления стал мыслиться как то, что только может потенциально стать субъектом, но вовсе не обязательно является им в эмпирии, как то в антропологическом угаре мыслило новое время. Лйбницевское разделение истин разума и истин факта как раз и свидетельствовало о том положение дел, при котором разрыв между разумом и «человеком» дошел до предела. В этом свете и интерес к наличной истории столь последовательно отвергавшейся нововременским мышлением, выглядит всего лишь симптомом более глубокого процесса разложения нововремнской картины мира. Лейбницевское оправдание бытия оправдывало и историю как часть его. И не только в смысле оправдания самого факта истории, но и ее содержания. Ясно, что определенная последовательность должна рассматриваться как наилучшая из возможных, а в непонимании этого обстоятельства теперь следует видеть неумение смотреть с позиций целого. Содержание обусловливается опытом, то есть анализом имеющихся источников. Последние будут свидетельствовать конечно, не только о гармоничности бытия. Однако принцип целесообразности позволяет конкретизировать смысл оправдания, ибо речь должна идти не о примирении со всем имеющим место. Всякое страдание, а именно оно подразумевается в первую очередь, может быть истолковано или как опыт неверного определения целей, или как средство, подталкивающее к пониманию подлинной цели. Тем самым и идея страдания в развертывании логики истории исполняет продуктивную функцию. Больше того, создались все основания определить и движущую силу исторического процесса, то есть страдание - которое заставляло человека не останавливаться на достигнутом. К пониманию необходимости истории подталкивали и рассуждения о статусе Божественной воли. Необходимость сохранить принцип свободы воли, с одной стороны, с другой - принцип разумного основания, приводила к тому, что область свободной воли Бога распространяется «только на осуществление Его могущества» или «только на бытие страданий». Область сущностей вечна и по природе своей остается неизменной в разуме Бога. Поэтому хотя акт творения и совершается не по природе, а по свободе, суть свободы заключается в переводе возможного в действительное. Сам ход рассуждений Лейбница позволял говорить о саморазвертывании идеи в целое мира, превращая Бога в логику мирового процесса. Итак, мы видим, как на пересечении ряда идей формируется новая философская программа, своим смыслом направленная против нововременского мышления, и разрушительная сила которой крепнет от десятилетия к десятилетию. У последователей Лейбница уже есть все основания придать истории характер процесса, пронизанного единством осуществляемой цели. Напряжение между идеей как воплощением целого и частичного опыта заставляет принципиально иначе ставить вопрос о существе истории. История превращается в способ задания целостности и этим получает право для обретения статуса необходимости. Следующий шаг связан с тем, что уже у Лейбница трансцендентный Бог фактически выступает условием перевода возможного в действительное: бытие Бога должно быть показано как принцип бытия. Этому способствует общее настроение эпохи мыслить в русле теодицеи. Отныне созданы все перспективы для вовлечения исторического знания в сферу философского интереса.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
После Декарта механицизм быстро завоевывает позиции и с середины XVII века начинает доминировать в философии. Механизм становится излюбленной метафорой природы. Лейбниц, пытаясь по своему примирить механицизм с витализмом: углубляет аналогию Декарта - разница между машиной и живым человеком заключается лишь в сложности устройства органической машины, поскольку «машины в природе, то есть живые тела, в своих наимомалейших частях до бесконечности продолжают быть машинами». И даже душа описывается как бесконечно сложный нематериальный автомат. Часы стали одним из наиболее семиотически нагруженных элементов быта, всегда так или иначе являя одновременную модель и мира - прямую и аллегорическую. Меньшее значение придавалось ходу часов, внимание больше концентрировалось на их точности, часы как бы всем своим смыслом и устройством воплощали идею кеплеровской мировой гармонии. Созидательный пафос ремесленика, привыкшего видеть в природе то же, что происходит у него в мастерской. символизировался в идее механизма как модели мироздания. Автоматические андроиды-музыканты, которые в большом количестве стали производиться после успеха «Флейтиста» Вокансона, были призваны доказать, что автоматизм каждого органа, лишенного связи с душой, может порождать результат гармонический и одушевленный. Андроид моделирует автоматизированно-телесную часть нашей деятельности, по-своему решая проблему взаимодействия искусства технического и искусства высокого. Обращение автоматов к музыке и живописи в какой-то мере отражало возрождение интереса к теории мимесиса, в котором этим искусствам отводилась привелегированная роль. При этом в сознании века живопись и музыка более непосредственно отражали естественно-природное, нежели сложно-опосредованный механизм речи. В андроидах музыкантах и живописцах подчеркивалось не столько сознательность, сколько естественность. Идея механизма подчеркивалась через внимание к неким природным, хотя и отчасти механистическим моментам. Рассматриваемые автоматы являлись сложными аналоговыми машинами, снимающими оппозицию «человек-машина», уравнивающим их на основе картезианского миропонимания. Эти автоматы воплощали торжество аналоговых моделей в мышлении, торжество метафоры как высшего принципа рационалистического исследования. Для XVIII века характерно понижение степени условности аналоговых моделей и возрастание их изоморфности природным объектам. Метафорическая аналоговая модель преобразуется в модель имитационную. Автоматы, о которых идет речь, находятся как бы на полпути от условной аналогии к имитационной модели. с одной стороны - часы, это метафорическая модель мира, но с другой стороны. их механизм в представлении века действительно имеет изоморфную близость подлинному механизму мироздания. Автомат своим существованием свидетельствует. что если искуссно подражать природе, можно создать существо столь же совершенное. как произведение природы. Но в механике Вокансона свершалось и нечто большее - механистическое мышление исчерпало свои мышление. отныне философская красота механики уступала место натуралистическому соревнованию с природой, погоня за философским абсолютом сменялась мистическим демиургизмом. происходит сдвиг в мышлении, свидетельствующий о том, что неприметным образом происходит мутация нововременского понимания мира. Сдвиг происходит в самом понимании жизни. Жизнь, понятая как естественность, все более трактуется как освобождение от искусственности. как освобождение от внешней организации, как субстанция самостоятельности и блага. Но это благо, освобождаясь от пут внешней организации и ответственности уже готово вступить в разрушении норм. а значит, пока еще только потенциально, перецти в свою противоположность и нести в себе исток разрушения. Норма уже начинает ощущаться как стеснение. но заложенные в этом протесте разрушительные потенции культура Просвещения еще игнорирует. Обуздание индивидуального произвола. подчинение целому, восхождение к общезначимому, а тем самым и к нормативному остается еще законом, но напор нового понимания растет.
Просвещение не напоминает по духу того первоначального расцвета человеческого творчества и произвола. которое можно увидеть в Ренессансе. В рационализме Просвещения нельзя уже узнать той полной веры в силу познания человека, которое было присуще героическому человеку Возрождения. В век Просвещении при всей его вере в Разум, нет упоенности познанием природы. Начинается подрыв основ того самого нововременского разума, который и создал всю культуру этой эпохи. У просветителей в соответствии с преобладающим умонастроением эпохи понимание человека преображается в понимание его как существа природного и прежде всего телесного, а его чувства и разум объявляются продуктами его телесной организации. Хотя в плане телесности все люди отличаются друг от друга, различия эти можно считать несущественными, так как всех людей роднит то, что все они природные существа, и это делает их равными. Отсюда следует, что всякие сословные привелегии должны быть отменены. Привелегии существовали из-за неправильного понимания существа человека, теперь же задача состоит в том, чтобы помочь людям понять истину и перестроить общество в соотвествии с человеческими представлениями. Именно такое понимание человека и человеческих отношений считается разумным, иначе говоря, разумно то, что ориентировано на природу, что ей соотвествует: разумное и есть природное. Если в негативном плване рассматривать разум,он понимается как антипод всему существующему до тех пор, пока существующее не приведено в соответствие с ним. Понятие природного выступает в двух природных противоположных смыслах: природа человека индивидуальна, поэтому он, казалось бы, имеет право на удовлетворение всех своих желаний, так как все они от природы, и следовательно, все естественны и разумны, но человек живет в обществе и потому он должен поступать с другими так, как должны поступать с ним другие. Тогда разумным будет то, что находится в соответствии с желаниями других: разумным объявляется соответствие индвидуальной и общественной природы. Взгляды просветителей постоянно колеблются между двумя этими границами природности. Вторая природа - общественная - уже не природы в собственном смысле, поскольку принципы ее даны человеку не от рождения, а возникают в результате разумного договора. Синтезом, снимающим противоречие двух природ, становится воспитание на основах разума и законность на основе знания природы человека. Но когда поступки человека, его природа объяснена исходя из эгоистических интересов. то закон неизбежно приходит в противоречие с человеческой природой. Идея «естественного» в сфере морали сводит моральное почти к физиологическому, а разумность закона, и именно в силу того, что пролсветители считают его неким результатом общественного договора, превращает человека в общественную функцию. И потому искомого синтеза «природы» и «закона» не обретается, человек остается меж двух равновеликих и противостоящих друг другу сил. Рарешение этого противостояния в метафизике нового времени не происходит. «Закон» и «природа» требуют для своего синтеза неких, пока туманных, но совершенно иных достоверностей, чем достоверности нововременского мышления.
КАНТ
В философии Канта с человеческим «я» происходит нечто странное и для мышления нового времени малопонятное. С одной стороны Кант вводит понятие «гносеологического «я», которое осуществляет познание мира, с другой стороны, оказывается «я» как эмпирический человек вообще не имеет отношения к «гносеологическому «я». Кантовское «я» как философское понятие абсолютно отрешено и отвлечено от человеческой природы. Формы познания, сначало пространство и время, а затем и другие категории пред-лежат перед этим «я» в развернутом виде и угнетают своей множественностью. Дать им жизнь может только «я». Все эти формы есть самоопределение «я». Им они связываются и приводятся в движение, в некотором смысле они и есть «я». Синтез отдельных признаков в предмет недвусмысленно предполагает это «гносеологическое «я», играющее такую большую роль в последующем неокантианстве. «Гносеологическое «я» есть некое всевидящее око, которое смотрит через познавательные формы и внутри их находит мир. Но в области практического разума, где «я» есть уже воля, личность, мы не обнаружим никакого «гносеологического «я». Канту не удалось доказать или просто показать, объяснить этот момент, где происходит потеря «гносеологического «я» в эмпирической действительности, показать, что «я» может быть взято только как логическая функция, вне отношения к онтологии, к бытию самого «я». Мысль Канта о том, что его понимание «я-субъекта» значимо только в гносеологическом аспекте, без всякого объяснения оставляется им в «Критике практического разума». Вопрос, возникающий по ходу следования за мыслью Канта, призван выяснить именно онтологические корни «я» и если может, то каким способом? Кант настойчиво подчеркивает чисто логическое значение этого «я» и противопоставляет его в этом отношении «я» психологическому, познаваемому лишь на основе явлений и относящегося только к области внутреннего, частного опыта. «Должна существовать возможность того, чтобы «я» мыслил сопровождало все мои представления», каковое представление «не может принадлежать к чувственности» и «должно быть тождественным во всяком сознании». Это представление вносит единство в первоначальные представления и без этого они не могут быть моими представлениями. Другими словами, оно есть универсальное под-лежащее ко всякому содержанию сознания. Это «я» не есть наше эмоционально-изменчивое, текущее «я» - эмпирическое сознание. Это текучее «я» по отношению к тому под-лежащему, гноселогическому «я», есть в любом случае и всегда только сказуемое, предикат. Но где и каким способом бытийствует оно, где онтологизирует себя «я-подлежащее»? Ведь его существование, которое есть столь отлично от способа существования эмпирического «я», отнюдь не есть чистый ноль, ибо именно вокруг него вертится все мироздание нового Коперника. Каждое живое «я» не есть, по Канту, «гносеологическое «я», последнее в нем существует как некая вне-пространственная точка, непознаваемым образом владеющая человеком. Такое «я» таинственностью своей представляет загадку для мысли нового времени. Главная проблема в том, что Кант вынужден одновременно приписать ему существование и несуществование. Оно не имеет бытия в сфере явлений, но в то же время оно не есть ноль, ибо ему принадлежит существование, ракрывающееся в явлениях, которое и есть его бытие, бытие ноумена в феноменах. В этом смысле единым истинным ноуменом в кантовском смысле и является «гноселогическое «я» - трансцендентальное «я». И вот, философия Канта раскрывается как насквозь антропологическое, даже антропоморфное учение, хотя Кант не дает никакого связного учения о личности, никакой антропологии. Он проходит мимо своего же учения и сталкивается с ним только в учении о свободе и умопостигаемом характере. Здесь оказывается, что «согласно своему умопостигаемому характеру субъект, который эмпирически подчинен всем законам определения причинной связи, но поскольку он ноумен, от нее свободен, в нем не случается никаких изменений, он самостоятельно начинает свои действия в чувственном мире. Таким образом, в одном и том же действии, смотря по тому, относим ли мы его к умопостигаемому или его чувственной природе, соединялась бы без всякого противоречия природа и свобода, каждая в полном значении.» Кантовское решение антиномии свободы - «свобода есть в человеке и никакой свободы нет» все в нем природная необходимость» - отталкиваясь от размышлений просветителей о противоречиях «природы» и «закона», но решение его принадлежало уже иному времени, иной метафизике. Дуализм Канта - это своеобразная попытка оправдать двойственное положение человека: человек как разум, равный Богу. и человек как эмпирия, равный червю. Но это оправдание было настолько своеобразным, что последствия его оказались несколько неожтданными для самого человека эмпирического. Философии не привыкать, размышляя о человеке, отвлекаться от эмпирического человека, уходя в сферу «человека вообще». Строго говоря, философия как таковая и родилась как выражение недовольства софистов Греции тем эмпирическим человеком, который претендовал на врожденную богоравность и мудрость, не имея к тому никаких оснований в своем частном, частичном существовании. Так же и человек-субъект нового времени есть философская абстакция, непосредственного отношения к человеку повседневности не имеющая. Но эта абстракция хотя бы имела опосредованное отношение к человеку, так как в саом человеке основывало свое бытие в форме человеческого разума, она хотя бы вставала перед человеком как трудная, но все-таки выполнимая задача стать человеком-субъектом. Кант же настолько далеко разводит «транцендентальное «я» и психологическое «я», что человек навсегда остается прикованным к области эмпирического без надежды на воссоединение с транцендентальным «я». То, что у Канта осталось нероявленным, весьма логично расшифровали его последователи, в первую очередь Фихте. Он распространяет характеристику отношений между трансцендентальным субъектом познания и познанием самого субъекта и усмотрел в познании его самораскрытие. С этого момента начинается уже ситория философии новейшего времени - философия забвения человека эмпирического, в которой человек-субъект нового времени возвращает свою субъектность сфере трансцендентного, абсолютному. Мысль, наччинавшаяся с искания свободы, продолжается и до наших дней как мысль, отрицающая свободу эмпирического «я». Кант как мыслитель, чьи размышления вне его воли определили исторически сложившеесы положение дел в философии и умонастроении эпохи, взял на себя труд артикулировать само это убеждение. Из чтения трудов Канта его современник выносил убеждение, что Бог-Природа утратил свою привлекательность, другими словами, «бог действительно мертв». Кант ниспроверг Бога-Природу - не нужен Бог, чтобы объяснять явления природы, следовательно, благоговение к природе, природному, естсетвенному, присущее мышлению нового времени есть ложное, неистинное благоговение. Природа есть то, что делает человека несвободным, а дело и сущность чкловека есть свобода, и природа должна быть подчинена познанием. В этом смысле Кант предстает как богоборец, а его философия есть бунт против неистинного, бунт, стремящийся к полной свободе человека от пут природной необходимости. В этом непроходящая правота и истинность философии Канта, как прав и истинен всякий бунт, стремящийся за пределы эмпирического. В полной мере кантовское богоборчество раскрывается в том вопросе, каким он предварил свои размышления о свободе: а что если вера в Бога есть соблазн на пути к полной свободе и нравственной самостоятельности? Суть кантовского понимания религии можно передать так:: Богу угодны малодушие и униженность, подлинно верует лишь тот, кто не имеет страха перед Богом.Другими словами, Богу угодно богоборчество. Введенное Кантом ограничение практического разума границами феноменального мира освободило религию от неуклюжих вмешательств нововременского разума. Она полагала конец столкновениям науки и религии, ибо не существует никаких законных оснований, на которых наука могла бы вычислить вероятностную ценность религиозных истин. Кант держался того мнения, что, хотя никому не дано узнать, существует ли Бог, нужно тем не менее веритьв то, что Он существует, чтобы имело сонование нравтвенное чувство человека. Тем сакмым вера в Бога оказывалась именно верой, не подкрепленной ни рассудком, ни сердечной достоверностью. Эта вера становилась «верой вообще» в «Бога вообще», она становилась уделом совести самого человека, его мировоззрения, и вполне укладывалась в рамки чистой морали. Истинную почву религиозного смысла составлял отныне внутренний опыт, а вовсе не доказательства или догматы. Канту удалось избавить науку от рационального скептицизма, а религию от научного детерминизма. Однако это разъединение стоило человеку ограничения своего знания одними феноменами и чистой объективной определнностью самого себя. Кант верил, что звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас должны быть как-то связаны, но не мог доказать существование этой связи, ибо хотел остаться мыслителем честным, исходящим в своих размышлениях из тех достоверностей, которые ему предоставила его историческая эпоха. И его сведение человеческого знания к видимостям усугубило картезианский разлад человеческого разума и материального космоса, приняв новую форму и сделав трещину еще шире.
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: БОГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕРТВ
РОМАНТИЗМ
После Французской революции романтизм захватил всю Европу. В нем выразило себя основное умонастроение эпохи, вобравшее в себя весь трагический опыт социальной катастрофы. "Сумрачный германский гений" традиционно занял главенствующее положение в осмыслении новой духовной ситуации. Кант вывел человека из природы, а романтики ввели его в историю. Ранний романтизм проникнут эсхатологическими ожиданиями новой эпохи, обновления человечества, возвращения "золотого века". Эпоха романтизма целиком укладывается в эпоху наполеоновских войн, если подразумевать под романтизмом особый тип мироощущения, в котором героика, поэзия, богооставленность сочетаются в доселе неизвестных соотношениях. Человек романтизма доподлинно знает, что все ценности прошлого рухнули, он знает, что "бог мертв". Романтизм как умонастроение - это взгляд на мир, в котором изменчивость есть единственно неизменное, отсутствие истины есть единственная истина, это сознание тотальной неподлинности человеческого существования. Время романтизма - время смутных брожений, в котором идеи, ставшие фундаментальными для последующего развития новейшей метафизики, не всегда рождаются в хронологическом порядке. Романтизм есть основное умонастроение новейшего времени. Эскапизм, стремящийся прочь от мира конечного и неподлинного, полный радостных надежд жизненный оптимизм, захваченный эволюцией сверхчеловечества, и сумрачное отчаяние, антинаучные пророчества о жизни и строгая научность взгляда на мир, метафизическая погруженность в потустороннее и до конца по сю сторону находящийся прагматизм - все это до сих пор мыслится на основе достоверностей, которым не более двухсот лет, - на основе жизни, понятой как стихийный порыв биологической иррациональной воли, которая ведет послушного, как вела древнего грека его ананке. Сегодняшний человек, претендующий на какую-то глубину, никоим образом не может абстрагироваться от романтического опыта, он должен признать, что этот опыт живет в нем хотя бы на правах соблазна. Романтизм как умонастроение, выразивший убежденность новейшего человека в "действительной смерти бога", возник сразу как цельный взгляд на вещи, на мир. И хотя просветительская идеология несомненным образом подготовила романтическое умонастроение, человек романтизма рождается в отказе от идеалов Просвещения. Катастрофизм Революции обнажил беспочвенность просветительских упований на разумность человека и на Разум абсолютного. Стихия революции не подчинялась рационалистическим чертежам просветителей, и новейший человек, прошедший ее школу, отныне больше прислушивался к гулу стихий, чем к доводам рассудка. Стихия стала для романтиков единственной достоверностью. С этим знанием неподвластности стихии романтический человек начал свою историю - историю новейшего времени. Иррациональность стихии утвердила в нем отвращение к любой несвободе и парадоксальным образом поставила его в зависимость от стихий более жесткую, чем была ранее несвобода от Разума. Внимание к стихии предопределило и другое романтическое пристрастие - к процессу, к изменчивости вообще. Общей мыслью, прежде всего представившейся при взгляде на непрерывную смену народов и индивидуумов, которые существуют, а затем исчезают с лица земли, явилось изменение. Мир ставшего поблек для романтика. Он везде стремится видеть и видит одностановление, для него не существует царства застывших форм, повсюду - единая в своем потоке творимая жизнь, непрерывное творчество, творящее само себя. Из романтического пристрастия к становлению берет исток и то понимание культуры как овеществленной человеческой самореализации, которую мы находим у представителей антропологически ориентированной философии: отказ от рассмотрения культуры как "ставшей" человеческой деятельности, утверждение культуры как вновь и вновь совершаемой деятельности человека, где человек, истолкованный как самореализация, противополагается культуре "ставшей", культуре созданных ценностей. Романтическое "двоемирие" живет отрицанием наличного бытия как бытия неподлинного.
БЕЗВОЛИЕ
Романтик исходит из неумолимого и неисправимого абсурда жизни и потому считает, что всем бытием управляет ничем не преодолимая злая мировая воля. Первой объективацией этой воли является мир идей, представляющий собой уже понятные разуму принципы и законы всего существующего. Другая объективация мировой воли - это мир материи и все составляющие его материальные вещи. Он тоже полон абсурда, страданий и катастроф, и в нем правит мировая скука. Выход из этого круга эмпирической бессмыслицы - прекращение всякого действия и погружение в интеллект, созерцающий эту волю, но не принимающий в ней участие. Человек, если он не находится в сфере этого интеллекта, обречен вести вполне бессознательное существование, обречен быть безвольным. С того времени, как романтизм обратил внимание на присутствие в человеке влечений, человеку неподвластных, проблема бессознательного стала полноправной и одной из фундаментальных проблем новейшего человека. Если для романтиков бессознательное все же было проницаемо для сознания, поскольку оно проистекало из закономерностей природы и предполагало наличие объективированного "я", то позднейшее толкование бессознательного, на которое повлияло учение о Воле, изменилось в сторону непроницаемости. Бессознательное для Фрейда есть то забытое, которое активно сопротивляется тому, чтобы его вспомнили, а если вспоминается, то не непосредственно, а опосредовав себя косвенными ассоциациями, символами. Метафизика психоанализа исходит из знания той же иррациональной воли, что и весь романтизм. В психоанализе эта воля получает название "энергии". Фрейд полагал, что в психической жизни существует способная к смещениям энергия, сама по себе индифферентная, внутри которой находится сам человек. Жизненная задача человека сводится к отдаванию себя потоку бессознательных влечений. Все эти метаморфозы, истечения, превращения энергии не имеют дела с человеком, для этой энергии человек есть лишь биологический объект. Человек тем самым в любом случае оказывается в проигрыше: подавив влечение, он приобретает неврозы и поступает на службу "инстинктам смерти", отдавшись бессознательному, он вообще рискует не быть человеком. Эрос как энергию знал еще Платон. Всю иерархию эротических переживаний, любовных стремлений, восходящих к своей идеальной вершине - небесной Любви-Красоте, - Платон основывал на половом влечении. Земля и небо Платона соединены одной страстью, и любовное влечение стоит в начале вдохновения, пророчества, устремленности ввысь и у Платона, и у Фрейда. Но в этой энергии нет места личному своеобразию. Личность присутствует здесь в "снятом" виде. Человек и у Платона, и у Фрейда терпит поражение в своем стремлении к высшей любви, сохраняющей и пестующей его уникальность. Ведь это стремление не перестает нудить его и тогда, когда человек сексуально удовлетворен. Воля человека не сводима к эросу. Перед Фрейдом и всем психоанализом парадоксальным образом встает проблема не психопатологии, а наоборот, психологического здоровья. И чем более успешно аналитический метод излечивает неврозы, тем более остро встает вопрос о правомерности определения границ нормы. Для психоанализа вся цивилизация нашей эпохи суть невротическая. Как диагност своей эпохи - эпохи ничтожествования человека - Фрейд сумел заметить и описать некоторые вне-временные психические закономерности романтического человека, но историческая ограниченность психоанализа определена самим же романтизмом - пониманием иррациональной воли-энергии как движителя психических и исторических процессов.По-своему, но исходя из тех же достоверностей, ответил на вызов стихии романтиков Гегель. Формальная законченность и строгость его философской системы вырастала из романтически страстных и далеких от какого-либо формализма религиозных исканий его молодости. За многими логиями Гегеля шевелится романтический хаос. Все эмпирическое вместе с эмпирическим человеком есть для Гегеля сфера неустранимой пошлости наличного бытия. Сам термин "наличное бытие" имеет в его философии низший онтологический статус. В очищении от эмпирической бессмыслицы спекулятивной мысли, мнения от знания, общего от единичного, духа от души, божественного от животного видит Гегель судьбу эмпирического: оно преодолевается во имя высшего и исчезает совершенно, возвращаясь в свою основу и сущность, единую и непреходящую. Прочь от эмпирии - вот истинный мотив гегелевской философии, выдающий ее романтическую основу. Слишком велико было презрение Гегеля к низшей, эмпирической всеобщности как таковой, слишком остро чувствовал он вихрь временности и случайности, кружащий все эмпирическое, чтобы хоть что-то из нее имело доступ в те высоты духа, какие Гегель уготовил для человека. Когда Гегель в начале "Логики" говорит о "бытии", следует лишь иметь в виду не отвлеченную категорию с едва уловимым для мысли содержанием, но и не совокупность конкретно-эмпирического. Необходимо представить себе реальное бытие, бытие, которое есть, но лишено всяких дальнейших свойств - оно имеет минимум спекулятивно-логического содержания, такой минимум, который по пустоте своей есть "ничто". Но и это "ничто" следует понимать как ничто, которое не есть безусловное отсутствие предмета, но есть сущий смысл "ничто". В этих сущих смыслах "бытия" и "ничто" и проистекает процесс взаимных обнаружений друг друга, сливающихся в своем становлении. Тогда только философствование Гегеля откроет не только свою рационалистическую сторону, обращенную к смыслу, но и свой иррационалистический аспект, аспект романтический. Тогда только его философствование предстанет в своем истинном свете - в виде мыслящего ясновидения, мистического мышления - и станет понятным тяготение Гегеля к тому, чтобы развернуть данное ему логическое откровение в подлинную и всеобъемлющую теогонию мысли. У Гегеля эмпирически-психологическое тождество отходит на второй план, а на первый план выходит тождество метафизико-онтологическое. Где-то между этими двумя поворотами мысли из философии Гегеля окончательно выпадают эмпирия и эмпирический человек. Онтологическое тождество субъекта и объекта есть центр тяжести философии Гегеля, оно есть ее принцип и ее сущность, ради него и через него вся жизнь есть жизнь и философия есть философия. Сущность же самого принципа и содержание самой этой сущности формулируется термином спекулятивной слитности субъекта и объекта, сознания и предмета, мышления и смысла - понятия. "Понятие" есть сама сущность, сам предмет, "понятие" есть истинная вещь в себе, само абсолютное. "Понятие" есть сама себя мыслящая духовность и тем самым сама себя творящая сила. Дело не обстоит так, что смысл ждет, чтобы человеческое сознание его восприняло, а до тех пор пребывает в небытии, понятие есть само-созерцание себя, оно совсем не потому и не постольку мыслится, поскольку человеческое сознание соблаговолит его воспринять и дать ему бытие, напротив, человек получает свое истинное бытие, входя в объективную жизнь понятия. Не бытие осуществляет себя в понятии, не душа владеет понятием, но понятие осуществляет в себе всякое бытие, понятие владеет сущим, ибо само есть первореальность, оно владеет и душой, но не есть ее продукт или принадлежность - человеческая душа сама есть модус понятия. Человеческая душа к тому же не единственное лоно понятия. Оставаясь всегда живым творческим смыслом, понятие как таковое не прикреплено к форме человеческого сознания как к своей единственной и необходимой сфере. Оно живет в нем, не рабствуя эмпирической определенности человеческого сознания и его конечной ограниченности, но господствуя в нем, осуществляя себя через включение в своей состав его духовно живых творческих сил. В познании сам человек начинает жить лишь потому, что так живет понятие. Признать подлинным и единственным реальность эмпирического мира для Гегеля нелепо, это означает обоготворить все его злосчастные свойства и несовершенства. Сказать "бог есть все" и разуметь под этим "все" все вещи в их существующей раздробленности, все бесконечное множество эмпирического, приписать этому миру бытие и субстанциональность и сказать, что бытие мирских вещей есть Бог, значит осуществить высшее бессмыслие, совлечь божественное во внешнее и чувственное и произвести бесконечное раздробление божественной действительности на бесконечную материальность. Бог - разум, субстанция, субъект, бесконечная самодеятельность, абсолютная понятие, дух, творящий себя мыслью. В этих своих свойствах Бог "есть все", эти свойства исчерпывают собою всю совокупность реальности. И смысл гегелевского очищения духа от пошлости вещественного сводится к тому, что кроме Бога, так постигнутого и исповедуемого, нет ничего и ничего не может быть. Бытие Бога означает тем самым небытие мира как особого, самостоятельного существования. Мира как такового нет, вся эмпирия вместе с эмпирическим человеком отрицается, и в этом отрицании весь неустранимый романтизм гегелевского стиля философствования. Человека нет, он еще должен стать им, возвыситься до своей миссии, человек вместе со всем сущим равно принадлежит неподлинному и в своем эмпирическом бытии подвластен иррациональной воле. Маркс заменил гегелевский дух материей, материальными и экономическими интересами заменил гегелевское стремление к познанию. Аналогичным образом расизм поставил вместо "духа" "кровь". Но преобразование гегельянства в расизм и духа в кровь не изменило сущности главной тенденции гегельянства. Оно лишь приобрело оттенок биологизма и эволюционизма. Не изменила духа гегельянства и марксистская подстановка материи. И там, и здесь человек эмпирический ровно ничего не стоит. Центр притяжения в новейшее время для человека опустился настолько низко, что для человека нашей эпохи нет более личности, а есть лишь фатальное движение инстинкта смерти и желания, в котором все упорядоченное достоинство человека есть лишь маска. Человек оказывается местом пересечения сексуального либидо и инстинкта смерти. Здесь рождается таинство современного человека - таинство обреченного смерти. Человек, из которого изгнано все человеческое, превращается, согласно закону всякого язычества, в насмешку над самим собой. Этот человек одержим безволием. Именно потому, что человек сознает свое ничтожество перед лицом воли, чувствует себя "грезой природы", медиумом внешней объективности, он склоняется приписать своим грезам объективную значимость. Отсюда люциферическая уверенность во всецелой познаваемости мировых тайн и в осуществимости вложенных в него природой стремлений. Ведь это ступень божественного раскрытия. Отсюда те горделивые призывы "доверять прежде всего науке и самим себе", "верить в силу духа", которыми возбуждал своих учеников Гегель. В эпоху "действительной смерти бога" трагическое живет под масками "сверхчеловека" и "маленького человека". "Сверхчеловек" и "маленький человек" связаны неразрывно - и тот, и другой принадлежат романтизму на равных правах конституирующих модусов бытия современного человека. "Сверхчеловеком" нельзя стать, не быв до этого "маленьким человеком". "Сверхчеловек" есть такое состояние "маленького человека", когда он, окончательно отказавшись от своей воли в пользу над-человеческой Воли, возводит себя своим отказом в ранг "сверхчеловека". "Сверхчеловек" - это имя того сущностного облика, который поднимается над метафизическим складом "маленького человека". Это не какая-то отдельная особь, в которой способности эмпирического человека умножены многократно, "сверхчеловек" - это и не та разновидность людей, которые стремятся приложить к жизни философию Ницше. Слово "сверхчеловек" именует сущность человека новейшего времени, который начинает входить в сущность своей исторической эпохи "действительной смерти бога". "Сверхчеловек" - это человек, который уже есть на основе действительности, истолкованной романтически, действительности, которая есть Воля, где "воля" должна пониматься как синоним таких понятий как "становление", "бытие", "жизнь" в самом широком смысле. Человек, получающий свою сущность изнутри Воли, есть сверхчеловек. Человек, не принадлежащий самому себе, человек, сущность которого задается ему из сферы над-человеческого, отныне должен соответствовать Воле, если он хочет быть сверхчеловеком. Внезапно "маленький человек" обнаруживает, что этой самой Волей он поставлен перед необходимостью отказа от собственной свободы. Он уже понуждаем сущим, бытие которого истолковано как воля, к неукоснительному возведению себя в ранг сверхчеловека. Человек отныне отстранен от себя непререкаемой волей Воли. В этом романтическом бытии властно правит неизбежность того, чтобы человек поднимался над самим собой, в этом бытии звучит повеление к воспитанию в себе индивидуального безволия, космического смирения пред Волей. Новейшее время действительно завершает развитие европейской метафизики субъектности человека растворением свободы человека в абсолютном, превращением человека в вещь мира. Именно этот процесс овеществления человека, возвратившего свою субъектность абсолютному, составляет суть этого главного метафизического события новейшего времени, которое определяет весь ход его истории. Перед лицом мировой стихии с ее принудительной неотвратимостью человек сознает ничтожность своей частной жизни. Слишком остро он ощущает безликую силу, струящуюся во всем его существе. Он признает себя орудием, органом внешних велений, продуктом среды, рабом судьбы. Он живет в тенетах мировой необходимости. Это чистый пафос вещи. Субъективно этот пафос может и не сказываться чувством подавленности и плена. "Вселенское чувство" можетзажигать душу восторгом безмерности многоцветного мира. Одно только не может проснуться в этой душе - собственная воля, дерзание свободы, сознание творческого долга и ответственности. Мир предстает законченным, в процессе его развития обнаруживаются предзаложенные потенции, внести что-либо новое человек не может, да в этом и нет необходимости, нечего решать или изволять, все предрешено, все свершается своим чередом. Это не значит, что человеческое существование излишне, в мире нет ничего лишнего, все в нем имеет значение, но это значение служебное. Из индивидуальных цветений и дряхлений, из нескончаемых личных смертей складывается жизнь целого. Человек здесь не имеет субстанциональной устойчивости, его существование случайно. Конечно, все прожитое, все происшедшее как-то накапливается и сберегается в мировой истории, но сам человек ничто и выделяем только через абстракцию. Реальна и самобытна только мировая иррациональная сила, космическая воля. Всякое иное существование только для нее. Всякое индивидуальное самоопределение здесь призрачно и потому не обязательно. Свобода и творчество присущи только становлению, где процесс и есть творческая эволюция. Но никакая новизна непредвиденного возникновения не может сообщить ему самодовлеющего значения, значима только целокупность. В этом универсализме коренится последнее обоснование человеческого безволия новейшего времени. Безволие питается восприятием мира как сплошного всеединства, тяготеющего к законченной организации всех своих вещных сил. Человек уже не основа сущего. Возвратив свою субъектность, новейший человек по-новому смотрит на соотношение рациональности и иррациональности. Разница между ними предстает настолько несущественной, что самый строгий рационализм для человека эмпирического столь же иррационален, как и исповедание воли и поклонение стихии. Разность рационализма и иррационализма снимается в их общем основании - Воле, - формализирующий рационализм и интерпретирующий иррационализм обретают здесь свое общее пространство, которое определяет их общее место в умонастроении "действительной смерти бога".
УЧЕНЫЙ
В ряду идеальных типов, порожденных основными умонастроениями эпох, вслед за ремесленником появляется ученый. Уже не Робинзон Крузо, но Фауст, ученый, стремящийся к последнему знанию, становится героем новейшей цивилизации. Поскольку изменчивость в форме истории, эволюции, развития стала единственной заслуживающей внимания сущностью и мир эмпирического поблек, перед ученым встает проблема метафизического определения места всего действительного, логикой нигилизма истолкованного отныне как несуществующее, неистинное бытие. Средневековая легенда о чернокнижнике переосмысляется в романтическом ключе: новый Фауст заключает пари с Мефистофелем, условием которого стала возможность признания эмпирии некоей самоценностью - если Фауст скажет "мгновение, остановись", тогда
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни,
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда пусть встанет часовая стрелка,
Тогда ты волен, я - закабален.
Пер. Б. Пастернака
Фауст, предполагающий невозможность этих слов, выговаривает в этом условии метафизические корни новейшей учености: сказать это значит признать сферу эмпирического ценностью, что в свою очередь лишает смысла романтический пафос "тоски по бесконечности". В качестве вещи в сферу эмпирического включен отныне и человек, и потому новейшую науку интересуют или над-человеческое или до-человеческое. Если она рассматривает историю, то изучает все, что детерминирует человека, и меньше всего занята собственно человеческими импульсами в истории. Если предметом исследования становится психика, то и здесь ее интересует не человек, но бессознательное, то есть то, что управляет человеком помимо его воли. Не ум, а безумие, не здоровье, а патология. Пренебрежение к человеку и эмпирии приводит к тому, что новейшая наука делает вещь чем-то ничтожным, не допуская вещь в качестве определяющей действительности. Концепция природы нашей эпохи отделяет человека от природы, субъект от объекта, и это отделение происходит в форме освобождения новейшей метафизики от субъект-объектного дуализма нового времени. Человек новейшего времени изъят из природы и помещен против нее. В пространстве редуцированного человека происходит последовательное сведение природы к простому объекту человеческого знания. Природа отныне является сущностью, совершенно отличной от того, с чем имели дело ученые нового времени. Изменение взгляда на мир в метафизике нашей эпохи по-новому ставит технику в круг проблем новейшей науки: новая техника возникает отныне как побочный продукт фундаментального исследования. Техническое развитие в конце XIX и еще более в XX веке ведет к расширению исследований и разработок в промышленности, к созданию независимых институтов по прикладным исследованиям и к сдвигу технического образования и обучения к академическому. Наука и техника вновь встречаются, но встречаются уже в новых субординационных ролях. Структура, которая характеризует новый способ взаимодействия науки и техники в XX веке, является лишь ответвлением науки в специальные технические теории. Знание о природе и техника больше не являются лишь методологическим эквивалентом и связаны только эпистемологическими структурами операционального знания. В XX веке разработка полезной техники через построение научной теории становится единственно возможным способом развития техники. Главным критерием различения границ науки в сфере знания является исследование, так как именно через него производится знание внутри науки. Так складывается новый принцип господства над природой, существенно отличающийся от принципа господства в науке нового времени. Вместе со всеми изменениями происходит изменение взгляда на время как таковое. Если раньше на первом плане аналитико-синтетического рассмотрения стояли ситуационные соотношения сил, то теперь и время предстает четко включенным в математически-функциональное понимание природы. Просто созерцательное пространство преодолено. Перед новым пониманием пространства встает вопрос - могут ли все его естественные чувственно-воспринимаемые целостности, а в их числе и человек, быть разложены на конечные элементы их бытия и заново собраны в другие целостности? могут ли быть созданы такие виды техники и жизни, которые обладают предустановленными свойствами? Так с воцарением ученого энергии и силы природы оказываются в таком состоянии, при котором они приспособлены к использованию их человеком. Природные вещества превращаются в искусственные, космическим видам энергии придаются формы, при которых они оказываются более употребимыми и более удобными с точки зрения тотального распоряжения. С возрастанием потенций человека и их после довательной реализацией в деле управления природой сама природа перестает быть природой. То, что придает своеобразие и новизну Новейшему времени, есть его технология. Уже не нововременская техника, но новейшая технология определяет облик мышления. Речь идет не просто о внедрении нескольких отдельных, пусть даже великих открытий. В данном случае подразумевается нечто гораздо большее - великим достижением XIX века явилось открытие метода исследования. Все изменения теперь в своей основе имеют новую научную информацию. Наука не столько по своим принципам, сколько по резульататам - протсо кладовая идей, пригодных для использования. Одним из элементов нового метода является открытие того, как совершить переход от научных идей к продукту их реализации. Новая истуация плановмерного прогресса есть та атмосфера, в которой происходило развитие мысли века XIX-го. Середина XIX века превратилась в сплошной триумф науки. К радостному возбуждению, порожденному технологической революцией, прибавилось возбуждение от перспектив, которые открывало развитие научной теории. Это было время господства научной ортодоксии, которая отметала любую мысль, возникающую вне установленных конвенций. Но романтическая основа новейшего мышления скоро дала себя знать. В начале XX века тезис о необходимости научного материализма как схемы мышления адекватной научному познанию, был поставлен под сомнение. Закон сохранения энергии имел дело с новым типом качественного постоянства. Правда «энергию» можно было трактовать как нечто производное от материи, и все же понятия «масса», одним из существенных признаков которого считалось количественное постоянствоЮ стало терять свою исключительность. Позже было установлено, что проблема соотношения масс и энергии требуют коренного пересмотра, массой стали именовать количестуво энергии, рассматриваемой в ее диалектических проявлениях. Такой ход мысли способствовавал формированию представления о фундаментальном характере энергии, отняв этот статус у материи. Так шепенгауровская вволя обрела научное обоснование, или скорее, научное мышление на своем языке выразило фундаментальное переживание новейшего человека мира как иррациональной воли.
БОГ-ИСТОРИЯ
Для Канта нравственный поступок необходим, но осуществим лишь в трансцендентном мире, в который должно верить. Имманентное оказывается средством для трансцендентного. Истолкование мира как представления требует восхождения от одной целесообразности к другой и в конце не оставляет в нем ничего безусловного. Даже культура становится средством в поиске абсолютного. Ни в познании, ни в практике человек принципиально не имеет никаких гарантий достижения целей, поскольку имеет дело с представлением. Вообще при последовательном проведении данного философского проекта мы обнаруживаем все условия для возвращения скептицизма. Цели, которые могли бы быть подтверждены чувственностью, Кантом запрещены как случайные, а те, что разрешены, не могут быть обнаружены как действительные. Факты только иллюстрируют идею. Доказательство ее невозможно. Иначе говоря, даже если история свидетельствует о развитии культуры, то невозможно доказать, что эта тенденция сохранится в будущем. А то, что имеется в наличии, говорит о легальности, а не моральности, так что познанные мотивы эмпирического культурного движения, а также его результаты, могут оказаться совершенно иными. Будь цель, положенная мыслителем в основу истории, сама историчной, то рассуждение о неопределенности будущего обретало бы совершенно другой характер. Оценки такого рода возможны лишь там, где полагается трансцендентное целое истории. С позиций мышления Нового времени в размышлениях Канта усматривается иной мотив, отличный от нововременской парадигмы. Здесь уже затрагивается вопрос о движущих силах исторического процесса, решение которого заставило философа ввести идею злого начала в человеческой природе. Парадокс, но именно этим открывается перспектива для оптимизма в отношении истории. Смещается акцент, поскольку история могла быть представлена в виде генезиса способности как таковой. Поэтому предшествующая история могла быть переистолкована как приуготовление к открытию самой моральности. Если вернуться к определению статуса идеи истории, то можно сказать, что теперь первоочередной задачей становится обнаружение условий необходимости идеи истории. Историческое знание тем самым обретало свои особые определения и свою необходимость. Философская деятельность Канта значима в этом смысле тем, что она предоставляла для этого необходимые условия. История наконец-то обретала свою идею, основание которой укоренилось в соответствующей философской онтологии и, с другой стороны, выступала условием многообразия с сохранением значимости самого этого многообразия. Последнее важно потому, что сохранение значимости индивидуального события в складывающейся традиции становилось основным признаком специфичности исторического. Как известно, у Канта это достигалось идеей связи индивидуального как движения в определенном направлении. Теперь задача заключалась в том, чтобы показать необходимость исторического знания. История могла быть вовлечена в сферу познавательного интереса только тогда, когда превращалась в неотъемлемую логику формирования искомой всеми философами целостности. Для этого само формирование целостности должно было предстать логикой. Такое целое соотвественно должно было превратить в цель. Полагание цели, в свою очередь, требовало оснований, связь целого и цели смогла выступить в виде возвращения целостности к самой себе. Это можно было бы понимать так: целое, не знающее себя или содержащее в себе все богатство в свернутом виде, делает себя целью в том смысле, что осознает себя или развертывает богатство своих определений. Естественно, что такое самопознание можно было трактовать и как аналитику, поскольку все уже содержится в целом или идее, и как синтез, поскольку оно становится знанием посредством связующей деятельности самосознания. Но вся эта совокупность достижений также должна была оказаться результатом философской проработки проблематизированно прошлого. Целое тем самым полагает Себя как сознание. Но полагаением себя Сознание тем самым полагает субъект, лишенный предикактов, или субъект, в котором предикаты содержатся в свернутом виде. Чтобы их актуализировать, следует создать наличие многообразного, причем такого, которое понуждало бы к синтезу. Таким принуждением может выступить ситуация противоречия, а она создается лишь противополаганием или выдвижением не-Я. Можно сказать, что если сознание хочет узнать законы своей деятельности, то оно должно осуществить операцию применения их на чем-либо, или в терминологии Фихте, если Я хочет определить себя как Я, то сделать это оно может на фоне не-Я, то есть порождая противоречия. В результате противоречие приобретает продуктивный характер тем, что указывает на действие по приобретению необходимого знания и позволяет это знание получить. Разумеется, здесь полагается такое «я», которое стоит за спинами индивидов и индивидуальное «я» полагает как необходимый элемент в своем движении. Полагать такое «я» оказывается необходимым, поскоьку только оно выступает условием связи представлений, однако теперь основной задачей становится выведение конечного из бесконечного. Если трансцендентальная философия начинала с проблемы приведения многообразного к единству, то заканчивает она проблемой выведения многообразного из единства. Здесь и находит свое место история как путь к Самосознанию, а значит, находит свое основание и идея истории. Ведь она принадлежит сфере представления, поэтому требует идеи для связи. Но в то же время она сохраняет свое значение быть большим, чем просто совокупность следов, оставленных пробуждающимся сознанием. В этой связи эмпирия совершенно не требует самосознания как эмпирического явления среди остальных явлений прошлого и настоящего. Что с человеком? Что здесь происходит с конкретным человеком? Что происходит с ним, когда эмпирическое «я» превращается в абсолютное «Я»? Обнаружение сходства и невозможность уловить различие между уверенностью и очевидностью в рамках индивидуального сознания заставляет новейшую философию сделать принципиальный шаг. Мы снова возвращаемся к критике непосредственности и требованию обнаружить скрытые различения, одно из которых воплощается в истории. Таким образом все приобретает генезис, оказывается зависящим от другого и временным, поскольку несет в себе зерно собственного разрушения. Поэтому в перспективе и современность становится лишь событием, ибо всякое событие по смыслу становится тем, что предполагает смену другим событием. Но невозможность обнаружить в себе основание для установления достоверного заставляет индивидуальное сознание совершить еще один шаг. Истолкование действительности как работы мировго духа позволило окончательно примириться с непреодолимой эмпиричностью индивидуального сознания. Теперь индивиду следует признать свою принципиальную обусловленность. Поэтому в поиске достоверности придется выходить за собственные пределы, поскольку всякие факты сознания оказывается илюзией и несут в себе скрытые опосредования. А выход за собственные пределы есть выход в мир культуры или в сферу деятельности объективного духа. Будучи моментом в последовательности синтезов, индивид тем самым мог находить себя таким же продуктом культурной деятельности. Таким образом, все его определения оказывались определениями культуры. Соответственно и культура представала такой же сферой опосредований и требовала для своего признания исторического анализа. Новейшее время открыло нечто новое - оно осознало, что индивид не имеет никакого дела с действительностью, якобы ему противостоящей и являющейся в виде представлений. Всякая действительность оказывается миром идей или миром культуры, смысловым пространством, благодаря которому нечто общее вообще могло быть понято как природа и история. Проведение сформулированных принципов открывало место для новой интерпретации смысла «истории». В классическом Просвещении история как поток изменчивого оказывалась иллюзией познающего субъекта. Правильное смотрение должно быть показать, что внешний хаос на самом деле представляет собой постоянство действия одних и тех же законов. Поэтому миропонимание оставалось антиисторическим. Теперь для истории открылись новые перспективы: она предстала процессом нарастания определенных свойств, состояний и так далее, что можно было связать с отмеченным законом прогрессирования причин и увеличения следствий. Очевидно, что в качестве закона такую историю следовало рассматривать как часть закономерного становления мирового целого. Теперь все стало историей. Любое генетическое рассмотрение оказывалось историей. Основной идеей историософской мысли XIX века стало представление о разумной планомерности истории как процесса постепенного приближения к заключительному этапу, где, как представлялось, будут достигнуты полнота знания и всесторонние формы существования. Тем самым принижался сам идеал, превращаясь, хотя и в лучшее, но все же явление земной жизни. Получалась классификация народов по ценности, где есть высшие и низшие. Сверх того, воплощением определенной идеи всецело ограничивался смысл исторического существования народов. Отсюда делался вывод, что раз идеи есть высшие и низшие, то даже низкие стадии развития высшего народа по ценности превосходят высшие стадии низших народов, поскольку каждый народ, по этой теории, призван осуществить одну идею. Полное развитие этой теории есть уже у Гегеля. В этой схоластике протестантизма понятие личности в христианском смысле утеряно. В выросшем на почве гегельянства историцизме лицо уже не учитывается как таковое, оно мыслится как «носитель» идеи, как воплощение «общих» понятий, жизнь растворяется в игре абстракций - мистический ужас перед самостоятельностью присущ историцизму. Сам этот склад идей с его верой в прогресс идет несомненно от Лейбница. Мир Лейбница есть мир вечного покоя, мир извечно осуществленных смыслов. Все связи в этом мире символичны, все сводится к зеркальным отображениям. Мир историцизма есть тот же мир Лейбница, только описанный историчеким языком. От Лейбница историцизмом воспринята идея развития. Историцизм стремился быть теорией развития, и именно поэтому оказался слеп к реальной эмпирической истории. Ибо история вовсе не есть развитие. Развитие есть морфологичекое, не динамическое понятие. Развитие есть проявление, а не созидание. В развитии ничего не творится новое, но только саморазвертывается изначально заданное, поэтому развитие всегда идеально предвычислимо, то есть законосообразно, что неизбежно, как и в случае с историцизмом, ведет к тому, что история становится подвластной судьбе, року, законам исторического развития - «провидению». На историцизме лежит несмываемая печать хилиазма. Во многом благодаря Гегелю XIX век прошел под знаком культа истории. У Гегеля религия растворяется в философии, а сама философия растворена в истории духа. История замещает Бога. Бог перестает быть Богом-Природой, чтобы стать Богом-Историей. Историцистское поклонение новому богу наделяет его цели заведомо благим содержанием. Они как бы имманентно соответствуют глубинным запросам человека или же мыслятся лежащими по ту сторону добра и зла. В этом случае Бог-История сам знает свои цели и это самостоятельное целеполагание искупает человеческие жертвы. Метафизическую основу историцизма составляет идея разумной целесообразности истории, где зло и страдание понимаются как благие силы прогресса. Человек как бы приобщается к самой благости и разумности мирового порядка, получая ту степень неотчужденности от хода истории, которая наполняет его жизнь смыслом. Очевидные успехи наук подкрепляют оптимизм нового культа. Историк XIX века не сомневается в том, что познает историю такой, какова она есть на самом деле. Вера в непрерывный поступательный прогресс дает возможность думать, что дальнейшее накопление знаний и раскрытие новых цепочек причинно-следственных связей в конце концов приведут к формулировке законов истории, обладающих той же степенью точности, что и законы естествознания. Декларируется существование единой позитивной науки, где науки о природе и науки об обществе подчиняются одним и тем же правилам познания. Историческая мысль в это время редко обращается на самое себя, но с тем большей уверенностью изучает прошлое, реконструкция которого не внушает сомнений ни относительно процедур, при посредстве которых историк достигает понимания прошлого, ни относительно убедительности таким способом получаемых результатов. Тогда казалось, что времена "мерзостей запустения" уже миновали и человечество с помощью ученых приближается к процветанию и вечному благоденствию. Доверие к историческому прогрессу было всеобщим. Сомнения в самой возможности прогресса, прозвучавшие в работах Ницше и некоторых других, казались не более чем оригинальничанием, не имеющим отношения к строгой науке. Культ истории возвел в неписанную догму уверенность в том, что история не может потребовать от человека чего-то антигуманного. Споры, если они и были, велись лишь о том, в какой форме происходит для человека этот призыв нового бога к деланию добра. Хилиaстический смысл историцизма был удержан и революционными теориями, в изобилии появившимися на волне исповедания религии исторического прогресса. Именно в XIX веке смысл слова "революция" стал соответствовать сегодняшнему. До сих пор "революция" как политическое понятие остается в согласии с древней идей внезапного спасения, благой и скорой перемены. Однако XIX век вынес на первый план идею неизбежности, которая изменила и саму идеологическую основу революционных теорий и революционного пафоса: если французская революция совершалась во имя определенно понятых свободы, равенства, братства, то революции XIX и XX веков совершались уже именем тех же свобод, равенств, и братств. Революции понимались уже как суровая необходимость соответствия человека над-человеческим законам истории, как нечто такое, что должно произойти независимо от субъективного волеизъявления. И в историцизме, и в возникших на его почве революционных теориях человек обретал непосредственную программу, идеальную модель, на которую следовало ориентироваться в повседневной жизни, он находил свое понятное место в этой поступательной динамике прогресса. Человек начинал чувствовать свою значимость в причастности к великой исторической миссии. Приобщаясь к над-личному, этот человек мог сказать себе: "я есть бог". Гибель "Титаника" разбудила его, ознаменовав конец всеобщей самоуверенности. Непотопляемый корабль, как оказалось, может затонуть в первом же рейсе. До этой катастрофы люди считали, что ими найден ответ на вопрос о том, как надо жить, чтобы жизнь стала размеренной, организованной и цивилизованной. В течение довольно длительного времени Запад пребывал в состоянии относительного спокойствия. Блага, обеспечиваемые мирной жизнью и трудолюбием, казалось, достигают всех слоев общества. Причин у самоуверенности у тогдашнего человека было гораздо меньше, чем казалось ему самому, и все же большинство людей считало, что жизнь идет так, как ей следует идти. Выводы, сделанные из этой катастрофы, распространились не только на технику. Если высшее достижение технического гения оказалось столь непрочным, то что же тогда говорить об остальном? Если богатство в ту холодную ночь стоило так немного, то что оно значит в остальные дни и ночи? "Титаник" не имеет отношения к последующим разочарованиям XX века, но его гибель стала первым знамением надвигающейся катастрофы. До "Титаника", казалось, была тишь да гладь, после него - сплошной хаос. И когда Первая мировая война опрокинула измышления о гуманности и прогрессе, человек ощутил себя лишенным мировоззрения. Жертвы и разрушительность войны не укладывались ни в какие заранее заготовленные формы призыва Бога-Истории. Еще вчера человеку могло казаться, что мир исполнен разумности и упорядоченности. И вот он убеждается в том, что высокие слова "цивилизация", "прогресс", "нация" лишены всякого смысла. Исторический процесс вышел из-под контроля во всех своих составляющих, вплоть до частной жизни, в которую вторглись события невиданной разрушительной силы. Война была ужасна, но еще ужаснее были ее метафизические следствия. Ни одна из известных войн не влекла столь разрушительного кризиса, как Первая мировая. Горы трупов, принесенные в жертву Богу-Истории, никого не спасли и никого не защитили. Можно ли верить в благость истории, допускающей такие сбои? Можно ли верить в доброту, человечность, справедливость и нравственность людей, которые четыре года методично истребляли друг друга? Пока шла война, ее угар и грохот, страх смерти и окопный быт отодвигали эти вопросы на задний план, но война закончилась и таких "можно ли..." накопилось слишком много. Новыми глазами были прочитаны Ницше и Достоевский, Гуссерль и Фрейд, Къеркегор и Гегель. Ответом на катастрофизм мировой войны стала философия экзистенциализма. Экзистенциализм - это бунт против незаинтересованности в человеке, это стремление оградить его от гегелевского бесчеловечного Бога-Истории и в то же время это бунт, сохраняющий в своем опыте фундаментальные интуиции о сфере абсолютного, вынесенные из романтизма. В теории Фрейда философы-экзистенциалисты обратили внимание на тот слой, который не слишком приметен из-за большой роли психоаналитических "жизненных энергий": в человеке есть нечто, что недоступно механизму государственной власти, никакая земная власть не может владеть человеком безраздельно - бессознательное вообще не может быть объектом управления, коль скоро оно по сути своей не дано нам в форме представления. Если нет надежных знаний о бессознательном, то нет и практики управления, основанной на точном знании. Это непроницаемое пространство человека - пространство сопротивления, плацдарм бунта, гарантирующий уверенность в том, что человек не будет полностью растворен в безличности коллектива. Экзистенциализм - это философствование на границе обыденного и научного, своего рода академическое диссидентство, ищущее некие практические принципы, которые могут быть извлечены из опыта аксиологической катастрофы эпохи. Как философы-киники античности, экзистенциалисты в новейшее время отказывают науке в праве быть вершительницей судеб человека. Они обнажают равнодушие науки, показывая изнанку прогресса, защищая человека от его прежнего божества. Человек экзистенциальной философии - это человек, взглянувший в лицо ужаса. Он ищет способа сохранить свое достоинство перед лицом ничто. Он понимает, что история и события его личной жизни не задачник для решения исторических проблем, а его удел, пространство испытания человечности. История, не обладающая смыслом, наполняет существование человека смыслом иным: этот человек пребывает в истории не для того, чтобы ее куда-то двигать, но чтобы осуществить свою человечность, то единственное, что у него осталось. Человек и история разошлись в путях своих, и человек отныне познает в событиях не их смысл, а свой собственный. Исследование истории для этого человека имеет смысл только как рекогносцировка с целью узнавания возможных ситуаций исторического претерпевания бессмыслицы. Ни божественный промысел, ни его суррогаты здесь в истории уже не действуют. История десакрализована. Обезбоженный мир и человек, требующий Бога, создают внутреннее напряжение экзистенциальной мысли. Но в ожидании благой вести необходимо перестать искать сакральное в мире, перестать мыслить смертность как преграду, о которую разбивается человеческая тоска по Богу, и научиться строить свою жизнь на основе этой смертности, жить, не отводя взгляда от ничто. Ничто как примета отсутствующего Бога обладает собственным смыслом, и смысл этот в том, что ничто открывает человеку его подлинную меру тоски по Богу. Ужас, приоткрывающий ничто, есть отныне единственное доказательство того, что человек еще не растворился в массе. Ничто выявляет мужество человека, решающегося отбросить костыли достоверностей. Оно открывает ему безусловную достоверность его самого. Эта достоверность открывается не в историческом целеполагании, а в самой безотчетности человеческого стремления к безусловному. В призыве ничто звучит призвание человека к бытию вне упорядоченного сознания обыденного. Человеческое призвание есть его единственное дело, дающее сознание осмысленности. Миссия человека - понять и проявить собственную судьбу, невыводимую из общественных коллизий. Человеку "все позволено" в осуществлении собственной судьбы. Человек вталкивается в судьбу своим трагизмом. Человек экзистенциализма утратил моральные основания своего бытия, но приобрел сознание собственной ценности. Расставшись с иллюзиями, человек обрел достоверность не в мышлении, а в экзистенции, по ту сторону добра и зла.
АБСУРД
Абсурд - это имя метафизического трагизма в историческом воплощении новейшего времени. Уже не безосновностью, не бездной оборачивается трагизм человеческого удела, но переживанием бессмыслицы, вбирающим в себя и неустранимую случайность человеческого здесь-бытия, и неразрешимое противоречие между человеческим желанием смысла и бессмыслицы мира. Абсурд рождается в столкновении человеческой мысли с молчанием небес. Мысль заново фиксирует ущербность частичного человеческого существования. Она снова укрепляется в уверенности, что реальный мир играет роль реквизита для разыгрывания многочисленных ролей неподлинного, когда даже наедине продолжаешь ломать комедию. Мысль, соприкасаясь с неподлинным, снова сознает девальвированность всякой рационально постигаемой всеобщности. Она ищет способа удержать и спасти конечное - индивидуальность, неистребимую уверенность человеческого "я" в своей значимости. Философия и искусство становятся напряженным переживанием индивидуальности в беспредельности становящегося, в поиске возможностей единства сущего и человека. Жизненная полнота мыслится на путях познавания, в котором открыта не противоположность, где путь познавания - это путь поверх барьеров индивидуального, путь уникальности внутри уникальности, которой придано значение всеобщего. Здесь "бешенством бываний в страданьях немоты" вознаграждается радость сиюминутного понимания. Здесь текучесть и изменчивость признают только такой взгляд, который тоже текуч и изменчив. Здесь человек есть одновременно и хаос, и порядок, саморазрушение и самосозидание. Здесь порядок пронизан неожиданностью, а неожиданность таит семена порядка. Чтобы так мыслить существование, нужно принять за истинное свою неустранимую принадлежность к эмпирическому, к наличному со всей его текучестью и конечностью, нужно быть сущим, отказавшимся от субъектности, нужно принять абсурд как онтологию. Человек, возвративший свою субъектность, есть сверхчеловек, то есть человек, отказавшийся от своей свободы, ставший вещью, освободившийся от всякой моральной ответственности. Он полностью захвачен процессом, растворен в нем, он поступил в бессрочное пользование принципам Воли в лице истории (Гегель), революции (Маркс), иррациональной витальности (Ницше). Он действует не от собственного имени, а от имени мирового духа, истории, космоса. Этот человек черпает свой энтузиазм в подключении к неким трансцендентальным силам, он чувствует свою захваченность мировым круговоротом, в котором раскрывается и осуществляется жизнь этого целостного надличного организма, и приветствует свое исчезновение во "всепоглощающей и миротворной бездне". Этот человек бездомен. Бездомность рождает и космическую радость первопроходца, и тоску богооставленности. В первом случае человек есть "сверхчеловек", во втором - "маленький человек", но и в том, и в другом случае он отчужден от своей сущности человека. И тот и другой вариант его существования есть побег от свободы в космизм сверхчеловека или в ничтожество маленького человека. Воля к бегству - не что иное, как страх быть человеком, быть тем, чем человек отныне не смеет быть. И настолько безволен новейший человек, настолько охвачен жаждой обретения всеобщности, что не способен удержаться и на этих уровнях существенности. В безличность "ничто" бежит он из сверхчеловека, в вещность и управляемую поверхностность общественного мнения - из маленького человека. Человек-вещь задавлен сознанием своей необязательности, заброшенности, одиночества. Напряженное переживание своей случайности и уникальности формирует приметы этого одиночества. Одиночество человека эпохи "действительной смерти бога" радикально отличается от одиночества других исторических эпох - оно метафизично. У новейшего человека уже нет никаких утешений. И если в иные времена одиночество человека преодолевалось обращением к метафизике ("Утешение философией" Боэция), то сегодня именно из метафизики человек узнает о глубине и тотальности своего одиночества. Два бытия - мира и человека - отныне со-бытийствуют рядом, и это событие (со-бытие) и есть то пространство, в котором рождается абсурд. Одиночество человека новейшего времени настолько ново, полно и безысходно внутри новейшего трагизма, что чувства излишни в этой полноте - это одиночество не способно стать предметом со-страдания, ибо бессмысленно сострадать метафизике. Из всех эпох европейского нигилизма только новейшее время предоставило человеку возможность познать это истинно одинокое одиночество, одиночество, которое нельзя разделить, ибо это одиночество смертности. Человек отныне умирает весь. Смерть неделима и потому трансцендентна. Одиночество, знающее эту трансцендентность, предстает как метафизическое таинство. У этого одиночества может быть только такая метафизика, которая повелевает быть маргинальным. Маргинальность в наши дни больше не является уделом меньшинства, она распространяется в массовом масштабе и присутствует повсюду. Из таинства одиночества рождается тайная свобода - она только теперь становится тайной, скрытой, потаенной, той свободой, которую необходимо скрывать. Это свобода человеческого самоопределения. Новейший трагизм абсурда есть тугой узел бездомности, безволия и одиночества. Из глубины этого трагизма человек заново задет свои вопросы небесам: озабочен ли Бог уделом человека? Берется ли им во внимание уникальность каждого "я"? И заново, в одиночестве, человек делает выбор: или Бог есть Любовь, или нет Бога. Метафизика новейшего времени уверена в "действительной смерти бога". Принимая правду этой метафизики, новейший человек сознает необходимость сокрытия своей фундаментальной интуиции о Боге-Любви, не подтвержденной небесами и не востребованной землей. Там, где на поверхности разыгрывается драма сверхчеловека, там в глубине живет трагедия тоски по Богу. Жизнь, не отмеченная высшим смыслом, становится игрой. Основа всякой игры есть томление. Русский язык одним словом обозначает игру актера, игру вина и игру ребенка. Вино томится, и его томление порождает игру, ребенок томится своей детскостью, невозможностью осуществить всерьез то, что доступно взрослому, и начинает играть. Человек томится невозможностью осуществления своей сущности и начинает играть. Игра есть симптом не преодоленного трагизма, безвыходности. Актер стал героем нашей эпохи. Актер притворяется - притворяет себя, - скрывая нечто сущностно значимое от глаз посторонних. Тем самым актер выносит приговор миру, дает свою оценку тому миру, в котором быть искренним означает обладать высшим талантом притворства. Игра актера есть осуществление метафизического бунта против молчания небес, и в той мере, в какой современный человек осознает себя как актера своей судьбы, он осознает себя и как богоборца. Для человека абсурда подлинная искренность невозможна просто в силу того, что переживание трагизма как наиболее интимное переживание одновременно и наиболее недоступно пониманию другого. Взаимопонимание в наше время есть постепенное обнаружение того пространства в другом человеке, которое никогда не будет постигнуто. Быть познаваемым в качестве объекта, быть известным другим означает быть отторгнутым от самого себя и пораженным в собственной тождественности. Это означает быть всегда неверно понятым независимо от того, порицают ли тебя или хвалят. В наше время человек не хочет принадлежать свой субъективности, своему "я". Эта ситуация маскарада, ситуация лицемерия есть необходимая ситуация, в которой только и может осуществиться тайное бегство человека в себя. Человек больше не хочет быть глубиной. Но он еще не забыл, что только принадлежа себе и можно принадлежать по-настоящему другому, ибо из своей собственной свободы человек свободно принадлежит другому и Богу. Свое неповторимо-личное, интимно переживаемое содержание "я" на семиотическом языке он выразить не может и вынужден либо постепенно утрачивать его, либо хранить это содержание в невысказанных глубинах личности, проявляя его вовне лишь в заведомо неадекватной форме - в имидже. Это не теория, а повседневная практика современного человека. Этот человек видит свою задачу в том, чтобы участвовать в спектакле под названием "жизнь". Повседневность стала высокой метафизикой, и жизнь в быту означает подлинное философствование. Повседневное, утратив защитные слои всеобщего, стала всеобщим полем экзистенциальной рефлексии. Всеобщее лицедейство нашего времени заставляет человека тяготиться сферой раскрытого смысла. Человек стремится к непрозрачности. Он ощущает себя настолько "маленьким", что для него теряет смысл вообще предъявлять какие-либо претензии к миру. Он сознает, что ему лучше держаться общих мест, быть как все. "Общие места" становятся местом "общения", придавая общему месту статус и мощь всеобщности. Банальность избавляет от необходимости самостоятельного переживания абсурда. Здесь отсутствует человек и остается нечто непрерывно снующее между частным и всеобщим. Новейшая философия очень чутка к идее «безосновательной реальности». Уже Хайдеггер говорил, что закон достаточного основания сам не имеет под собой никакого основания. Существование человека - это «невозможная необходимость». Обыденность, скука - поле истинного: современный человек живет словно бы во сне, в нереальном, неистинном. Разбудить его может только абсурд. Вне абсурда реальное не имеет оправдания, ибо все существующее принадлежит к несуществующему уже единству. Есть внутренняя недостаточность реального - у него отсутствует собственная причина. Повседневность равна обыденности, равна и поверхностной узнаваемости - она нереальна не потому, что не существует, а потому что не исчерпывает всей реальности, которая как целое включает в себя и абсурд, чувствуя который человек абсурда берет сторону библейского Иова в своем индивидуалистическом личном бунте против мира. Основная категория абсурда - единичный, который ставит вопрос о свободе человеческой личности за пределами гегелевской системы, вне детерминизма и подчиненности объективным законам, где все действительное неразумно, а все разумное недействительно. Ибо что такое внутренне свободный человек как не одинокий человек, и чем он может поделиться с другими, кроме своего одиночества, исключительности, уникальности. Желание свободы возникает из нехотения быть винтиком в машине, которая производит на конвейере героев-одиночек - конвейер по производству одиночества. Сущностью трагедии не является несчастье: она завершается торжественной демонстрацией безжалостного ходя вещей. Неизбежность судьбы лишь иллюстрируется коллизиями человеческой жизни, которые включают и несчастья. Ведь только эти несчастья могут сделать очевидными всю тщетность избежать трагической судьбы. Эта безжалостная неизбежность наполняет мышление человека абсурда: законы физики суть веления судьбы, новейший человек чувствует здесь дыхание Мойр. Здесь высвечивается парадоксальная судьба фихтевского «я» - того начала, которое с великим энтузиазмом было встречено новейшим мышлением на заре своей эпохи: в признании «чистого»я» скрывался отказ от идеи личности. Чистое «я» Фихте совершенно не воплощается, оно присутствует в акте, никогда не становясь плотью. И постфихтеанская философия отказывается от пустого «я» индивидуума, делая его агентом повседневной феноменальности. Но в поглощении мира отдельного человека миром всеобщего, которое Гегель выставляет в качестве идеала, человек абсурда видит и открывает более глубокие начала человеческого существования: страдание, страсть, отчаяние и веру. В отличие от учения, предметного знания и объективной истины, личностную, субъективную правду о тайне и страдании единичного существования и в преодолении этого ужаса не помогают ни богословские утешения, ни философское примирение с действительностью и мировой гармонией. Как и Иов, человек абсурда отвергает наставления друзей и рациональные попытки оправдать зло и выбирает путь парадоксальной веры вопреки знаниям и разуму: он не философствует, не ищет света в разуме, а кричит, плачет и проклинает. В этой вере, которая идет против очевидности, повторяется подвиг Авраама. Жертва Авраама обнажает разрыв веры с общепринятой этикой и разумом, со «здравым смыслом»: с точки зрения этики Авраам преступник и убийца, но с точки зрения веры - он истинно верующий, который доверился Богу. Авраам - эммигрант из сферы всеобщего, он богоборец, и как всякий богоборец действует абсурдно. Совершая свою жертву он исключает себя из сферы человеческого общения. Парадоксальная веры Авраама неизлечима, ее смысл за пределами разумения, вне сферы привычной надежды на лучшее.
Из тяжелых и мучительных раздумий рождается поверхностная легкость современного человека и его невротическое веселье. То безвыходное пребывание в трагизме богооставленности, то ожидание благой вести, согласующейся с достоверностями человеческого сердца, то богоборчество, которое остается на высоте своей трагической сущности, и дает формы человеческой тоски по Богу. То, что составляет внутреннюю жизнь человека нашей эпохи, ведомо ему в редкие минуты метафизического одиночества посреди пустыни неподлинного. Двигаясь по поверхности "маленького человека", рефлексия есть форма сопротивления конечному, истолкованному как неподлинное, и тем самым изначально проходит по схемам романтического бунта. Трагизм этой рефлексии заключен в том, что ее формы не органично рождаются из жизненных коллизий, а создаются намерением преодолеть границы "я", скрывая тем самым доступ к той самости, которая и является истинным движителем сопротивления. Речь идет о ситуации, когда бунт неумолимой логикой новейшей метафизики открывает перед человеком только один путь - в "сверхчеловека". "Сверхчеловек" есть облегченный вариант "маленького человека". Сверхчеловек есть человек, добровольно ставший человеком массы, толпы. Масса не есть сумма сверхчеловеков, она сама и есть сверхчеловек. Коммунизм и фашизм, когда декларировали высший тип человека и строили этих сверхчеловеков в колонны, не были противоречивы. Сущность сверхчеловека обретается в массе. Тоталитарность выступает для современного человека как правда мира сего, как мудрость века, которая есть безумие пред Господом. Два века новейшей истории - словно две ступени новейшего трагизма, где энтузиазм первопроходца, активного строителя истории, ощущающего на себе "бремя белых", принесшего на алтарь надчеловеческого свою жизнь и свою свободу, сменяется яростным отрицанием всякой разумности. Человек XX века не поднимает глаза к небу. Он "верен земле". Сверхчеловечность, ранее обосновывавшаяся гегелевским историзмом, теперь обосновывается биологически, это уже не призыв истории, а зов крови.
ПОСТМОДЕРНИЗМ
Постмодернизм как общее умонастроение есть следствие тех неудач, которыми так богат наш век. Для постмодернизма прошлое уже не является чем-то таким, что требует пиетета, - оно лишь склад готовых идей и форм. И если исторически возникновение постмодернизма связано с процессами в сфере искусства и его симптомы могут быть выявлены из художественной практики, то вневременные его признаки больше тяготеют к тем моментам современной настроенности к миру, которые улавливаются философским размышлением. Постмодернизм покоится на нескольких достоверностях, которые в равной степени ведомы и теоретикам постмодернизма, и его критикам, и обыденному сознанию. Ныне любой прохожий знает, что никакого мирового духа нет, что законы истории нам неизвестны, что как общественная, так и природная эволюция не знает субъекта и потому непредсказуема, что мы никогда не достигаем именно тех целей, которые ставили, а достигаем чего-то другого, чего и вообразить себе не могли. Речь идет о дискредитированности суверенного разума, о кризисе идентичности современного человека, потерявшем себя в мире. В конце XX века человек обнаруживает, что существует в каком-то тягостном вневременье, утратившем рациональную ясность. Постмодернистское сознание не может отрешиться от мысли о своем внутреннем антропологическом кризисе, о своей сомнительности. Мысль о ненадежности и шаткости ценностей европоцентрического мира - одна из главных тем современной интеллектуальной жизни. Человек позднезападной цивилизации живет в действительности, полной неразрешимости: ему неведомы устройства тех механизмов, которые обеспечивают его комфорт. Он может не знать и не понимать писателей и философов, но умело цитировать их - компьютер найдет и скомпилирует эти цитаты. Этот человек не знает, как действуют банки и как устроена финансовая система, ему достаточно того, что кредитная карточка обеспечит ему все необходимое. Мир современного человека состоит из непознанных величин, о которых необязательно заботиться, за него все сделают другие. Но, как выясняется, комфортность существования - очень сложное дело: мир неясен, бесприютен, отчужден. Постмодернистский человек представляет собой последнюю редакцию человека романтизма. Убедившись в пустоте небес, человек возвращается к своему одиночеству; научный факт, свидетельствующий о мире, не скроенном по человеческой мерке, обращается человеком против мира. Мир становится виновником пустоты небес. Жизненная потребность человека в любви и неотчужденности надламывается под тяжестью научных результатов. Чем шире мир раскрывается перед наукой, тем больше он прячется от чувств, слов, представлений человека. Космическое равнодушие овладевает человеком, равнодушие, доходящее до полной утраты способности что-либо различать. Современный человек не только утратил уверенность в обоснованности своего бытия, ясную ориентацию в мире, но и ориентацию в своем собственном мышлении. До сих пор он ориентировался в реальности и определял в ней свое положение за счет того, что противопоставлял друг другу понятия, рассматриваемые как противоположные, он исходил из того, что друг другу противостоят такие вещи как небо и земля, мужчина и женщина, смысл и бессмыслица. Современная же философская мысль всерьез рассматривает такую парадоксальную ситуацию, когда в сознании человека рушится система символических противопоставлений, когда сам принцип оппозиции и закон исключенного третьего теряют власть над мышлением. И это не просто игра ума. Это актуальная жизненная проблема: всякое знание о реальности и любая интерпретация реальности теряют достаточную убедительность. Все то, что до сих пор помогало осмыслять мир и считать его существование необходимым, оказалось необязательным. Мир и человек утратили большую часть своей легитимности. Человек эпохи компьютеров и электроники живет как бы в трансе, он не является уже человеком, который мог бы рассчитывать на свободу и на нахождение какой-то истины о мире. Постмодернистское мышление не синтезирует, а сопрягает, рядополагает феномены, вовлекая их в замысловатую игру равновеликих смыслов. Искусство выступает в качестве чего-то, что служит некоему внехудожественному началу. Внехудожественный характер постмодернизма определяет ту легкость, с которой он ищет сближения со всеми видами искусства. Постмодернизм не ограничивает себя в выборе тем - тут все темы являются лишь ностальгическими знаками прошедшего великолепия культуры. Постмодернизм изо всех сил старается заполнить пустоту, которая образовалась между восприятием человека и миром. Это своего рода популизм. Но это популизм того особого рода, который по-новому оттеняет еще большую элитарность. Она проявляется в понятных только посвященным стилистических намеках, в иронической игре стереотипами и двусмысленностями. Если модернизм понимал игру как серьезное дело, то постмодернизм серьезное дело понимает как игру. Постмодернизм уже не ощущает отчуждение как гнет, потому что "индивид", от которого якобы отчужден окружающий мир, есть для него мифическая конструкция. Постмодернистская среда обитания настолько выровнена, однообразна и пестра, что отчуждение вообще перестает ощущаться как боль. Оно осваивается до такой степени, что между своим и чужим нет различия. Индивид теперь состоит из сверхличностных и внеличностных компонентов. Этот индивид есть своего рода энциклопедическое чувствилище, либо свободно проходящее через пространства различных эпох и культур и потому не чувствующее себя стесненным в своем исторически данном пространстве, либо само состоящее из "общих мест" и банальностей, которые образуют окружающую среду. Постмодернизм - это тоска по утраченному раю осмысленности, циничная насмешка над заведомо безнадежной попыткой вернуть не то чтобы сакральность, но просто значимость в насквозь опошленный, отрефлексированный мир сущего, это смех, скрывающий боль души. Существо постмодернистского взгляда на мир состоит в открытии радикальной неопределенности какой бы то ни было действительности, какого бы то ни было знания. Открытие тотальной пустоты мира в силу отсутствия имманентного ему смысла поставило индивида в положение, при котором он перестал быть организующей силой категориального синтеза. Философия постмодернизма есть философия отсутствия. Постмодернистский человек предоставляет всему сущему пребывать в мире без него, реализуя на практике то космическое смирение, которое охватывает человека перед лицом Абсурда. Постмодернистский человек в своей имитации всех стилей скрывает волю к самоустранению, волю к сокрытию своей сущности в непроницаемости бессмыслия. Все растворено в однородности пустоты, человек, выпавший из процесса развития, перестает существовать. Мир в отсутствие человека распадается на отдельные феномены, сущность которых проблематична, а бытие есть бытие музейных экспонатов. Постмодернизм - это стойкая уверенность в том, что ничего уже нельзя выдумать, что осталось вспоминать, иронизировать и ухмыляться над прежними достоверностями, грустя о цельности. Постмодернизм как метод мышления можно рассматривать как принципиально незавершенный и непостоянный набор разнообразных интеллектуальных и культурных течений: от прагматизма и экзистенциализма до феминизма, герменевтики и постэмпирической философии науки. Несколько принципов постмодернистского мышления получило сегодня особо широкое хождение: особенно ценится пластичность и постоянная изменчивость действительности и знания, предпочтение отдается конкретному перед отвлеченными принципами, появляется убеждение в том, что ни одна априорная мысль не должна тяготеть над воззрениями и исследованиями человека, общепринято, что человеческое познание субъективно определено множеством факторов, что субъективная сущность недоступна и не позволяет делать о себе никаких утверждений и что ценность всех истин и представлений нужно постоянно подвергать непосредственной проверке. Критический поиск вынужден смириться с неоднозначностью и множественностью, а обретение решения в любом случае будет знанием скорее относительным и подверженным ошибкам, чем абсолютным и определенным. Постмодернистское мышление уверено, что мир не существует независимо от интерпретаций, но начинает существовать в интерпретациях и лишь благодаря им. Оборотной стороной открытости и расплывчатости постмодернистского сознания является отсутствие какого-либо твердого основания для мировоззрения. И внутренняя и внешняя реальности стали невероятно разветвленными, многомерными и безграничными, давая возможность проявляться всему и вместе с тем вселяя тревогу и смятение перед миром нескончаемого релятивизма и экзистенциальной конечности. Столкновение субъективных позиций, острое сознание культурной раздробленности и всеобщего распада, плюрализм на грани удручающей бессвязности - из всего этого и складывается состояние постмодернистского мышления. Даже говорить о субъекте и объекте как о разных реальностях уже значит брать на себя слишком большую смелость. В сущности, главная экзистенциальная проблема постмодернизма - проблема необходимости промолвить нечто определенное и невозможности это сделать, проблема ответственности, проблема воли к смыслу, мужества ситуации "да-нет". Постмодернизм есть антиномичное движение мысли, словно бы задавшееся целью разложить западное мышление на части. Для постмодернистского мышления характерна эпистемологическая одержимость разрывами и разломами вместе с идеологической приверженностью к меньшинствам - политическим, сексуальным, языковым. Правильно мыслить и правильно поступать для мышления этого рода значит отказаться от тирании общезначимого, поскольку во всякой общезначимости для постмодерниста содержится тоталитарность. Нет и не может быть постмодернистского мировоззрения, поскольку сама постмодернистская парадигма выступает разрушительницей всех парадигм. В этом духе мышления неприметно присутствует нечто от былой уверенности в своих взглядах, от гордости за принадлежность к единственно верному учению. У постмодернистского мышления чувство превосходства возникает из сознания ничтожности тех знаний, на которые может претендовать разум. И в силу этого самокритического сознания было наконец прочувствовано то, что и квазинигилистическое отрицание всех форм тотализации и всеобъемлющей связности само представляет собой вовсе не безупречную позицию, поскольку, основываясь на своих же принципах, она способна оправдать саму себя ничуть не больше, чем все те метафизические конструкции, против которых это мышление и ополчилось. Само по себе утверждение исторической относительности и зависимости любой истины и любого знания от языка культуры отражает лишь один из возможных взглядов, вовсе не обязательно имеющий универсальную общезначимость. Постмодернизм как психологическое явление есть культура разочарования. Постмодернизм аккумулирует все предшествующие исторические формы утраты смыслов. Постмодернизм не отказывается ни от какого наследия - он принимает их все в свой музей культур. Он берет их, но для него все эти сокровища обесценены, равновелики. Постмодернизм способен играть своими сокровищами, но творить ему не под силу. Это безволие и есть постмодернистский бунт. Он отвергает неподлинное. Он ниспровергает самые незыблемые установки прошлого, он показывает эфемерность философской классики с ее рационализмом, гуманизмом, глобальными телеологическими теориями философии истории и вытекающими из них утопиями грядущего мира. Радикальная деконструкция любых мыслительных канонов и ценностных стандартов пробуждает у своих апологетов задор игры с ценностями минувшего. Нет уже больше устойчивых кумиров, огонь критики достиг оснований современного миропонимания. Постмодернизм означает конец веры в разум. Он означает также конец возможности мыслить идею единства и всеобщности (тотальности). Критики разума устанавливают связь между традиционным пониманием разума и интенцией к целостности и единству, откуда и делают вывод о том, что именно разум был источником тоталитарного. Сама по себе справедливая критика злоупотребления единством, которым грешили режимы XX века, сверх того направляется против идеи единства как таковой. Для посмодернистского сознания тоталитарен, в сущности, весь мир. Тоталитарен изначально и в самой своей основе, будь то жесткая форма «реального социализма» или либеральный облик постиндустриального Запада. Поэтому поиск смысла сам предстает изначальной бессмыслицей: самопознание жизни убивает жизнь. Отсюда распад как господствующий мотив постмодернистского искусства. В отражении этим искусством «смерти мира» есть отблеск воли к смерти его самого как источника отражения. Теряя смысл своего бытия, оно все больше стремится перестать быть искусством, и в самом этом жесте слиться с бытием. Освобождая многообразие культурной активности от связанности единым началом (от сакрализации единого), постмодерн освобождает себя для сил распада. Принцип тяготения к одному смысловому центру рушится, но образующееся многообразие вряд ли способно само удержаться - тотальный духовный кризис заставляет предположить отрицательный ответ. В этом смысле постмодернизм представляет собой сакрализацию распада - и сам нуждается в последующем снятии. Западная культура в конце XX века вообще перестала признавать, что на свете есть что-то, что должно оставаться святым. Нет ничего святого. Общество тотальной информации есть общество «бесстыдное», где можно демонстрировать все что угодно, как угодно, кому угодно: все равно и все равны перед торжествующим бесстыдством массовых коммуникаций. Предельная демократичность «мировой деревни», где все на виду у всех, как раз и приводят к тому снятию критериев, которое и есть бесстыдство, непристойность современной цивилизации. Массовая культура торжествует потому, что сегодня не зазорно быть толпой, чувство сакрального расслоилось вместе с самим обществом, вплоть до приятия различными слоями сепаратных религий. Постмодернизм есть отмена качественных градаций и приземление всех прежних образов мира, освобожденных от сакральной окраски, отрицание самой возможности истины, общей для всех. В своей последней глубине постмодернизм движется бунтом против метафизики Новейшего времени, в которой человек оказывается случайной точкой пересчения стихий, рабом романтической Воли. Этот бунт бессилен, поскольку сам постмодернизм есть продукт этой метафизики, он не преодолевает, а отрекается от романтических достоверностей, но бунт, тем не менее не бессмысленный и не бесполезный, как не бесполезен и не бессмыслен любой бунт. Посмодернизм берет человека в его эмпирической конкретности, как «вот», принимая его временность, условность, случайность как не подлежащую обсуждению ценность. Ценность человека определяется самим фактом его существования. Постмодернизм не считает себя в праве требовать от человека выработки нормативного «я». Фактичность и ценность - это заданное, а не долженствующее быть. Это несомненно борьба за уникальность человека, несомтря на то, что эта уникальность здесь остается абстрактным принципом, декларируется, но не реализуется, не раскрывается. Постмодернизм ищет оградить человка от общезначимого, от тоталитарности всякого долженствования, от долга тому, что отчуждено от человека. Стремление это есть реакция на «категорический императив», которому столь долго приносились столь великие жертвы, ибо они никого не спасли. В философии постмодернизма, в силу этого бунта, устранен «гносеологический субъект», носитель нормативного сознания, конструктор общеобязательного, творец больших стилей. Великий отказ от нормы и нормативности несомнено рожден глубоким разочарованием в романтизме, и потому сам романтичен. Постмодернизм словно бы говорит: человека следует брать целиком. Смерть морализма как отвлеченного начала, провозглашенная постмодернизмом - это аппеляция к целостности, которая включает. А не исключает эмпирику. Постмодернизм не отрицает высокого, он только говорит о необходимости низкого - необходимости эмпирически-конкретного человека со всеми его «почесываниями». В основе постмодернизма лежат не онтологические, а моральные проблемы, порожденные "действительной смертью бога". Аксиологическое основание постмодернизма позволяет ему распространять свое влияние не только на сферу искусства и культуры, но и захватывать все области человеческой деятельности, влиять на те глубинные установки человеческого сознания, которые не имеют непосредственного отношения к собственно художественному творчеству. Потому в постмодернизме так настойчиво проявляется его вневременной характер, потому и постмодернистское сознание присуще не только узкому кругу художественной интеллигенции, но и человеку "с улицы". В постмодернизме, несмотря на то, что слово "игра" не сходит с языка его теоретиков, главное не игра, а та трагическая основа, которая указывает на такие сферы человеческого духа, которые составляют неизменное ядро человеческого мироощущения в исторические эпохи заката. Как бы ни отличались ментальности человека в разные исторические времена, мы все-таки имеем дело с человеком, с тем смертным человеком, которому его смертность во все времена предоставляет один и тот же выбор: подохнуть или умереть. Постмодернизм в этом случае есть последняя форма европейского бунта. Потому так естественно и органично в постмодернистское сознание входит эсхатология в ее экзистенциалистском варианте. Но эсхатологический смысл постмодернизма вовсе не сводится к нагнетанию разочарования и безнадежности. Эсхатология - это всегда своего рода двойная формула, в которой надежда уравновешивает угрозу бытия, чудесным образом появляясь по ту сторону безнадежности. Двуединство смысловых элементов эсхатологии есть своего рода "архетип" постмодернизма. Современный человек живет в условиях аксиологического кризиса, когда девальвация традиционных европейских ценностей достигла предела. В этой ситуации философия постмодернизма является не только делом наблюдения процессов в сфере духа, но - как и раньше - делом сотериологическим. Постмодернизм - это новое имя старой боли.
НЕОЯЗЫЧЕСТВО
В наше синтетическое время небывалое распространение получил особый поверхностно-синтетический склад ума, для которого любая аналогия в ряду явлений предстает как сущностное тождество: все религии говорят о едином Боге, следовательно, все религии говорят об одном и том же Боге. Для современного европейца в роли Бога явлен всего лишь реликт христианского божества, то, что осталось от Его всесовершенства после того, как деизм и пантеизм экспроприировали творческие возможности Бога в пользу природы вместе с Его разумностью и благостью, и то, что осталось от Него вслед за тем, как романтизм отнял у Бога-Природы и разумность, и благость, возвестив миру об иррациональной Воле. В исторической практике подобный синтетизм обнаруживает себя в настойчивом стремлении к стиранию границ между жизнью и искусством (постмодернизм), между мужчиной и женщиной (феминизм), между народами в их внешнем (общеевропейский дом) и внутреннем бытии (интернационализм), между религиями (экуменизм). Для современного человека все религии говорят одно и то же, все предметы сущностно едины и все люди равны. На этой благодатной почве неверия и безволия столь закономерны всходы новейшего мистицизма, вбирающего в себя восточную религиозную эзотерику под лозунгом объединения всех религий и синтеза религиозных представлений. В этот процесс включены и "нерелигиозные" тенденции бегства от мира в сферу молодежной субкультуры. Исхоженное вдоль и поперек пространство современного романтического трагизма, ограниченное историческими пределами "действительной смерти бога", имеет один выход - в неоязычество. Постмодернизм как умонастроение принимает на себя роль идеологического пространства, в котором происходит неуклонное вызревание нового миропонимания. Место Бога-Истории занимает Бог-Космос. Биология растворяется в псевдонаучных рассуждениях о космических влияниях на биосферу земли и пассионарных толчках. Надлом европейского историзма ведет к обожествлению космоса с его античной неволей человеческого существования под взором сущего. Разочарование в Боге-Истории, переживание "конца истории" возвращают историческую мысль к летописи, хронике, к хронологически-последовательной событийности вместо телеологии, возвращает историю к самой себе. Романтическая идея прогресса оказывается тем, чем была с самого начала, - частным случаем историософских представлений. Если гегелевский историзм сходит со сцены, то это означает, что в определенном смысле исчезает сама история, поскольку на смену историзму приходит не новое понимание истории, а отрицание истории - отрицание за историей какого бы то ни было права быть организующим центром человеческих усилий. Как в конце нового времени герой маркиза де Сада говорил: "Я ненавижу природу", так сегодняшний нигилист может сказать: "Я ненавижу историю". Если в истории нет смысла, то история лишается роли Судии, к которому устремлены человеческие вопрошания об истине, она исчезает из числа факторов, влияющих на человеческую судьбу, она становится неинтеллигибельной сменой цивилизаций и культур, генезис которых скрыт, а исчезновение таинственно. Охлаждение европейского ума к Богу-Истории распространяется и на феномены, на которых лежит отблеск умирающего божества, - на идеи становления, прогресса, длительности культуры как пространства самореализации человека, и новой силой наполняется интерес к ставшему во всей его целостности, сфере сущего, истолкованного в его онтологическом аспекте. Романтическая Воля уступает место неоязыческому Бытию. Космос и космические энергии, поданные в высокой лексике эзотерических мифов, все более овладевают умами. Наука-исследование сменяется наукой-мифотворчеством. Постмодернизм есть пространство привыкания мышления к новым формам взаимоотношения с миром. В постмодернизме все бывшие культурные коды, все символические языки, все культуры прошлого уравниваются, все становится равно интересным и приемлемым в постмодернистской игре пустот, и именно эта равноценность означает, что внимание современного человека медленно отворачивается от культуры как пространства самовыражения. Постмодернистское требование плюрализма в сегодняшнем контексте означает просто всеядность. Это анархизация культуры. Когда сегодня представители феминистской теологии всерьез заявляют о необходимости отбросить принцип патриархата, и в качестве предварительного условия предлагают учреждение какой-нибудь богини, то общественное мнение рассматривает это предложение как вполне заслуживающее обсуждения. Постмодернистский отказ от принципа субъективности приводит к тому, что индивид как ответственный за формирование мира уходит на покой, ибо признается связанным с предрассудками рационализма, а это уже, по мнению постмодернистов, тоталитаризм, недопустимый в свободном обществе. Сегодняшние религиозные устремления ориентированы на доисторические религиозные системы, минуя христианство. Природа начинает пониматься по-язычески, как носительница собственной субъективности и тем самым как спасительница, как источник новых сотериологических ожиданий. Посредством медитаций человек приучается отказываться от себя и своей субъективности. Виталистическое понимание природы формирует эти новые умонастроения, на разные лады повторяющие тезис о несводимости органического к неорганическому. Человеческая субъективность в виталистическом понимании жизни как особой субстанции выносится за пределы всеобщих закономерностей и приписывается к абсолютному, которое понимается уже совершенно безлично.Все основные принципы социальной философии, провозглашенные в XIX веке, сегодня воспринимаются не иначе как с отрицательным знаком: прогресса нет, социальная эволюция сомнительна, цивилизация не движется к вершинам прогресса, а научные открытия, не принося желаемой пользы, грозят разрушением самой цивилизации. Сами основания научной мысли поставлены под сомнение, и все эти умонастроения идут из той сферы, которая до недавнего времени была фундаментом социального оптимизма, - из сферы науки. Физика обнаружила ложность редукционизма, биология признала ложность эволюционизма, абсурдность рационалистических претензий выявила математика. Все движется сегодня, подчиняясь лозунгу: "Вперед к античности!" Только сейчас мы можем понять античный трагизм и принять античность как свое грядущее, сейчас только совершается то возрождение античного духа, которое деятели ренессанса принимали за свершившееся. Но сегодня это возрождение совершается не силой человеческой страсти, а самой логикой европейского нигилизма. И вместе с античным трагизмом современный человек начинает принимать и правоту идеи круговорота истории. Нашей эпохой "действительной смерти бога" завершается европейский нигилизм. Нас ждет новое язычество. Метафизический облик грядущего еще туманен, но некоторые его приметы можно разглядеть уже сегодня. В будущем все культурные и исторические различия будут рассматриваться как различные пути одного религиозного опыта, осознание того, что эти разные пути духовного опыта не исключают друг друга, станет одним из оснований религиозной практики, будет усиливаться влияние буддизма, даосизма, все более широко будет воспринята практика шаманизма, различия в религиозном опыте Запада и Востока будут мыслиться как различия форм человеческого сознания при вхождении человека в эпоху Бога-Космоса. То, что сейчас кажется экстравагантным, обретет в новом божестве свой надлежащий вид и свою повелительную необходимость для управления делами человеческими. То, что мы зовем христианской культурой, утратит свою силу, сделав намного опаснее то искушение, которое явится, как сказано, "чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мф., 24, 24). И потому нам так понятен язык эсхатологии. Мы чувствуем последние времена. И наш опыт подсказывает нам, что последние времена - это нечто такое, что не имеет отношения к хронологии. И если мы говорим о близости конца, то не по времени, а по существу: наше время все ближе подходит к необходимости принятия абсолютного решения и его последствий. Все времена суть последние, ибо Страшный Суд есть не завершение истории и мира, а их прекращение. "Внезапу Судия приидет и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас".
ИСТОРИЯ И СМЫСЛ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
История европейского нигилизма есть метафизический бунт, осуществляющий себя в исторических эпохах, которые сменяют друг друга в полном соответствии с логикой богоутраты. В этой истории парадоксальным образом сочетается осмысленность логики с бессмысленностью, определенной отсутствием конечной цели истории, отсутствием телеологии, поскольку цели метафизического бунта лежат вне истории как таковой. В самой событийности исторического процесса осмысленность и бессмыслица существуют рядом в своих собственных сущностных пределах, не отрицая друг друга, но своим присутствием в плоти истории удерживая подле себя свою противоположность. В силу метафизичности бунта историю нигилизма можно рассматривать как во вне-временном, так и во временном, историческом аспекте. Между эпохами бунта пролегает время катастроф, полагающих конец предыдущей и начало новой эпохи. Катастрофы чередуются в том своем качестве, который определен их природой, - исторические, то есть те, которые рождены внутри социальных движений, перемежаются с теми, которые происходят в силу природных закономерностей. Так, землетрясения XV века до н. э. положили конец Минойской цивилизации и дали импульс к возникновению античной цивилизации. В свою очередь, конец античности ознаменован собственно исторической катастрофой - падением Римской империи. Между средневековьем и новым временем Европу охватывает эпидемия чумы, а новое время заканчивается социальной катастрофой - французской революцией. С большой долей уверенности можно предположить, что наша эпоха закончится неким природным катаклизмом, масштабы которого будут иметь, вероятно, планетарное значение. Люди, пережившие катастрофу, словно бы заново начинают строить свою жизнь, руководствуясь опытом, вынесенным из разочарования в метафизике предшествующей эпохи. И если историческая эпоха как некое целое представляет собой изживание одного из следствий "смерти бога", то внутри самой эпохи ее собственное развитие подчиняется той же самой логике. Так, время, имеющее своим смыслом переживание "смерти бога", есть всегда время начала, время войн и передела мира, время поэтов, мудрецов и полководцев, время, которое последующими поколениями признается как героическое, - эпоха Троянской войны, эпоха великого переселения народов, Возрождение, эпоха наполеоновских войн. Период, сущность которого определяется умонастроением "я есть бог", есть время расцвета исторической эпохи, время, в котором умонастроение предшествующего периода создает идеологию, в которой новый опыт взаимоотношений с землей и небом приобретает повелительную силу моральных и социальных установлений - гомеровский век, каролингское возрождение, эпоха великих географических открытий, XIX век. За этим периодом неизбежно следует некий надлом в духовном строе эпохи, и этот надлом, как правило, происходит после крупной войны, которая для цивилизации имеет характер мировой, вовлекая в свой водоворот все действительные силы эпохи, - Пелопоннесская война, "война трех братьев", тридцатилетняя война, Первая мировая. Это период, когда ставятся под сомнение те основополагающие формы жизни и моральные предписания, что в форме идеологии уже были обретены в предшествующий период, это время, когда "все позволено". Время "вседозволенности" влечет за собой период "действительной смерти бога", в котором то маргинальное сознание, что былодо времени угнетено волей основного умонастроения, выходит на поверхность как сила, разлагающая старую картину мира. Это период, в котором получают распространение новые точки зрения на Бога и человека, период увлечения новой мистикой, почвой для которой служит идущий на смену старому новый маргинальный опыт: гностицизм, современная мистика восточной эзотерической традиции - все это исторические приметы эпохи "действительной смерти бога". Во вне-историческом аспекте нигилизма следует говорить уже не о закономерностях развития, а о некоторых вполне определенных свойствах и признаках, повторяющихся в истории в силу того, что сущность исторических эпох определена неизменным смыслом богоутраты: ни одна весна не похожа на другую, но все же есть совершенно бесспорные приметы, позволяющие нам говорить о ее приходе. Так и историческое развитие в своей конкретности не повторяет предыдущих форм, но по некоторым признакам можно определить "время года" исторической эпохи. Все эти вне-временные приметы собираются вокруг идеальных типов исторических эпох: мудреца, крестьянина, ремесленника, ученого. И потому в мироощущении всякого истинного поэта или философа всегда будет присутствовать нечто античное, крестьянский взгляд на мир всегда будет нести в себе нечто средневековое, в каждом ремесленнике всегда будет нечто от протестанта и Робинзона Крузо, а каждый настоящий ученый будет хоть немного Фаустом. В свою очередь, даже внутри исторической эпохи те ее периоды, которые соответствуют метафизике одного из четырех идеальных типов, всегда будут воспроизводить характерные, сущностные черты этих идеальных типов. Существует энтелехия богоутраты - она выражает не только установки деятеля истории, но и определенные свойства и закономерности, присущие богоутрате самой по себе. Энтелехия нигилизма происходит везде, где "смерть бога" принимает форму и облик, где потенция смыслов, заключенных в "смерти бога", воплощается в историческую конкретность, где происходит осуществление идеи или принципа, вынесенного из переживания "смерти бога". Энтелехия нигилизма происходит там, где знание, что "бог мертв", становится человеческим переживанием и где это переживание избирает свою форму из идеи, общей многим, из принципа, общего большому числу индивидуальных проявлений, где этот принцип становится достоянием не только ума, но и сердца. Поэтому то обстоятельство, что энтелехию богоутраты мы можем в наиболее актуализованном виде рассматривать именно в европейской истории, еще не говорит о том, что она касается лишь европейского человека. Но в европейской истории она выявила свои классические формы.
ТРАГИЗМ
Гегель в свое время полагал, что цивилизация до тех пор не способна осознать самое себя и собственную значимость, пока не достигнет такой ступени зрелости, когда уже близок ее смертный час. То же самое можно сказать и об истории нигилизма: ницшевское "бог мертв", выражая глубинную суть метафизического бунта, исторически было констатацией его последней эпохи. В греческом мифе Ницше сумел разглядеть не гносеологическую сторону, каковой этот миф не имеет, а сторону онтологическую, повернутую к человеку трагизмом его удела, которая одна порождает греческие "небо" и "землю", как любой глубоко пережитый трагизм порождает "новое небо" и "новую землю". Но ницшевское понимание античного трагизма списано с трагизма новейшего времени, определенного абсолютным разрывом с желаемым и действительным одновременно, поскольку новейший трагизм живет по ту сторону желаемого и действительного. Ницшевская возбужденность и экзальтация - то, чему он сам дает название оптимизма - есть тотальная безнадежность, являющаяся сущностной приметой новейшего трагизма. Ницше открыл трагизм нашей эпохи и как профессор классической филологии облек его в античные одеяния. Он дал ему имя - Дионис - и под эти именем изложил сущность нашего трагизма, выдав его за античный. Более того, на все исторические эпохи распространил он исторически преходящий трагизм новейшего времени, исторически обусловленное имя дал он вне-временному. Так авторитет Ницше закрепил за новейшим трагизмом античное время, а античный трагизм стал пониматься как нечто идентичное нашему пониманию трагического. "Дионис", "Аполлон", "Эрос", "Танатос" суть символы, наполненные теми смыслами, которые были неведомы античному уму. Ницше, как и его ученик Шпенглер, оказался неисторичным в том единственном месте, где требуется предельная историчность. Мысль Шпенглера следует раз и навсегда усвоенному от Ницше убеждению, что "бог мертв". Окончательность этого факта позволяет Шпенглеру отбросить за ненадобностью всякую "мораль" как исторически преходящее и встать на сторону биологических достоверностей "крови" и "расы". Но та бессознательность человеческого действия и человеческого мышления, на которую Шпенглер, как понятливый ученик романтизма, не раз ссылается, присуща и самой шпенглеровской мысли - именно бессознательная установка, достоверностью для которой служит трагизм новейшей эпохи, управляет его концепцией "заката" и не позволяет ему заметить сущностные отличия его эпохи от других эпох. В теории Шпенглера с порога отметается существование новейшего времени как метафизически значимой области истории. Другими словами, его понимание трагизма и "смерти бога" само исторически обусловлено той окончательностью, какая открылась новейшему человеку в его богооставленности. И потому то, что является самой большой заслугой Шпенглера, - обоснование генезиса и развития цивилизаций из трагизма человеческого удела - есть и наиболее слабое место его концепции. "Мировая тоска", из которой Шпенглер выводит генезис всех культур, - одна и та же на все времена, и это та же тоска, которая принадлежит его собственной эпохе. Шпенглеровское понимание трагизма ограничено его романтическим истолкованием. Здесь выходит на поверхность внутренняя непродуманность шпенглеровского понимания трагизма: трагизм везде один и тот же, но культуры, возникающие на основе этого трагизма, неведомым образом суть сущностно отличные друг от друга образования. Неисторическое понимание "мировой тоски" затемняет причины возникновения отличий культур. Впрочем, Шпенглер презирает каузальность, которая у него терпит полное поражение от идеи судьбы, трактуемой по-шпенглеровски, то есть романтически. Шпенглер поет гимны судьбе, ибо не принимает в расчет замысла Бога о мире и человеке. В его книге нет Христа как Сына Божия, и потому возникновение культур находится полностью в компетенции рока, фатума, есть дело неизведанное и бессмысленное: если нет Бога, то есть судьба, ибо судьба - от мира, а замысел Бога о мире - от Бога. Судьба же есть вечное повторение рождения, расцвета, заката и смерти, есть нечто принципиально анти-телеологичное. И то, что понимание истории с точки зрения безраздельного господства судьбы возможно, плодотворно и в своих границах обладает несомненной истинностью, доказывает уже сама книга Шпенглера - его концепция схватывает в историческом бытии много верного, и эта верность исходит из той последовательности, с которой проведена мысль о телеологической бессмысленности истории без благодати. И, может быть, благодаря во многом шпенглеровской убедительности, с какой он языком новейшего времени - языком романтизма - рассказывает своей эпохе о ее же бессмысленности, исходит и постмодернистское неразличение сущностных отличий прошлого от сущности сегодняшнего времени. "Конец истории" столь же постмодернистичен, сколь историчен сам постмодернизм как последнее умственное течение новейшего времени. Парадокс шпенглеровской концепции истории состоит в том, что, при всей любви к романтическому становлению, его описание культур строго статично, и если не принимать в расчет его аналогии развития цивилизаций с развитием растения - ведь это всего лишь аналогия, лишенная сущностного наполнения, - то шпенглеровское описание не-исторично. Это действительно в разной степени убедительная физиогномика культур. Все, что в романтическом русле писалось о Древней Греции, в том числе и шпенглеровский взгляд на античность, есть сон, в котором реальная Греция явилась европейцу нашей эпохи, преображенная его собственными предпочтениями, его фантазиями и суевериями и потому в некоторых существенных чертах своих оставшаяся неузнанной. Так вечерняя смутность узнает свое сходство с утренними сумерками. То, чему романтик больше всего поклоняется в образе Древней Греции, больше говорит о существе его миропонимания, чем об античности. И в неволе, и в безволии человек подчинен над-человеческому, он одинаково претерпевает свой трагизм, но из этого не следует сущностное тождество античного и новейшего трагизмов. Внутри каждого из них живут прямо противоположные стремления: устремленность к свободе из-под взора сущего античного человека противоположна стремлению новейшего человека к исчезновению и погребению своей невозможной свободы в безличности толпы. В первом случае свобода покоится на приятии всего земного и реального, во втором ускользает в области воображения и фантазии, стремясь быть подальше от реальности. Шпенглер, зачарованный аполлонизмом грека, вообще не упоминает о греческом трагизме кроме как в придаточных предложениях. В шпенглеровскую концепцию замкнутости культур не вписывается прорывающий все границы дионисизм, и шпенглеровский грек есть только аполлонический грек, что дает Шпенглеру возможность декларировать непроницаемость античности для человека другой культуры. Но как бы ни старался Шпенглер не замечать оборотную сторону аполлонического, сквозь его размышления проступает то обстоятельство, что во всем строе античного мышления и миропонимания чувствуется отрицание хаоса. Аполлонизмом отрицается именно хаос-Дионис. И само это отрицание удерживает подле себя этот хаос в качестве конституирующего принципа всей античной картины мира. "Судьба" античного аполлонического человека мыслится греческим умом противопоставленной дионисийскому "вдруг", но именно перед этим "вдруг" начинается то изумленное греческое осмысление невозможности сопротивления судьбе, те остолбенение и статуарность, которые так убедительно описал сам Шпенглер. До своего завершения в эллинистической сотериологии античная мысль движется в русле этого основного события своей истории - открытия Хаоса. Античный человек и на закате своей цивилизации поклоняется богине случая Тюхе, богине "вдруг". Каждая историческая эпоха переживает в своем здесь-бытии некое главное откровение трагического в мире и заканчивает тем, с чего начала, не выходя за пределы своих первоначальных интуиций без того, чтобы не перестать быть собой. Такова и античность: она начала с "вдруг" и закончила культом богини Тюхе, и весь богоборческий пафос античного человека имел в виду отрицание Хаоса и был занят его преодолением, в невозможности которого обретая свой трагизм. В шпенглеровском же изложении античный трагизм предстает как переживание "мировой тоски", в которой без труда узнаются приметы переживания иррациональной романтической роли. Является ли античный трагизм сущностью новейшего времени? Нисколько. У каждой эпохи свой "страх" и своя "мировая тоска", свои исторически обусловленные формы трагизма. Осмысление трагизма в его исторических формах требует неукоснительного разграничения его онтологического и исторического аспектов. Онтологически единый трагизм в разные эпохи не одинаков в силу разности его составляющих. Так, трагизм нашей эпохи определен абсурдом, безволием и одиночеством, которое стало абсолютным; трагизм нового времени составляют безосновность (бездна), произвол и выброшенность из природного целого; трагизм средних веков состоит в своеволии, социальной маргинальности (пустоте) и неукорененности в земле, а античный трагизм определен переживанием мира как хаоса, космической неволей и безличностью. Человек своего времени страдает в исторически данных ему формах трагизма, в тех формах, в каких он предстал перед ним, и только перед ним. Человек склонен воспринимать свой трагизм как трагизм вообще, исторические обличья и символы своего трагизма он видит как вне-временные формы трагизма и потому не способен отдавать себе отчет в различиях его исторических форм. И каждая сущностно отдельная картина мира определенной эпохи есть производное не из туманного первофеномена, этой неисходно эстетической категории, а из ее собственного трагизма. И потому шпенглеровская история списана с истории шпенглеровского сердца, уязвленного богооставленностью мира. Его философия культуры есть интимное переживание и изживание "окончательной смерти бога", облаченное в одежды мировых цивилизаций, есть рационализация своего онтологического ужаса в исторически конечных формах былого. Этот трагизм эпохи пережит Шпенглером с той предельной силой, на которую вообще способна тонкая и впечатлительная человеческая душа. Но этот честно пережитый ужас новейшего времени мало продуман в историческом аспекте. Однако заветное слово - "трагизм" - произнесено применительно к истории именно Шпенглером. Тем самым нащупана та единственная основа, на которой вообще возможно понимание движущих пружин истории как истории человеческого страдания, человеческого бунта и человеческой тоски по Богу. Мыслить историю по ее собственной сущности означает мыслить все, что попадает в поле зрения историка, принадлежащим сфере изменчивости. Все, что движется в потоке истории, движется изменением. В этот поток попадают и вне-исторические феномены, которые в сфере метафизики именно своей неизменностью позволяют собирать вокруг себя подчиненные смыслы, то есть позволяют мыслить себя метафизически, мыслить в сфере неизменных по определению содержаний. Человеческий трагизм принадлежит истории над-исторического. Переживание трагизма не исторично, но онтологично, но, проходя в истории, само переживание облекается в исторические одежды. И если в метафизическом размышлении "хаос", "пустота", "бездна" и "абсурд" могут быть синонимами, то в размышлении, претендующем на историчность, должно присутствовать строгое различение исторических ликов трагизма. Если античное переживание хаоса выявляется как отсутствие в мире порядка (космоса), закона, но новейшее переживание абсурда, при назойливом сознании законосообразности мира, есть переживаниебессмысленности всей этой упорядоченности. Есть ли что-либо одинаковое в обоих этих переживаниях, кроме самого понимания, что и то, и другое переживание имеет дело с трагизмом человеческого удела? В каждую эпоху ужас, открывающий ничто, трагизм, вырастающий на основе этого ужаса, осознается только в том обличье, в каком он дан в наличном бытии человеку этой эпохи. Богоборчество, рождающееся из исторически обусловленного трагизма, также проходит в исторических формах, метафизически оставаясь тем же самым бунтом человека против несправедливости, страдания и смерти. Метафизическая неизменность бунта есть та почва, из которой пристрастный свидетель несправедливости - человек - постоянно черпает свои исторические силы. Историчность богоборчества проявляется как взаимосплетение исторической ситуации, ее смысла, умонастроения эпохи с человеческими стремлениями к справедливости. Преемственность исторического бунта совершается в форме отказа от основного умонастроения предшествующей эпохи, в его отрицании. Так, если романтический человек рождается в отказе от просветительского идеала, то в этом отказе все-таки сохраняется преемственность именно того противостояния, через которое человеческий бунт входит в пространство своего исторического самоопределения. Тем самым нынешнее самоориентирование человека относительно исторического аспекта своего существования есть в то же время продолжение метафизического бунта, продолжение европейского нигилизма. Исторически обусловленный бунт в силу своей внутренней а-историчности всегда направлен за пределы истории, к новым, неведомым, несуществующим идеальным формам жизнеустройства, и в этом парадокс метафизического бунта: он творит историю своим стремлением вырваться из плена исторического. Но это строительство будущего проходит путями богоутраты и потому обрекается на самоповторение своих основных смыслов. История нигилизма вообще есть цепь неудачных попыток спасти мир и человека без помощи Бога. Но именно вне-историчность богоутраты есть то единственное, что наполняет собственным, отличным от других, сущностным содержанием различные исторические эпохи и привносит умопостигаемую логику в самый порядок их чередования.
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
Всякое частное историческое исследование предполагает наличие некоторой общей идеи исторического процесса, в которую своим внутренним смыслом встраивается исследуемый предмет. Другими словами, предполагается существование вполне определенной философии истории. Задачей философии истории всегда было выяснение принципов истории, то есть общих причин, основных условий и процессов, на которых покоится, с одной стороны, течение и связь исторических событий, с другой - их познание. Философия истории есть познание смысла истории, познание того, как она совершалась доселе, куда и как ведет она человечество в пределах его земного существования. Она также есть суд над историей - мало сказать, что ход истории был таким-то и таким-то, что он подчинен таким-то и таким-то законам, нужно еще найти смысл перемен, дать им оценку, разобрать результаты истории и также оценить их. Философия истории ищет сущности эпох, схваченные в их потаенном, скрытом от самого деятеля истории смысле, она является теорией высшей абстракции, но такой абстракции, которая адекватна исторической действительности. Необходимо внятно объяснить, каким образом происходят исторические изменения, каков возможный удельный вес человеческой инициативы, каково соотношение картины мира эпохи и социального поведения человека, мыслим ли окончательный синтез в истории и если он возможен, то что является его основой. В любом случае проблема исторических изменений непосредственным образом связана с проблемой синтеза, с вопросом о том, что собирает к себе и вокруг себя все феномены исторической эпохи. Сегодня уже никто не будет возражать против того, что между социально-экономическими структурами, политическими и юридическими институтами общества существуют многоразличные связи и взаимодействия и что определенный тип культурных, религиозных, художественных феноменов жестко соотнесен с определенным типом социальных структур. История представляет собой нечто более сложное, чем линейный процесс развития. Понимание истории как эволюции отягощено такими ценностно окрашенными категориями, которые приобрели идеологическую привлекательность в период конца XIII - начала XIX веков, когда на исторический процесс стали смотреть как на развитие, происходящее под знаком "прогресса". К счастью, мы уже научились понимать - и в этом отношении непосредственные впечатления совпадают с главными достижениями исторической науки, - что прогресса нет, что человечество живет сменой подъемов и падений и что все великие достижения во всех областях жизни имеют свой конец и сменяются периодами застоя и упадка, когда человечеству приходится учиться заново подниматься из глубин анархии. Вера в прогресс поколеблена самим ходом истории нашего века, в котором рецидивы бесчеловечности, казавшейся давно пройденным этапом, неоднозначность прогресса в тех областях, где он имеет место, ощущение бессмысленности поступательного движения, не имеющего предела, знание свободы каждого рождающегося существа начать все сначала во имя справедливости - все свидетельствует против того, чтобы видеть в истории некую благую цель. Но нужно было впасть в самоослепляющий иллюзионизм, признать действительность за нечто несуществующее, утвердиться на условном как на безусловном, уверовать в этот исторический хилиазм, отрезанный от своих религиозных основ, чтобы, наконец, только отрезвляющим действием истории очнуться от этого самоусыпления. Но тем более повелительно звучит теперь для нас голос религиозного опыта, пробуждающий ото сна и дающий почувствовать иную, трагическую сторону бытия. Дневной шум временного чередуется с ночным опытом вечности, а над зноем жизни проносится ледяной ветер смерти. Тот, в чью душу хотя бы однажды вошли вечность и смерть, тот слышит это молчание и среди шума великих торжищ, чувствует этот холод и под палящим солнцем. Тот, кто опытно познал реальную силу зла и страдания как основы мировой трагедии, теряет доверчивость к истории. Мы уже перестали задаваться вопросом о смысле истории в том плане, в каком этот вопрос предполагает ответ на вопрос об универсальном смысле бытия. Мы научились понимать, что в истории как таковой нет имманентного ей смысла. История сама по себе не знает движения к исторической цели. Течение истории предполагает рождение, расцвет, надлом и упадок каждого отдельного народа и каждой исторической эпохи в определенное для них время. Вне этой временной протяженности, установленной судьбой, в истории нет ничего. Внутри космического круга, в котором обретается история, есть разные периоды, в совокупности составляющие лишь процесс деградации, ведущий к постепенному, но от того не менее полному искажению того, что есть в сущности мир и человек. История предстает перед нами как один непрекращающийся процесс падения, процесс, начатый грехопадением в Эдеме. Даже сохранение уже достигнутых ценностей оказывается для нас невозможным. Где ныне высота греческого богоборчества? Близки ли мы теперь к тому умиротворению и правовому упорядочиванию всего культурного мира под единой властью, которого мир достиг в Римской империи? Можем ли мы надеяться на возрождение в мире тех недосягаемых образцов ясной и глубокой веры, которую являли христианские мученики и исповедники первых веков христианства? Где теперь богатство индивидуальностей, цветущая полнота и многообразие жизни средневековья? В нашей истории уже нет ожидания, нет надежды, нет преодоления неопределенности, и ничто в ней самой не сулит утешения перед лицом разрушительной греховной природы человека. Но история все-таки продолжается. В ней даже можно обнаружить логику и осмысленность, обнаружить нечто такое, что заново заставляет нас задавать вопросы о смысле истории. Больше того, то единое, что мы именуем "историей", при ближайшем рассмотрении оказывается равнодействующей - по меньшей мере - трех составляющих: истории национальных идей, истории нигилизма и Священной истории. Взаимоотношения трех составляющих этого целого имеют характер аксиологической иерархии, в которой история национальных идей, занимающая низший слой, есть история как таковая, история нигилизма есть история метафизики и умонастроений по преимуществу, а Священная история, проникая своим сакральным смыслом первые две, занимает верхнее положение. Соответственно, если речь идет о смысле истории, то и сам смысл разбивается на исторический, метафизический и религиозный смыслы. И если религиозный смысл пронизывает обе "низшие" истории, ибо "Дух дышит, где хочет", то смыслы метафизический и исторический не необходимы для Священной истории, но сами даны лишь в соотнесенности своей событийности со смыслом и телеологией Священной истории. Ни история нигилизма, ни история национальных идей не имеют собственной телеологии. Но все три истории имеют свой круг событий, свою исследовательскую значимость и, следовательно, свой арсенал категорий, на основе которых и должен проходить их самостоятельный анализ. История делается не великими идеями или великими людьми, а великими страданиями. Страдание рождает народы к их особому национальному бытию, эпохи нигилизма есть переживание и изживание богоборческих истин, рожденных в страдании, страдание заставило и Священную историю стать фактом не только небесным, но и земным. Человек, как бы он ни отличался по своим представлениям от человека другой эпохи, всегда остается существом смертным и страдающим; это - та основа, на которой можно прочно утверждать преемственность исторических эпох, цивилизаций, империй и народов, это - мост, по которому мы способны проходить к пониманию других эпох. Страдание есть та почва, на которой осуществляется совместное бытие вне-временного и исторического, метафизического и повседневного, сакрального и профанного. Тот простой факт, что богоборчество человека всегда проходит одни и те же пути, позволяет нам говорить и о единстве истории. Великие катастрофы и неудачи есть основа, на которой ткутся узоры истории людей. Катастрофизм есть возможность духовной истине получить доступ к душе человека и к его разуму, в трагические времена сердца открыты для принятия в них Духа Святого, благодаря тому горькому разочарованию, которое производит гибель земных институтов, внушавших прежде впечатление незыблемости, долговечности и нравственного величия, побуждавшее их создателей и служителей питать к ним доверие и посвящать свои жизни служению им. Катастрофа, касающаяся одного народа, дает начало истории нового народа с новой национальной идеей, катастрофа, захватывающая в свою орбиту многие народы, дает начало исторической эпохе и тем самым относится уже к истории нигилизма. История нигилизма имеет дело преимущественно с умонастроениями исторических эпох, она изучает то, что можно назвать "общими представлениями", "метафизической оснасткой", причем применение этих категорий ограничено сферой, в которую не входят умонастроения, рожденные в других - национальной и Священной - историях. Историк, изучающий формы нигилизма в их исторической последовательности, должен стремиться к тому, чтобы обнаружить вне-национальные мыслительные процедуры, способы мировосприятия, привычки сознания, которые были присущи людям данной эпохи и о которых люди могли не отдавать себе отчет, применяя их как бы автоматически и потому не рассуждая и не подвергая их критике. История великих людей уступает здесь место истории потаенных мыслительных структур, которые присущи определенной исторической эпохе. Существует возможность отождествления умонастроения с психологической реакцией, которой (возможности) следует опасаться более всего, дабы сохранить собственно исторический аспект исследования. Историк, вступающий в сферу коллективных умонастроений, формирующих матриц мыслительной традиции эпохи, рискует оказаться в плену либо биологии, поддавшись внешне самоочевидному сходству развития истории эпох с развитием биологической формы, либо психологии, где все эти коллективные умонастроения будут рассматриваться не-исторически и где поэтому есть опасность размывания конкретно-исторического смысла умонастроений во вне-временной и достаточно общей "психологичности". И здесь теория богоутраты - "смерть бога" и ее следствия - есть то, что вносит сущностное наполнение в аналогию развития растения и развития исторической эпохи, то, что самой внятностью своей воспроизводимости в любой новой эпохе не дает историку укорениться в уверенности, что в каждой исторической эпохе он имеет дело с совершенно различными "психологическими" установками. Сказать, что цивилизации подчиняются естественному ходу земной обусловленности, для историка слишком мало. Это знали еще греки. Ничего, кроме противостояния либеральной концепции линейного исторического прогресса, здесь нет. Внутри же самой концепции неизбежности смены эпох восхождения и упадка мы не выходим за границы классификационного азарта, при котором в наших руках в конце концов остается формальное знание табличек и ярлыков, которые мы же сами и наклеили на цивилизации и эпохи. Каждая из трех историй создает и постоянно воспроизводит свои собственные умонастроения, которые в едином потоке исторического взаимодействуют друг с другом. Но только разделив их по их собственной сущностной принадлежности, мы сможем вполне уяснить их подлинное значение и масштаб, а также и то, насколько важны они и для других историй. Тогда только умонастроения, порожденные богоутратой, умонастроения, вышедшие из национальной идеи, и умонастроения, исходящие из переживания Священной истории, предстанут перед нами полностью свободными и тем самым готовыми для нашего дальнейшего размышления об истории и о человеке в истории. Для истории нигилизма "смерть бога" с теми следствиями, которые неизменно выводятся из нее, являются тем, что можно с полным правом назвать сущностью эпох, тем под-лежащим, по отношению к которому все остальное в исторической эпохе получает предикативный смысл. Тем самым эти вехи богоутраты есть одновременно и причины смены умонастроений одной эпохи другой. Богоутрата дает в руки историка тот аксиологический ориентир в клубке умонастроений, который представляет собой человек любой эпохи, который способен избавить историка от субъективизма и собственной ценностной пристрастности. Сущность исторической эпохи, которая определена метафизикой богоутраты, позволяет также формулировать некую общую модель, напоминающую веберовский "идеальный тип", где сам "идеальный тип" дает ориентацию, систематизирующую и форму познания, и вне-временной облик эпохи, не подминая под себя фактический материал. Событийная и материальная сторона истории есть символизация умонастроения, изживание которого стало судьбой эпохи. Эти символы относятся к основному умонастроению, которое само находится за пределами отдельных каузальных событий. Только обращением к единству смысла, которое и есть основное умонастроение, мы можем ощутить ценность и смысл отдельного события и отдельного умственного движения данной эпохи. Иные исходные достоверности, иной предмет изучения существует у историка, анализирующего историю национальных идей. Народ как общность людей, объединенная одной идеей-мечтой, рождается из катастрофы, в которой все прежние мыслительные достоверности предстают как не-истинные. Народ в годы испытаний и утрат открывается Истине, а Истина открывается народу. В борозды народного духа Святой Дух кладет семя той правды, которую только этот народ может воспринять. В силу естественной неполноты восприятия народ принимает только частицу Истины, открывшейся ему в чудесный момент сретенья Духа Святого с духом народа. Этой правдой, этой частицей Истины отныне живет народ; исходя из нее, действует он в мире. В любой национальной идее есть нечто истинное, даже тогда, когда эта правда искажена и малоосознана. Правда народа есть та живительная сила, которой он вершит свою судьбу. Этот вовсе не значит, что народ через свою правду становится единосущным Истине или что сама способность воспринять Истину возможна только благодаря единосущности народного духа Духу Святому. Народ во всей своей плоти только прикасается к ней, получая на хранение малую часть от плеромы Истины, и Бог в воле вернуть ее себе, если народ по каким-либо причинам отказывается от задач, встающих перед ним из недр национальной идеи. Каждый народ рано или поздно приходит к своему концу, осуществив свое призвание или не осуществив его, и окончание жизненного срока народа имеет несомненную мистическую связь с его началом. Пути народа в его исторической судьбе хранят в себе таинственное свойство, благодаря которому мы можем проходить по ним назад и вперед, причем путь назад может оказаться дорогой к истинному пониманию народом своей метафизической задачи. Историческое лицо народа и его метафизический облик находятся в таких взаимосвязях, которые могут быть выявлены в размышлениях об идее народа без того, чтобы привлекать в эти размышления категории, принадлежащие другим областям истории. В событиях истории замысел Бога о народе вырастает перед народом как перекресток судеб, ибо замысел неявен, скрыт, недоступен в своей полноте, оттого он и встает как проблема. Национальные особенности, вырастающие из национальной идеи, есть в этом случае формы, в которые замысел Бога о народе воплощается в исторической и культурной конкретности. Народный дух запечатлевается в формах материальной культуры, в архитектуре, пластике, цветовых и звуковых предпочтениях, в обычаях и социальных установлениях. Особенности духа коррелируются с особенностями национальной идеи. История сохранила нам миродержавную идею Рима, греческую идею богоравности, религиозное избранничество еврейского народа, идею "Божьего Града" на земле франкского народа, мы знакомы с "русской идеей" и "американской мечтой". Национальная идея любого народа не есть производное от исторических, географических и других особенностей, но сами эти особенности суть сосуды, в которые изливается Богом данный народный дух, те сосуды, в которых находит свои излюбленные формы национальная идея. ,Воля народа проявляется и первенствует даже тогда, когда она волит безволие. Древние греки потому создали именно такие, а не иные формы общественного и религиозного устройства, что хотели этого, все эти формы греческой жизни определены греческой национальной идеей, которую дух греков представил перед собой как только ему принадлежащий образ идеальной жизни. В начале каждой национальной идеи лежит воля (желание, хотение), отрицающая что-то определенное, то, что народ как метафизическая общность исторгает из своего идеального мира. Эта воля не имеет отношения к романтической Воле, ведущей народы, не соотносясь с ними в их наличном историческом бытии. Воля народа - это нечто неотчужденное и неотчуждаемое от него, то, что принадлежит ему до тех пор, пока он пребывает в единстве со своей национальной идеей. Государство, возникающее как реализация национальной идеи, есть не только аппарат и инструмент, используемый в целях регулирования и организации социальной жизни, оно - свершение бытия, форма общественной жизни, существующая ради того идеального образа, который исходит из недр национальной идеи как творческое стремление народа к подлинному и в формe данного социального устройства достигает своей действительности и истинности. Здесь все взаимосвязи разнородного сущего обусловлены сущностью национальной идеи, гарантирующей сохранение самотождественности национального бытия в изменчивости исторического бывания. История национальной идеи есть такая взаимосвязь событий и действий, которая ведет к возникновению созданного мира, соответствующего ограниченной во времени общности людей. Причем обоюдное соответствие, их идентичность преобразует индивидов в личности, а общность - в народ. Обоюдная идентификация, если она достигается, и есть смысл этой истории. Каждая деталь национальной целостности соотносится с другой, объясняя друг друга. У каждого народа есть своего рода образный и мыслительный априоризм, что залегает под рассудочным и понуждает в силовом поле идеи собирать и располагать разнородные влияния и факторы так или иначе. Другими словами, существует национальный характер народа с его особым предрасположением и одаренностью. Религиозное, научное, художественное мышление действует в нем в соответствии с закономерностями психической жизни и с гарантированными аналогиями в других сферах деятельности, однако объяснить самый факт их существования из психологических законов невозможно. Приняв географические, исторические и другие предпосылки, мы можем посредством вчувствования понять дух народа, но такое понимание не есть причинное объяснение. Все национальные характеры складываются из бесчисленных отдельных процессов, но выведены из их суммы быть не могут, ибо в самих этих процессах уже присутствует особенное, из которого только и образуется целое. Из скрытых пластов духовной жизни народов каждый раз прорывается своеобразная форма жизни с новым содержанием, и эти пласты с постоянно текучим и в то же время неизменным содержанием и есть то, что отличает историю национальных идей от психологии. Народ познается из его идеи. Взаимопритяжение, отталкивание, столкновение между национальными идеями и составляет то, что есть собственно история. И эта история предоставляет историку меньше всего возможностей говорить о смысле. Эта история возможна только как констатация прошлого и существующего, она возможна только постфактум. Национальная идея народа вовсе не обязательно есть христианская идея. Греческая идея богоравности не имеет в виду христианское понимание богочеловека. Римская идея также является скорее идеей юридической - стремление "дать закон миру", в том числе и религиозный закон, двигало римскими легионами. Но "русская идея" и национальная идея франков имеют несомненную христианскую основу. Франки как метафизическая общность возникают с принятием Хлодвигом и его дружиной христианства и исчезают вместе с неудачей своей идеи "Божьего Града" на земле. Национальная идея не всегда и прямо религиозная идея - монгольские завоевания не несли миру никакой религиозной идеи, но несомненно то, что некая вполне определенная идея у них была. Но - еврейское религиозное избранничество свидетельствует также о том, насколько мощно религиозный смысл идеи способен сформировать и национальный характер. Приметами роста и осуществления национальной идеи, по крайней мере, теми приметами, которые значимы для историка, можно считать рождение национального государства и превращение его в империю. Империализм есть символ того, что национальная идея сбылась и требует своего территориального расширения. Мы знаем осуществленные (Греция, Рим), осуществляющиеся (Германия, Россия) и близкие к осуществлению (Америка) национальные идеи. За имперским периодом рано или поздно следует упадок и крушение империи. И та же судьба, которая некогда постигла Афины и Рим, ждет Москву, Берлин и Вашингтон. Впрочем, национальная идея может вообще не включать никакой идеи государственности и никакой ориентации на осуществление в истории. В истории национальных идей трудно выводить некие общие принципы в силу того, что сам предмет подчинен, как и судьбы людей, своей национальной судьбе. Дело осложняется еще и тем несомненным проникновением, которое есть между умонастроением эпохи и национальной идеей. Так, германский дух, который необходимо отличать от "западно-европейского", а по религиозному качеству - от католического, начинается в эпоху Цезаря. С IX-X века он замирает, словно бы останавливаясь в своем развитии. Субъект германской истории пребывает на грани потенциальности, словно бы растворяется в более высшем субъекте - средневековой эпохе, а этот субъект в итальянцах, французах и немцах существует преимущественно как романский. Средневековая германская культура в точном смысле не является еще немецкой. Она лишь в известной мере выражает себя специфической деформацией романской культуры, сказывается в отдельных, хотя и весьма характерных для германского духа течениях. Одним из них, наиболее ярким и сильным, является средневековая германская мистика, внутренне связанная с германской душой. Не раскрывает себя немецкий народ и в новое время. Его культура больше хочет быть немецкою, чем на самом деле таковой является. Германский дух и здесь еще не самостоятелен, не в силах выразить себя в своей государственности. Германский дух начинает входить в свою сущность только в XIX веке. История Германии XIX века и века XX знает и империи, но и здесь вряд ли может идти речь об осуществлении национальной идеи. И если мы хотим выразить существо взаимопроникновения истории нигилизма и истории национальных идей, то немецкая история представляет собой один из характерных примеров всей сложности проблемы. В любом случае, все, что происходит с нацией на ее историческом пути, следует рассматривать и понимать как развертывание во времени и пространстве ее национальной мечты о мире и человеке. Здесь историк в той или иной форме принужден констатировать наличие судьбы - неизбежного сущностного предопределения, раскрывающего скрытое в неразвитой сущности, данное ему в историческом изменении. Священная история основывается на совершенно отличных от первых двух историй достоверностях. Больше того, эти достоверности несут в себе смыслы, идущие вразрез с тем, что привык видеть в истории сам историк. Трудно поверить в то, что Бог избрал темное и малоцивилизованное в то время племя в качестве средства выражения и воплощения своего универсального замысла о мире и человеке<Но разве не одна и та же логика видна и в избрании евреев, и в избрании апостолов: "Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и униженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом" (1 Кор., 1, 27-29).>. Но это так. Но в то, что этот замысел в конечном счете должен был реализоваться в личности галилейского плотника, казненного при Тиберии, и что это событие оказалось поворотным пунктом в жизни человечества и ключом к смыслу истории, - в это до сих пор не могут поверить и сами евреи. Тем не менее, эти события лежат в основе христианского понимания истории, и если мы не верим в это, то сама история будет для нас процессом, отличным от того, который понимается христиански. Ибо взгляд христианства на историю есть не просто вера в предопределенность истории Божьим замыслом, но вера, основанная на знании того незыблемого для христианина факта, что вмешательство Бога в жизнь человечества происходит через непосредственное его воздействие. Христианское понимание истории естественно и последовательно заключается в хронологическую систему, которая за точку отсчета берет год Воплощения Христа и ведет свое летоисчисление в обе стороны от этой точки. Христианский догмат о Воплощении - это не просто теофания, но и введение нового принципа в понимание истории. Но Священная история не есть история в обычном понимании, и христианское мышление об истории не есть собственно философия истории. Здесь в центре стоит мысль, что выведенное из каждой действительной истории, из каждой временности чудо - богочеловек - это одновременно и историческое явление, и вневременное чудо, космическое событие в исторической оболочке. В этом, в сущности, заключено удивительное соединение прежней вне-временности с новой временно-индивидуальной жизненностью, которое остается смыслом христианского чуда и отличает его от древней и повсюду существующей веры в то, что бог способен умирать и воскресать. Но как события Священной истории не есть действительная история, так и христианское понимание истории - не философия. Учение, основанное на откровении, связано с конечностью человеческой жизни лишь внешне. И потому это учение не способно сверх определенной меры охватить светскую культуру и вне-религиозную жизнь. История человеческого рода предопределяется этим уникальным событием Воплощения, которое придает духовное единство всему историческому процессу. Священная история включает в себя и историю Ветхого Завета, представляющую собой историю провиденциальной подготовки человека к Воплощению. Новый Завет реализует Воплощение в жизни церкви. И, наконец, Священная история включает в себя и будущее - в окончательном установлении Царства Божьего, когда будут пожаты плоды мира. Священная история выходит за пределы истории, ее события есть акты божественного творения, которым подчинен сам процесс истории. И христианский взгляд на историю есть взгляд с точки зрения вечности. Поэтому христианское понимание истории неизбежно эсхатологично. Однако если попытаться сделать эсхатологизм единственным руководящим принципом философии истории и провести его до конца, то мы убедимся, что и здесь мы имеем дело с антиномиями. Эсхатология отрицает историю ради вечности, эмпирическое ради трансцендентного. Но она делает это все-таки лишь в границах временного и при этом неизбежно попадает под влияние этих границ. Насколько эсхатологизм есть истинное, интимное настроение личности, живое и подлинное мистическое переживание, настолько он оказывается лишь исторической программой, насильно калечащей живую жизнь, стоит его только сделать догматической идеей. Непосредственно нам дана только эта жизнь, и только в ней и через нее мы можем родиться к новой, перерастая ее. Между тем эсхатологизм, ставший догматической идеей философии истории, враждебен именно к плодоносящей жизни, отрицание истории возводит он в историческую программу. Священная история раскрывает пути Бога к человеку. И эти пути глубже и таинственней, чем внешние объяснения истории через эсхатологические идеи. Есть Священная история в строгом смысле, то есть история отношения Бога с людьми и воплощения Его замысла в них и через них. И есть толкование наличной истории в свете истории этого основополагающего события-замысла. Сегодня в христианском взгляде на историю уже трудно отделить подлинный, исконный элемент от философских приращений и интерполяций прошлого и нынешнего веков. Современный постхристианский взгляд на историю реализует понимание истории, которое сводится к теории мировых цивилизаций и империй, где каждая империя играет свою роль в Божественной драме. Каждая империя в таком понимании должна выполнить Божественное предопределение, и когда это предназначение осуществляется, ее власть кончаетсяи она уступает место своим преемникам. Сейчас уже ясно, что история империй и государств имеет отношение только к истории национальных идей и лишь опосредованно касается Священной истории. Царство Кесаря мало пригодно для принятия в себя царства Божия. Священная история и Церковь как ее главный институт на земле есть хранитель тайны смысла истории и человеческого искупления, которое непрерывно продолжается через расцветы и падения царств, народов, цивилизаций. Основной смысл истории должен быть найден в проращивании семени вечности в почве времени, и мы еще только подозреваем, какой может быть история, которая предстанет перед нами в конце наших систематических исследовательских усилий, в которых история нигилизма, история национальных идей и Священная история будут поняты как сущностно различные процессы. Утверждение, что история нигилизма и история национальных идей не имеют цели, двусмысленно. Оно означает, помимо знания бессмысленности истории как таковой, еще и нечто положительное - мы наконец-то освобождаемся от поисков смысла в тех областях, которые его никогда не содержали. Отныне мы свободны от этого вопроса, потому что не ждем от истории наполнения человеческой жизни смыслом. Теперь мы спокойны и можем без нервного возбуждения, свойственного поиску смысла в очевидной бессмыслице, рассматривать истории народов и историю человеческого бунта по их собственной сути, не привнося в них наше собственное всегдашнее требование смысла. Ибо мы знаем, где он находится. Этот смысл дан нам в религиозном уповании. Смысл истории покоится на факте встречи с Тем, Кто действительно и окончательно обещал нам спасение - с Иисусом Христом. Ни одна философия не может дать подобного обещания. Но философия в силах подготовить возможность и понимание необходимости такого обещания, ибо показывает причины того, почему ни философия, ни философия истории не могут дать удовлетворительного ответа на вопрос о смысле истории и о смысле жизни вообще. В этой подготовке она как раз показывает смысл, но оставляет необъясненным его пребывание с нами и наше пребывание в нем. Подлинная философия при обращении к проблеме смысла всегда указывает за пределы самой себя и одновременно признает свою недостаточность. Этим она ставит пределы своей истинности и дает нам знак, указывающий в сторону того, что найдет свое осуществление только в вере.
ВЕРА
Я ведом Богу. Он знает обо мне все. Я дан ему в моей уникальности непосредственно, так, как я не дан никому другому, даже себе. Я не открыт самому себе. Чем больше я познаю свою сущность, тем более неведомой оказывается она для меня. Весь мой опыт субъективности ускользает в область, недоступную никакой объективации, никакой философии. Я больше знаю о Боге, чем о себе. Если бы Бог не знал меня, я был бы неведом никому. Мой опыт субъективности раскрывается только в Боге. Мое искание Бога, Который есть Любовь, есть также и поиск своей тождественности, искание последней неотчужденности от самого себя. Это искание основано на некоем вне-рациональном знании. Оно принадлежит сфере спонтанного сознания, которое, не пробуждая акта мышления о себе, схватывает в сфере действительного меня и мой внутренний мир в той мере, в какой он включен в жизненную активность моих душевных способностей. Это знание есть открытое, жизненное знание моей собственной тотальности, исходящее из глубин субъективности. И в этом своем качестве знание субъективности, несовершенное и фрагментарное, существует и для моего сознания. Оформленное и актуальное в сознании, оно обнаруживается и как практическое знание себя, судящего о явлениях, и как поэтическое знание, в котором предметность действительного вместе с моей субъективностью явлены совместно в опыте переживания мира, и как мистический опыт, познающий вместе с Божественным и ту объективность, которая только одна и способна воспринимать знание о Божественном как знание сопричастности в любви через единичное. Но ни одна из этих форм знания не поддается объективации, не становится знанием, добытым посредством мышления о себе. Ни в одном из этих случаев я не имею дела с философией. Здесь пролегает граница, отделяющая мир философии от мира религии. Непреодолимое препятствие, на которое наталкивается философия, состоит в том, что она познает субъекты, но объясняет их как объекты, поэтому каждая философская рефлексия, которая, подобно гегелевской, претендует на поглощение религии, есть мистификация. Философия способна знать Бога как трансцендентное и суверенное "я". Но одно дело знать, и совсем другое - самому со всем своим персоналистическим содержанием, до конца не ведомым и себе, войти в живую связь, в которой сотворенная субъективность встречается с субъективностью несотворенной. Христианство по своей сущности является тем, чем никакая философия не быть не может: отношением личности к личности со всем заключенным в этом отношении риском, тайной, страхом, доверием и любовью, открывшейся в Самооткровении Бога. В этом Откровении Бога о Самом Себе - исток христианской веры во всей ее мыслимой простоте. Подлинное знание Бога всегда связуется детской простотой веры и любви к Спасителю-Логосу, в то время как философское познание вращается в кругу неочищенного благодатью ума и не освобожденных от дебелости плотских туманов сердца. Премудрость Божия ставит пределы разуму, через который ему не дано переступить. Вера преодолевает философию. Подлинное томление разума в том, что он, доходя до сознания своей недостаточности и приемля знание о Боге, остается незнающим, или, вернее, только знающим Бога, остается разумом, непреображенным в духе, хотя отвлечено и приемлющим примат Духа. Нельзя духовно говорить о духе, можно лишь говорить Духом. Дух не поддается объективации, как не поддается объективации и последняя глубина нашей собственной субъективности. Лишь в Церкви разрешается экзистенциальная жажда человеческой самотождественности. Только в Церкви Бог удостоверяет человеческую значимость. Две тайны - Божественная и человеческая - встречаются в Церкви в таинствах и раскрываются друг другу в любви. Вера христианская гораздо более любит Бога, чем понимает, более исповедует, чем определяет. И потому теодицея для ищущего Бога есть признак духовного здоровья, а для нашедшего - для христианина - есть дело бессмысленное и унизительное. Христианское познание Бога верой основано не на вере вообще, не на простоватой доверчивости, но на интуиции о Боге, живущей в сердце человека еще до всякого искания Бога. Познание Бога идет "из веры в веру": из веры в то, что человеческое сердце не ошибается, когда требует Бога-Любви, переходит в веру в Того Единственного, Кто неопровержимо доказывает, что Бог есть Любовь. Тем самым христианское познание Бога неисходно протекает в сфере веры и основывается на вере, полнясь в своем восхождении от интуиции до уверенности - "из веры в веру". До Христа эта вера есть та достоверность, которая пребывает в тайных глубинах субъективности в томительном ожидании доказательств своей подлинности, для которой все философские утешения есть одно огромное "не то". Эта вера возникает из безнадежности, рожденной ясным пониманием невозможности самостоятельного человеческого спасения. Безнадежность питает мужественность человеческого бунта, отвергая философскую сотериологию. Только бунтующий обретает Христа. И в этом очевидная внешняя абсурдность христианской веры: она живет знанием Бога, Который есть Любовь, вопреки тому хаосу и той бессмыслице, что обнаруживается в мире, вопреки той жизни, которую легкомысленная надежда на благость высших сил мыслит пронизанной божественным смыслом и которая при первом столкновении с ужасом мира рушится и гибнет бесследно. Христианская вера не колеблется внешней несправедливостью мира, она знает большую глубину отчаяния, чем та, которая явлена в бедах мира, она знает и то, что путь к Богу пролегает через бездну, она знает и то, что только безнадежность ведет к сотериологии, не довольствующейся аргументами, - к Христу. Вера мудрее неверия. Неверующий не понимает, как можно верить в то, что Бог есть Любовь, когда в мире, Им созданном, нет любви, нет и божественного содействия, которое должно было быть, если бы Бог был Любовью, но верующий знает как можно не верить, он знает пути неверия и его причины, он знает и то, чем излечивается неверие, ибо его собственная вера сама рождена вопрошаниями и богоборчеством. Он знает, что сущность веры не надежда на лучшее, которая ничего не стоит в этом мире, но Любовь, удостоверенная Сыном Божиим. И потому всякая радость до Христа есть радость неполная, имеющая свою обратную сторону - тленность и преходящесть того, что приносит радость. Все проходит, все кончается, все ускользает, как песок сквозь пальцы. Трагизм есть обратная сторона этой радости. И только Христос приносит с Собой радость подлинную. Христианство есть религия радости. Чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века есть единственное и действительное оправдание и метафизическое обоснование человеческой субъективности. И познание Бога верой - это не сотрясение Бога сомнениями, естественными только с точки зрения неверующего, но неисходное стояние в вере, изнутри веры рассматривающее мир и его противоречия. В этом состоит единственный метод познания Бога и Его замысла о мире. Вере нужно учиться у библейского Иова: вера Иова не усталая уступка несправедливости, но вызов. Смысл книги Иова не в том, что мы должны принимать диктат судьбы, а в том, что мы должны делать все, чтобы сопротивляться. И тогда вместе с сатаной будут посрамлены все его бессознательные защитники, проповедующие теорию наград и наказаний. И Бог укорит их: "Вы не говорили обо Мне так верно, как раб Мой Иов". Ибо не потому мы любим Бога, что Он спасает, но мы спасаемся потому, что любим Бога, поскольку в любви этой мы любим истину и справедливость и не любим зло и несправедливость. И потому мы желаем спасения, что наша интуиция о себе удостоверяет нас в том, что мы имеем ценность пред Богом. Любовь к Богу - это не человеческая чувствительность, не сентиментальность и предрасположенность к по-человечески понимаемому добру, не жалостливое и сопливое безволие в ожидании неминуемого, но мужественная решимость принять на себя бремя бунта против всякой несправедливости и всякой неправды<Христианский народ есть "народ Израиля". Не будем забывать, что в переводе с еврейского "Израиль" значит "борющийся с богом". Богоборчество есть основа религиозной веры, та почва, из которой произрастают ее плоды. Тот, кто не прошел школу богоборчества, не сможет до конца уверовать в Христа. В богоборчестве открываются человеку собственное достоинство и ценность. Ибо в нем человек борется против неправды, тем самым жаждая избавления и освобождения от этой неправды, лгущей о Боге. >. Катафатически Бог есть не только Любовь, но только через Любовь мы имеем дело с Богом, как и Он с нами. Из единственности своего "я" человек познает тайну любви к другому человеку и к Богу. Тайна любви покоится в единственности.
СВОБОДА
Мир укоренен в свободе. Мир свободен - ибо есть Бог вне мира. Бог не управляет Творением на манер всеопределяющей сущности, оно свободно, саморегулируемо. Бог, находящийся вне Творения, не имманентный ему, остается свободным от Творения, но действует в мире через Церковь, оставляя нетронутыми как свободу мира, так и свободу человека. Ничто, кроме Церкви, не способно вместить Бога. Через Церковь мы призваны к истинной свободе, где каждый стоит перед Ним во всей неповрежденности своего личного содержания. Человек свободен сотворенной свободой. В своей свободе он принадлежит абсолютному, но само это абсолютное принадлежит Творению. Существует иерархия свободы. Камень иначе свободен, чем дерево, дерево - иначе, чем животное, животное - иначе, чем человек. Свобода вещи есть точное следование своей сущности. Свобода вещи есть закономерность ее развития и состава. Свобода тавтологична. Дерево есть дерево. В этой тавтологии заключена свобода дерева - она указывает на неизменную сущность всякого дерева: на укорененность. Человек есть человек. Свобода человека есть точное следование своей сущности - свободе. Наше "я" немыслимо без свободы, ибо свобода - это спонтанность, которая требует возможности нашей собственной инициативы, а последняя предполагает, что не все идет гладко, что есть нужда в творчестве, в духовной мощи преодоления преград. Царство Божие, которое давалось бы даром и было раз и навсегда предопределено, не было бы царством Божиим, ибо в нем мы были бы рабами, тогда как должны быть свободными соучастниками божественной славы, сынами Божиими по усыновлению. "Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилие восхищают его", ибо в этом усилии, в этом творческом подвиге - необходимое условие того, что есть самоосуществление по своей сущности. Отпадение от прообраза богоподобия также есть акт свободы. Никто и ничто этой свободы отнять у нас не может, ибо она изначально дана нам Богом, несмотря на страшную потенцию греха, в ней заключенную. Но человек обладает свободой подняться над собственным произволом, он может убедиться в истинности слов: "все вам позволено, но не все полезно". В высшей свободе - свободе благодатного творчества - и заключается то религиозно-жизненное разрешение трагизма, которое составляет путь, указанный религией искупления и спасения.
СПАСЕНИЕ
Трагедия всей истории нигилизма состоит в том, что сотериология без Бога всегда приводит человека к отрицанию или мира или себя. Трагизм естественного богопознания в том, что у него нет альтернативы в рамках своей естественности. Эта естественность православным учением о мире и человеке называется падшестью. В силу своей падшести, изменившей весь строй Творения, естественное богопознание вынуждено торить пути нигилизма. Трагизм мира и человека не в том, что они изменчивы, плохи, смертны, а в том, что они суть падшие мир и человек. Трагизм есть трагизм только тогда, когда он безвыходен, когда своими силами человек не может изменить несправедливости мироустройства. Сердце человеческое, уязвленное страданиями плоти, ищет выход и не находит его, ищет Бога, который есть Любовь, и не находит Его. Все естественные пути падшего сознания могут подсказать ему только такие выходы, которые растворяют человека в абсолютном, только такого Бога, Который содержит в себе и зло и добро. Этими путями идет - и не может не идти - вся сотериология, совершающаяся вдали от Откровения. Но - "невозможное человеку возможно Богу". Потому и пришел Христос, что спасение человека и мира под силу только Богу. "Я пришел взыскать и спасти погибшее", - говорит Христос. Рождением, жизнью, смертью и воскресением Христа состоялось спасение мира и, следовательно, примирение человека с Богом: "Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его... и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили примирение" (Рим., 5, 10-11), и, "оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа" (Рим., 5, 1). Отменилось, следовательно, и богопознание-богоборчество, уступив место богопознанию в свете Откровения. Христос примиряет человека не только с Отцом, но и с Творением, ибо удостоверяет Бога как Бог-Сын и Творение как Богочеловек. Для того, кто приступает к истинам христианства извне, сообразуясь лишь со своим разумением и человеческой логикой, христианство всегда будет верованием, полным абсурда, нелепостей и парадоксов. Христианство по своему существу резко противостоит всему привычному и тому, что исповедуют другие религии. Все религии льстят человеку - они возлагают на него дело его спасения, тем самым наполняя его гордостью существа, от которого зависит спасение мира и от которого зависит само Божественное. Христианство же утверждает, что человеку никак невозможно спастись самому и Богу не необходим человек и все Творение в целом. Если не-христианские религии и имеют понятие о грехе, они видят грех человека в его субъективности, в отделенности человеческого сознания от Божественного Единства. Христианство же видит его в падшести, а опыт личности есть фундаментальный опыт христианства. Человек не-христианских религий не ощущает себя виновным во зле мира, христианство же говорит о первородном грехе, который прямо и непосредственно возлагает вину за зло мира на человека. Сотериология других религий обрекает человека на мучительный выбор между миром и Богом. Христианство говорит о всеобщем спасении мира и человека, о новой земле и новых небесах. Все религии стремятся к достижению единства и согласия, и только христианство говорит: "не мир, но меч", - недвусмысленно заявляя о владении всей полнотой истины. Не-христианские религиозные представления видят в Боге гармоническое единство добра и зла, и только христианство исповедует Бога, Который не содержит в Себе темной природы. Христианство не согласуется ни с мудростью века сего, ни с чем другим, как только с интуицией человеческого сердца, которая сама ни на чем не основана и ничем от мира не доказывается, а содержит внутри себя только желание такого бытия, в котором отсутствуют смерть и страдание. Христианство абсурдно, но мы, вслед за Тертуллианом, можем только повторить, что тем "более следует верить там, где именно потому и не верится, что удивительно! Ибо каковы должны быть дела Божии, если не сверх всякого удивления? Мы и сами удивляемся - но потому, что верим". Для нас весь смысл мира раскрывается только в свете Искупления. Та история, которая свершилась, и есть домостроительство нашего спасения. Мы знаем только греховную историю и не должны измышлять несбывшуюся "безгрешную историю". Верующее сознание не знает исторической бесконечности: история как трагедия имеет свою развязку - Судный день, а не имманентное завершение. История кончается, но не отменяется бытие. В плане эмпирическом история не слагается из событий, устремленных к какой-либо цели. Но в плане ноуменальном непрестанно совершается чудесное преображение твари, предваряющее грядущий вселенский переворот. История знает хронологическую грань, но в себе самой не имеет кульминационной точки, ибо не имманентными задатками, а потусторонними заданиями определяется ее ценность, и не из себя она удостоверяет мир, а благодатью определяется человеческая достоверность. Эмпирический мир, во зле лежащий, не может осуществить своего предназначения - он нуждается в чудесном преображении. Христианство не отвергает мир - оно отвергает зло мира. Мы знает три ступени приближения к Богу: рабскую, наемническую, сыновнюю. Но на сыновней, моментами знакомой каждому христианину, теряется всякое ощущение различия между рабством Богу, наемнической службой Ему и сыновней преданностью. Сила зла реальна и могуча в этом мире только до времени. "Князь тьмы" уже побежден и будет изгнан вон, зло устранится, разрешится трагедия, все снова будет "добро зело", но все это лежит за пределами нашего теперешнего эмпирического существования, под "новым небом" и на "новой земле". Теперь же зло и добро смешаны, причем добро не достигает своей полной победы, а зло празднует свои победы, реальные и несомненные, принося все новые страдания. Христианство имеет свое уникальное отличие, расходясь в этом даже с иудаизмом, - это отличие в отношении к страданию. Иудаизм рассматривает страдание просто как зло, которому подвержены все твари, но от которого свободен сам Бог. Он - иудаизм - не принимает идеи, что Божественное со-страдание и милость могли бы подвигнуть Бога ради спасения Его же созданий добровольно ли шиться Своей силы и подвергнуться тому же страданию, которому подвергается все живущее. Христианское откровение о Боге есть Откровение о таком Боге, Который есть Любовь, а не только могущество, и эта Любовь проявляется в особой встрече человека с Богом в форме Воплощения и распятия Христа, и Воплощение Бога в Любви более значимо, чем Его Воплощение в могуществе. Человек спасается весь. В этом великая любовь Бога к человеку. Спасение не есть пантеистическое слияние с Божественной субстанцией или возвращение духа с безличным растворением в Первоисточнике. Это не ассимиляция или отождествление с Богом в Его субстанции и личности. Спасение не есть нравственное очищение от страстей, оно не исчерпывается процессом духовно-аскетического восхождения к мистическому знанию. Спасение должно пониматься онтологически как прославление освященного тела и души. Спасение есть участие в Божественной жизни, участие личное со всей неповрежденностью своего персоналистического содержания. Один есть Сын по существу, но и мы делаемся сынами, не Ему надобно, не по естеству, но по благодати. Подобие Божие есть по своей свободной воле осуществление своего образа. Отрицание Имени Божьего, какие бы отвратительные формы оно ни принимало, почти никогда не диктуется вполне осознанным намерением. Отрицание Бога в глубине своей религиозно, и истоки его коренятся в любви к Богу. Внешнее же отрицание есть прямой результат или искусственно созданного невежества, когда религиозная истина намеренно не доводится до сознания других, или естественного одичания, когда общественная жизнь деградирует до такой степени, что вопрос об истинности религии даже и не ставится. В последней глубине каждого человека живет и действует Святой Дух. Животворное действие Святого Духа незримо и бесчувственно, поскольку нет у сотворенного такого органа, чтобы почувствовать несотворенное. Нечувствительность действия Святого Духа не нарушает нашей свободной воли, но даже и том состоянии, в котором все мы сегодня находимся, Он не отступается от нас, ибо "свет во тьме светит и тьма не объяла его". Знание того, что Святой Дух присутствует в каждом, позволяет христианину искать и признавать самую последнюю крупицу истины в человеке, чтобы посредством этой крупицы указать на ее исток в Святом Духе и "спасти хотя некоторых".
Владикавказ, август 1992 - Егорьевск, май 1997 - Москва, июль 2000
Использованная литература
к главе «Введение в богоутрату»
1. Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. 2-е изд. Новосибирск. 1989.
2. Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. М., 1995.
3. Булгаков С. Н. Сочиненияв 2 т. М., 1993.
4. Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.,1994.
5. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1988.
6. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.
7. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.
8. Гуртуева Т. Б. Маленький человек с большой буквы. Нальчик, 1994.
9. Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1982.
10. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
11. Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991.
12. Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993.
13. Крывелев И. А. История религий в 2 т. М., 1988.
14. Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб., 1999.
15. Морева Л. М. Лев Шестов. Л., 1991.
16. Никольский Н. М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985.
17. Сивак А. Ф. Константин Леонтьев. Л., 1991.
18. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.,1992.
19. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994.
20. Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. СПб., 1995.
21. Шафаревич И. Р. Есть ли будущее у России? М., 1991.
22. Шпенглер О. Закат Европы. Минск, 1999.
Использованная литература
к главе «Античность: бог умер»
1. Асмус В.Ф. Античная философия. Изд. 2-ое. М., 1976.
2. Богомолов А. С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. М., 1982.
3. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т.
4. Блох И. История проституции.СПб.,1994.
5. Биографические повествования. Сократ. Платон. Аристотель.Юм. Шопенгауэр. Челябинск, 1995.
6. Васильева Т. В. Афинская школа философии. М.,1985.
7.Виппер Р. Рим и раннее христианства. Ростов-на-Дону, 1995.
8. Виппер Р. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995.
9. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
10. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995.
11. Гончарова Т. В. Эпикур. М.,1988.
12. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.
13. Дюрант В. Цезарь и Христос. М., 1995.
14. Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. Л., 1990.
15. Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1995.
16. Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.
17. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. М., 1972.
18. Кессиди Ф. Х. Гераклит. М., 1982.
19. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., 1989.
20. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.,1991.
21. Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
22. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
23. Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
24. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Книга 1. М., 1993.
25. Линин Л. Белов А. Глиняные книги.Л.,1956.
26. Лихт Г. Сексуальная жизнь Древней Греции. М., 1995.
27. Мертлик Р. Античные легенды и сказания. М., 1992.
28. Нерсесянц В. С. Сократ. 2-е изд. М., 1982.
29. Ранович А. В. О раннем христианстве. М., 1959.
30. Султанов Ш. Плотин. Единое: творящая сила созерцания. М., 1996.
31. Сергеев В. С. История Древней Греции. М., 1963.
32. Токарев С. А. Ранние формы религии. М.,1989.
33. Утченко С. Л. Политические учения древнего мира. М., 1977.
34.Хефлинг Г. Римляне. Рабы. Гладиаторы. М.,1992.
35. Фролов Э. Д. Греческие тираны. Л., 1972.
36. Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991.
37. Фролов Э. Д. Огни диоскуров. Л., 1982.
38. Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М.,1957.
Источники
1. Античная литература Греция. ч.1 Антология. М.,1989.
2. Античная литература. Греция. ч.2 Антология. М., 1989.
3. Античные гимны.
4. Аристотель. Соч в 4-х т. М., 1990.
5. Гесиод. Работы и дни. М., 1972.
6. Геродот. История. Л., 1972.
7. Диоген Лаэртский.
8. Досократики.
9. Платон. Соч. в 3-х т. М., 1990
10. Сенека. Письма к Луцилию. М., 1972.
11. Медицина в поэзии греков и римлян. Сост. Ю. Р. Шульц. М., 1989.
12. Фукидид. История. Л., 1981.
Литература к главе «Средние века: я есть бог».
1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
2. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1946.
3. Бицилли П. Элементы средневековой культуры.
4. Блок М. Апология истории. М., 1986.
5. Волкова З. Н. Эпос Франции. М., 1984.
6. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., М., 1984.
7. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
8. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой культуры. М., 1981.
9. Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История средних веков. М., 1995.
10. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
11. Городская жизнь в средневековой Европе. М., 1987.
12. Гутнова Е. В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI - XV вв.) . М., 1984.
13. Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1991.
14. Заблуждающийся разум. Многообразие научного знания. Сб. Статей. М., 1990.
15. История крестовых походов. Под ред. Дж. Райли-Смита, М., 1999.
16. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992.
17. Карсавин Л. П. Культура Средних веков. М., 1995.
18. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства, Сретенск, 1999.
19. Ковальский Я. В. Папы и папство. М., 1991.
20. Косминский Е. А. Историография Средних веков. М., 1963.
21. Лозинский С. Г. История папства. М.,1984.
22. Ле Гофф Ж. Цивилизация средних веков. Сретенск, 1999.
23. Лебек С. Происхождение франков (V-IX вв.). М., 1993.
24. Люшер А. Французское общество времен Филиппа-Августа. СПб., 1999.
25. Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1995.
26. Мельникова Е. А. Меч и Лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе.
М., 1987.
27. Мадоль Ж. Альбигойская драма и судьбы Франции. СПб,2000.
28. Осокин Н. История альбигойцев и их времени. М., 2000.
29. Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990.
30. Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в Средние века. М., 1976.
31. Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. М., 1953.
32. Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.
33. Средневековая Европа глазами современников и историков. ч. I-IV. М., 1995.
34. Тейс Л. Наследие каролингов. IX-X вв. М., 1993.
35. Уколова В. И. Последний римлянин Боэций // Средневековье в свидетельствах современников, М.,1984.
36. Фавье Ж. Франсуа Вийон. М.,1999.
37. Флори Ж. Идееология меча. СПб., 2000.
38. Фортунатов А. А. К вопросу о судьбах латинской образованности в варварских королевствах // Средние века.1946, Вып. 2.
39. Хольц Офм Л. История христианского монашества. СПб.,1993.
40. Хейзинга Й. Осень средневековья.М., 1988.
41. Церковь Христова. Саранск, 1987.
42. Честертон Г. К. Вечный человек, М., 1991.
43. Шевкина Т. В. Сигар Брабантский. М., 1972.
44.Элита и Этос Средневековья. Под ред. Сванидзе А. А. М., 1985.
Источники
1. Августин Аврелий Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1992.
2. Антология чешской и словацкой философии. М., 1982.
3. Де Клари Р. Завоевание Константинополя. М., 1986.
4. Ориген. О началах. Самара, 1993.
5. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. СПб., 2000.
6. Памятники средневековой латинской литературы. IV-XI веков. М., 1970.
7. Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков. М., 1972.
8. Хрестоматия по истории средних веков (под ред. С. Д. Сказкина), М., 1961-1963. т. 1-2.
9. Видукинд Корвейский. Деяния Саксов. (Вступ. ст., пер и коммент. Г. Э. Санчука), М., 1975.
10. Лев Диакон. История. (под ред. Г. Г. Литаврина). М., 1988.
11. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. М., 1976.
12. Песнь о Гильоме Оранжском. М., 1985.
Литература к главе «Новое время: все позволено»
1. Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
2. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.,1987.
3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
4. Бродель Ф. Время мира. М., 1992.
5. Бродель Ф. Игры обмена. М., 1988.
6. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986.
7. Биографические повествования. Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель. Челябинск., 1996.
8. Вахтомин Н. К. Теория научного знания Иммануила Канта. М., 1986.
9. Вечер-Щербович А. Похождения здравого смысла. М., 1981.
10. Горфункель А. Х. Философия Эпохи Возрождения. М., 1980.
11. Гараджа В. И. Протестантизм. М, 1971.
12. Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Л., 1984.
13. Гулыга А. В. Кант. М.,1977.
14. История Франции. Под ред. А. З. Манфреда. т.1, М., 1972.
15. Кузнецов Г. Идеи и образы Возрождения. М., 1979.
16. Культура и общественная мысль. Античность. Средние века. Возрождение. М., 1988.
17. Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991.
18. Лосев А. Ф, Эстетика Возрождения. М., 1978.
19. Меринг Ф. Избранные труды по эстетике в 2-х т. М., 1985.
20. Немилов А. Н. Немецкие гуманисты XV в. М., 1979.
21. Никулин Д. В. Пространство и время в метафизике XVIII века. Новосибирск, 1993.
22.Пинский М. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.
23. Рутенбург В. И. Очерк по истории раннего капитализма в Италии. М.,Л., 1951.
24. Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М., 1991.
25. Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура. М., 1994.
26. Соколов В. В. Очерки философии эпохи Возрождения. М., 1962.
27. Сыров В. Н. Расцвет и закат европейской философии истории (от Бекона к Шпенглеру). Томск,1997.
28. Тарасов Б. Н. Паскаль. М., 1982.
29. Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма.М., 1977.
30. Филиппов Л. И. Паскаль -история диалектики XII-XVIII вв. М., 1974.
31. Фуко М. Надзирать и наказывать . Рождение тюрьмы. М., 1999.
Источники
1. Бекон Ф. Новый Органон. Л., 1935.
2. Декарт Р. Сочинения в 2-х т. М., 1989.
3. Кузанский Н. Сочинения в 2-х т. М., 1979.
4. Беме Я. Аврора или Утрення заря в восхождении. Репринтное издание.1914 г. М., 1990.
5. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе вещей. Москва-Киев, 1993.
6. Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. М., 1991.
7. Эккерман И. П. Разговоры с Гете. Ереван, 1988.
8. Кондильяк Э. Б. де Сочинения в 3-х т. М., 1982.
9. Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М., 1981.
10. Ламетри Ж. О. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1983.
11. Блейк У. Стихи. М., 1982.
12. Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х т. М., 1982.
13. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990.
14. Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1979.
15. Локк Дж. Сочинения в 3-х т. М., 1985.
16. Роттердамский Э. Философские произведения. М., 1987.
17. Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х т. М., 1957.
18. Дидро Д. Сочинения в 2-х т. М., 1986.
19. Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М., 1982.
20. Монтень М. Опыты. В 3-х кн. М., 1992.
21. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М.,1981.
22.Гоббс М. Избранные произведения в 2-х т. М., 1964.
23. Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978.
24. Тюрго А. Избранные философские произведения. М., 1937.
25. Кондорсе М. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
26. Колингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
27. Мабли Г.-Б. де. Об изучении истории. О том как писать историю. М., 1993.
28. Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955.
29. Сад Д. А. Ф. де. Жюстина или несчастная судьба добродетели. М., 1991.
30. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
31. Кант И. Критика практического разума. СПб, 1995.
32. Ларошфуко. Паскаль. Лабрюйер. М, 1972.
33. Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1973.
34. Вольтер Ф. Бог и люди. (статьи, памфлеты, письма). М., 1961.
Литература к главе «Новейшее время: бог действительно мертв»
1. Баталов Э. Я. Философия бунта. М., 1973.
2. Белый А. Символизм ка миропонимание. М., 1994.
3. Бимель В. Мартин Хайдеггер. Челябинск, 1998.
4. Буров А. И. Эстетическая сущность искусства. М., 1956.
5. Буржуазная философия XX века. Сб. статей. М., 1974.
6. Великовский С. И. В скрещении лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром. М.,1987.
7. В. В. Розанов. Pro at contra.Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. В 2-х кн. СПб., 1995.
8. Горский А. К., Сетницкий Н. А. Сочинения. М., 1995.
9. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2-х т., СПб, 1994.
10. Идеалистическая философия в XX столетии. Критика мировоззренческих основ немарксистской диалектики. М., 1987.
11. Зверев А. М. Звезды падучей пламень. Жизнь и поэзия Байрона. М., 1988.
12. Зыкова А. Б. Учение о человеке в философии Х. Ортега-и-Гассета. М., 1978.
13. Кимелев Ю. А. Современная буржуазная философско-религиозная антропология. М., 1985.
14. Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1990.
14. Лейбин В. М. «Модель мира» и образ человека. М., 1982.
15. Лорд У. Последняя ночь «Титаника». Изд. 2-е. Л., 1986.
16. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. 5-е изд. М., 1989.
17. Мельвиль Ю. К. Пути буржуазной философии ХХ века. М., 1983.
18. На изломах социальной структуры.. Под ред. А. А. Галкина. М., 1987.
19. Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. Критический очерк экзистенциального психоанализа. М., 1985.
20. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. М., 1992.
21. Семенова С. Г. Преодоление трагедии: «вечные вопросы в литературе. М., 1989.
22. Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т. М., 1990.
23. Тарле Е. В. Избранные сочинения в 4-х т. Ростов-на-Дону, 1994.
24. Турсунов А. Философия и современная космология. М., 1977.
25. Философия техники в ФРГ. Сост. Ц. Г. Азаканян и В. Г. Горохов. М., 1989.
26. Человек как философская проблема: Восток-Запад. Под ред. Н. С. Кирабаева, М., 1991.
27. Шах И. Суфизм. М., 1994.
28. Эстетика и жизнь. Сб. статей. Вып. 4.,М., 1975.
Источники
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.
3. Бергсон А. Собрание сочинений в 4-х т. т.1. М., 1992.
4. Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
5. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
6. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
7. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. Спб., 1993.
8. Гегель Г.В.Ф. Соч в 4-х т. М., 1959.
9. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
10. Герцен А. И. Сочинения в 2-х т. М., 1986.
11. Джемс У. Психология. М., 1991.
12. Деррида Ж. О почтовой открытке. От Сократа до Фрейда и не только. Минск, 1999.
13. Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996.
14. Зиммель Г. Избранное в 2-х т. М., 1996.
15. Камю А. Бунтующий человек. М., 1991.
16. Киркегор С. Наслаждение и долг. М., Киев, 1994.
17. Киркегор С. Страх и трепет. М., 1994.
18. Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994.
19. Ницше Ф. Избранные произведения в 3-х т. М.,1994.
20. Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. М., 1990.
21. Проблема человека в западной философии. Сост. П. С. Гуревич. М., 1988.
22. Русский эрос, или философия любви в России. Сост. В. П. Шестаков. М., 1991.
23. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
24. Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994.
25. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
26. Фейербах Л. Сочинения в 2-х т. М., 1991.
27. Фихте И. Г. Сочинеия в 2-х т. М., 1993.
28. Фон Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985.
29. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
30. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
31. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
32. Шестов Л. Сочинения. М,1995.
33. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. М., 1983.
34. Шеллинг Ф. В. И. Сочинения в 2-х т. М., 1987.
35. Шпенглер О. Закат Европы. т.1, М., 1993.
36. Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994.
37. Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1994.
Литература к главе «История и смысл»:
1. Анчел Е. Этос и история. М., 1988.
2. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М.,1995.
3. Гобозов И. А. Введение в философию истории. М., 1993.
4. Гумилев Л. Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 1993.
5. Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993.
6. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991.
7. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.
8. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
9. Кушкин Е. П. Альбер Камю. Ранние годы. М., 1982.
10. Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993.
11. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
12. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.
13. Леонтьев К. Избранное. М., 1993.
14. Ламонт К. Иллюзия бессмертия. М., 1984.
15. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
16. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
17. Мамонова М. А. Запад и Восток: традиции и новации рациональности мышления. М., 1991.
18. Н. А. Бердяев:Pro at Contra. Антология в 2-х т. Сост. А. А. Ермичев. СПб., 1994.
19. Тейяр де Шарден. Божественная среда. М., 1992.
20. Тертуллиан К. С. Избранные сочинения. М., 1994.
21. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1996.
22. Трельч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.
23. Новгородцев П. И. Сочинения. М., 1995.
24. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа.Очерки русского самосознания. СПб., 1995.
25. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991.
26. Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. М.,1986.
27. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1986.
28. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных знаний. СПб., 1994.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В БОГОУТРАТУ
Страдание
Богоборчество
Следствия
Умонастроение
Три истории
АНТИЧНОСТЬ: БОГ УМЕР
Хаос
Гомеровский век
Бог-Космос
Неволя
Мудрец
Полис
Аполлон и Дионис
Демократия
Философия
Сократ
Сотериология разума
Эллинизм
Итоги
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: Я ЕСТЬ БОГ
Бог-Личность
Переход
Крестьянин
Своеволие
Карл Великий
Надлом
Пустота
Город
Мистицизм
Чума
НОВОЕ ВРЕМЯ: ВСЕ ПОЗВОЛЕНО
Возрождение
Ремесленник
Бог-Природа
Реформация и Контрреформация
Произвол
Бездна
Наука
Просвещение
Кант
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: БОГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕРТВ
Романтизм
Безволие
Ученый
Бог-История
Абсурд
Постмодернизм
Неоязычество
ИСТОРИЯ И СМЫСЛ
Закономерности
Трагизм
Философия истории
Вера
Свобода
Спасение


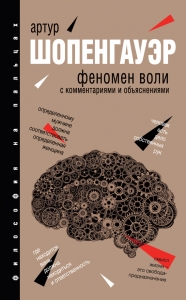
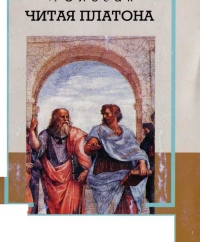
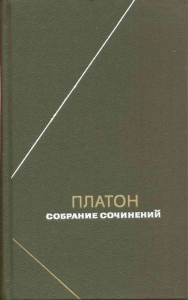

Комментарии к книге «Богоутрата», Александр Царикаев
Всего 0 комментариев