И. И. Евлампиев
Антропологическая тема в русской философии
Одной из наиболее характерных черт русской философии, отмечающих ее своеобразие как оригинальной национальной философской школы, являлось особое внимание к проблеме человека, поставленной в самой резкой, метафизической форме. При этом и внутри антропологической темы без труда можно обнаружить моменты, которые особенно специфичны именно для русской философии и отличают ее от западных вариантов решения проблемы человека. Это касается как истоков философской антропологии, так и ее выводов, которые у многих мыслителей поражают своей парадоксальностью, своим максимализмом в требованиях к отдельному человеку. Однако прежде, чем говорить об итогах и выводах, попытаемся восстановить самую общую логику развития идей, которая в той или иной степени присутствует в рассуждениях почти всех русских мыслителей второй половины XIX - начала XX века.
Решение проблемы сущности человека и его положения в мире в русской философии неизменно было связано с проблемой сущности Абсолюта. Поскольку сам Абсолют, как правило, понимался в рамках идеи всеединства, естественно начать именно с этой идеи, которую можно назвать главной "наследственной чертой" практически всех русских философов от П. Чаадаева до С. Франка и П. Флоренского.
Концепция всеединства, характерная для русских философов, в качестве идейного центра включает представление об идеальном состоянии всего мира, состоянии, в котором преодолена раздробленность мира, отчужденность его отдельных элементов друг от друга. В этом всеедином состоянии в мире воцарилась бы абсолютная гармония и цельность, наделяющая каждый его мельчайший элемент неповторимым смыслом и неповторимой красотой. По отношению к этому идеальному состоянию наличное состояние мира необходимо признать глубоко "ущербным", несовершенным, с одной стороны, отдалившимся от идеала, но, с другой - сохранившим некоторые существенные его черты. В концепции всеединства главный и единственный источник зла и несовершенства в мире - это разделение, отчуждение отдельных элементов от мирового, всеединого целого.
С наибольшей последовательностью эту концепцию в русской философии воплотил Владимир Соловьев. Он полагал, что наш мир возник в результате полумистического процесса его "отпадения" от идеального всеединства, за счет раскрепощения негативной свободы отдельных элементов этого всеединства, что привело к объединению элементов друг от друга и воцарению хаоса и зла в возникшем мире. Однако идеальное всеединство, согласно Соловьеву, продолжает существовать, являясь по отношению к нашему "отпавшему" и "павшему" миру некоей трансцендентной основой и целью его развития. Это и есть божественное бытие, это и есть Бог, смысл которого только в ограниченной, несовершенной форме выражают все исторические религии и церкви.
Особенно большое внимание Соловьев, как и вся русская философия, уделяет положению человека, человечества в мире и его роли в "падении" мира и в его "возрождении", в достижении вновь состояния идеального всеединства. Человек - это особый элемент несовершенного, распавшегося бытия, а именно тот элемент, в котором с наибольшей полнотой сохраняется содержание идеального, полного всеединства. Человек - это как бы последний "оплот" всеединства внутри мира, распавшегося на отдельные несвязанные элементы, это та точка осмысленности и связности бытия, которая позволяет бытию, миру сохранять крупицы своего абсолютного смысла и абсолютной цельности. Сохраняя в себе мистическую взаимосвязь с идеальным всеединством, т. е. с Богом, человек спасает весь земной мир, в котором он существует, от полного распада, хаоса. Понимание человека как главной и единственной движущей силы, ведущей мир к состоянию идеального, полного всеединства - это то, что составляет смысл соловьевской идеи Богочеловечества.
Соловьев сформулировал основную "парадигму" русской религиозной философии, однако его преемники в некоторых существенных деталях видоизменили ее, вернувшись от логической стройности соловьевской метафизики, несущей на себе так и не преодоленную печать западного рационализма, к парадоксальным интуициям Достоевского. Наиболее непонятным моментом в концепции Соловьева было "параллельное" (в метафизическом смысле) существование и полного, идеального, божественного всеединства (всеединого состояния мира) и несовершенного, "ущербного" мира, "отпавшего" от идеального всеединства. Вечное существование последнего наряду с земным миром давало своего рода "гарантию" восстановления совершенства и гармонии в нашем мире и одновременно вносило определенные фаталистические мотивы в представление о перспективах человеческой деятельности в истории.
У наиболее известных последователей Соловьева (имеются в виду Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин и Л. Карсавин) изменения были внесены именно в этом пункте. Борьба человека за совершенство и гармонию мира по-настоящему оправдана и подразумевает всю полноту добровольно принятой ответственности только в том случае, когда идеальное состояние мира не признается существующим ни в каком онтологическом плане, когда оно только подразумевается самим человеком как далекая и труднодостижимая перспектива развития. Но отказываясь считать идеальное состояние мира, идеальное всеединство уже существующим в какой-то запредельной, сверхэмпирической сфере бытия, русские философы неизбежно приходили к необходимости переосмыслить понятие Бога. Бог из уже наличной бесконечно благой и совершенной сущности превращался в некую проблему, загадку, которую человек вынужден был загадывать самому себе и разгадка которой была недоступна в том реальном историческом времени, в котором существовал человек. Для Бога не оставалось места нигде, как только в некоем трансцендентном измерении самого человеческого бытия. "Божественное раскрывается в пределах самого человека, - писал, например, Ильин, - оно не вне субъекта, но внутри субъекта: оно есть сверхчувственный корень человеческого духа"[1]. Вера в Бога из уверенности в его существовании и его всемогуществе, гарантирующем достижимость окончательного совершенства для человека и мира, преобразовывалась в бесконечные поиски "отсутствующего", но необходимого Бога, понимаемого как собственная сущность человека, как то содержание человеческого бытия, которое задает его роль в качестве абсолютного центра мироздания и обосновывает его абсолютную ответственность за все происходящее в мире и за будущее мира. Указанные бесконечные поиски Бога находят себе наиболее зримое выражение в способности человека создать идеал совершенства, гармонии и добра и в его решимости переделать мир и себя по законам этого идеала. Такая позиция неизбежно вела к крайнему метафизическому антропоцентризму, который особенно ясно выразил Н. Бердяев.
В рамках достаточно единой основополагающей концепции, превращающей человека в метафизический центр реальности, отдельные философы по-разному понимали смысл и конкретное содержание той "борьбы", которую должен вести человек в мире. Это предполагало также определенное понимание причин, по которым наша земная действительность предстает "зараженной" злом и несовершенством. Несмотря на определенное различие точек зрения на эту проблему, можно выделить общий и очень важный их элемент, который ясно различим уже в мировоззрении Достоевского. Источник и причина несовершенства и зла мира коренится в том же самом измерении человеческого бытия, где пребывает его божественная сущность, откуда исходит неустанное стремление к совершенству и добру. И, в конечном счете, этот источник - наша свобода, необъяснимая, неподвластная ничему, иррациональная. Именно открытие глубокой иррациональной диалектики человеческой души, сочетающей в себе (часто в одном и том же чувстве и помысле) добро и зло, своеволие и рабство, любовь и ненависть, составляет главную заслугу Достоевского. Впрочем, понимание "негативной" диалектики нашей свободы можно найти и у предшественников Достоевского, например, у Чаадаева. "Да, я свободен, - пишет Чаадаев, - могу ли я в этом сомневаться?... Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее - злоупотребление моей свободой и зло как его последствие... Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей"[2].
Отсюда следует, что оборотной стороной нашего стремления к совершенству и добру в себе и в мире должно являться осознание своей вины за несовершенство и зло мира, причем эта вина носит "сверхэмпирический", абсолютный характер и не должна ограничиваться эмпирической виной за конкретные проступки, совершенные отдельным человеком в его жизни. Наша подлинная неснимаемая вина относится к несовершенству всего мира и всех людей, относится ко всему тому злу, которое было совершено, совершается и будет совершено в мире. Этот принцип абсолютной, метафизической виновности человека особенно настойчиво обосновывали в своих философских трудах Иван Ильин и Лев Карсавин (причем оба с прямой ссылкой на Достоевского).
Осознание своей неустранимой вины за зло и несовершенство мира, естественно, должно изменить отношение человека к себе самому, к той системе ценностей, которая обосновывает его жизнь, к целям его жизни и деятельности в мире. Так, Ильин полагал, что это осознание должно преобразоваться в твердую решимость всегда и везде выступать активным противником зла, причем наиболее важной целью для человека должно стать преодоление зла и несовершенства в себе самом, чтобы затем с бoльшим правом человек мог соучаствовать в общей борьбе с мировым злом[3].
Но особенно парадоксальные выводы из идеи метафизической виновности человека сделал Карсавин. Поскольку его концепция в определенном смысле является наиболее оригинальной и характерной для русской философии первой половины XX века, отражая одновременно важные особенности европейской истории этого периода, рассмотрим ее подробней.
Смысл нашей вины в том, что мы своими "неправедными" поступками вносим невосполнимые "дефекты" в бытие, разрушаем и без того "ослабленные" совершенство и целостность мира. Из этого следует, что движение к новому уровню совершенства и цельности невозможно без устранения указанных "дефектов". Необходимо скомпенсировать как каждое неправедное деяние, так и виновность человека как таковую. Но такая "компенсация" означает не просто некоторое внешнее упорядочивание и усовершенствование элементов бытия. Источником неправедного деяния и вины в целом является внутренняя свобода человека, которая получает неправильную реализацию, отрицает саму себя в своей бесконечной духовной сущности. Поэтому и полная "компенсация" вины возможна через свободное деяние самого человека, отрицающего свою собственную свободную неправедность, виновность. Во внешнем, материальном плане это означает жертвование себя миру и всем людям, добровольное избрание пути, на котором человека ждут страдания и смерть, но на котором именно через свободное избрание страдания и смерти преодолевается непреклонность и абсолютность этих негативных характеристик бытия и они превращаются в нечто вторичное и незначительное по отношению к подлинной абсолютности человеческой свободы и человеческого творчества. Понятно, что центральным символом и примером такого жертвования себя миру и другим людям выступает Иисус Христос и его мучительная смерть на Голгофе.
Карсавин не ограничивается чисто этическим аспектом идеи жертвенности, он дает ему очень оригинальное метафизическое обоснование, которое основано на своеобразной интерпретации концепции всеединства.
В отличие от других представителей философии всеединства Карсавин понимает ее главный принцип динамически и диалектически; всеединство совершенно, когда в нем во всей полноте реализованы две противоположные тенденции - процесс разъединения целого на исчезающие элементы и процесс соединения этих элементов в абсолютную целостность. Несовершенство нашего мира в этом контексте проявляется не только в том, что он недостаточно целостен, но и в том, что его отдельные, замкнутые элементы сопротивлятся полноте разъединения, "распыления" до состояния абсолютного ничто, т. е. полноте смерти. Поэтому путь к совершенству в этом мире, который должен осуществлять каждый человек, есть одновременно и путь любви (соединение в себе всего), и путь смерти, самопожертвования (полного распределения себя во всем): "...стремление воссоединить в себе части свои, вобрать в себя мир, сделать так, чтобы все было в этом единстве, - только одно проявленье Любви, Любовь как начало жизни и жизнь. - Всякое единство не только себя созидает и все вбирает в себя: оно себя отдает всему, разлагается, чтобы быть во всем. Это самоотдача - умиранье единства; это - Любовь как начало смерти и смерть"[4].
В результате Карсавин приходит к парадоксальному выводу, что наш грех не в том, что мы смертны, должны умереть, а в том, что не хотим и не можем умереть до конца. Здесь сразу же нужно оговориться, что понятие смерти используется Карсавиным в нескольких существенно различных смыслах, причем сам он не фиксирует их достаточно точно, что приводит к некоторой двусмысленности его рассуждений. Карсавин вовсе не требует от каждой личности желания мгновенной смерти. Ведь он ведет речь о метафизическом смысле смерти, по отношению к которому реальная эмпирическая смерть - прерывание жизни в одном из моментов времени - и, особенно, самоубийство предстают как все то же нежелание умирать.
Чтобы прояснить смысл этого парадокса, нужно учесть, что полная реализация тенденции к разъединению в пространственно-временном мире должна означать не только "распределение" бытия личности по всем пространственным элементам, что обычно и ассоциируется с эмпирической смертью, но и ее "распределение" по всем моментам времени. При этом время нельзя мыслить в качестве некоего объективного вместилища событий, происходящих с личностью, время - это сама личность, разъединяющаяся на отдельные свои "качествования" (по терминологии Карсавина), моменты. В этом смысле нелепо говорить, что жизнь личности может "занимать" больше или меньше времени - она всегда занимает все время; "все время" - в смысле любого и каждого момента, и "все время" - в смысле вечности, "всевременности", в смысле господства личности, души над временем как таковым. Может показаться, что здесь смысл карсавинского понятия смерти совсем теряется. Однако это не так; мы находим у него совершенно ясное объяснение этого смысла.
Тот факт, что личность "качествует", живет в каждом моменте времени, еще не значит, что она по-настоящему, во всей полноте реализовала тенденцию к разъединению по отношению к последовательности моментов. Разъединение только тогда полно, когда каждому из разъединенных моментов времени личность отдала все, чем она владеет, все свое содержание. Это значит, что личность в каждом своем моменте должна реализовывать себя так, словно только в этом моменте она и существует, только ради него живет, причем смысл своего существования она должна понять как абсолютную самоотдачу, самопожертвование всему (пространственному) миру. Это и есть "совершенная" смерть в ее абсолютном метафизическом значении; такая самоотдача личности миру лишает смысла следующий момент жизни. Однако, если бы такая самоотдача, такое напряжение жизни до состояния "совершенной" смерти оказалось реализованным оно означало бы, одновременно, и метафизическое воскресение - единство смерти и воскресения, поскольку, отдав себя всему миру, личность объединила бы мир собой и тем самым возвела и его и себя в состояние всеединства, т. е. в божественное состояние.
В этом важнейшем элементе философии Карсавина мы можем констатировать ее глубокую взаимосвязь с философскими идеями Достоевского. Вся изложенная концепция метафизической полноты смерти - в каждом моменте жизни - и воскресения через полноту смерти буквально совпадает с тем, что можно считать важнейшим элементом метафизики Достоевского, - с пониманием им воскресения как усилия к полноте личностного бытия в каждый момент жизни. Художественное обоснование этого тезиса у Достоевского дает история Кириллова (роман "Бесы")[5]. Но эта история непосредственно соотносится и с карсавинской метафизикой смерти. Ведь требуемая Карсавиным полнота и напряжение жизни, отдающей себя всему миру, - это и есть "пять секунд" Кириллова, в которые человек должен "перемениться физически или умереть" и после которых "должен перестать родить"[6].
Безумное желание Кириллова стать Богом через акт своеволия-самоубийства также получает оправдание в рамках философии Карсавина. Если человек окажется способным к полноте метафизической смерти, к полноте жертвования себя миру, его жертвенная отдача станет его воскресением в качестве "центра" совершенного всеединства, он воплотит в себе всю полноту бытия, предстанет в качестве подлинного "явления Бога в ничто". Тот факт, что Карсавин резко отрицательно относится к самоубийству, нисколько не препятствует такой интерпретации истории Кириллова. Карсавин отрицает самоубийство как эмпирический акт, в котором самоотдача полностью отрывается от самоутверждения и тем самым разрушает двуединство смерти-воскресения (разъединения-единства)[7]. Но Кириллов вовсе не является обычным самоубийцей, который кончает с собой только потому, что не может и не хочет жить, только потому, что жаждет "отдать" себя, не видя в своей жизни смысла. Кириллов - это метафизический самоубийца, и его добровольная смерть предстает как величайшая жертва, приносимая человеком, который гораздо острее других чувствует полноту жизни и желает жить; он потому и приносит эту жертву, что после своих "пяти секунд", недоступных другим, он должен "перемениться физически или умереть" - должен осуществить абсолютную самоотдачу ради абсолютного самоутверждения. Это как раз то, что имеет в виду Карсавин в своем знаменитом тезисе о том, что бессмертие есть "истинная жизнь через истинную смерть"[8].
Интересно, что помимо Карсавина, у которого идея жертвенности, жертвенного умирания ради восстановления совершенства мира, ради "восстановления" Бога в мире, была обоснована в рамках очень сложной и содержательной философской системы, ту же самую идею в лаконичных и публицистически ярких работах (опубликованных в полном объеме только через десятилетия после смерти автора) развивал Александр Мейер. Для него эта тема фактически стала единственным способом оправдания того существования, которое были вынуждены вести миллионы людей в 20-30-годы в советской России. Напомним, что Мейер несколько лет (1929-1935) провел в заключении на Соловках и Белбалтлаге, а Карсавин закончил свои дни в 1952 году в одном из северных лагерей. В этой трагической, "жертвенной" судьбе двух мыслителей можно видеть парадоксальное "практическое" подтверждение той метафизической конструкции, которая стала самым ярким свидетельством оригинальности русской философии.
----------------------------------------------------------------------
[1] Ильин И. А. Философия Фихте как религия совести // Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 122 (2). С. 176.
[2] Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 375-376.
[3] Подробнее см.: Евлампиев И. И. Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. СПб., 1998. С. 179-231.
[4] Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 151-152.
[5] См.: Евлампиев И. И. Кириллов и Христос. Самоубийцы Достоевского и проблема бессмертия // Вопросы философии. 1998. № 3.
[6] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 450.
[7] См.: Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. С. 193-194.
[8] Карсавин Л. П. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1. С. 88.


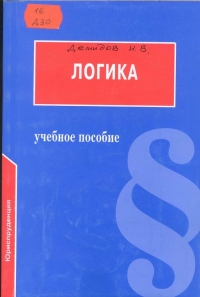

Комментарии к книге «Антропологическая тема в русской философии», И. Евлампиев
Всего 0 комментариев