Мишель Фуко Археология знания
Об авторе
Французский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить». Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто — провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли. Интерес к Фуко связан также с тем, что он ввел в сферу философского рассмотрения и тематизировал такие области существования человека, которые прежде никогда не удостаивались внимания профессиональных философов: безумие, клиника, тюрьма, сексуальность. Одной из таких областей стала область дискурсивных практик, называемая Фуко по-разному: «дискурс», «дискурс — мысль», «сказанные вещи», «архив». В какой-то момент мысль Фуко фокусировалась именно на дискурсе, который выступил в качестве независимой, самодостаточной и саморегулируемой инстанции, первичной по отношению ко всем прочим практикам и в определенном смысле ими управляющей. Этим подход Фуко отличается от всего того множества концепций языка, речи, знака и т. д., которыми богат ХХ век. В публикуемой работе можно видеть попытку самоопределения Фуко по отношению к двум ведущим направлением гуманитарной мысли нашего времени: семиотике, с одной стороны — той, для которой первичной реальностью являются сами «сырые», неинтерпретированные знаки, и герменевтике — с другой, которая, напротив, в качестве первичной признает реальность интерпретации и осуществляющей эту интерпретацию субъективности. Сам Фуко дистацируется и от того, и от другого не только тонко и проницательно, отмечая непреходящие завоевания каждого из подходов, но вскрывая также и проблематизируя фундаментальные допущения и уловки, стоящей за ними мысли, несостоятельность которых и заставляет Фуко ставить вопрос о выделении дискурса в качестве автономной сферы, с присущими ей механизмами возникновения и функционирования, распределения и ограничения. («L'Archeologie du savoir», 1969 и «L'Ordre du discours»,1971) Данный текст интересен своим переходным характером, он позволяет увидеть движение мысли Фуко, «кухню» его работы, В самом деле, где находится автор, когда он обсуждает герменевтику, семиологию, структурализм и т. д.? Скорее всего в том особом пространстве «археологического», или «генеалогического», как позже назовет его Фуко, анализа, который предполагает восстановление предпосылок и условий возможности тех или иных форм мысли. И здесь дистанцированность Фуко оказывается только оборотной стороной его страстной вовлеченности: опыт чтения и понимания работ Фуко с несомненностью показывает, что с наибольшей яростью его критика обрушивается каждый раз на то, со стороны чего он испытывает наиболее сильное влияние. Известны признания Фуко о его намерениях написать «археологию герменевтики», равно как и указания на то, какую роль сыграл для него в 60-е годы структурализм (достаточно сказать, что подзаголовок «Слов и вещей» — «Археология гуманитарного знания» — первоначально выглядел иначе: «Археология структурализма»). И вместе с тем заверения, что ни «структуралистом», ни «герменевтом» он никогда не был… Археологический анализ, как можно предположить и был для Фуко кроме прочего, а может быть и прежде всего, способом «разотождествления», или говоря его языком: «открепления» от всяких «временных» форм мысли, инструментом «критической работы мысли над самой собой». В этом Фуко и видел основную задачу и смысл философствования.
1 марта 1994 Светлана Табачникова
ВВЕДЕНИЕ
Вот уже не одно десятилетие внимание историков привлекают периоды больших длительностей, — так, точно за эпизодами политических перипетий ученые пытаются выявить устойчивое и труднонарушимое равновесие, необратимые процессы, неизменные закономерности, особые тенденции, достигающие своей высшей точки и ниспровергающиеся после вековой непрерывности» движение накопления и медленного насыщения, неподвижные и немые основания, скрытые под толщей событий. Для анализа подобного рода историки располагают инструментарием, отчасти унаследованным от предыдущих эпох, отчасти новоприобретенным: модели экономического роста, качественный анализ обменных потоков, схемы демографических кризисов, изучение климата и атмосферных сдвигов, установление социологических констант, описание технических достижений и история их внедрения. Все эти подручные средства позволяют вычленить в поле истории различные осадочные пласты, а линеарные последовательности, составлявшие долгое время объект исследований, замещаются глубинными структурами. Динамизм и медлительность, политическая истории и «материальная цивилизация» различаются, в первую очередь, количеством уровней анализа, каждому из которых присущи свои особенные разрывы, разграничения, деления, и по мере того, как взгляд историка проникает все глубже и глубже, в поле его зрения вовлекаются все новые области. За быстротечной историей правительств и войн выступают истории, внешне почти неподвижные: история морских путей, история зерна и золотодобычи, история засухи и ирригации, история севооборота, история равновесия, которого удалось добиться человечеству в споре нужды и достатка. Старые вопросы, занимавшие некогда историков (какова связь между событиями? как установить их «очередность»? в чем смысл пронизывающей их непрерывности? наконец, как обозначить совокупности, которые они образуют, и возможно ли определить некую всеобщность или необходимо ограничиваться восстановлением последовательностей?), отныне замещаются задачами совершенно иного рода: какие страты следует выделять? какие последовательности могут быть установлены? каковы критерии периодиза ции к ним применимы? какие системы связей (иерархичность, преобладание, стратификация, однозначное определение, цепь причинности) свойственны каждому из них? какие ряды последовательностей мы можем вводить в том или ином случае? каковы те хронологические пределы, в которых мы размещаем событийные цепи?
Почти одновременно во всех тех дисциплинах, которые мы привыкли объединять под именем «истории»- истории идей, науки, философии, мысли и литературы (особенностями в данном случае можно пренебречь), смещается фокус внимания, и исследователи переходят от описания, широких общностей («эпохи» иди «века») к изучению феноменов разрыва. В великих непрерывностях мысли, в целостных или однозначных проявлениях духа и ментальности, в упорном сопротивлении науки, заявляющей права на существование и пытающейся завершиться с момента зарождения, в явлениях жанра, формы, дисциплины, теории, мы пытаемся раскрыть феномены прерывания. Природа и статус этого явления понимаются весьма различно. Эпистемологические акты и пороги описаны Г. Башляром: прерывая бесконечное накопление знаний, они препятствуют медленному их созреванию, отрывают их от эмпирического истока, от первоначальных мотитваций, очищают от всех воображаемых связей и, таким образом, подвигая исторический анализ к поискам скрытого начала, отвлекают его от бесконечного поиска своих оснований и направляют к установлению нового типа рациональности. Предпринятый Гангилемом анализ смещений и трансформаций понятия может служить нам некоторой моделью. Гангилем доказывает, что история концепта отнюдь не является историей его последовательного прояснения или всевозрастающей «рационализации», непрерывности и перехода на новый уровень абстракции; напротив, это история смены правил применения история многочисленных полей образования и значимости понятий, история теоретических областей их порождения. Очевидно и проведенное Гангилемом различение между микроскопическими и макроскопическими последовательностями истории наук, где события и следствия распределяются так, что открытия, методологические исследования, достижения и неудачи ученого принадлежат каждое своему событийному ряду и не могут быть описаны одним и тем же способом на одном и том же уровне, — в данном случае мы имеем дело с совершенно разными историями. По мере того, как настоящее какой-либо науки изменяется, рекуррентные перераспределения обусловливают множественность ее прошлого, многообразие форм сцепления, исходных иерархий, сетей определений телеологический схем. Исторические описания неминуемо соотносятся с актуальным уровнем знания в целом, множатся с каждой своей трансформацией и, вместе с тем, никогда не перестают порывать с самими собой (этот феномен недавно послужил М.Серру толчком в разработке его математической теории). Заметим, что для архитектонических единиц системы, описанных М.Гиру, анализ влияний, традиций, культурной непрерывности не имеет определяющего значения. Гораздо важнее здесь исследования внутренних связей, аксиом, дедуктивных последовательностей, совместимости. И, наконец, не является ли самое радикальное проявление, — всего лишь разрывом, осуществленным преобразующей работой теоретической мысли, «которая обосновывает науку, отрывая ее от прошлого и раскрывая прошлое как идеологию». Сказанное, разумеется, приложимо и к литературному анализу, который мы отныне будем применять для исследования этих общностей, — но не в отношении духа или умонастроений эпохи, «групп, школ, поколений или движений», и даже не в отношении автора, вовлеченного в бесконечную игру обращений, связывающих его жизнь с творчеством, а исключительно в отношении структуры произведения, книги, текста.
Наконец, первостепенная задача, которую мы ставим перед такого рода историческим анализом, заключается вовсе не в том, чтобы узнать, какими путями может быть установлена непрерывность, как одна и та же модель может быть состояться в едином горизонте для столь различных, разделенных во времени умов, и не в том, чтобы выяснить, какой способ действия и какое основание содержит в себе взаимодействие передач, возобновлений, забвений и повторений, власть какого источника может простираться за его пределы вплоть до недостижимого завершения; проблема состоит вовсе не в традиции и ее следах, а в разделении и ограничении, не в незыблемости развертывающегося основания, а в той трансформации, которая принимается в качестве основы обновления основ. Так обнаруживается все поле вопросов, частью уже вполне обыденных, с помощью которых новая история вырабатывает собственную теорию дабы прояснить, каким образом специфицируются различные концепты прерывности (пороги, разрывы, изъятия, изменения, трансформации): исходя из каких критериев можно выделить единицы описания (наука, произведение, теория, понятие, текст)? как различить уровни, каждому из которых соответствовал бы собственный тип анализа? как определить легитимный уровень формализации, интерпретации, структурирования, установления причинности? Короче говоря, если история мысли, познания, философии и литературы множит разрывы и взыскует прерывности, то история как таковая, история движущаяся и развертывающаяся, обладающая устойчивыми событийными структурами, кажется, разрывов избегает.
***
Не стоит, впрочем, заблуждаться насчет этих наслоений. Несмотря на внешнюю схожесть разных исторических дисциплин, мы не должны думать, что в то время как одни из них движутся от непрерывности к прерывности, другие проходят путь от хаотической прерывности к установлению нерушимых общностей; не следует полагать, будто анализируя политические ситуации, экономику и социальные институты, мы становиться все более восприимчивыми к самым общим определениям, тогда как при анализе идей и науки наше внимание в большей степени направлено на постижение различий, — так, точно две эти важнейшие формы описания пересекаются, не опознав друг друга.
На самом деле эти проблемы, которые возникают в любом случае и вызывают совершенно противоположные следствия, вводятся постановкой вопроса о документе. Здесь нет недоразумения: вполне очевидно, что с тех пор, как история получила статус науки, мы постоянно обращаемся к документам, исследуем их и так познаем себя. Для нас важно не просто понять смысл сказанного, но и определить степень его истинности и самое форма его представления;'нас всегда волнует, являются ли наши источники подлинными или подложными, насколько они осведомлены или несведущи, верно ли отражают эпоху или, напротив, лгут. Но заключенная в каждом из этих вопросов огромная критическая обеспокоенность направлена, собственно говоря, к одному: исходя из сказанного документом (хотя бы и между строк), восстановить то вставшее за ним прошлое, откуда он родом. Документ всегда понимался как язык, звуки которого низведены до немоты или невнятного бормотания, иногда по счастливой случайности распознаваемого. Итак, благодаря изменениям, датировать которые уже едва ли возможно, но и по сей день еще не завершенным, история по-новому взглянула на документ и занялась не столько интерпретацией или установлением его истинности и смысла, сколько освоением и развитием внутреннего пространства. История отныне организует документ, дробит его, упорядочивает, перераспределяет уровни, устанавливает ряды, квалифицирует их по степени значимости, вычленяет элементы, определяет единицы, описывает отношения. Документ более не является для истории неподвижной материей, отталкиваясь от которой она пытается реконструировать дела и слова людей прошлого, — все то, от чего остались лишь немногие следы.
Теперь история пытается обнаружить в самой ткани документа указания на общности, совокупности, последовательности и связи. Необходимо было лишить историю образа, который долгое время ее удовлетворял и обеспечивал ей антропологическое оправдание (дескать тысячелетиями коллективное сознание с помощью материальных свидетельств сохраняло память о прошлом), чтобы история стала строгой наукой и занялась введением в обиход документальных материалов (книг, текстов, рассказов, реестров, актов, уложений, статутов, постановлений, технологий, объектов и обычаев и т. д.), которые всегда и повсюду суть либо спонтанные, либо организованные формы представления любого общества. Документ более не довлеет истории, которая с полным правом в самом своем существе понимается как память. История — это только инструмент, с помощью которого обретает надлежащий статус весь корпус документов, описывающих то или иное общество.
Чтобы не тратить много слов, скажем, что в своей традиционной форме история есть превращение памятника в документ, «обращение в память» памяток прошлого, «оглашение» этих следов, которые сами по себе часто бывают немы или же говорят вовсе не то, что мы привыкли от них слышать. Современная же история — это механизм, преобразующий документ в памятник. Там, где мы пытались расшифровать следы, оставленные людьми, теперь преобладает масса элементов, которые необходимо различить и вычленить, означить и обозначить, соотнести и сгрупировать. Некогда археология, — дисциплина, изучавшая немые памятники, смутные следы, объекты вне ряда и вещи, затерянные в прошлом, — тяготела к истории, обретая свой смысл в обосновании исторического дискурса; ныне же, напротив, история все более склоняется к археологии, к своего рода, интроспективному описанию памятника.
Что же отсюда следует? Начнем с наиболее очевидного: умножение разрывов в истории идей, выявление длительных исторических периодов. Действительно, традиционная история видела свою задачу в определении отношений (простой причинности, цикличности, антагонизма и проч.) между фактами и датированными событиями: речь шла о том, чтобы уточнить место элемента в уже установленных рядах. Сегодня проблема состоит в установлении и переустановлении рядов, в определения элементов ряда, в строгом разграничении отношений, характерных для каждого данного случая, в выведении закона и, помимо всего прочего, в описании связей между различными рядами и последовательностями с целью создания их «матрицы», — этим объясняется множественность страт, потребность в членениях и хронологической спецификации. Следовательно, необходимо не только различать события по степени важности, но и дифференциировать их типы и уровни: так, можно говрить о событиях малой, средней (например, внедрение технических достижений или дефицит денег), и, наконец, большой длительности (демографическое равновесие или все более активное участие экономики в изменении климата). Отсюда же следует необходимость различать ряды, образованные редкими или, напротив, повторяющимися событиями. Принятое в современной науке понятие «период большой длительности» вовсе не свидетельствует о возврате к философии истории, к представлениям о великих эпохах мира, к периодизациям, которые бы исходили из «предназначения цивилизаций»; это лишь методологический результат процедуры установления рядов. Но в истории идей, наук, мысли подобного рода изменения приводят к совершенно обратному эффекту: они разрывают длинные цепи, сложившиеся вследствие прогресса сознания, телеологии разума или эволюции человеческой мысли, и ставят под вопрос феномены совпадения и совершения, а равно и самое возможность обобщения; они индивидуализируют различные ряды и последовательности, взаимодействие которых (наложение, совмещение, взаимозамещение и пересечение) не позволяет свести их к простой линейной схеме. Таким образом, вместо непрерывной хронологии разума, неизменно направленного к своим основаниям и направляющего нас на поиски недостижимого истока, порой возникают весьма краткие очередности, восстающие против единого закона, обладающие каждая своим особым типом истории, и несводимые при этом к общей модели открытого, развивающегося и памятующего о себе сознания.
Второе следствие: понятие прерывности занимает важнейшее место в исторических дисциплинах. Для классической истории прерывность была некоей неосознаваемой данностью, которая проявлялась в хаосе рассеянных событий (решений, случаев, начинаний, открытий) и подлежала преодолению в анализе, — ее следовало обойти, редуцировать, стереть во имя торжества непрерывного событийного ряда. Прерывность, которую вытравляли из истории, была как бы знаком темпоральной разлаженности. Теперь же она стала одним из основополагающих элементов исторического анализа, играющим троякую роль. В первую очередь, она обусловливает преднамеренные действия историка (а не то, что он извлекает из своего материала), ибо тот должен выявить, хотя бы гипотетически, возможные уровни анализа, методы, соответствующие каждому из них, и особые периодизации. Прерывность является также результатом самоописания (а не тем, что должно исключаться при помощи анализа), в задачу которого входит определение границ того или иного процесса, точек изломов, нарушений привычного хода вещей, амплитуты колебаний, порогов функционирования, разрывов причины причинно-следственных связей. Наконец, прерывность — это концепт, которому ученый придает все новые и новые спецификации, вместо того, чтобы пренебрегать ими, рассматривать разрывы как нерелевантный зазор между двумя позитивными фигурами. Непрерывность принимает формы и особые функции в соответствии с тем уровнем, на котором она расположена; мы имеем в виду различные прерывности, когда описываем пороги эпистемологии, падение рождаемости иди технологические революции. Вместе с тем, прерывность — понятие парадоксальное, поскольку она одновременно является и инструментом, и объектом исследования, поскольку разграничивает то поде, следствием которого сама является, и поскольку позволяет индивидуализировать области, путь установить которые можно только с помощью сравнения. В конечном счете, она может быть просто понятием языка историка, тем, что скрыто организует его дискурс. В самом деле, разве смог бы историк говорить, не будь разрыва, который бы представил ему историю (и свою собственную, в том числе) как объект? Одной из наиболее характерных черт новой исторической науки является, безусловно, превращение прерывности из препятствия в практику, ее интеграция в дискурс историка, так что она воспринимается уже не как навязанная и нежелательная неизбежность, но как необходимый концепт. Благодаря инверсии знаков прерывность отныне уже не отрицает историческое чтение, выступая его изнанкой, опровержением и пределом возможностей, а напротив, становится позитивным элементом, определяющим свой объект и значение своего анализа.
Третье следствие: тема и возможность глобальной истории начинает понемногу исчезать, и мы видим, как проясняются весьма несхожие очертания того, что мы могли бы назвать тотальной историей. Замысел тотальной истории —. попытка восстановить формы единства цивилизации, материальные или духовные принципы общества, общий смысл всех феноменов данного периода и законы их объединения, — словом, все то, что образно можно было бы назвать бликом времени». Подобный замысел связан с несколькими гипотезами: допустим, что между всеми событиями определенного пространственно-временного континуума, между всеми явлениями, следы которых находятся в нашем распоряжении установлена система гомогенных отношений, протянута сеть причинности, обосновывающая каждый из этих элементов, завязаны связи по аналогии, демонстрирующие, каким образом феномены становятся символами Друг друга или организуются вокруг единого центра; с другой стороны, допустим, что одна и та же форма историчности может соотноситься с экономическими структурами, с устойчивыми социальными образованиями, инерцией ментальности, техническими навыками, политическими решениями, — и подчинять все это одному и тому же типу трансформации; допустим, наконец, что сама история редуцируема к определенным общностям — стадиям или фазам, — которые содержат в себе принципы собственной целостности. Все эти постулат новая историческая наука ставит под сомнение, когда речь заходит об установлении рядов и последовательностей, смещений, хронологических спецификаций, особых форм остаточности, возможных типов связи. Вовсе не этого она пытается добиться, множа пригнанные друг к другу и, вместе с тем, независимые истории, так что множественность экономики соседствует с множественностью институтов, наук, религии и литературы; но нельзя сказать, что она просто указывает на совпадения дат или на аналогии форм и смысла этих историй.
Итак, задача тотальной истории, состоит в том, чтобы выяснить, какие формы отношений могут быть закономерно установлены между различными рядами; какие вертикальные связи они порождают;
чем характеризуются их соответствия и преобладания; чем обусловлены смещения, темпоральные сдвиги, остаточности; в каких совокупностях отдельные элементы могут фигурировать одновременно и проч. Короче говоря, нас интересует, не только, какие ряды, но и какие последовательности рядов и цепи последовательностей (матрицы) могут быть установлены. Глобальное описание собирает все феномены — принцип, смысл, дух, видение мира, формы совокупности — вокруг единого центра; тогда как тотальная история разворачивается в виде рассеивания.
И, наконец, последнее: новая историческая наука сталкивается с методологическими проблемами, многие из которых возникли еще до ее появления, а ныне характеризуют именно этот тип дискурса. Среди них следует назвать проблему установления гомогенного корпуса документов (который может быть открытым и закрытым, ограниченным или безграничным), обоснование принципа отбора (в соответствии с которым мы могли бы с наибольшей отдачей использовать всю массу документов, практиковать статистические методы или заранее определять наиболее репрезентативные элементы), определение уровня анализа и соответствующих элементов (количественные данные, которые возможно извлечь из уже изученного материала; очевидные и неочевидные отсылки к событиям, институтам и практикам; правила словоупотребления, лексика и ее семантические поля; формальная структура пропозиций и типы связей, которые ее организуют), методологическая спецификация анализа (количественная трактовка данных, расположение целого на основании определенного набора установленных черт взаимодействия, интерпретацию, частотность и распределение которых мы изучаем), разграничение и иерархизация единиц изучаемого материала (регионы, периоды, консолидационные процессы), описание оснований, которые позволяют характеризовать совокупности (количественные и логические отношениях иди же соотношения функциональные, причинные или аналогические; связи означающего с означающим и проч.).
Все эти проблемы лежат в области методологии истории — области знания, которая заслуживает внимания по двум причинам. Во-первых, мы воочию можем убедиться, насколько она освободилась от тех вопросов, которые еще недавно составляли предмет философии истории: рациональность или телеология становления, относительность исторического знания, возможность постижения и утверждения смысла инерции прошлого и тотальной незавершенности настоящего. Во-вторых, методология истории часто соприкасается с проблемами, лежащими вне ее пределов — в области лингвистики, этнологии, экономики, литературного анализа или же теории мифа. Весь этот проблемный круг при желании можно обозначить ярлыком структурализма. Правда, с некоторыми оговорками: все перечисленные проблемы сами по себе не способны охватить методологическое поле истории и составляют лишь незначительную его часть, значение которой изменяется в зависимости от областей и уровня анализа, — за исключением разве что тех относительно редких случаев, когда они не представляют интереса для лингвистики или этнологии (что частично соответствует нынешнему положению вещей), но обязаны своим рождением полю самой истории (и, уже, полю истории экономической); наконец, эти проблемы не дают нам основания говорить о «структурализации» истории, по крайней мере, о попытках вынести этот «конфликт» или «оппозицию» на уровень противостояния «структуры» и «становления». Уже наступили те времена когда историки могут позволить себе раскрывать, описывать, анализировать структуры, не заботясь о том, не упускают ли они при этом живую, нежную и трепетную историю. Противопоставление структуры и становления не относится, безусловно, ни к определению поля истории, ни к определению структурного метода.
Эти эпистемологические изменения истории не завершены и по сей день. Начались они не вчера; появление их можно без труда связать с Марксом. Но их вызревание потребовало длительных сроков. Даже в наши дни, в особенности, когда речь заходит об истории мысли, они не зафиксированы, не описаны, как описаны изменения недавние, — в лингвистике, например. Можно предположить, что для той истории, которая сообщают о целях и знаниях человека, неимоверно трудно сформулировать всеобщую теорию прерывности, теорию рядов, последовательностей, границ, общностей, порядков, различных изъятий и зависимостей. Кажется, что привыкнув думать об истоках, устанавливать бесконечную цепь предвосхищений, ре-конструировать традиции, следовать за движением эволюции, порождать различные телеологии, прибегать без конца к метафорам жизни, мы испытываем странную неприязнь, сталкиваясь с необходимостью постигать отличия, описывать автономии и рассеивания, разъединять устоявшиеся тождества. Точнее, кажется, что из этих концептов в том виде, в каком они используются историками, мы боимся создать теорию, вывести всеобщие заключения иди образовать какие-либо импликации, боимся впустить Другое в лабораторию нашей мысли.
На то существует одна причина. Если бы история мысли могла остаться локусом ничем не нарушаемой непрерывности, если бы она постоянно увязывала также последовательности, которыми без абстрактных допущений не может овладеть анализ, если бы она оплетала все, что говорят люди туманным синтезом предварения, предвосхищения и бесконечного стремления к будущему, то в этом случае она стала бы надежным убежищем самостоятельного сознания. Именно непрерываемая история служит необходимым коррелятом основополагающей функции субъекта, гарантией того, что все ускользнувшее от него рано или поздно будет возвращено, уверенностью в том, что все рассеянное во времени можно вновь свести в определенные, прежде существовавшие единства, и вещи, разделенные границами различий, будут вновь (в форме исторического сознания) присвоены субъектом, который восстановит над ними свою власть и обретет свое место. Превращая исторический анализ в дискурс непрерывности, а человеческое сознание — в исходный субъект становления и практики, мы сталкиваемся с двумя сторонами одной и той же системы мышления. Время, понятое в рамках всеобщности и революций никогда не было ничем иным, кроме как моментом сознания.
В том или ином виде эта тема постоянна играла присутствовала, начиная с XIX в., противостояла всевозможным смещениям, обеспечивала нерушимую суверенность субъекта и участвовала в сохранении антропного и гуманистического начала. В противовес тому перевороту, которого добился Маркс, анализируя производственные отношения, детерминанты экономики и классовой борьбы, она на исходе XIX в. позволила развернуться поискам тотальной истории, сводящей все общественные различия к единой форме, к особенностям мировоззрения, к установлению системы ценностей, к устойчивому типу цивилизации. Перевороту, произведенному ницшеанской генеалогией, она противопоставила поиски первоначального основания истории, которое бы позволило превратить рациональность в telos человечества и связать с сохранением этой рациональности, с поддержанием этой телеологии и с вечным необходимым возвращением к самому себе всю историю мышления. И уже совсем недавно, когда психоанализ, лингвистика и этнология, поколебав уверенность субъекта в незыблемости законов желания, форм языка, правил, определяющих поступки т. д., открыли ему природу мифического дискурса, когда стало ясно, что сам человек, вопрошая себя о самом себе, безотчетен в своей сексуальности, в своем бессознательном, в систематических началах своего языка или закономерностях своих образов, — тогда-то вновь в поле его зрения попала тема непрерывности истории, — истории как становления, которая была бы не калейдоскопом отношений, но моментом внутренней динамики, не нормативной системой, но упорным трудом свободы, не формой, но непрестанным усилием сознания, обращенного к самому себе, попыткой проникнуть в самые глубины своих условий, стойким терпением и живым движением, разрушившим, наконец, все и всяческие границы… Чтобы использовать эту тему, противопоставляющую «неподвижность» структур, их «закрытые» системы, необходимой «синхронии» живой открытой истории, очевидно, надлежало последовательно избегать в историческом анализе обращения к прерывности, к определению уровней и границ, к описанию рядов и к выявлению всей сети различий. Поэтому мы пришли к тому, что антропологизировали Маркса, сделали из него историка целостности и открыли в нем гуманиста; мы принуждены были интерпретировать Ницше в понятиях трансцендентальной философии и повернуть его генеалогию к поиску первоначал; наконец, все это заставило нас пренебречь всем методологическим полем новой исторической наукой. И если бы подтвердилось наше предположение о том, что феномены прерывности, системности, трансформации, последовательности и порога свойствены истории идей и науки в той же мере, что истории экономики и социума, то мы бы тогда получили право узаконить противопоставление «становления» и «системы», движения и обратимых закономерностей, или, как это делают по недомыслию, «истории» и «структуры».
Здесь мы сталкиваемся все с той же охранительной функцией, что проявилась в идее культурной целостности (во имя которой мы вначале критиковали, а после травестировали Маркса), в идее поисков первоначала, которая была вначале противопоставлена, а впоследствии навязана Ницше, и наконец, в идее живой, непрерывной и открытой истории.
Пожалуй, скажут, что исторический анализ непременно убивает историю — особенно, когда речь заходит об истории идей или значений, — слишком явно и неприкрыто используя категории прерывности и различий, понятия порога, разрыва, трансформации, описания рядов и границ. Нас обвинят в посягательстве на неписанные законы истории и на основания всякой возможной историчности. Не следует, однако, заблуждаться на сей счет: предмет этой безутешной скорби — не подъем, а напротив, упадок того типа истории, что тайно и без остатка был обусловлен синтетической активностью субъекта; так оплакивают идею становления, которая предоставляла суверенному сознанию убежище более надежное, более труднодоступное, нежели мифы, системы родства, языки, сексуальность или желание; эти причитания об утерянной возможности реанимировать с помощью замысла, работы смысла, движения всеобщности или взаимодействия материальных установлений законы практик, системы бессознательных устойчивых, но неосмысленных отношений, совершенно необоснованы, — это плач об идеологическом использовании истории, при помощи которого мы пытались вернуть человеку то, что уже не одно столетие ускользает от него. В старую цитадель такой истории мы снесли сокровища, нам не принадлежавшие; мы верили в крепость ее стен, мы сделали ее последним прибежищем антропологической мысли; мы были твердо убеждены, что так сумеем сохранить даже то, что восстает против ее могущества и установили за ней неусыпный надзор. Но историки давно покинули эти стены, отправившись на поиски работы в иные области, и даже Марксу и Ницше не удалось удержать свои позиции. Не стоит более рассчитывать на них, ни для того, чтобы сохранить их привелегии, ни для того, чтобы еще раз подтвердить (если только в этом есть хоть толика смысла в наши горькие дни!), что история — нечто живое и непрерывное, что она для предоставляет вопрошающему и вопрошаемому субъекту место покоя, уверенности, примирения и безмятежного сна.
Этим, собственно, и определяется тот замысел, который так несовершенно и смутно воплотился в «Истории безумия», «Рождении клиники» и «Словах и вещах», — замысел, призванный привести нас к уяснению той меры изменений, которые происходят в науке; замысел, поставивший под вопрос методы, границы, и самые темы истории идей; замысел, с помощью которого мы пытались избавиться от всякой антропологической зависимости и, вместе с тем, понять принципы формирования такой зависимости. Эти проекты все еще неупорядочены и не располагают достаточно четким обоснованием но уже пришло время придать им известную определенность или хотя бы попытаться это сделать., Результат моих попыток — книга, которая лежит перед вами.
Но прежде, чем начать, — еще несколько замечаний, которые должны помочь нам избежать некоторых недоразумений.
— Речь идет вовсе не о том, чтобы перенести в область истории (в первую очередь, истории познания) структуралистские методы, зарекомендовавшие себя в совершенно иной плоскости анализа. Скорее, мы имели в виду применение принципов и следствий той исходной трансформации, которая и пыталась воплотиться в области исторического знания. Допустим, что эта трансформация и все те проблемы, которые она ставит, методы, которые она использует, концепты, которые в ней определяются, результаты, которых она добивается, не чужды тому, что мы называем структурным анализом. Но анализ такого рода не является предпочтительным для нашего исследования.
— Тем более речь не идет об использовании категорий культурных целостностей (будь то мировоззрение, идеальные типы, дух эпохи) с целью навязать истории, наперекор ее природе, приемы структурного анализа. Описанные ряды, установленные границы, сравнения и соответствия не возвращают к старой философии истории, а, напротив, заставляют усомниться в телеологиях и всеобщностях как таковых.
— Поскольку же речь идет об установлении метода исторического анализа, свободного от антропологических примесей, мы увидим, что теория, которая сейчас вырисовывается, вдвойне обусловлена проведенной работой. С одной стороны, эта теория пытается в самых общих понятиях, со множеством оговорок и весьма абстрактно, выявить примеры, которые были применены в ходе наших исследований или могут быть применены в случае необходимости. С другой стороны, наша теория в таком случае усилится результатами, полученными при определении метода анализа, который был бы абсолютно свободен от всякого антропологизма. Почва, которую открывает наша теория, — та, на которой она стоит. Исследования в области истории безумия, зарождения психологии, болезней и становления медицины, наук о жизни, языке, экономике двигались как бы вслепую; но они не просто «прозревали» по мере того, как постепенно разрешались методологические проблемы; важнее помнить, что в споре гуманизма с антропологией они раскрывали пределы своей исторической возможности.
Одним словом, этот труд, как и все, что ему предшествовало, не вписывается в контекст рассуждений о структуре, якобы противоположной развитию, истории и становлению, но зато демонстрирует свою обращенность к тому пространству, где выявляются, пересекаются, накладываются и специфицируются вопросы человеческого бытия, сознания, истоков, и субъективности. Разумеется, среди прочих проблем существует и проблема структуры.
Предложенная вниманию читателя работа не является точным воспроизведением того, что можно было прочитать в «Истории безумия», «Рождении клиники» или «Словах и вещах», — во многом расходясь с более ранними нашими сочинениями, эта книга несет на себе следы корректировки и самокритики. «Истории безумия» составляет достаточно уловимую и весьма загадочную «часть» того, что обозначено нами как «опыт», демонстрируя, до какой степени мы были готовы допустить анонимный субъект и всеобщую историю; в «Рождении клиники» нам часто приходилось прибегать к структурному анализу, рискуя, тем самым, утратить специфичность постав-денных проблем и низвести исследование с уровня археологии на уровень традиционного описания; наконец, в «Словах и вещах» отсутствие методологических вех создавало впечатление, будто наш анализ разворачивается в понятиях культурных целостностей. Все эти погрешности, которых мы так и не смогли избежать, весьма нас удручали, но, пожалуй, они таились в самом замысле, поскольку, чтобы прийти к своему завершению, он должен был освободиться от многообразных методов и форм историзма; в любом случае, без тех вопросов, которые нас волновали, без трудностей, возникших передо нами, без всех этих противоречий, мы, несомненно, никогда бы не смогли так ясно представить себе наше намерение, с которым теперь неразрывно связаны. Отсюда и особенности нашего текста: он постоянно как бы отстраняется от самого себя, устанавливает собственные меры, неуверенно ковыляет к своим пределам, заговаривается, утверждая то, что вовсе не хотел сказать, и, чтобы найти верную дорогу, сам создает себе препятствия. В мгновение ока он разоблачает всякую путаницу; отвергает самотождественность, не объявляя при этом: «Я-де то-то и то-то». Это не критика, по преимуществу, и не способ указать на чужую ошибку, — это определение некоего особого места через расположение соседствующих элементов, это попытка определить тот зазор, откуда я могу говорить, зазор, который так медленно обретает форму в дискурсе и который я ощущаю все еще таким неверным и неотчетливым.
***
— Как? Вы уверены в том, что сами пишете? Не измените ли Вы все вновь, не уклонитесь ли от наших вопросов, заявив при этом, что все возражения направлены вовсе не на то, о чем Вы говорите? Готовы ли Вы повторить, что никогда не были тем, за кого Вас принимают? Вы уже заготовили себе лазейку в следующую книгу, Вы намерены выкрутиться и посмеяться над нами, как вот сейчас: «Нет, мол, нет, я вовсе не там, где меня подстерегают, а здесь; вот отсюда я, улыбаясь, гляжу на вас».
— Неужели вы думаете, что я бы затратил столько труда и так упорствовал, склонив голову, в решении своей задачи, если бы не заготовил неуверенной дрожащей рукой лабиринт, по которому смог бы путешествовать, располагая свои посылки, открывая тайники, уходя все глубже и глубже в поисках вех, которые бы сократили и изменили маршрут, — лабиринт, где я бы мог потерять себя, и предстать перед глазами, которые уже больше никогда не встречу. Без сомнения, не я один пишу затем, чтобы не открывать собственное лицо. Не спрашивайте меня, что я есть, и не просите остаться все тем же:
оставьте это нашим чиновникам и нашей полиции — пусть себе они проверяют, в порядке ли наши документы. Но пусть они не трогают нас, когда мы пишем.
I. ДИСКУРСИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
1. ЕДИНИЦЫ ДИСКУРСА
Исследование концептов прерывности, разрыва, порога, предела, ряда, трансформации ставит перед историческим анализом не столько вопросы, связанные с процедурой, сколько чисто теоретические проблемы, которые и будут здесь рассмотрены (тогда как к вопросам процедуры мы подойдем в ближайших эмпирических разысканий, если, конечно, у нас будет возможность, желание и достанет решимости осуществить это намерение). Я еще не могу сказать будут ли они исследованы только в особом поле, в дисциплинах, чьи границы неопределенны, а содержание расплывчато — в истории идей, мысли, наук или знаний.
Поначалу нам требуется провести сугубо негативную работу: освободиться от хаоса тех понятий, которые (каждое по-своему) вносят затемняют понятие прерывности. Они не обладают строгой концептуальной структурой, но функции их достаточно конкретны. Таково, например, понятие традиции, сообщающее особый временной статус последовательным и тождественным (или, по крайней мере, аналогичным) совокупностям феноменов; традиция позволяет в единой унифицированной форме осмыслить рассеивание истории, она сглаживает различия начал, дабы, минуя непрерывность, дойти до бесконечного определения источника; благодаря ей мы получаем возможность выделить новое на основании неизменного и объяснить новизны оригинальностью, гением или произвольным выбором индивидуума. К отброшенным нами концептам можно отнести и понятия влияния, обретающего плоть (слишком субтильную, чтобы стать предметом анализа) в фактах перенесения и коммуникации, отсылающих, в свою очередь, к планам причинности (но без строго разграничения и теоретического обоснования), подобия и повтора, которые сквозь пространство и время — точно для них это благоприятная среда! — связывают такие единства, как индивиды, произведения, понятия и теории. Сюда же относятся понятия развития и эволюции, — они позволяют заново группировать последовательности рассеянных событии, связывать их единым принципом организации, подчинять силе жизненного примера (со всей их приспособленностью, возможностью нововведений, непрекращающейся корреляцией различных эдементов, со всеми системами ассимиляции и обмена); они способствуют раскрытию в каждом начале принципа связанности, помогают наметить будущие единства и подчинить время, постоянно нарушая связи между источником и понятиями, которые никогда не бывают окончательной данностью, но вечно находятся в становлении. Таковы и понятия «ментальности» иди «духа», которые позволяют установить общности смысла, символические связи, игры подобия и отражения между синхронными и последовательными феноменами данной эпохи или выявляют в качестве принципа общности и объяснения суверенность коллективного сознания. Необходимо усомниться во всех этих предзаданных общностях, группах, существующих до чистого рассмотрения, связях, чья истинность предполагается с самого начала; необходимо изгнать всю эту нечистую силу, которая обычно сковывает друг с другом различные дискурсы; необходимо извлечь ее из той темноты, где простираются ее владения. Во имя методологической строгости мы должны уяснить, что можем иметь дело только с общностью рассеянных событий.
Должно обеспокоиться и теми члениями и группами, которые стали для нас привычны. Возможно ли таким образом допустить различение наиболее значительных типов дискурса, форм и жанров, которые противопоставляют друг другу наука, литература, философия, религия, история, воображение и т. д. и которые порождают великие исторические индивидуальности? Мы сами совершенно не уверены, в том, что можем использовать все эти различения в том мире дискурса, который принадлежит нам, — тем более, когда речь заходит об анализе совокупностей высказывания, которые в эпоху своего обоснования были распределены, установлены, охарактеризованы совершенно различными способами: так, «литература» и «политика»- категории относительно недавние, и применительно к средневековой культуре или даже классической эпохе мы можем использовать их только как ретроспективную гипотезу, допущение игры формальных аналогий или семантического подобия; но ни литература, ни политика, ни философия и наука не присутствуют в поле дискурса XVII и XVIII вв. так, как они присутствуют в XIX в. Во всяком случае, эти различения (когда речь идет о тех из них, что мы допускаем, или о тех, что современны изучаемому дискурсу) сами по себе являются рефлексивными категориями, принципами классификации, правилами нормативного толка, типами институализации; эти факты дискурса, разумеется, требуют анализа наряду с остальными, но, вместе с тем, они, со своими достаточно сложными взаимосвязями, не являются характерными, исконными и общепризнанными.
Но в первую очередь необходимо отказаться от наиболее очевидного: от концептов книги и произведения. На первый взгляд может показаться, что такой отказ будет искусственной процедурой. Не даны ли они нам самым наглядным образом? Существует материальная индивидуализация книги, занимающая конкретное пространство и имеющая определенную вещественную ценность: сама книга, которая, используя определенные знаки, обозначает себя границами, представляющими начало и конец. С другой стороны, существует произведение, которое нам известно и которое мы выделяем из совокупности остальных произведений, приписав тот или иной текст тому или иному автору. Стоит, однако, взглянуть повнимательнее, — и начинаются трудности. Материальное единство книги? — Даже если речь идет о поэтической антологии, сборнике посмертно изданных фрагментов, «Трактате о конусах» или томе из «Истории Франции» Мишле? Даже когда мы говорим об «Удаче» Малларме, процессе над Жилем де Рецом, романе «Сан-Марко» Бютора, или католическом молитвеннике? Одним словом: не является ли феномен материального единства книги сущей условностью рядом с ее дискурсивным единством? Действительно ли материальное единство столь однородно и для всех ли случаев равно применимо? Ведь романы Стендаля или Достоевского не индивидуализируются в той же степени, что и романы, составляющие «Человеческую комедию», а те, в свою очередь, не различаются между собой в той же мере, что «Улисс» и «Одиссея». Границы книги никогда не очерчены достаточно строго: в ее названии, в первой и последней строке, во внутренних конфигурациях и в обособляющих ее формах содержится система отсылок к другим книгам, другим текстам и фразам, которые и образуют узлы языковой сетки. Эта игра отсылок находится в прямой зависимости от того, имеем ли мы дело с математическим трактатом или комментариями к тексту, с историческим повествованием или эпизодом во-манного цикла, — во всех этих случаях единство книги, понимаемое как средоточие связей, не может быть описано как тождественное. Бессмысленно говорить о книге как о подручном предмете, — книга не укладывается в маленький параллелепипед, который якобы заключает ее в себе; единство книги, следовательно, изменчиво и относительно. Как только оно становится предметом исследования, так тотчас же утрачивает свою однозначность и уже не указывает на самого себя, а о его природе мы можем судить, только исходя из сложного поля дискурса.
Понятие произведения ставит перед нами еще более сложные проблемы. Внешне, казалось бы, что может быть проще, нежели «произведение» — некая сумма текстов, которая может быть обозначена именем собственным' Но такое обозначение (даже если не принимать во внимание вопросы атрибуции) функционирует весьма различно. В самом деле, указывает ли имя автора равным образом на текст, опубликованный под его именем, текст, вышедшей под псевдонимом, на наброски, найденные после его смерти, на разрозненные записи, записные книжки или просто бумаги? Создание собрания сочинений или отдельного опуса допускает возможность выбора, оправдать или даже сформулировать который часто бывает нелегко: возможно ли добавить к текстам, опубликованным автором то, что он только предполагал издавать, но не успел завершить из-за смерти? Нужно ли включать все черновики, первоначальные замысел, редакции и то, что не вошло в книгу? Возможно ли поместить туда незаконченные наброски? Какой статус следует закрепить за дневниками, заметками, записями слушателей, — короче говоря, за всем тем муравейником словесных следов, которые человек оставляет после смерти и которые обретают голос в бесконечном пересечении множества языков. Во всяком случае, имя «Малларме» не связывается в равной степени с английскими сюжетами, переводами из Эдгара По, с собственно поэзией и с ответами на вопросы анкеты; подобным же образом нельзя установить равноценные связи между именем «Ницше» и юношеской автобиографией Ницше, ученической диссертацией, филологическими статьями, «Заратустрой», «Ессе homo», письмами, последними почтовыми карточками, подписанными «Дионис» или «Кайзер Ницше», бесконечными записными книжками, где перемешались записи о стирке белья в прачечной и наброски афоризмов. Действительно, если мы так непринужденно говорим о произведении «автора», то потому лишь, что теперь оно будет определяться особой функцией выражения. Мы допускаем, что должен существовать такой уровень (глубокий настолько, насколько это необходимо), на котором произведение раскрывается во всем множестве своих составляющих, будь то используемая лексика, опыт, воображение, бессознательное автора или исторические условия, в которых он существует. Но тотчас становится очевидным, что такого рода единства отнюдь не являются непосредственными данными, — они установлены операцией, которую можно было бы назвать интерпретативной (поскольку она дешифрует в тексте то, что последний скрывает и манифестирует одновременно). Становится очевидным и то, что операции, которые определяют опус в его единстве и, следовательно, произведение в целом, будут совершенно различными для автора, например, «Театра и его двойника» и автора «Логико-философского трактата», поскольку, когда речь заходит о произведении, в каждом конкретном случае мы будем сталкиваться с различными смыслами. Произведение не может быть исследовано ни как непосредственная, ни как определенная, ни как однородная общность.
Наконец, последнее предостережение: прежде чем разорвать замкнутый круг неосознанных непрерывностей, которые задним числом организуют дискурс, составляющий предмет нашего анализа, необходимо отказаться от двух представлений, неразрывно связанных и, вместе с тем, противопоставленных друг другу. Одно из них не позволяет определить вторжение подлинных событий в порядок дискурса; оно требует, чтобы за всеми внешними началами всегда существовал тайный источник — настолько тайный и изначальный, что нам никогда не удалось бы осознать его в нем самом. Поэтому мы вынуждены двигаться через наивную хронологию к бесконечно удаленной, незафиксированной в истории точке, которая ознаменована своей собственной пустотой, так что восходящие к ней начала не могут быть ничем иным, кроме как повторением и затемнением (или, строго говоря, одновременно и тем, и другим). Это представление увязано с другим, согласно которому весь представленный дискурс скрыто располагается в том, что уже сказано. Это «уже-сказанное» — не просто уже произнесенная фраза или уже написанный текст, но, напротив, нечто «никогда-не-сказанное», — бесплотный дискурс, невнятный, как дуновение, письмо, заполненное пустотой своих следов. Предположим, что все формируемое в дискурсе обнаруживается как уже артикулированное в той полутишине, что ему предшествует и упорно продолжает разворачиваться за ним, в той полутишине, которую он раскрывает и заставляет умолкнуть. В конечном счете, манифестируемый дискурс настойчиво представляет то, о чем он не говорит, — именно такое не-говорение и будет той пустотой, которая изнутри подтачивает все, что говорится. Первое, на что направлен исторический анализ дискурса, — это поиск и воспроизведение того истока, который располагается вне каких-либо исторических детерминаций; вторая его цель — интерпретация и выслушивание «уже-сказанного» и, в то же время, «не-сказанного». Необходимо отказаться от всех этих представлений, обеспечивающих бесконечную непрерывность дискурса, его скрытое присутствие в самом себе, в игре постоянно исчезающего присутствия и возвращающегося отсутствия. Мы должны быть готовы в любой момент принять дискурс со всеми вторгнувшимися в его пределы событиями, во всей присущей ему строгости и в том временном рассеивании, которое позволяет ему быть повторяемым, узнаваемым, забываемым, изменяемым до самых мельчайших черт, — или скрываться в пыли книг от любопытного взгляда. Не стоит отсылать дискурс к присутствию отдаленного первоначала; необходимо понять, как взаимодействуют его инстанции.
Эти предварительные формы непрерывности, эти синтетические обобощения, которые не поддаются проблематизации и потому мы не посягаем на их права, — все это останется в стороне. Разумеется, мы вовсе не должны напрочь отказываться от них, но необходимо нарушить то спокойствие, с которым мы относимся к ним, необходимо показать, что они не следуют из самих себя и являются лишь по[ро]ждением конструкции, правила которой нужно знать и справедливость которых надлежит контролировать. Следует определить, какие условия и подходы правомерны и указать на те из них, которые более недопустимы. Может оказаться, например, что понятие «влияния» или «эволюции» вызовут такую критику, которая на долгое время сделает невозможным их употребление. Но так ли уж нам необходимы и такие понятия, как «книга», «произведение», или даже такие общности, как «наука» или «литература»? Надо ли оставаться в плену иллюзий, неплодотворных и безосновных? Не лучше ли перестать пользоваться ими в качестве временных опор и не пытаться более найти им окончательное определение? Наша задача состоит в том, чтобы лишить их ореола квазичевидности, высвободить проблемы, которые они ставят, уяснить, что они не являются той безмятежной гладью, опираясь на которую, мы могли бы ставить вопросы, связанные с их структурой устойчивостью, систематикой и трансформациями, хотя уже все вышеперечисленное само по себе является средоточием всех проблем. Что они из себя представляют? Каким образом можно их определять или разграничивать? Каким различным типам знаков они могут подчиняться? Артикуляцией какого типа они порождаются? Каким подмножества включают в себя' Какие характерные феномены они могут выявлять в поле дискурса? Наконец, необходимо понять, во-первых, являются ли они вообще тем, чем кажутся на первый взгляд, и, во-вторых, какой требуют для себя теории, и чего эта теория не сможет добиться, пока в своей первозданной чистоте не раскроется то поле фактов дискурса, на котором они возникают.
Но я и не собираюсь делать ничего другого: разумеется, я использую все данные, чтобы установить первоначальные общности (такие как психология, медицина или политическая экономия), но не стану располагать источник наблюдения внутри этих сомнительных единств, дабы исследовать их внутренние конфигурации и скрытые противоречия. Я могу прибегнуть к ним только как к временной точке опоры, чтобы выяснить, какие совокупности они образуют, на каком основании они занимают ту область, которая специфицирует их в пространстве, и тот вид непрерывности, который специфицирует их во времени; по каким законам они формируются, на основании каких дискурсивных событий выделяются, и, наконец, не являются ли они во всей своей благоприобретенной индивидуальности и квазиинституциональности элементами более устойчивых единиц. Я воспользуюсь теми совокупностями, которые мне предлагает история, только для того, чтобы сразу же поставить их под сомнение, чтобы разложить их и понять, возможно ли эти общности восстановить заново, но уже на законных основаниях, возможно ли расположить их в пространстве более общем, которое, рассеяв их внешнюю очевидность, позволит нам выработать теорию.
Достаточно только оставить в стороне эти непосредственные формы прерывности, и перед нами откроются беспредельные области, которые мы в состоянии будем определить, ибо они обусловлены совокупностями всех актуализированных высказываний (написанных или произнесенных) в событийном рассеивании и в. настойчивости, соответствующей каждому из них. Прежде, чем со всей определенностью обратиться к наукам, романам, политическим дискурсам, к конкретному произведению того или иного автора или даже к книге, нам необходим материал, который мы могли бы трактовать в его первичной нейтральности. Этим материалом и будет популяция событий в пространстве дискурса. Таким образом и появляется замысел чистого описания дискурсивных событий как горизонта для установления единств, которые себя в нем формируют. Это описание легко отличить от анализа языка. Естественно, что установить лингвистическую систему мы можем только в том случае, если будем использовать весь корпус высказываний или собрание всех фактов дискурса; но речь идет о том, чтобы определить совокупности, имеющие в данном случае ценность образчика, установить те правила, которые позволяют конструировать подобные высказывания, даже если их язык давно исчез и на нем больше никто не говорит, так что мы можем его восстановить, имея в своем распоряжении только разрозненные фрагменты. Язык всегда конституирует систему для всех возможных высказываний — конечную совокупность правил, которая подчиняет бесконечную множественность представлений. Поле дискурсивных событий, напротив, является конечным набором совокупностей, ограниченным уже сформулированными лингвистическими последовательностями: они бесчислены и, в силу своей множественности, легко могут завести в тупик любую попытку записи, запоминания или чтения. Тем не менее, единства, которые они конструируют, не бесконечны. Вот вопрос, который ставит перед нами анализ языка, касаясь каких бы то ни было фактов дискурса: в соответствии с какими правилами может быть сконструировано данное высказывание и, следовательно, в соответствии с какими правилами могут состояться подобные высказывания? Описание дискурсивных событий ставит перед нами иной вопрос: почему такие высказывания возникают именно здесь, а не где-либо еще?
Итак, очевидно, что описание дискурса противоположно истории мысли. К тому же, мы можем реконструировать историю мысли, только исходя из определенных совокупностей дискурса. Но эти совокупности трактуются таким образом, что мы пытаемся разглядеть за самими высказываниями либо интенцию говорящего субъекта, активность его сознания (т. е. то, что он хотел сказать), либо вторжения бессознательного, происходящие помимо воли говорящего в его речи или в почти неразличимых зияниях между словами; во всяком случае, речь идет о том, чтобы заново восстановить другой дискурс, отыскать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восстановить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры между строчками и порой раздвигает их. Анализ мысли всегда аллегориячен по отношению к тому дискурсу, который использует. Его главный вопрос неминуемо сводится к одному: что говорится в том, что сказано? Анализ дискурсивного поля ориентирован иначе: как увидеть высказывание в узости и уникальности его употребления, как определить условия его существования, более или менее точно обозначить его границы, установить связи с другими высказываниями, которые могли быть с ним связаны, — как показать механизм исключения других форм выражения. Мы вовсе не пытаемся найти по ту сторону явно данного не внятную болтовню другого дискурса; мы должны показать, отчего он не может быть ничем иным, кроме как тем, что он есть, в чем состоит его исключительность, как ему удается занять среди других и по отношению к другим то место, которое до него никем не могло быть занято. Основной вопрос такого анализа можно сформулировать так: в чем состоит тот особый вид существования, которое раскрывается в сказанном и нигде более?
Необходимо задаться вопросом, какую службу сослужит нам это отстранение всех допущенных единств, если в целом возникает необходимость заново обнаружить именно те единства, относительно которых мы делали вид, будто не собираемся их исследовать? Действительно, систематическое стирание всех данных единств позволяет поначалу восстановить в высказывании единичность порождающего события и показать, что прерывность — не только великий катаклизм, раскалывающий весь исторический ландшафт, но и просто факт высказывания, который мы извлекли из разломов истории. То, на что мы пытаемся обратить внимание — это надсечка, которую он конструирует, это ни к чему не сводимое — пусть и самое незначительное — становление. Банальное настолько, насколько это допустимо, незначительное в той мере, в какой мы себе это представляли, забытое после своего появления так быстро, как только это возможно, мало понятное и неверно понятое, — высказывание всегда является таким событием, которое ни язык, ни смысл не в состоянии полностью исчерпать. Это необычное событие: во-первых, потому, что оно связано с письмом или речевой артикуляцией и, в то же время, раскрывается в самом себе как остаточное существование в поле памяти или в материальности манускриптов, книг и вообще любой формы регистрации; во-вторых, потому, что оно остается единым, и, вместе с тем, открытым повторениям, трансформациям, реактивациям; наконец, потому, что определено не только провоцирующей его ситуацией и следствиями, но и (с учетом различных модальностей) теми высказываниями, которые ему предшествуют иди его сопровождают.
Однако, если мы и беремся, касаясь языка и мышления, изолировать инстанции событий высказывания, то вовсе не для того, чтобы поднять пыльную завесу фактов. Мы должны быть уверены в том, что не свяжем объект нашего исследования с синтетическими операциями чисто психологического толка — раскрытие намерений автора, уяснение формы его духа, определение степени строгости его мысли, описание тем, которые его преследуют, замыслов, проходящих красной нитью через его существование и придающих ему значение. Мы можем выйти к другим формам закономерности и другим типам связи. Например, к таким, как соотношения высказываний (даже если соотношения эти не осознаны самим автором или речь идет о высказываниях, которые принадлежат разным авторам, между собой никак несвязанным); к таким, как отношение между группами высказываний, установленных подобным образом (даже если эти группы относятся к разным — и даже не соседствующим — областям, обладают различным формальным уровнем и не имеют общего места установленного обмена); к таким, как отношения между высказываниями иди группами высказываний и событиями иного порядка (техника, экономика, социология, политика). Выявить во всей своей чистоте то пространство, где разворачиваются дискурсивные события, — это не значит установить его в непреодолимой изоляции; вместе с тем это и не попытка замкнуть его на самом себе, а напротив, стремление освободиться, что позволит описать в нем и вне его все многообразие отношений.
Третье преимущество такого описания фактов дискурса: освобождая их от всех групп, которые объединяют любые естественные, непосредственные и универсальные общности, мы получаем возможность описать другие единства (правда, на сей раз в совокупности принятых решений). Если только мы четко определим условия их функционирования, то тогда можно будет на законных основаниях, исходя из корректно описанных связей, конституировать такие дискурсивные совокупности, которые, будучи несокрытыми, вместе с тем, оставались бы невидимыми. Очевидно, что эти связи никогда бы не были сформулированы из них самих в рассматриваемые высказывания (в отличие, например, от тех явных связей, которые заданы и проговорены самим дискурсом, когда он принимает форму романа, или обращается в последовательность математических теорий). Однако они вовсе не образуют никакого скрытого дискурса, который бы изнутри оживлял дискурс манифестируемый; все это не интерпретация фактов дискурса, которая могла бы пролить на них свет, но анализ их существования, преемственности, функционирования, взаимной детерминации, независимых или взаимокоррелирующих изменений.
Но, разумеется, без определенных ориентиров нам не удалось бы описать все связи, которые можно выявить подобным образом. Необходимо с самого начала договориться о временных делениях, наметить тот исходный регион, который в случае необходимости будет отвергнут или реорганизован нашим анализом. Как можно описать этот регион? С одной стороны, необходимо эмпирически выбрать такую область, где связи могут быть весьма многочисленными, неустойчивыми, но относительно легко описанными, и установить, в каком другом регионе дискурсивные события представляются менее связанными друг с другом, какими отношениями (менее проясненными, нежели те, что мы обозначаем общими терминами науки) это определяется? Но, с другой стороны, шансы осознать в высказывании не особенности формальной структуры и не законы конструирования, а характерные черты существования и правила появления, возрастают, если мы обращаемся к группам дискурса, формализованным в меньшей степени, так что высказывания здесь порождаются не только с помощью правил синтаксиса. Можно ли пребывать в уверенности, что нам удастся таких единиц, как произведение, и таких категорий, как влияние, если мы не изберем с самого начала области, достаточно обширные, и временные последовательности, достаточно свободные? Наконец, как убедиться в том, что мы не позволили себе задержаться во всех этих столь мало осмысленных общностях, соотнесенных с говорящим индивидуумом, с субъектом дискурса, с автором текста, — короче говоря, со всей этой массой антропологических концептов? Можно ли избавиться от всего этого, не исследуя совокупности тех высказываний, которыми эти концепты порождены — совокупности, которые мы избрали в качестве «объекта» для субъекта дискурса (их собственного субъекта) и которые пытались развернуть как поле знаний?
Так обнаруживается особое положение фактов, связанных с теми дискурсами, о которых можно сказать (очень схематично), что они определяют «науки о человеке». Но все это не более чем привелегия начального этапа нашего исследования. Нам необходимо запомнить две вещи: во-первых, анализ дискурсивных событий отнюдь не ограничивает их область; во-вторых, наше членение этой области не может считаться ни окончательным, ни единственно возможным; речь идет о выполнении той предварительной работы, которая поможет нам выявить отношения, способные упразднить изначально установленные границы.
2. ФОРМАЦИЯ ДИСКУРСА
Теперь я готов приняться за описание отношений между высказываниями. Моя цель — не допустить в качестве объекта исследования ни одно из тех дискурсивных единств, которые обычно находятся в моем распоряжении. Вместе с тем, я не намерен пренебрегать всевозможными формами прерывности, выемки, порога иди предела. Я решился описывать высказывания в поле дискурса и все те отношения, которые они порождают. Очевидно, на моем пути возникают две группы проблем: первая связана с неверным пониманием того, что я имею в виду, когда говорю о высказывании, событии или дискурсе (к этому мы вернемся несколько после); вторая же возникает, когда мы касаемся отношений между высказываниями (в том числе теми, которые мы определили как временные и наиболее очевидные).
Так, существуют легко датируемые высказывания, которые непосредственно связаны с появлением политической экономии, биологии, или даже психопатологии; наряду с ними существуют высказывания, возраст которых точно неопределим, но насчитывает многие тысячелетия, и связаны они с грамматикой и медициной. Но что же такое эти общности? Можем ли мы сказать, что обследование душевнобольных проводилось, например, Виллиссом или клиникой Шарко в рамках одного и того же дискурса? Что новации Пэтти находятся в том же континуум, что и эконометрия Ньюмена? Что анализ суждений, который проводили грамматисты Пор-Роядя находится в той же сфере, что и установление чередования гласных в индоевропейских языках? Что такое медицина? грамматика? политическая экономия? Что это, как не ретроспективно установленные общности, благодаря которым наука создает иллюзию своего прошлого? Быть может это всего лишь формы, раз и навсегда определенные, но, вместе с тем, суверенные и развивающиеся во времени? Какого рода отношения возможны между высказываниями, составляющими столь привычным и настойчивым образом все эти загадочные образования?
Вот первая гипотеза — на наш взгляд, весьма правдоподобная и легко поддающаяся проверке: различные по форме и рассеянные во времени совокупности образуют те высказывания, которые соотносятся с одним и тем же объектом. Так, высказывания, применяемые в психологии, связаны со всеми теми объектами, которые по-разному вырисовываются в индивидуальном или социальном опыте и в целом обозначаются понятием «безумие» или «душевная болезнь». Но мы довольно быстро столкнемся с тем, что единство такого объекта как «безумие» не определяет всей совокупности высказываний и не позволяет установить между ними одновременно описуемые и устойчивые отношения. Это происходит по двум причинам. Разумеется, было бы ошибкой вопрошать безумие о скрытом содержании его безгласной и замыкающейся на самое себе истины и о смысле его бытия;
психические заболевания были сведены в совокупность из всего того; что было сказано о них в группе высказываний, которые эти заболевания именовали, разделяли, описывали, объясняли, из всего того, что они сообщали о собственном развитии, из всего того, что ими было определено как различия, корреляции, — и, возможно, эти высказывания, артикулируя, подготавливали слово того дискурса, который рассматривали в дальнейшем как свой собственный. Однако существует нечто более важное: эта совокупность высказываний далека от того, чтобы быть соотнесенной с одним и тем же сформированным раз и навсегда объектом и до бесконечности сохранять его в качестве своего идеального неисчерпаемого горизонта. Объект, который в медицинских высказываниях XVII и XVIII вв. был задан как их коррелят, оказывается не тождественным тому объекту, который скрывается за юридическими положениями или даже за мерами полицейского характера; подобным же образом все объекты психопатологического дискурса претерпели изменения от Пинеля иди Эскуриоля до Блеле, — во всех этих случаях речь идет о совершенно различных болезнях и совершенно различных больных.
Может быть, во всем этом многообразии объектов, которые мы не сочли возможным допустить в наше исследование как вероятную общность, способную конституировать совокупность высказываний, нам необходимо обозначить собственно «дискурс безумия». Может быть необходимо было удерживаться в границах той группы высказываний, которая имеет однозначный объект: дискурс меланхолии или невроза. Но тогда сразу бросилось бы в глаза то, что каждый из этих дискурсов устанавливает, в свою очередь, собственный объект и разрабатывает его вплоть до окончательной трансформации. Таким образом, задача состоит в том, чтобы уяснить, не образованы ли единства дискурса тем пространством, где умножаются и беспрестанно изменяются различные объекты; не будут ли в таком случае особые отношения, позволяющие индивидуализировать совокупности высказываний, касающихся безумия, условием и одномоментного, и последовательного появления различных, уже поименованных, описанных и проанализированных субъектов, о которых вынесены определенные суждения. Единство дискурсов безумия не будет основываться на существовании такого объекта как «безумие» или конституировать единый горизонт объективности: все это было бы игрой правил, которые открывают в течение данного периода возможность появления объектов, — разделенных по мере их дискриминации и подавленности, дифференцированных в каждодневных практиках, в юриспруденции, в религиозной казуистике, в медицинской диагностике, представленных в патологических описаниях и связаных с медицинскими кодами ли рецептами, с лечением, врачебным уходом и заботами. Но, помимо всего прочего, дискурс безумия будет игрой правил, которые определяют трансформации различных объектов, их нетождественность, пронизывающую время, их разрывы и внутреннюю прерывность, опровергающую неизменность. И вот пародокс: определение совокупностей высказывания в их индивидуальном содержании состоит в описании рассеивания объектов, в схватывании все разделяющих пробелов, в установлении упорядочивающей дистанции, — во всем том, что можно было бы назвать законом перераспределения.
Второй путь определения группы связей между высказываниями пролегает через выяснение их формы и типов сцепления. Я думаю, что такие науки, как медицина, начиная с XIX в. скорее характеризуются стилем, нежели объектами, — стилем как неизменным характером актов высказывания. С самого начала медицина была в большей мере конструирована не совокупностью традиций, наблюдений или единообразными предписаниями, а всем корпусом знаний, которыми обусловлены и единый взгляд на вещи, и деления в общем перцептивном поле, — один и тот же анализ факта патологии, основывающийся на видимом пространстве тела, единая система транскрипции того, что мы воспринимаем в сказанном (вокабулярий, игра метафор). Мне кажется, что медицина возникала как ряд описательных высказываний. Теперь же необходимо проститься с этой исходной гипотезой и попытаться понять, что клинический дискурс был совокупностью гипотез о жизни и смерти, об этических предпочтениях и терапевтических предписаниях, сводом цеховых уложений и пропедевтитических моделей, с одной стороны, и совокупностью описаний — с другой. Поэтому все вышеперечисленное не может быть абстрагировано друг от друга, и описательные высказывания были здесь лишь одним из видов формулировок, представленных в медицинском дискурсе. Необходимо осознать, что подобные описания непрестанно смещались в ту или иную сторону, — потому ли, что от Биша вплоть до судебной психиатрии оказались смещенными последовательности диагностики, потому ли, что от визуального осмотра, аскультации и пальпации, совершился переход к микроскопу и биотестам (что, в свою очередь, привело к полному изменению систем информации), потому ли, наконец, что от простой клинико-анатомической соотнесенности до чистого анализа психопатологических процессов лексиконы знаков и их расшифровка были полностью преобразованы, — а может быть и потому, что сама медицина перестала быть областью регистрации и интерпретации данных, поскольку рядом с ней и вне ее собиралась вся документальная масса, все факторы, определяющие взаимоотношения, все техники анализа, которые изменили ее место наблюдающего субъекта по отношению к больному,
Все эти изменения, которые, может быть, и привели нас сегодня к порогу новой медицины, происходили в медицинском дискурсе в течение всего XIX в. Если бы мы хотели определить этот дискурс кодифицированной и нормированной системы высказываний, то, в первую очередь, нам бы потребовалось получить сведения о том, что эта медицина, которая для своего обоснования ничем не смогла воспользоваться, кроме некоторых формулировок Биша и Лаэнне, распалась сразу же по своем появлении. Если и существует единство, то принцип его организации состоит не в какой-то одной определенной форме высказывания. Но не будет ли данное единство не только совокупностью правил, открывающих возможность (одновременно или последовательно) для чистого перцептивного описания, но и наблюдением, использующим различные инструменты, записи лабораторных опытов, статистические, демографические и эпидемологические данные, организационные требования и терапевтические предписания? Существование этих рассеянных и однородных высказываний, система, которая регулирует их перераспределение, точки опоры, которые они находят друг в друге, способы, которыми они имплицируются и исключаются, изменения, которым они подвержены, и так же их взаимодействия, расположения и замещения, — все это неизбежно подлежит определению и индивидуализации.
А вот иное направление поисков, иная гипотеза: не можем ли мы установить в определенной системе постоянных и устойчивых концептов такие группы высказывания, которые бы оказывались вовлеченными в эту систему? Например, не основывается ли анализ языка и грамматики в классическую эпоху (вплоть до конца XVIII в.) на определенном количестве концептов, содержание и использование которых было определено раз и навсегда: концепт суждения определяется как общая и нормативная форма всей фразы, концепты субъекта и атрибута объединяются в более общей категории имени, концепт глагола применяется в качестве эквивалента концепта логической связки, концепт слова трактуется как знак представления. Таким образом мы можем установить концептуальную архитектонику классической грамматики. Впрочем, здесь еще, вероятно, слишком рано говорить о пределах, ведь едва ли возможно описать подобными средствами исследования, проводившиеся учеными Пор-Рояля: довольно скоро им пришлось бы столкнуться с появлением новых концептов, некоторые из которых, возможно, появились из тех, что уже существовали, другие окажутся родственными по отношению к ним, а третьи совершенно несовместимыми. Понятие прямого и инверсионного синтаксического порядка, понятие дополнения (введенное в XVIII в. Бовэ), несомненно, могут быть интегрированы в концептуальную систему Пор-Рояля. Но идея о том, что звуки обладают самостоятельным экспрессивным значением, или концепция примитивного знания, содержащегося в словах, которые туманно передают его, или понятие регулярности в изменениях согласных, или концепт глагола как простого имени — все это оказывается решительно несовместимым с теми совокупностями концептов, которые могут быть использованы Лансело или Дюкло. Возможно ли в таком случае допустить, что грамматика только внешне представляет собой устойчивую фигуру, и все эти совокупности высказываний, анализы описания, следствия, заключения, которые в таком виде существовали уже не одно столетие, суть не более, чем ложные общности? Но, может быть, мы сумеем раскрыть дискурсивные единицы, если будем продолжать свои поиски вне устойчивых концептов, в области их одновременного и последовательного появления, отстранения и той дистанции, которая, разъединяя, делает их несовместимыми. Тогда больше не будет необходимости в составлении систем наиболее общих и абстрактных концептов дабы отдать себе отчет в природе всех остальных и внести их в одно и то же мыслительное пространство. Теперь перед нами стоит задача осмыслить условия их появления и рассеивания.
И, наконец, четвертый возможный способ сгруппировать высказывания, описать их сцепления и выявить те единые формы, в которых они полагаются, исходя на сей раз из тождественности тем. В таких открытых для любой полемики науках как экономика или биология, таких восприимчивых к философским и нравственным веяниям, пытающихся поставить на службу даже политику — в таких науках, не согрешив против истины, можно допустить существование тематики, способной увязывать и оживлять совокупности дискурса,'точно организм, имеющий собственные потребности, внутренние силы и способность сохранения. Может ли, например, называться общностью все то, что от Бюффона до Дарвина составляло тему эволюции, — тему, скорее философскую, нежели научную, сродни более космологии, нежели биологии, уводящую в направлении, противоположное тому, которое означивается, раскрывается и объясняется полученными результатами, тему, которая всегда предполагает больше, нежели мы знаем, и всегда понуждает исходя из этого принципиального выбора переводить в дискурсивное знание то, что первоначально существовало как гипотеза или требование? Можем ли мы подобным образом говорить о теме физиократов? Постулируемая до всякого анализа и за любыми провозглашениями, их идея содержит в себе представление о естественном характере тройной земельной ренты и, следовательно, допускает примат экономики и политики в отношении земельной собственности. Эта тема исключает любой анализ индустриального производства и, напротив, тяготеет к описаниям денежного обращения внутри государства, исследованию распределения денежной массы между различными социальными категориями и изучению путей, по которым деньги возвращаться в сферу производства. В конечном счете, она привела Рикардо к исследованию случаев, для которых нехарактерна тройная рента, к определению условий, которые способствуют ее формированию и, следовательно, к разоблачению темы физиократов.
Но подобная попытка должна привести нас к двум противоположным и дополняющим друг друга утверждениям. В первом случае единая тематика группируется в соответствии с двойными концептуальными взаимодействиями, двумя типами анализа, двумя совершенно различными полями объектов: эволюционистская тематика, идея эволюции в ее наиболее общей формулировке, возможно, и «одинакова» у Бенуа де Мееле, Борде или Дидро и у Дарвина, — но в действительности то, что делает ее возможной, придает ей цельность в каждом конкретном случае, принадлежит к совершенно различным рядам. В XVIII в. эта идея определяется родственными видами, которые и формируют определенный континуум, заданный с самого начала (и только лишь природные катастрофы могли прервать его) или постепенно конституированной с течением времени. В XIX в. тема эволюции уже в меньшей степени связана с выработкой таблиц, включающих в себя различные виды, нежели с описанием переменных групп и анализом модальностей взаимодействий между организмами, все элементы которых схожи с друг с другом, и средой, реальными условиями существования. Вот одна тема, которая основывается, однако, на двух типах дискурса. В случае же с психиатрией, напротив, выбор Кесие основывается в точности на той же системе концептов, что и совершенно противоположные положения тех, кого можем называть утилитаристами. В эту эпоху анализ накоплений основывался на взаимодействии относительно ограниченных концептов, которые могли быть допущены всеми без исключения (мы давали одно определение денег, одно объяснение стоимости, одним и тем же образом устанавливали оплату труда). Итак, с этой концептуальной игрой связаны два способа объединить формацию стоимости, которую мы анализируем исходя либо из обмена, либо из заработной платы. Эти две возможности, содержащиеся в экономической теории и в правилах ее концептуальных взаимодействий, открывают место для двух различных типов предпочтений.
Ошибкой было бы искать в существовании этих двух тем принципы индивидуализации дискурса. Не лучше ли попытаться найти их в рассеивании точек выбора, которые он высвобождает? Не будут ли различные возможности, которые он открывает, возвращать к жизни темы уже сущие, не будет ли он порождать противоположные стратегии, оставлять место неосознанным интересам, допускать вместе с взаимодействием определенных концептов — взаимодействие различных частей? Чем заниматься поиском постоянных тем, образов и мнений, проходящих сквозь все времена, или описывать диалектику их конфликтов дабы индивидуализировать совокупности определенных высказываний, — не лучше ли попытаться установить рассеивание точек выбора и определить, пренебрегая любыми мнениями, тематические предпочтения поля стратегических возможностей.
Итак, перед нами четыре попытки, четыре неудачи — и четыре сменяющих друг друга гипотезы. Пришло время их испытать. В отношении этих больших, привычных для нашего уха групп высказываний — медицина, экономика, грамматика — я поставлю вопрос:
на чем основаны эти общности? На полной, очерченной содержательно, географически разделенной области объектов? — Кажется, что речь идет о лакунарных сцеплениях и рядах, о различных взаимодействиях, отстраненностях, замещениях и трансформациях. Может быть, на определенном и нормативном типе актов высказывания? — Но мы сталкиваемся с формулировками уровней столь отличных, функции которых столь гетерогенны, что трудно допустить, будто они в состоянии сводиться в единую фигуру и симулировать на протяжении длительного времени нечто в роде великого непрерывного текста. На алфавите конкретных понятий? — Но здесь мы сталкиваемся с концептами, различающимися структурой и правилами применения, которые игнорируют и исключают друг друга и не могут входить в логически обоснованные общности. На тематическом постоянстве? — Но здесь перед нами скорее разнообразные стратегические возможности позволяющие активизировать несовместимые темы или внести одну и ту же тему в совершенно различные совокупности. Отсюда и возникает идея либо описывать рассеивания сами по себе, либо искать среди этих элементов такие, что не организуются ни в виде постоянно выводимой системы, ни в виде книги, которая пишется постепенно с течением времени, ни в виде произведения коллективного субъекта. Мы не в состоянии установить их регулярность, порядок их последовательного появления, соответствия в их одновременности, установленные позиции в общем пространстве, взаимное функционирование, обусловленные и иерархичные трансформации. Такого рода анализ не задается целью изолировать островки связи, чтобы описать их внутреннюю структуру; он не пытается прозреть и выставить на всеобщее обозрение скрытые конфликты, — напротив, его более всего интересуют формы распределения. И еще: вместо того, чтобы восстанавливать цепь заключений (как это часто случается с историей науки или философии), вместо того, чтобы устанавливать таблицу различий (как это делают лингивисты) наш анализ описывает систему рассеиваний.
Если между определенным количеством высказываний мы можем описать подобную систему рассеиваний, то между субъектами, типами высказываний, концептами, тематическим выбором, мы можем выделить закономерности (порядок, соотношения, позиции, функционирование и трансформации). Можно сказать, что мы имеем дело с дискурсивнными формациями, чтобы не прибегать к таким словам, как наука, идеология, теория или область объективности (впрочем, они неадекватно указывают на эти рассеивания). Условия, которыми обусловливаются элементы подобного перераспределения (объекты, модальность высказываний, концепты и тематические выборы), назовем правилами формации — правилами применения (но вместе с тем и существования, удержания, изменения и исчезновения) в перераспределении дискурсивных данных.
Таково то поле, которое теперь мы собираемся пересечь, таковы понятия, которые мы собираемся подвергнуть испытанию, и анализы, которые мы собираемся предпринять. Я отдаю себе отчет в том, что риск моего предприятия достаточно велик. При первом приближении я бы установил некоторые группы, достаточно слабые, но вместе с тем достаточно привычные: ничто не указывает мне ни на то, что я вновь вернусь к ним в конце нашего исследования, ни на то, что мне удастся раскрыть принципы их разграничения и индивидуализации; я не уверен в том, что дискурсивные формации, которые я устанавливаю, определят медицину в ее глобальном единстве, экономику и грамматику в кривой их исторического предназначения; я не уверен, что они вновь не приведут меня у новым непредвиденным членениям. Также ничто не свидетельствует о том, что подобные описания могли бы нас привести к объяснению научности (или ненаучности) этих дискурсивных совокупностей, которые изначально были избраны мной в качестве главной цели и с самого начала предстают как бы некоей презумпцией научной рациональности; ничто не убеждает меня в том, что мой анализ не расположится на совершенно ином уровне, составляя описание, несводимое к эпистомологии или истории науки. Возможно, что в конце нашего предприятия мы вновь вернемся к тем общностям, которые во имя методологической строгости были нами отвергнуты в начале: нам пришлось расчленить произведение, пренебречь влиянием и традициями, забросить вопрос об источнике, пришлось позволить стереться властному присутствию автора и таким образом лишиться всего того, что называлось историей идей. В действительности же опасность состоит в другом: вместо того, чтобы дать основание уже существующему, вернуться к уже намеченным отчетливым чертам, удовольствоваться этим возвращением и окончательным признанием, наконец, счастливо замкнуть круг, возвещающий нам, после стольких уловок и стольких трудов, что все спасено, — вместо всего этого нам, возможно, придется выйти за так хорошо знакомую нам область, бежать тех залогов, к которым мы привыкли, ради того чтобы оказаться на еще не размежеванной территории, где ничего нельзя предвидеть наверняка. Все то, что вплоть до последнего времени охраняло историка и сопровождало его до самых сумерек (судьба рациональности и телеология наук, непрерывная долгая работа мысли, преодолевающая ее, побуждение и развитие сознания, постоянно осознающего себя в себе самом, незавершенное, но непрерывное движение всеобщности, возвращение к всегда ожидающим нас истокам и, наконец, историко-трансцедентальная тематика) не рискует ли это все исчезнуть, освобождая для анализа белое, безразличное, ничем не заполненное и ничего обещающее пространство.
3. ФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Пришло время упорядочить открытые направления и определить, можем ли мы внести какое бы то ни было содержание в эти едва намеченные понятия, которые мы называем «правилами формации». Обратимся, в первую очередь, к «формациям объектов». Чтобы облегчить наше исследования обратимся к примерам дискурса психопатологии начиная с XIX в. Совершим некоторые хронологические выемки, которые при первом приближении кажутся нам обоснованными. Многое указывает на на это. Остановимся только на установлении в начале века новых правил, регулирующих поступление и выписку больного из психиатрической лечебницы, а также на возможности возведения некоторых важнейших понятий к Эскуриолу, Эйнро или Пинелю (паранойю тогда мы можем свести к мономании, интеллектуальный коэффициент к первым понятиям дебилизма, паралич к хроническому энцефалиту, некоторые специфические неврозы к тихому помешательству); если мы и далее захотим следовать за этими понятиями, то собьемся с пути, путеводные нити спутаются, и проекции Дю Лорена или даже Ван Свитена на патологию Крепёдини или даже Бледе окажутся не более, чем простыми совпадениями. Итак, объекты, с которыми имеет дело, начиная с этого разрыва, психопатология, оказываются очень многочисленными, порой совершенно новыми и достаточно неустойчивыми, но, вместе с тем, и изменяющимися, частью обреченными на быстрое исчезновение. Рядом с моторной ажитацией, галлюцинациями и дискурсами различных отклонений (которые нами уже были рассмотрены как манифестация безумия, хотя они и были разграничены, описаны и проанализированы другим способом) появляется нечто такое, что открывает доселе еще не использованные регистры: легкие нарушения поведения и сексуальные расстройства, феномены внушения, гипноз, нарушения центральной нервной системы, интеллектуальную и моторную адаптацию и преступность. В каждом из этих регистров многообразие объектов названо, описано, проанализировано, и затем усовершенствовано; введены унифицированные определения после чего все это было подвергнуто сомнению и забыто. Можем ли установить правила, которые бы руководили этими появлениями? Узнать, с какими невыводимыми системами эти объекты могут совмещаться или следуя Друг за другом, формировать персональное поле психопатологии (лакунарное или избыточное в зависимости от условий)? Каков же был режим их существования в качестве объектов дискурса?
а) Сперва необходимо установить поверхность их появления, чтобы иметь возможность показать, а в последствии описать и проанализировать, где и когда обнаруживаются эти индивидуальные отличия, которые в соответствии со степенью рациональности, концептуальными кодами и типами теории вскоре получат статус болезни, психического расстройств, отклонения, сумасшествия, невроза, психоза, дегенерации. Эта поверхность появления различна для различных обществ, эпох и форм дискурса. Оставаясь в рамках психопатологии XIX в., совершенно не исключено, что они будут обусловливаться семьей, близкой социальной группой, трудовым коллективом или религиозной общиной (все вышеперечисленные образования являются нормативными, восприимчивыми к отклонениям и находятся на грани терпимости, на том пороге, за которым находится отлучение; которые являются миром означения и отталкивания безумия, которые если и не перекладывают на медицину ответственность за выздоровление и уход, то, по крайней мере, требуют необходимых объяснений); вместе с тем, будучи организованными особым образом, эти поверхности появления не являются новыми для XIX в. Напротив, в эту эпоху появляются новые поверхности: искусство со своей собственной нормативностью, сексуальность со своими отклонениями в отношении привычных запретов, которые раскрывают в первый раз объекты наблюдения, описания и анализа психиатрическому дискурсу, карательные санкции (в то время как в предшествующую эпоху безумие, заботливо отделенное от поведения, которое расценивалось как преступное, служило смягчающим обстоятельством, то теперь сама преступность со знаменитой «манией убийства» стала трактоваться как форме отклонения, которая более иди менее родственна безумию). Так, в поле первичных различий, в дистанции, прерывности и раскрывающихся порогах, психиатрический дискурс находит возможность очертить свою область, определить то, о чем он будет говорить, придать этому статус объекта и, вместе с тем, заставить его выявиться, сделать его именуемым и описуемым.
б) Далее необходимо описать инстанции разграничения: медицина (как установленный институт, как совокупность индивидуумов, составляющих вместе единое целое медицины, являющейся знанием и практикой, как признанная общественным мнением компетентность, как юстиция и администрирование) в XIX в. становится высшей инстанцией, которая в обществе разграничила, обозначила, поименовала и утвердила безумие в качестве объекта; но не одна медицина играла такую роль, — на нее претендовало и правосудие, и, в особенности, уголовная юриспруденция (со своими обстоятельствами, освобождающими от ответственности, презумцией невменяемости, смягчающими обстоятельствами, с использованием таких понятий, как «преступление, совершенное на почве ревности», «правонарушения, связанные с порядком наследования», «опасность для общества», религиозная власть (по мере установления последней, как инстанции, отделяющей мистику от патологии, духовное от телесного, сверхъестественное от естественного, где осуществляется движение мысли, более пригодное для познания индивида, нежели для построения казуистической классификации действий и обстоятельств), литературная и художественная практика (которая в течение XIX в. все менее и менее рассматривала произведение как объект вкуса, о котором должно быть вынесено суждение, и все более как язык, который необходимо интерпретировать и в котором необходимо раскрыть обращение авторского «Я»).
с) И, наконец, нам представляется необходимым проанализировать решетки спецификации: речь идет о системе, на основании которой разделяются, противопоставляются, объединяются, группируются, классифицируются, образуются друг из друга различные «безумия», являющиеся объектами психиатрического дискурса (эти решетки различий существовали еще в XIX в.: душа понимаемая как группа упорядоченных способностей, сходных друг с другом и более иди менее подающихся интерпретации; тело как объем стереоскопических органов, соединенных Друг с другом по схеме зависимости и коммуникации; жизнь и история индивидуумов как линеарная последовательность фаз, переплетение следов, вероятных реактиваций, циклических повторений; взаимодействия нейропсихотических соответствий как взаимопроецирующейся системы и как поле причинно-следственных связей).
Само по себе такое описание, однако, недостаточно. На то есть две причины. План выявления, который мы только что установили, инстанции разграничений или же формы спецификации не формируют полностью установленные и находящиеся во всеоружии объекты, с которыми дискурс психопатологии не смог сделать ничего, кроме как инвентаризовать, классифицировать, называть, выбирать и, в конце концов, покрыть решеткой слов и высказываний; это не те совокупности, — с их нормами, запретами, порогами восприимчивости, — которыми обусловливается безумие и которые вверяют «болезнь» психиатру для исследования и врачебного заключения; это и не юриспруденция, отдающая на рассмотрение медицины определенные правонарушения и, вместе с тем, усматривающая паранойю в обычном убийстве и невроз — в сексуальном оскорблении. Дискурс это нечто большее, нежели просто место, где должны располагаться и накладываться друг на друга — как слова на листе бумаги — объекты, которые могли бы быть установлены только впоследствии. Но такое перечисление представляется недостаточным и по другой причине. Оно последовательно устанавливает несколько планов различий, в которых могли бы появиться объекты дискурса. Но какие связи возникают между ними? Почему это перечисление именно таково? Какие определенные и закрытые совокупности мы можем описать таким образом? И как можно говорить о «системе установлений», если нам известна только лишь серия различных и однородных определений, не связанных между собой никакими установленными связями?
В действительности эти две группы вопросов отсылают к одной и той же общей точке. Чтобы ее уловить, необходимо вернуться к предыдущим примерам. В той области, с которой имеет дело психопатология в XIX в., мы наблюдаем появление (начиная с Эскуриола) объектов, попадающих в ряд правонарушений: убийство и самоубийство, преступления на почве ревности, сексуальный бред, определенные формы воровства, бродяжничество… Все это увязывается с наследственностью, неврогенной средой, агрессивным поведением или самобичеванием, извращенностью, преступными побуждениями, внушаемостью и проч. Мы были бы не совсем точны, если бы заявили, что перед нами последствия одного открытия: установления психиатрией в старые добрые времена сходства между преступным и патологическим поведением, введения в обиход классических признаков для некоторых видов преступлений. Такие факты открываются нам за реальными исследованиями: в конечном счете, проблема состоит в уяснении, что делает их возможными, и как подобные «открытия» могут сопровождаться другими, которые их утверждают, каким-то образом взаимодействуют с ними, изменяют их или, возможно, отменяют. И все же они не имеют отношения к появлению этих новых объектов, — достаточно только попытаться увязать их с нормами буржуазного общества XIX в., с разделением полиции и уголовного сыска, с принятием нового уголовного кодекса, с введением и использованием смягчающих обстоятельств, с ростом преступности. Без сомнения, все эти процессы действительно имели место, но они не могли в себе формировать объекты для дискурса психиатрии; пытаясь описать этот уровень, мы на сей раз остались по ту сторону наших поисков.
И если бы в определенную эпоху в нашем обществе преступление было проанализировано и патологизировано, если противоправное поведение могло бы открыть место для ряда объектов знания, то тогда в психиатрическом дискурсе была бы выработана совокупность определенных связей, — например, связи между планами спецификации уголовных категорий и ограниченных степеней ответственности, с одной стороны, и планом патологической спецификации, с другой (в данном случае возможности, способности, уровень развития или регрессии, способы реакции на среду, тип характеров — приобретенные, присущие или унаследованные особенности) или связи между инстанцией медицинского и юридического решений (связь сложная, по правде говоря, поскольку медицинские решения признают абсолютную инстанцию юридических для определения состава преступления, выяснения обстоятельств и вынесения приговора, которого оно заслуживает; медицина оставляет себе только генезис и оценку ответственности), или связь между фильтром, образованным судебными вопросами, уголовными делами, расследованием и вообще всем аппаратом судопроизводственной информации и медицинскими исследованиями, клиническими проверками, поисками предшественников и биографическими рассказами, а также связь между семейными, сексуальными и уголовными нормами поведения индивидуума и перечнем патологических симптомов тех болезней, на которые они указывают или связь между терапевтическими ограничениями в госпитальной среде (со ее особенностями, критериями выздоровления и способами разграничения нормального и патологического) и воспитательными ограничениями в тюрьмах (со их педагогикой, наказаниями, критериями хорошего поведения, исправления и освобождения). Эти связи при использовании психиатрического дискурса позволяют устанавливать любые совокупности раз-личных объектов.
Обобщим: психиатрический дискурс в XIX в. характеризуется не существованием какого-либо привелегированного объекта, а тем, как этот дискурс формирует свои объекты, которые при этом остаются рассеянными. Эти формации основываются на совокупности установленных отношений между инстанциями появления, разграничения и спецификаций. Можно сказать, что дискурсивное установление определяется (по крайней мере, в отношении своих объектов) в том случае, если мы можем установить подобные совокупности, если нам удается показать, как любой объект исследуемого дискурса обретает там свое место и законы своего появления, если нам удается доказать, что он способен порождать одновременно и последовательно объекты, которые взаимоисключаются, не претерпевая никаких изменений.
Отсюда некоторые замечания и следствия.
1. Условия, при которых появляется объект дискурса, исторические условия, при которых мы могли бы «говорить о чем-то», условия при которых разные люди могли бы говорить нечто различное независимо друг от друга, условия, при которых объект может вписываться в единую область со всеми другими объектами и при которых открывается возможность устанавливать между объектами отношения подобия, смежности, удаления, отличия, изменения — все эти условия, как мы видим, многочислены и тяжки. Это значит, что мы не можем говорить — все равно в какую эпоху — все, что нам заблагорассудится; нелегко сказать что-либо новое, — недостаточно открыть глаза, обратить внимание или постараться осознать, чтобы новые объекта во множестве поднялись из земли, озаренные новым светом. Эта сложность не является только отрицательной, ее не следует связывать только с препятствиями, которые могут лишь ослепить, смешать, воспрепятствовать открытию, замутнить чистоту очевидности или обнажить немое упорство самих вещей. Объект не дожидается в своем убежище порядка, который вернет ему свободу и позволит перевоплотиться в видимую и праздноболтающую объективность; он не предшествует самому себе, сдерживаемый препятствиями в первых границах света. Он существует в позитивных условиях сложного пучка связей.
2. Подобные отношения устанавливаются между институтами, экономическими и социальными процессами, формами поведения, технологиями, типами классификаций, способами определений; вместе с тем, эти связи не представлены в объекте; они не используются также и тогда, когда мы пытаемся его проанализировать, не очерчивают его ткани, его имманентной рациональности, — это идеальные выступы, которые появляются полностью или частями в истине объектного концепта, когда мы думаем о объекте. Они не определяют его внутренней конституции, а только то, что позволяет ему появляться из переплетений других объектов и распологаться относительно их, определять свое отличие, свою независимость по отношению к ним и, возможно, свою неоднородность, — се это полагает его в поле внешнего.
3. Впрочем, они не всегда совпадают с теми отношениями, которые формируют объект: отношения зависимости, которые мы можем установить на этом первичном уровне, не всегда включаются в установленные отношения, которые делают возможным объектами дискурса. Эти отношения отличаются, в первую очередь, от тех, что могут быть названы первичными и независимо от любого дискурса и любого объекта дискурса описаны между институтами, технологиями, социальными формами и проч. И, наконец, хорошо известно, что между буржуазной семьей, функционированием различных инстанций и юридическими категориями XIX в. существуют отношения, которые мы могли бы анализировать, исходя из них самих. Но сверх того необходимо различать связи второго порядка, которые могут быть сформулированы в самом дискурсе: то, что, например, психиатрия XIX в. могла сказать о связях между семьей и преступностью не воспроизводит, как известно, взаимодействие действительной зависимости, как не воспроизводит и то взаимодействие отношений, которое полагает в качестве возможных и поддерживает объекты психиатрического дискурса. Таким образом, открывается все анализируемое пространство возможных описаний: а именно система первичных, пли реальных отношений и система вторичных, или рефлексивных отношений, которые мы могли бы назвать собственно дискурсивными. Главная проблема состоит в том, чтобы выявить специфичность этой системы и ее взаимодействие с двумя другими.
4. Дискурсивные отношения, как мы видим, не являются внутренне присущими дискурсу, они не связывают между собой концепты и слова, не устанавливают между фразами и препозициями дедуктивные или риторические структуры. Вместе с тем, отношения, которые его ограничивают или навязывают ему определенные формы, или принуждают в некоторых случаях выражать определенные вещи, не являются и чем-то внешним по отношению к дискурсу. Все они в каком-то смысле располагаются в пределе дискурса, они предлагают ему объекты, о которых он мог бы говорить (этот образ дает возможность предположить, что объекты формируются независимо от дискурса), они определяют пучки связей, которым дискурс должен следовать, чтобы иметь возможность говорить о различных объектах, трактовать их имена, анализировать, классифицировать, объяснять и проч. Эти отношения характеризуют не язык, который использует дискурс, не обстоятельства, в которых он разворачивается, а самый дискурс, понятый как чистая практика.
Теперь мы можем завершить этот анализ и попытаться определить, в какой степени он удался и насколько модифицировал первоначальный проект.
Обращаясь к таким совокупным фигурам, которые настойчиво, но непоследовательно раскрывались перед нами (психопатология, грамматика, медицина), мы неустанно задаемся вопросами о том, какой же вид общности они могут конструировать; не суть ли все они только наша попытка реконструкции, основанная на единичных произведениях, последовательных теориях, на понятиях и темах, которые были отвергнуты либо сохранены традицией, или извлечены из забвения и выставлены на всеобщее обозрение? Не было ли это всего лишь рядом связанных вымыслов?
Мы искали общности дискурсов со стороны самих объектов, их перераспределения, взаимодействия их различий, их сближенности иди их удаленности друг от друга — короче говоря, со стороны всего того, что нам было дано в говорящем субъекте; наконец, мы пришли к установлению отношений, которые характеризуют дискурсивные практики сами по себе и, таким образом, раскрыли не конфигурацию или форму, а совокупности правил, которые оказываются имманентными практике и определяют ее в своей собственной специфичности. С другой стороны, мы использовали в качестве маяка такую общность, как психопатология: если бы мы хотели установить точную дату ее рождения и точную область, то без всякого сомнения, нам пришлось бы отыскать появление этого слова, определить, какими методами мы могли бы его исследовать и как отделить его от понятия неврологии, с одной стороны, и психологии, с другой. Нами введено в обиход единство совершенно иного типа, по всей видимости, связанное с другими датами, другой поверхностью и артикуляцией, но способное свидетельствовать о совокупности объектов, для которых понятие психопатологии — не более, чем просто мыслительная рубрика, вторичная и классификационная. И, наконец, психопатология разворачивается как дисциплина, постоянно стремящаяся к обновлению, отмеченная постоянными открытиями, критикой и исправлением ошибок, — система установлений, которая, как мы определили, остается стабильной. Но мы понимаем, что остаются неизменными не объекты и не области, которые они формируют, даже и не точки их появления или способ их определения, а установление отношений на поверхности, где они появляются, разграничиваются, становятся доступны анализу и спецификации.
Очевидно, что задача тех описаний, которые я собираюсь подкрепить теоретически, заключается не в том, чтобы интерпретировать дискурс, а в том, чтобы, используя его, постараться выработать историю референта. В предложенных примерах мы не пытались установить, кого считали безумным в ту или иную эпоху, в чем состояло, собственно говоря, безумие и были ли его симптомы идентичны общепринятым сегодня. Мы не спрашиваем, подвергалось ли преследованиям или игнорировалось безумие колдунов, был ли мистический и этический опыт надлежащим образом медикадизирован. Мы не пытаемся восстановить, чем было безумие в примитивном, основополагающем, глухом, едва намеченном опыте и чем оно стало впоследствии, организованное (переведенное, деформированное, травестированное и подавленное, быть может) уклончивой, часто повторяющейся игрой дискурсов. Без сомнения, такого рода история этого референта возможна. Мы не отвергаем усилий, направленных на очищение и освобождение текста от этих «преддискурсивных» опытов. Но в данном случае речь идет не о том, чтобы нейтрализовать дискурс, сделать его знаком другой вещи и, проникнув в его толщу, объединиться с тем, что в полной тишине пребывает вне его; напротив, наша цель — удержать его в присущей ему устойчивости и заставить проявиться во всей характерной для него сложности; одним словом, мы хотим, хорошо это или дурно, обойтись без всяких вещей, «де-презентацифицировать» их. Мы хотим удалить их богатство, тяжелую и непосредственную полноту, из которой обычно выводят примитивный закон дискурса, уклоняющегося в заблуждение, забвение, иллюзии, неведение, в неизменность веры и традиции и в желание, может быть бессознательное, ничего не видеть и ничего не говорить. Нам необходимо заменить сокровенные сокровища вещей дискурсом, регулярной формацией объектов, которые очерчиваются только в нем, необходимо определить эти объекты без каких-либо отсылок к сути вещей, увязав их, вместо этого, с совокупностью правил, которые позволят им формироваться в качестве объекта дискурса, чтобы таким образом констатируя условия их исторического появления, создать историю дискурсивных объектов, которая бы не погружала их в глубины общей первоначальной почвы, а использовала связь регулярностей, упорядочивающей их рассеивание.
Я все же опускаю тему «вещи как таковой», поскольку она необходимым образом не связана с лингвистическим анализом значений. Когда мы описываем установление объектов дискурса, наша задача состоит в том, чтобы установить отношения, характеризующие дискурсивную практику; мы не определяем ни лексическую организацию, ни членения семантического поля, не исследуем смысл, который та или иная эпоха вкладывала в понятия «меланхолия», или «тихое помешательство», не противопоставляем содержание «психоза» и «невроза» и проч. Мы не делаем этого вовсе не потому, что подобного рода анализ рассматривался как незаконченный или невозможный, он просто кажется нам излишним, когда речь идет о том, чтобы узнать, например, как преступность могла стать объектом медицинской экспертизы или как сексуальные отношения устанавливаются в качестве возможного объекта психиатрического дискурса. Анализ лексического содержания определяется либо элементами значения, которыми может располагать говорящий субъект данной эпохи, либо семантической структурой, которая выявляется на поверхности уже произнесенного дискурса; такой анализ не имеет отношения к дискурсивным практикам как к месту, где формируется и распадается или стирается одновременно артикулированная и лакунарная множественность переплетенных объектов.
Принципиальность комментаторов их не подвела: анализ, подобный тому, за который я здесь взялся, сообщит нам, что слова также сознательно отсутствуют, как и вещи; любое описание словаря на самом деле ни что иное, как возвращение к полноте жизненного опыта. Мы не пытаемся выйти за пределы дискурса, туда, где еще ничего не сказано, где вещи едва проступают в тусклом свете; мы не будем двигаться за ними в поисках форм, которыми они располагают и оставляют за собой; мы остановимся и постараемся удержаться на уровне самого дискурса, поскольку теперь нам надлежит поставить точки над «i», отсутствие которых кажется наиболее явным. Я скажу, что всеми этими поисками, в которых я продвинулся так мало, я хотел показать только одно: «дискурс», как мы его обычно понимаем, каким мы можем его прочитать, когда он воплощается в тексте, не является, как это можно было бы предположить, простым и прозрачным плетением словес, таинственной тканью вещей и отчетливым сочленением слов, окрашенных и доступных глазу. Я хотел показать, что дискурс — это тонкая контактирующая поверхность, сближающая язык и реальность, смешивающая лексику и опыт; я хотел показать на точных примерах, что, анализируя дискурсы, мы видим, как разжимаются жесткие сочленения слов и вещей и высвобождаются совокупности правил, обусловливающих дискурсивную практику. Эти правила определяют не немое существование реальности и не каноническое использование словарей, а порядок объектов. «Слова и вещи»- это название (и вполне серьезное!) одной про блемы, ироничное название работы, которая, изменяя форму, смещая данные, раскрывает, в конечном счете, совершенно другую задачу, которая не состоит — больше не состоит — в том, чтобы трактовать дискурсы как совокупности знаков (означающих элементов, которые отсылают к содержанию или репрезентации), а как практику, которая систематически формирует объекты, о которых они (дискурсы)говорят.
Безусловно, дискурс — событие знака, но то, что он делает есть нечто большее, нежели просто использование знаков для обозначения вещей. Именно это «нечто большое» и позволяет ему быть несводимым к языку и речи. Это» нечто большое» нам предстоит выявить и описать.
4. ФОРМАЦИЯ МОДАЛЬНОСТЕЙ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Количественные описания, биографическое повествование, установление, интерпретация, выведение знаков, рассуждение по аналогии, экспериментальная верификация — и множество других форм высказываний — все это мы можем найти в медицинском дискурсе XIX в. Какие же сцепления существуют между ними? Какова их необходимость? Почему появляются именно эти высказывания, а не какие-либо другие? Попытаемся определить закономерность всех этих разнообразных актов высказываний и установить, откуда они произошли.
а) Первый вопрос: кто говорит? Кто из всей совокупности всех говорящих индивидуумов хранит данный вид языка? Кто его владелец? Кто обретает в нем свою неповторимость, свой престиж и, напротив, от кого он получает, если не гарантии, то, по крайней мере, презумпцию истинности? Каков статус тех индивидуумов (и только их одних), что обладают правом, — традиционным или установленным законодательно, обоснованным юридически или приобретенным спонтанно, — отдавать предпочтение именно данному дискурсу? Статус медика определен критериями компетентности и знания, институтами, системами, педагогическими теориями, легальными условиями, которые дают ему права — не устанавливая четких границ — практиковать и опытно применять свои познания. Он является также носителем системы различий и связей (речь идет о разграничении функций, последовательном подчинении, дополнительных обязанностях, передаче и обмене информации) по отношению к другим индивидуумам и другим группам со своим особым статусом (власть и ее представители, правосудие, связи с трудовыми коллективами, с религиозными группами и, в случае необходимости, со священниками). Кроме того, медик является носителем известного числа характерных черт, обусловливающих его отношение к обществу в целом, и роль, которую общество признает за ним, определяется тем, выступает ли он в качестве частного лица или служит обществу, есть ли его труд для него делом жизни или простым выполнением обя занностей и проч. В вопросах медицинского ухода, лечения, заботы и обеспечения здоровья популяции, социальной группы, семьи, каждого отдельного индивидуума за медиком остается право вмешательства и решения, — равно как и в определении той платы, которую он взимает с состоятельных пациентов и со среднестатистического больного или в выборе формы контрактов (имплицитная либо эксплицитная), связывающих его с теми кругами, в которых он практикует, с властями, которые вверяют ему те или иные функции, с клиентами, желающими получить консультацию и лечение, и восстановить здоровье. Медик занимает в пределах любого общества, любой цивилизации совершенно особенное положение: он повсеместно является предметом общественного внимания и почти всегда незаменим. Слово медика не может прийти «из неоткуда»: его значимость, эффективность, терапевтические возможности и общие условия существования как слова самой медицины неотделимы от статуса определенного лица, которое его артикулирует, провозглашает, утверждает его законное право уменьшать страдания и предотвращать смерть. Но мы также знаем и то, что статус медицины к концу XVIII и началу XIX в. претерпел глубокие изменения, объясняющиеся главным образом тем, что здоровье цивилизации стало одной из экономических норм индустриального общества.
б) Необходимо описать также ту институционализированную область, исходя из которой медик разворачивает свой дискурс, в которой на законном основании находит свой источник и точки приложения своих способностей, свои специфические объекты и инструменты верификации. В нашем обществе этими областями являются: госпиталь как место постоянного, кодифицированного, систематического наблюдения, которое количественно констатирует поле частотности и осуществляется многочисленным и строго организованным медицинским персоналом; частная практика, которая открывает область наблюдений, более расплывчатых, более лакунарных и гораздо менее многочисленных, но, благодаря хорошему представлению об истоках наблюдаемого и среде его развития, позволяет иногда приходить к заключениям, имеющим далеко идущие последствия; лаборатория — автономная от госпиталя область, где о человеческом теле, жизни, болезнях и расстройствах устанавливаются истины более общего порядка, область, представляющая определенные элементы диагностики, некоторые знаки развития, критерии выздоровления и допускающая терапевтические эксперименты; наконец то, что мы привыкли называть «библиотекой» или «полем документации», — оно включает в себя не только книги или традиционно признанные медицинские трактаты, но и совокупности отчетов и опубликованных или сообщенных иным образом результатов, а также весь объем статистических данных, имеющих отношение к социальной среде, климату, эпидемиям, нрав ственным нормам, частоте заболеваний, очагам инфекции, профессиональным болезням и проч., которые поступают в распоряжение врача через администрацию, других медиков, социологов или географов. Можно добавить, что эти разнообразные «места» медицинского дискурса претерпели коренные изменения в XIX в.: значение документа непрерывно возрастало, по мере того, как ослабевала власть книги или традиции; госпиталь, который прежде был лишь местом приложения дискурса о болезнях и безусловно уступал по важности и ценности чистой практике, где болезни, находящиеся в их естественной среде, начали к XVIII в. раскрываться в своей изначальной реальности, становится в это время областью систематических и однородных наблюдений, сопоставления широких последовательностей, установления частотности и возможности, преодоления индивидуальных вариаций, — короче говоря, госпиталь стад местом проявления болезни, но не особым пространством, разворачивающим свои характерные черты перед взглядом медика, а скорее усредненным процессом со своими установленными означениями, границами и возможностями дальнейшего развития. Необходимо помнить, что именно в XIX в. каждодневная медицинская практика увидела в лаборатории место дискурса, которое характеризовалось теми же экспериментальными нормами что и физика, химия и биология.
с) Позиция субъекта определяется тем положением, которое он может занимать в отношении различных областей и группы объектов: вопрошающий субъект вопрошает в соответствии с определенной решеткой исследования (эксплицитной или нет) и воспринимает все согласно своей программе информации; наблюдающий субъект наблюдает в соответствии с установленным перечнем определяющих черт и воспринимает наблюдаемое в соответствии с тем или иным дискурсивным типом, — он расположен на оптимальной перцептивной дистанции, границы которой очерчивают нужные элементы информации, а в качестве посредников использует инструменты, которые изменяют информационные данные, тем самым располагая субъект на среднем или непосредственном перцептивном уровне, обеспечивая его продвижение от высших уровней к уровням более низким и принуждая его сосредоточиться на внутреннем пространстве тела (от внешних симптомов к органам, от органов к тканям, от тканей к клеткам). К этим перцептивным ситуациям необходимо добавить позиции, которые субъект может занимать в информационной сетке (в теоретических штудиях иди в госпитальной педагогике, в устной системе коммуникации или в писанных документах) как источник и рецептор наблюдений, отчетов, статистических данных общих теоретических положений, замыслов и решений. Разнообразные положения, которые может занимать субъект медицинского дискурса, были заново переопределены в начале XIX в.,- как в связи с организацией совершенно иного перцептивного поля (разворачивающегося вглубь, выявляющегося в применении инструментов, использующего хирургические техники и методы аутопсии, концентрирующегося вокруг очагов болезни), так и в связи с установлением новых систем регистрации, записи, описания, классификации, интеграции в числовые и статистические последовательности, с установлением новых форм обучения, введением в научный оборот новой информации, с взаимовоздействием различных теоретических областей — будь то наука или философия, — и, разумеется, различных институтов, — административных, политических, экономических и проч.
Если в клиническом дискурсе медик по очереди, строго и непосредственно вопрошая глаз, который смотрит, или палец, который ощупывает, обращается к средствам расшифровки знаков, исследует точки пересечения с уже сделанными описаниями, использует технические возможности лаборатории, то он, попросту говоря, активно использует все возможные отношения между пространством госпиталя, являющимся одновременно местом оказания помощи, местом чисто систематических, либо терапевтических, отчасти проверенных на практике, отчасти экспериментальных, наблюдений, с одной стороны, и всей технической группой и законами восприятия человеческого тела, как оно было определено патоанатомией, с другой, — отношения между полем непосредственного наблюдения и областью уже обработанной информации, между ролью медика как терапевта, педагога и посредника в распространении знаний своей науки и степенью его ответственности за общественное здоровье в конкретном социальном пространстве.
Клиническая медицина, понятая как обновление точек зрения, содержания, форм, стиля описаний, как использование дедуктивных или вероятностных выводов, типов установления причинности, — в общем, как обновление модальностей, — клиническая медицина не должна рассматриваться ни как результат новой техники наблюдения, (аутопсия практиковалась задолго до XIX в.), ни как результат исследования причин патогенеза внутри организмов (этим занимался уже Морани в середине XVIII в.), ни как результат возникновения такого института, как госпитальная медицина (она уже давно существовала в Австрии и в Италии), ни как результат введения концепта ткани в «Трактате о тканях» Биша. Появление клинической медицины можно объяснить тем, что в медицинском дискурсе установились отношения между определенным количеством отличных друг от друга элементов, одни из которых имели медицинский статус, другие представляли собой то институционализированное и технически оснащенное место, откуда первые могли «держать речь», а третьи занимали позицию воспринимающего, наблюдающего, описывающего, обучающего и т. д. субъекта. Мы можем сказать, что это установление отношений между различными элементами (некоторые из которых были совершенно новыми, тогда как другие уже существовали прежде) актуализируется в клиническом дискурсе: именно он и явился практикой, устанавливающей между элементами все возможные системы отношений, которые не являются ни «реально» данными, ни конституированными заранее. Но ведь если существует общность, если модальность высказываний, которые в ней используются и в которых она раскрывается, не является простым совпадением исторически случайных последовательностей, то таким образом устойчивые пучки связей решительно вводятся в обиход.
И еще одно замечание. Констатируя несходство типов высказывания в клиническом дискурсе, мы вовсе не пытаемся уменьшить степень этого несходства указанием на формальные структуры, категории, виды логических сцеплений, типов рассуждений и выводов, на различные формы анализа и синтеза, которые могли бы быть использованы в данном дискурсе. Мы не хотим выделять ту рациональную организацию, которая способна дать высказываниям, в роде медицинских, то, что они полагают в виде присущей необходимости. Мы также не желаем сводить все к основополагающему акту или к сознанию, которое конституирует тот общий горизонт рациональности, из которого постепенно развивается медицина, стремящаяся войти в круг точных наук, концентрирующая свои методы вокруг наблюдения, медленно и с трудом преодолевающая привычные стереотипы и фантазмы и совершенствующая свои системы выводов. Мы вовсе не пытаемся описывать ни эмпирический генезис, ни различные составляющие медицинской ментальности, нас не интересует, как изменялись приоритеты медицины, на какие теоретические или экспериментальные модели они оказывали влияние, какая философская или этическая тематика определила атмосферу медицинской рефлексии, на какие вопросы или требования отозвалась медицина, какие усилия необходимо было предпринять, чтобы освободиться от традиционных предрассудков, какими пути вели к никогда не завершающейся унификации и недоступной окончательной устойчивости. Наконец, мы не отсылаем разнообразные модальности высказываний к общности субъекта поскольку речь шла, во-первых, о субъекте, взятом как чистая основополагающая инстанция рациональности и, во-вторых, о субъекте в его эмпирической функции синтеза, — здесь нет ни «познания», ни познавания.
В предложенном анализе различные модальности высказываний вместо того, чтобы отсылать к синтезу или к унифицирующей функции субъекта, манифестируют его рассеивание и отсылают к различным статусам, местам и позициям, которые субъект может занимать или принимать, когда поддерживает дискурс, к различным планам прерывности, «из которых» он говорит. И если эти планы связаны системой отношений, то такая система устанавливается не синтетической активностью самотождественного сознания, безгласного и предшествующего любым словам, а спецификой дискурсивной практики. Мы отказываемся рассматривать дискурс как феномен выражения — вербальная традиция синтеза упомянута в других местах; скорее, мы пытаемся найти в нем поле регулярности различных позиций субъективности. Дискурс, таким образом, понимается не как разворачивающаяся грандиозная манифестация субъекта, который мыслит, познает и говорит об этом, а как совокупность, в которой могут определяться рассеивания субъекта и, вместе с тем, его прерывности. Дискурс — это внешнее пространство, в котором размещается сеть различных мест. Сейчас мы показали, что не через «слова» или «вещи» необходимо определить строй объектов дискурсивной формации; признаем теперь, что ни через возвращение к трансцендентальному субъекту, ни через возвращение к психологической субъективности мы не смогли бы определить порядок его высказываний.
5. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТОВ
Возможно, те семьи концептов, которые вырисовываются в трудах Линнея (равно как и те, что мы находим у Рикардо или в грамматике Пор-Рояля) способны создавать устойчивые совокупности. Возможно, нам удалось бы воссоздать дедкутивную структуру, которая была нами сформирована. Предположение, во всяком случае, стоит проверить — что мы и пытались сделать уже несколько раз. Напротив, если для того, чтобы установить такие дисциплины, как грамматика, экономика, изучение живых существ, мы возьмем последовательность более широкую, обусловленность понятийных связей окажется уже недостаточно строгой и появление концептов не будет подобно постепенному возведению здания. Можно ли пренебрегать такими беспорядочными рассеиваниями? Не лушче ли попробовать увидеть в них последовательности концептуальных систем, каждая из которых обладает своей собственной организацией, актуализирующейся либо в постояннстве проблематики, либо в непрерывности традиции, либо в механизмах влияния? Не можем ли мы сформулировать закон, который бы объяснил нам последовательное и одновременное появление разрозненных концептов? Не можем ли мы выделить из них ряд событий, не предопределенных какой-либо логической систематикой? Вместо того, чтобы перемещать концепты в пространстве возможной дедуктивной схемы, не лучше ли описать организацию того поля высказывания, в котором они появляются и циркулируют?..
а) Такая организация должна принимать, в первую очередь, формы последовательности, и среди них — всевозможные распределения рядов высказываний (будь то порядок заключений, последовательных импликаций или наглядных рассуждений, либо порядок описаний, выведение обобщающих схем или нарастающих спецификаций, которым они подчинены, либо же пространственные распределения, которые они преодолевают, а равно порядок рассказа или способы перераспределения временных событий в линеарные последовательности), разнообразные типы зависимостей высказываний (которые не всегда тождественны между собой и тем более не имеют окончательного определения в установленной последовательности рядов высказываний, что, например, можно сказать о взаимозависмости гипотезы и верификации, утверждения и критики, закона и частного случая), многочисленные риторические схемы, наличие которых позволяет комбинировать группы высказываний (то как сочленяются между собой описания, заключения, определения, последовательности которых характеризует архитектонику текста). Возьмем, например, случай естественной истории: в классическую эпоху она характеризовалась концептами, отличными от тех, что использовались в XVI в.; некоторые из прежних концептов (род, вид, знак) уже изменили порядок применения, другие (например, структура) только зарождаются, третьи же (например, организм и т. п.) еще только появятся впоследстви. Но что действительно изменилось в течение XVIII в. и предопределило тем самым появление и взаимодествие концептов естественной истории в целом, — так это общее расположение высказываний и последовательности их рядов, в свою очередь выстраивающихся в те или иные совокупности; это самый способ описывать наблюдаемое и восстанавливаемое в цепочке высказываний перцептивное пространство; это связи и взаимодействия между артикуляцией, характеризацией и классификацией; это взаимообусловленность позиций обычного наблюдения и общих принципов, система зависимости между исследуемым и наблюдаемым, между постулатом, выводом и допущением. Естественная история в XVII–XVIII вв. была не просто одной из форм знания, которая по-новому переопределяла понятия «рода» и «характера» и порождала новые концепты, такие как «естественная классификация» или «млекопитающие», но, скорее, совокупностью правил, позволяющей группировать высказывания в ряды и цепочки, в совокупности неустранимых схем зависимости, порядка и последовательности, где перераспределялись и получали концептуальную значимость различные рекуррентные элементы.
б) Рельеф поля высказывания содержит также и формы сосуществования, которые, в свою очередь, намечают поле присутствия (таким образом необходимо уяснить все уже сформулированные высказывания — и те, что восприняты данным дискурсом в виде допущенния, точного описания, обоснованных заключений или предполагаемой необходимости, и те, что критикуются, и те, что отбрасываются или исключаются). В этом поле присутствия установленные связи могут быть порядком экспериментальной керификации, логических утверждений, чистым и простым повторением, включением, оправданным традицией или авторитетом, порядком комментирования, поиском скрытых значений, исследованием заблуждений Эти связи могут быть выявленными (и всегда уже представленными в виде специализированных высказываний: референций и критических дискуссий) или скрытыми и разссеянными по обычным дискурсам. Следовательно, мы можем легко констатировать, что поле присутствия ес тественной истории в классическую эпоху подчиняется формам, критериям отбора и принципам исключения иным, нежели во времена Альдрованди, объединившего в своем трактате о чудовищах все, что можно было увидеть, все, что могло попасть в поле наблюдения, что было тысячекратно передано из уст в уста и даже то, что вымышлено поэтами.
Разграничивая поле присутствия, мы, помимо всего прочего, можем описать и поле совпадений (высказывания, которые концентрируются вокруг каждой области объектов и, хотя и принадлежат к совершенно различным типам дискурса, активизируются среди уже изученных высказываний, выступая либо в качестве суждения по аналогии, либо в качестве общего принципа и посылки рассуждения, либо модели, в которую вносятся новое содержание, либо высшей инстанции, которой подчиняются или уподобляются некоторые установленные пропозиции). Таким образом, поле соответствий естественной истории начиная с Линнея и Бюффона определяется некоторым числом связей с космологией, историей земли, философией, теологией, библейской экзегезой, математикой (репрезентирующей в наиболее общем виде научный порядок). В своей совокупности эти связи проивопоставдяются как дискурсу натуралистов XVI в., так и дискурсу биодогов XIX в.
Наконец, поле высказываний содержит то, что можно было бы назвать областью памяти (высказывания, которые, не будучи ни допущенными, ни дискутируемыми, не определяют более ни тела истины, ни области действительно верного, но в отношении которых устанавливаются родственные связи, генезис, изменения, историческая прерывность и непрерывность). Отсюда следует, что, начиная с Турнефора, поле памяти естественной истории предстает перед нами как исключительно узкое и бедное в своих формах, если мы возьмемся сравнивать его с тем широким, коммулятивным и достаточно специфицированным полем памяти, что представляет нам биология, начиная с XIX в.,- гораздо более определенным и артикулированным, нежели то, что окружает исторический ренессанс науки о растениях и животных. Это объясняется тем, что в то время оно едва ли отличалось от поля присутствия, которое имело тот же объем, те же формы и включало те же связи.
с) Теперь мы вправе определить возможности вторжения, которые, не греша против истины, могли бы применить к нашим высказываниям. В действительности, они весьма различны для каждой дискурсивной формации: то, что в них включены цементирующие их связи и совокупности, которые они, таким образом, констатируют, позволяет специфицировать каждую из них. Эти возможности могут выявляться:
в техниках переписывания (которые позволили, в частности, естествоиспытателям классического века переводить линеарные последовательности в классификационные таблицы, подчиняющиеся иным законам и конфигурациям, нежели перечни иди группы родства, установленные в Средние века или в эпоху Ренессанса); в методах транскрипции высказываний, артикулированных в более или менее формализованном языке естествоиспытателей (с замыслом и частичной реализацией которого мы сталкиваемся у Линнея и Адамсона); в способах перевода количественных высказываний в качественные и наоборот (установление перцептивных отношений между мерами и описаниями); в правилах применения, позволяющих увеличить степень приближение высказываний и определить их строгость; в структурном анализе формы, количества, расположения и зависимости элементов, что позволяет (начиная с Турнефора) добиться более значительного и, главное, более устойчивого приближения описательных высказываний; в новых приемах разграничения областей истинности высказываний (высказывания структурного характера были ограничены Турнефором и Линнеем и вновь расширены Бюффоном и Жусие); в способах переноса типов высказывания из одного поля приложения в другое (так переносили характеристики растений в таксономию животных или описание внешних черт на внутренние элементы организма); в методах систематизации уже существующих пропозиций, которые некогда уже были сформулированы, но оставались отделенными друг от друга; в методах перераспределения высказываний, уже соединенных друг с другом, но допускающих включение в новые систематические совокупности (так Адамсон воспринял естественные определения, сведенные им в совокупности искусственных описаний, схема которых уже была предварительно дана в абстрактной комбинаторике).
Итак, элементы, которые предлагает наш анализ, оказываются весьма гетерогенными. Одни составляют правила формального конструирования, другие — риторические навыки или внутренние конфигурации текста, третьи обусловливают виды связей и взаимодействий между различными текстами или характеризуют какую-нибудь определенную эпоху, а некоторые нацелены на далекие истоки, либо конструируют большие хронологические протяженности. Но принадлежит собственно дискурсивной формации, разграничивает группу совершенно разрозненных концептов и определяет их специфику только самый способ, который позволяет различным элементам устанавливать связи друг с другом. Таков, например, путь, при котором расположение описаний или повествований связано с техниками переписывания, а поле памяти — с формами иерархии и подчинения; способ, который и сам связан с приближением и развитием высказываний, различных видов критики, комментирования, интепретации уже встроенных высказываний и т. д. Этот пучок связей и конституирует систему концептуальной формации.
Описание системы не имеет большой ценности для прямого и непосредственного описания самих концептов. Речь не идет о том, чтобы исчерпывающе прояснить их, вычленить черты, которые могут оказаться общими для них, попробовать истолковать классификацию, установить меру внутренней устойчивости или подвергнуть испытанию взаимную совместимость; мы не можем взять для анализа концептуальную архитектонику изолированных текстов, индивидуальных произведений или науки в каждый данный момент. Мы располагаемся в стороне от ярко выраженной концептуальной игры, и наша задача — определить, согласно каким схемам (рядоположенностью, одновременным группировкам, линеарным или взаимообращающимся) высказывания могут быть связаны друг с другом в определенном типе дискурса. Мы стараемся, таким образом, установить, как рекуррентные высказывания могут возникать, распадаться, заново собираться, расширяться иди ограничиваться, внедряться в новые логические структуры, приобретать новое семантику, конституировать родственные между собой образования. Все эти схемы позволяют описать не столько законы внутренней конструкции концептов или их общее и частное развитие в духе человека, сколько, в первую очередь, их анонимное рассеивание в текстах, книгах, произведениях, — рассеивание, которое характеризует тип дискурса, определенный формами дедукции, образования, устойчивости, а также несовместимости, переплетения, замещения, исключения, взаимного искажения, перемещения и т. д. Подобный анализ концентрируется вокруг некоего доконцептуального уровня, подчиняясь правилам которого различные концепты могут сосуществовать в одном поле.
Чтобы уточнить, что следует понимать под «доконцептуальным уровнем», приведу в пример исследованные мной в книге «Слова и вещи» четыре теоретические схемы, которые в XVII–XVIII вв. характеризовали общую грамматику. Эти схемы — атрибуция, артикуляция, обозначение и деривация — не являются концептами, к которым часто прибегают классические грамматики; они не позволяют восстановить систему, скрытую за различными произведениями такого рода, — систему более общую, более абстрактную, более бедную, но раскрывающуся в том же глубинном соответствии этих внешне противоположных систем.
Они позволяют описать:
1. Каким образом могут выстраиваться в последовательности и разворачиваться различные приемы грамматического анализа; какие формы последовательностей возможны в анализе имени, глагола и прилагательного, в анализе, предметом которого является либо фонетика, либо синтаксис или, например, праязык, в анализе, который стремится к построению искусственного языка. Эти различные порядки могут описываться как связи зависимости, установленные между теориями атрибуции, артикуляции, обозначения и деривации;
2. Как общая грамматика определяет свою область правомерности (в соответствии с какими критериями мы можем дискутировать об истине или ложности пропозиции); каким образом она конституирует свою область нормативности (в соответствии с какими критериями мы исключаем некоторые высказывания как не свойственные данному дискурсу, несущественные, маргинальные или ненаучные); как она конституирует область актуальности (включая принятые решения, определяя проблемы присутствия, располагая вышедшие из употребления концепты и утверждения);
3. Что связывает общую грамматику с матезисом, с картезианской или посткартезианской алгеброй, с замыслом создания общей науки порядка, с философским анализом репрезентации, теории знаков, с естественной историей, проблемами определения и таксономии, анализом накоплений и проблемой знаковых посредников между мерой и обменом. Устанавливая эти связи мы можем определить те пути, по которым из одной области в другую циркулируют, переносятся модификации концептов и указать на искажения или изменение приложения их формы. Сеть, конституированная четырьмя теоретическими сегментами, не определяет логическую архитектонику всех концептов, применяемых грамматиками; она только намечают регулярную область их установления;
4. Как, — одновременно или последовательно, — были возможны (в форме альтернативного выбора, изменения или завершения) различные концепты глагола «быть», связки, отглагольных образований, флексии (для теоретической схемы атрибуции), фонетических элементов, алфавита, имен существительных, субстантивации и адъективации (для теоретической схемы артикуляции), имени нарицательного и собственного, указательных местоимений, производящей основы, слогов или экспрессивной звонкости (для теоретического схемы обозначения), праязыка, метафоры, фигуры, или поэтического языка (для теоретической схемы деривации).
Таким образом, высвобождаемый нами «доконцептуадьный» уровень не отсылает ни к горизонту идеальности, ни к эмпирическому генезису абстракции. Итак, с одной стороны это и не заданный, открытый и установленный по мановению некоей руки горизонт идеальности, значительность которого позволяет ему избегать какой-либо хронологической привязки в рамках истории, и не столь же неистощимый a priori, который стоит вне какого бы то ни было начала, избегает какого бы то ни было генетического становления, и отстраняется, поскольку никогда не может быть современным самому себе в своей тотальной эксплицитности. Действительно, мы вопрошаем об уровне самого дискурса, который не является более выражением внешнего, а, напротив, местом появления концептов. Мы не связываем константы дискурса с идеальными структурами концептов, а описываем сетку, исходя из присущих дискурсу закономерностей;
мы не подчиняем множественность высказываний устойчивости концептов и молчаливой отрешенности метаисторическои идеальности; мы устанавливаем перевернутые ряды, размещаем чистые, лишенные противоречий намерения в сплетения сетки концептуальной совместимости и несовместимости и связываем эти сплетения с правилами, характеризующими дискурсивные практики. Отсюда следует, что более нет нужды обращаться к бесконечно удаленным от нас истокам и неисчерпаемому горизонту: организация совокупности правил в дискурсивной практике, даже если она не конституирует событий, располагая их столь же легко, как и формулировки или открытия, может быть, тем не менее, детерминирована в элементе истории и, если последняя и является неисчерпаемой, то лишь в том, что совершенно описываемая система, которую она конституирует, отдает себе отчет в весьма примечательной игре концептов и определенном количестве чрезвычайно важных изменений, обусловливающих одновременно концепты и их связи. Описанный таким образом «до-концептуальный* уровень, вместо того, чтобы дать нам почувствовать горизонт, проступающий из глубины истории и удерживающийся в ней на уровне более высоком (т. е. на уровне дискурсов), оказывается, напротив, совокупностью правил, которые находят там свое приложение.
Мы видим, что речь идет так же о генезисе абстракции, пытающейся открыть серию приемов, которые бы позволили их конституировать: всеобщие интуиции, раскрытие частных случаев, выход из круга тем, связанных с воображением, столкновение с теоретическими и техническими препятствиями, использование традиционных моделей, определение тождественной формальной структуры и т. д. В анализе, который мы здесь предлагаем, правила формации имеют место не в «ментальности» иди сознании индивида, а в самом дискурсе; следовательно, они навязываются в соответствии с некиим видом анонимной единообразности всем индивидуумам, которые пытаются говорить в этом дискурсивном поле. С другой стороны, мы не допускаем их в качестве универсально приемлемых для любой области, где бы они ни находились; мы всегда описываем их в конкретном дискурсивном поде и изначально не признаем за ними способности к бесконечному расширению сферы своего применения. Скорее, нам удастся с помощью систематического сравнения сопоставить правила установления концептов в различных областях, — так мы постараемся раскрыть тождество и различия, которые могут представлять эти совокупности правил в общей грамматике, естественной истории и анализе накоплений классической эпохи. Такие совокупности правил достаточно специфичны в каждой из этих областей, чтобы мы могли охарактеризовать и индивидуализировать каждую отдельную дискурсивную формацию; но они представляют нам и достаточное число аналогий для того, чтобы мы могли наблюдать, как эти различные формации конституируют дискурсивные группы, более обширные и располагающиеся на более высоком уровне. Во всяком случае, правила формации концептов, какова бы ни была их универсальность, не являются отброшенным историей и осевшим в пустоте коллективных привычек продуктом операция, актуализированной в индивидуумах; они не конституируют вымученную схему той туманной работы, в которой концепты прорывались бы к дневному свету сквозь иллюзии, предрассудки, заблуждения и традиции. Доконцептуальное поле позволяет выявиться дискурсивным закономерностям и принуждениям, которые делают возможной гетерогенную множественность концептов и приводят к последующему разбуханию тех тем, верований, репрезентаций, к которым мы добровольно обращаемся, когда пишем историю идей.
При анализе правил формации объекта, как мы могли видеть, нет необходимости ни связывать их с вещами, ни с областью слов; для анализа формации типов высказываний нет нужды связывать их ни с познающим субъектом, ни с индивидуальной психикой. Подобным же образом, нет необходимости прибегать ни к допущению горизонта идеальности, ни к эмпирическому движению идей.
6. ФОРМАЦИИ СТРАТЕГИЙ
Такие дискурсы, как экономика, медицина, грамматика, науки о живых существах открывают место определенным организациям концептов, некоторым группировкам объектов, типам высказываний, которые формируют, в соответствии со степенью их связанности, строгие устойчивости, определенные темы или теории:
в грамматике это, например, тема праязыка, породившего все остальные языки и оставившего в них иногда поддающиеся расшифровке следы; в филологии XIX в. это место занимает теория более или менее близкого родства между всеми индоевропейскими языками и архаичными диалектами, которые служат им общей отправной точкой; в XVIII в. это тема эволюции видов, развивающихся в непрерывности природного времени, объясняющих действительные лакуны с помощью таксономической таблицы; у физиократов это теория циркуляции богатств на основании сельскохозяйственного производства… Эти темы и, — теории мы условно назовем стратегиями — независимо от их формального уровня. Проблема состоит в том, чтобы узнать, как они распределяются в истории. Необходимость ли связывает их друг с другом, делает их неизбежными, в точности указывает им место друг подле друга и делает из них последовательные решения одной и той же проблемы? Или речь идет о выявлении искажений среди идей различного истока, влияний, открытий, интеллектуального климата и теоретических моделей, которые терпение или гений индивидуумов располагает в совокупностях более или менее конституированных? Все это было бы вполне справедливо, если бы только отсутствовала возможность установить между ними закономерности и не будь они так детерминированы общей системой формации.
Анализ этих стратегий весьма затруднителен, поскольку достаточно сложно проникнуть в детали. Причина этого весьма проста:
в различных дискурсивных областях, которые я пытаюсь упорядочить, — весьма, впрочем, робко, особенно, в начале моего труда, — без сколько-нибудь строгого методологического контроля, всякий раз речь шла о том, чтобы описать дискурсивную формацию во всех областях, где она проявляется, и учитывая ее собственные характеристики. Необходимо было также всякий раз заново определять правила формации объектов, модальность высказываний, концепты и теоретические предпочтения. Но получалось, что сложные моменты анализа оказывались именно тем, что более всего требовало к себе внимания. В «Истории безумия» я имел дело с такими дискурсивными формациями, точки теоретических предпочтений которых устанавливались достаточно легко, — их концептуальная система была относительно проста и не содержала в себе чрезмерных сложностей, режим их высказываний представлялся достаточно однородным и, можно даже сказать, монотонным. Проблема, напротив, состояла в проявлении всей совокупности объектов, случайных и достаточно сложных; речь шла о том, чтобы, прежде всего, описать их с целью установления совокупности дискурса психиатрии во всех его особенностях и формации его объектов. В «Рождении клиники» важнейшим направлением поисков было открытие механизмов, которые в конце XVIII — начале XIX в. позволили измениться формам высказываний медицинского дискурса; в меньшей степени этот анализ предусматривал обращение к формациям концептуальных систем или теоретических предпочтений, нежели к статусу, институализированным областям, ситуациям и включениям субъекта дискурса. И, наконец, исследование «Слов и вещей» в самых принципиальных вопросах было направлено на сетки концептов и правила их формации (тождественность или различия), которые мы могли установить в общей грамматике, естественной истории и анализе накоплений. Для стратегических предпочтений их место и импликации уже были указаны (например, в отношении Линнея, Бюффона, физиократов и утилитаристов), но установление это оказалось в высшей степени приблизительным, и наш анализ совершенно не задержался на их формациях. Укажем также, что анализ теоретических предпочтений оставался в рабочем состоянии вплоть до настоящего исследования, где эти проблемы были поставлены в центр внимания.
Теперь можно определить главное направление наших поисков, которые мы резюмируем следующим образом:
1. Для начала необходимо определить возможные точки преломления дискурса.
Эти точки, в первую очередь, характеризуются как точки несовместимости — несовместимости двух объектов, двух типов высказываний, двух концептов, которые находятся в одной и той же формации, но в силу очевидных или неосознанных противоречий не обладают достаточной энергией для того, чтобы войти в один и тот же ряд высказываний.
Впоследствии мы охарактеризуем их как точки эквивалентности; два несовместимых элемента формируются одним и тем же способом, при помощи одних и тех же правил; условия их появления тождественны, они располагаются на одном уровне и вместо того, чтобы конституировать чистое и простое нарушение связи, порождают альтернативу, — даже если, исходя из хронологий, они и не принадлежали общему временному отрезку, даже если они обладали различной значимостью и не были одним и тем же образом представлены в популяции действительных высказываний, — все равно они представляются в виде формулы «либо … либо».
Наконец, они характеризуются как точки сцепления систематизации: при отталкивании от каждого из этих элементов — одновременно тождественных и несовместимых — были образованы устойчивые ряды объектов, форм высказываний и концептов (что, возможно, сопровождалось появлением в каждом ряду новых точек несовместимости). Другими словами, рассеивание, изученное на предыдущих уровнях, не определяет простого отталкивания, нетождественности, прерывающихся рядов, лакун; мы вынуждены формировать такие дискурсивные подгруппы, которым обычно приписываем особую важность, так, точно они являются непосредственными общностями и той исходной материей, из которой выходят дискурсивные совокупности более широкие, — в роде «теорий», «концептов» или «тем».
Например, мы не задерживались в нашем анализе на том обстоятельстве, что анализ накоплений в XVIII в. является (исходя из хронологической синхронии и диахронии) результатом различных концептов денежной массы, обмена предметами первой необходимости, установления ценности и стоимости или земельной ренты; мы не исследовали, как анализ накоплений вырос из понятийных рядов Кантильона, заимствовашего их у Лэтии, как он родился из опыта Лоу, шаг за шагом осмыслявшего различные теории, и из системы физиократов, противопоставленной утилитаристским концепциям. Анализ накоплений мы, скорее, описываем как общность распределений, которая открывает нам поле возможных предпочтений и позволяет совершенно различным и исключительным структурам следовать друг за другом, бок о бок или по очереди.
2. Но все эти возможные взаимодействия не реализуются в достаточной степени: существуют родственные совокупности, локальные совместимости, устойчивые структуры, которые могли бы появиться и которые еще не выявлены. Чтобы отдать себе отчет относительно предпочтений, которые были реализованы среди всех тех (тех и только тех), которые могли бы состояться, необходимо описать специфические инстанции решений и, в первую очередь, ту роль, которую играет уже изученный дискурс в отношении современных ему и соседствующих с ним дискурсов.
Необходимо также изучить экономию дискурсивных плеяд, к которым они принадлежат и которые, возможно, способны играть роль формальной системы, — некоторые из дискурсов такой системы будут прилагаться к другим семантическим полям, — иди, напротив, системы конкретных моделей, которую необходимо донести до других дискурсов, находящихся на более высоком уровне абстракции (таким образом, «общая грамматика» в XVII–XVIII вв. характеризуется как частная модель общей теории знаков и представлений). Уже исследованный дискурс может находится также в различных связях — например, аналогии, противопоставленности или дополнительности — с некоторыми другими дискурсами. Так, в классическую эпоху существует связь по аналогии, между анализом накоплений и естественной историей: первый рассматривает и представляетет нужду и желание, тогда как вторая — восприятие и суждение. Мы можем утверждать также, что естественная история и общая грамматика противопоставляются друг другу как теория естественных признаков и теория условных знаков; обе они, в свою очередь, противопоставлены анализу накоплений как изучение качественных знаков изучению количественных знаков меры. Все эти теории, каждая из этих трех ролей, отсылают к функциям репрезентативных знаков: указывать, классифицировать, изменять. Мы можем описать, наконец, существующие между несколькими дискурсами связи взаимного разграничения, каждая из которых проявляется как дистинктивная метка ее единичности, воспринятой через различия, содержащиеся в ее методах, инструментах и области приложения (например, в отношении психиатрии и органической медицины, которые практически ничем не отличались друг от друга и, начиная с определенного момента, устанавливали взаимное расхождение, которое и должно было их характеризовать.
Все эти взаимодействия связей составляют принцип обусловленности, который допускает или исключает внутри данного дискурса определенное число высказываний: а именно, существование таких концептуальных систематизации, сцеплений высказываний, групп и организаций объектов, которые существовали бы в потенции (и отсутствие которых на уровне правил их собственной формации ничем бы не могло быть оправдано), но исключались дискурсивными плеядами более высокого уровня и более широкого распространения. Дискурсивная формация не занимает всего возможного объема, который по праву предоставляет ей система формации ее собственных объектов, высказываний и концептов, — в сущности своей она остается лакунарной благодаря системе формаций ее стратегических предпочтений. Следовательно, в том, что взято, расположено и интерпретировано в новых плеядах, данная дискурсивная формация может выявить новые возможности (так, в действительных распределениях научного дискурса грамматика Пор-Рояля или таксономия Линнея может высвободить такие элементы, которые по отношению к самим себе являются одновременно присущими и запретными). Но речь идет не о том молчаливом содержании, которое так и остается имплицитным, которое было бы высказанным без высказывания и которое за состоявшимися высказываниями конституирует более фундаментальный субдискурс, выставленный, наконец, на всеобщее обозрение; речь идет об изменении принципа исключения и возможности выбора; об изменениях, которые должны быть включены в новые дискурсивные плеяды.
3. Определение действительно актуализированных теоретических предпочтений открывает нам еще одну инстанцию. В первую очередь, она характеризуется своей функцией, призванной вовлечь изучаемый дискурс в поле недискурсивных практик. Так, общая грамматика занимает причитающееся ей место в педагогической практике; подобным же образом, только с большей очевидностью и с большей значимостью, анализ накоплений получает право голоса не только в политических и экономических решениях, но и в почти не концептуализированных и не усвоенных теорий каждодневных практиках зарождающегося капитализма, в политической и классовой борьбе, которой характеризуется классическая эпоха.
Эта инстанция является, вместе с тем, порядком и процессом присвоения дискурса, ибо в нашем обществе (как и во многих других, без сомнения) собственность дискурса, понятая одновременно как право говорить и как презумция осмысленности, непосредственно или законодательно допущенная в область уже сформулированных высказываний, способная, наконец, травестировать этот дискурс в решения, институты или практики, — эта собственность дискурса сохраняется в действительности (подчас весьма регламентированным образом) в определенных группах индивидов. В буржуазном обществе, которое, как нам известно, начинает свою жизнь с XVI в., экономический дискурс никогда не был общим для всех (так же как и медицинский, и литературный, хотя и в несколько ином плане).
Наконец, эта инстанция характеризуется возможными позициями желания по отношению к дискурсу, что в действительности может выдвинуть на первый план различные фантазии, элементы символизации, формы запрета, инструменты удовлетворения (эта возможность связана с трактовкой желания не просто в качестве факта поэтических или романных опытов или воображаемого дискурса;
дискурсы о наполнении, о языке, о природе, о жизни и смерти и многие другие, может быть, и более абстрактны, но в том, что касается желания, они занимают более определенное место).
Во всяком случае, анализ этой инстанции должен показать, что связь с дискурсом или связь с процессами присвоения, равно как и связь с недискурсивными практиками не являются в своих характерных особенностях и законах своей формации необходимо присущими данному единству.
Все вышеперечисленные факторы не является теми противодействующими элементами, которые, перераспределяясь в своей чистой, нейтральной, вневременной и безгласной форме, стремятся ее расшевелить и заставить травестированный дискурс говорить о том месте, что он занимает. Напротив, многие из этих элементов рассматриваются нами не как противодействующие, а, скорее, как парадоксально формообразующие.
Дискурсивная формация окажется индивидуализированной, если нам удастся определить систему формации различных стратегий, которые там разворачиваются. Иными словами, если мы сумеем показать, как все они образованы одной и той же игрой отношений, — несмотря на предельные, порой, различия между ними и на присущее им рассеивание во времени.
Например, в XVII–XVIII вв. анализ накопления характеризуется такой системой, которая одновременно может формировать и меркантилизм Кольбера и «антимеркантилизм» Кантийона, стратегии Лоу и Пари-Дюверне, предпочтения физиократов и взгляды утилитаристов. Мы установим это, если только нам удастся описать точки преломления экономического дискурса, которые, сдерживаясь и импдицируясь, следуют друг за другом, — так, решение относительно концепта стоимости образует точки выбора в вопросах ценообразования. Необходимо уяснить, насколько актуализированные предпочтения зависят от общих плеяд, в которых фигурируют экономический дискурс (выбор в пользу денежных знаков обусловлен местом, занятым анализом накоплений наряду с теорией языка, анализом представлений, матезисом и наукой о порядке), как эти предпочтения связаны с той функцией, которую выполняет экономический дискурс в практике нарождающегося капитализма, в процессе присвоения объектов буржуазией, в той роли, которую все это может играть в реализации интересов и желаний. Экономический дискурс в классическую эпоху определяется тем неизменным способом, которым устанавливается возможность внутренней систематизации и одного дискурса и ряда дискурсов, которые оказываются внешними по отношению друг к Другу, равно как и всего недискурсивного поля практик, присвоений, интересов и желаний.
Необходимо отметить, что описанные таким образом стратегии не укореняются за пределами дискурса в немой глубине предпочтений, одновременно предварительных и основополагающих. Все эти группы высказываний, которые нам предстоит описать, не являются ни выражениями мировоззрения, способного обрести свою значимость в виде слов, ни проявлением лицемерного «интереса», скрывающегося под благообразным покровом теории: естественная история в классическую эпоху — нечто иное, нежели просто столкновения в тех райских кущах, которые возникли было, предваряя появление нового исторического взгляда, между линнеевским видением статичного, упорядоченного, «расчерченного на квадртики» и мудро расписанного по таблицам с самых своих истоков универсума, восприятием, еще неосознанным, наследственной природы времени, отягощенного бременем катастроф, — и открытием возможности эволюции. Подобным же образом, анализ капитала не имеет отношения к столкновению интересов рантье, получившей в свое распоряжение земельную собственность и выражающей свои экономические и политические притязания голосом физиократов, с интересами предпринимателей, которые устами утилитаристов призывали к протекционистским и либеральным мерам.
Ни анализ накоплений, ни естественная история, — если мы выйдем на уровень их существования, их общности, их неизменности и изменений, — не могут быть рассмотрены нами как сумма различных мнений. Они должны быть описаны как способ систематизации различных трактовок объектов дискурса (их разграничения, перегруппировки или отделения, сцепления и взаимообразования), как способ расположения форм высказывания (их избрания, установления, выстраивания рядов и последовательностей, составления больших риторических единств), как способ манипулирования концептами (для чего необходимо дать им правила применения, ввести их в отдельные устойчивости и, таким образом, конституировать концептуальную архитектонику). Такого рода предпочтения не являются зародышами дискурса, где они были бы заранее определены и предвосхищены в квазимикроскопической форме, но, скорее, теми путями регуляции, которыми обусловливается использование дискурсивных возможностей и которые должны быть описаны соответствующим образом.
Все эти стратегии могут быть проанализированы так же, как могут быть проанализированы элементы второго порядка, установленные сверху дискурсивной рациональностью, которая, вместе с тем, остается все же независимой от них. Не существует никакого идеального дискурса, одновременно окончательного и вневременного, предпочтения и внешний источник которого были бы искажены, смазаны, деформированы, отброшены, может быть, к весьма удаленному будущему, — во всяком случае, для исторических описаний, которые мы здесь пытаемся наметить, такой идеальный дискурс не должен быть допущен. Мы не имем права полагать, например, что в природе или экономике могут переплетаться и перераспределяться два дискурса, один из которых медленно и постепенно развивается, накапливая свои приобретения и шаг за шагом продвигаясь к собственной полноте осуществления, — полноте подлинного дискурса, или дискурса как такового, — но во всей своей чистоте существует только в рамках телеологи истории, а другой всегда стремится к саморазрушению, всякий раз пытается начаться заново, постоянно порывает с самим собой и распадается на гетерогенные фрагменты, образуя дискурс мнений, которые, с течением времени, отбрасываются в перфект истории. Не существует естественной таксономии, которая была бы исчерпывающе точной, исключая разве что креационизм; не существует подлинной экономики обмена и прибыли, которая при этом не принимала бы в расчет предпочтения и иллюзии капиталистической торговли. Классическая таксономия и анализ накоплений в том виде, в каком они действительно существуют, и так, как они конституируют исторические фигуры, объединяют в артикулированной, но неразъединенной системе объекты, высказывания, концепты и теоретические предпочтения.
И подобно тому, как не следует связывать формации объектов со словами или вещами, формации высказываний — с чистой формой знания или с психологическим субъектом, а формации концептов со структурой идеальности и преемственностью идей, точно так же и не следует соотносить формации теоретических предпочтений ни с основополагающим замыслом, ни со вторичной игрой мнений и воззрений.
7. ЗАМЕЧАНИЯ И СЛЕДСТВИЯ
Теперь остается сделать несколько замечаний к осуществленному нами анализу, ответить на некоторые из поставленных в нем вопросов и, прежде всего, рассмотреть возражения, — неизбежные, поскольку парадоксальность нашего предприятия уже очевидна.
Я с самого начала поставил под сомнение заранее установленные общности, согласно которым традиционно полагали неопределенную, монотонную, разрастающуюся область дискурса. Я стремился не оспорить значимость этих общностей или «запретить» их применение, но только показать, что для точного их определения требуется тщательная теоретическая разработка. Тем не менее, зададимся вопросом (и в этом предшествующий анализ оказывается весьма спорным): нужно ли противопоставлять этим, может быть, действительно несколько неопределенным общностям, другие группы менее наглядных, более абстрактных и, естественно, более спорных общностей? Даже в том случае, если исторические границы и специфика организации выявляются достаточно легко (о чем свидетельствует, например, опыт общей грамматики и естественной истории), эти дискурсивные формации ставят проблемы ориентации гораздо более сложные, нежели книга или произведение. Зачем же тогда приступать к столь сомнительной перегруппировке в тот самый момент, когда казавшееся наиболее очевидным становится проблематичным? Какую новую область мы надеемся открыть? Какие трансформации, все еще пребывающие вне досягаемости историков? Одним словом, какая описательная эффективность может соответствовать новому анализу? На все эти вопросы я попытаюсь ответить ниже. Сейчас же необходимо решить иные задачи, первостепенные для предстоящих исследований и решающие для уже осуществленных: вправе ли мы говорить об общностях, рассматривая дискурсивные формации, которые я попытался определить? способен ли разрыв, о котором шла речь, индивидуализировать совокупности? и какова природа открытой и построенной таким образом общности?
Мы исходили из уже установленного: общность дискурса, будь то дискурс клинической медицины, политической экономии или естественной истории, непосредственно связана с рассеиванием элементов. Собственно говоря, рассеивание — с его лакунами, разрывами, взаимопроникновениями, наложениями, несоответствиями, замещениями и заменами — можно определить во всем своеобразии, если определены частные правила, по которым образуются объекты, акты высказывания, концепты и теоретические предпочтения. Если общность и существует, то вовсе не в видимой и горизонтальной связности образованных элементов; она помещена по ею сторону, в системе, которая делает возможным их образование и управляет им. Но каким образом можно говорить об общностях и системах? Вправе ли мы утверждать, что совокупности дискурсов индивидуализированы, если совершенно случайно за внешне разрастающейся множественностью объектов, актов высказываний, концептов и предпочтений начинает действовать масса не менее многочисленных, не менее рассеянных и более разнородных элементов, — особенно, если эти элементы распределены по четырем отдельным группам, способ артикуляции которых еще не определен? И вправе ли мы говорить о том, что все эти элементы, функционирующие за объектами, актами высказывания, концептами и стратегиями дискурса, обеспечивают существование совокупностей, не менее индивидуализированных, нежели произведение или книгa?
1. Вряд ли есть необходимость возвращаться к очевидному: когда говорят о системе формации, под этим понимают не только близость, сосуществование или взаимодействие разнородных элементов (институций, техник, социальных групп, перцептивных организаций, связей между различными дискурсами), но и вполне определенные отношения, установленные между ними дискурсивной практикой. Но как в таком случае быть с теми четырьмя системами или, скорее, четырьмя совокупностями отношений? Каким образом они могут определять любую единичную систему образования?
Итак, различные уже определенные уровни не теряют взаимозависимости. Мы показали, что выбор стратегий не вытекает непосредственно из мировоззрения или предпочтения интересов, которые могли бы принадлежать тому или иному говорящему субъекту, но самая их возможность определена точками расхождения в игре концептов. Мы должны будем показать также, что концепты формируются не непосредственно на приблизительной, смешанной и живой основе идей, но опосредованно, исходя из форм сосуществования между высказываниями. Что касается разновидностей актов высказывания, вполне очевидно, что они были описаны в соответствие с положением, занимаемым субъектом по отношению к области объектов, о которых он говорит. В таком случае существует вертикальная система зависимостей: все положения субъекта, все типы сосуществования между высказываниями, все дискурсивные стратегии возможны только тогда, когда они узаконены предшествующими уровнями. Так, если мы учитываем систему образования, руководившую в XVIII в. объектами естественной истории (например, индивидуальности, наделенные характерными чертами и тем самым классифицируемые; структурные элементы, поддающиеся изменениям; видимые и внеструктурные элементы, поддающиеся изменениям; видимые и анализируемые поверхности; поля непрерывных и закономерных различий), некоторые разновидности актов высказывания будут исключены (такие, как расшифровка знаков), другие же, напротив, будут рассмотрены (такие, как описание по определенному коду). Если мы учитываем разные положения, которые может занимать субъект дискурса (например, субъект, наблюдающий без инструментального посредника; субъект, выделяющий из воспринимаемой множественности лишь элементы структуры; субъект, переписывающий эти элементы в кодовый словарь и т. д.), можно утверждать, что наблюдаются некоторое число сосуществований между исключенными высказываниями (например, повторное использование уже сказанного или комментарий, толкующий священный текст) и высказываниями возможными и необходимыми (например, включение полностью или частично аналогичных высказываний в таблицы классификаций). Уровни не свободны по отношению Друг к другу и не устанавливаются посредством неограниченной суверенности: от первичного различения объекта до образования дискурсивных стратегий простирается вся иерархия отношений.
Но отнощения устанавливаются и в обратном порядке. Нижние уровни сохраняют зависимость от высших. Теоретические предпочтения исключают или привлекают в высказывания, которые их осуществляют, формации определенных концептов, определенных форм сосуществования высказываний: так, в текстах физиократов мы не встретим тех же самых способов объединения количественных данных и измерений, что и в анализах утилитаристов. Физиократический выбор не способен был изменить совокупность правил, обеспечивающих образование экономических концептов в XVIII в., но он мог ввести в обиход либо, напротив, исключить из обихода те иди иные данные правила и создать, таким образом, определенные концепты (например, концепт чистого продукта), которые нигде более появиться не могли. Теоретический выбор не управляет образованием концепта, но порождает его посредством частных правил образования концептов и с помощью игры отношений, которую он ведет с этим уровнем.
2. Системы формаций не должны рассматриваться как неподвижные блоки, статичные формы, предписываемые дискурсу извне и определяющие раз и навсегда характерные особенности и возможности. Не из требований происходит человеческая мысль и игра мыслительных репрезентаций. Но, в то же время, это и не определения, созданные на уровне институций и социальных или экономических отношении, которые с немалыми трудностями переписываются на поверхности дискурса. Эти системы, как уже подчеркивалось, коренятся в самом дискурсе, или, скорее (поскольку речь идет не о его внутреннем строении и не о том, что в нем может содержаться, но о его частном существовании и самих условиях этого существования), на границе, в пределе, где устанавливаются частные правила, позволяющие ему существовать как таковому.
Итак, под системой образования нужно понимать всю совокупность отношений, функционирующих в качестве правила: она предписывает то, что должно было соотноситься в дискурсивной практике для того, чтобы последняя соотносилась с тем или иным объектом, приводила в действие тот или иной акт высказывания, применяла тот или иной концепт и организовала ту иди иную стратегию. Таким образом, определить в своей единичной индивидуальности систему формации означает охарактеризовать дискурс или группу высказываний с помощью закономерностей практики.
Как совокупность правил дискурсивной практики система формации не чужда времени. Она не объединяет всего того, что может возникнуть через столетнюю последовательность высказываний в начальной точке, которая была бы одновременно началом, источником, основанием, системой аксиом и исходя из которой событиям истории оставалось бы только следовать должным образом. Она очерчивает систему правил, которые выполняются для того, чтобы данный объект трансформировался, данный акт высказывания осуществлялся, данный концепт вырабатывался, видоизменялся или привносился, данная стратегия изменялась и, тем не менее, постоянно принадлежала одному и тому же дискурсу; она очерчивает систему правил, которые должны выполняться для того, чтобы изменения в других дискурсах (практиках, институциях, социальных отношениях, экономических процессах) могли переписываться внутри данного дискурса, конституирующего, таким образом, новый объект, создающего новую стратегию, предоставляющего место новым актам высказывания или новым концептам. Следовательно, дискурсивная формация не играет роль фигуры, которая останавливает время и замораживает/его на десятилетия или века; она определяет собственно говоря, закономерность во временных процессах и полагает принцип артикуляции между рядами дискурсивных и недискурсивных событий, преобразований, изменений или процессов. Это не вневременная форма, но схема соответствий между несколькими временными последовательностями.
Подвижность системы формации достигается двояким образом. Прежде всего, это происходит на уровне элементов, находящихся в определенных отношениях: последние действительно могут претерпевать некоторые свойственные им изменения, участвуя в дискурсивной практике, но не искажая общую форму ее закономерности, — так, на протяжении XIX в. постоянно изменялись уголовное право, демографическое давление, спрос на рабочую силу, формы социальной помощи, статус и юридические условия тюремного заключения, однако дискурсивная практика психиатрии по-прежнему разрабатывала на основе этих элементов все ту же совокупность отношений таким образом, что система сохраняла характерные черты своей индивидуальности. При одних и тех же законах формации появлялись новые объекты (новые типы индивидуума, новые классы поведения, которые характеризовались как патологические), начинали применяться новые разновидности актов высказывания (количественных рейтингов и статистических подсчетов), вырисовывались контуры новых концептов (дегенерация, извращения, неврозы) и, разумеется, возникает возможность построения новых теоретических систем. Но дискурсивные практики, напротив, изменяли области, в которых они наладили отношения. Они устанавливали частные связи, которые могут анализироваться только на их собственном уровне и не вступают во взаимодействие в одном дискурсе, вписываясь в элементы, связывающие их Друг с другом. Больничные учреждения, например, введенные однажды клиническим дискурсом в контакт с лабораторией, не остаются неизменными: неизбежно претерпевает изменения их устройство, меняется статус врача, функция его взгляда, уровень анализа, который можно осуществлять.
3. То, что мы описываем как «системы формации», не является завершающей ступенью дискурса, если под этим понимать тексты (или слова) так, как они даны в словаре, синтаксисе, логической структуре или риторической организации. Анализ остается вне очевидного уровня завершенного построения: устанавливая принцип распределения объектов в дискурсе, он не учитывает ни всех связей между ними, ни их тонкой структуры, ни внутренних разграничений;
в поисках закона рассеивания концептов он не учитывает ни всех процессов разработки, ни всех дедуктивных связей, в которых они могут фигурировать; если же он исследует разновидности актов высказывания, то не ставит под вопрос ни стиль, ни артикуляцию; одним словом, он лишь вчерне набрасывает финальную сборку текста. Тем не менее, нельзя забывать, что если он остается в стороне от последнего построения, то не для того, чтобы отвернуться от дискурса и обратиться к безмолвной работе мысли; и, тем более, вовсе не затем, чтобы отказаться от всякой систематичности и попыток упорядочить «живой» беспорядок набросков, опытов, заблуждений и повторных начал.
При этом анализ дискурсивных формаций противопоставляет себя многим привычным описаниям. Действительно, принято считать, что дискурс и его систематическое устройство — всего лишь предельное состояние, окончательный результат длительной и изощренной разработки, в которой участвуют язык и мысль, эмпирический опыт и категории, пережитое и идеальная необходимость, стечение обстоятельств и игра формальных требований. За видимым фасадом системы угадывается заманчивая неизвестность беспорядка, а под тонкой пленкой дискурса — вся масса отчасти молчаливого становления: «досистематическое», не являющееся систематическим порядком, «преддискурсивное», возникающее из существенного безмолвия. Дискурс и система могут выходить — и притом совместно — только из этих неисчерпаемых сокровенных хранилищ. Так что предмет нашего анализа — вовсе не окончательное состояние дискурса, но системы, устанавливающие возможность последних систематических форм; это предзавершающие закономерности, по отношению к которым предельное состояние, далекое от того, чтобы конституировать место рождения системы, определяется скорее по их вариантам. То, что открывает анализ формаций за завершенной системой, вовсе не является бурной, еще не плененной жизнью; это всего лишь неизмеримая толщь систематизации, сжатая совокупность многочисленных отношений. Более того, эти отношения — самое ткань текста, по природе своей они не чужды дискурсу. Можно охарактеризовать их как «преддискурсивные», если признать эту преддискурсивность все еще дискурсивной, то есть согласиться с тем, что они не столько строго определяют мысль, сознание или совокупность репрезентаций, которые были бы задним числом и напрасно вписаны в дискурс, сколько устанавливают определенные уровни дискурса и правила, вводящиеся в качестве единичных практик. Итак, следует стремиться не перейти от текста к мысли, от пустого разговора к молчанию, от внешнего к внутреннему, от пространственного рассеивания к полной сосредоточенности на данном мгновении, от поверхностной множественности к глубокому единству, но оставаться в дискурсивном измерении.
II. ВЫСКАЗЫВАНИЕ И АРХИВ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Мне кажется, что мы уже пошли на риск, когда, артикулируя великую поверхность дискурса, предположили существование этих немногих странных и удаленных фигур, которые я назвал дискурсивными формациями, когда в заботе о методе традиционных общностей на время отложили книги и произведения, когда отказались считать принципом общности законы построения дискурса (с вытекающей из этого формальной организацией) или положение говорящего субъекта (с контекстом и психологической подоплекой, которые его характеризуют), когда выяснили, что более не относим дискурс ни к первооснове опыта, ни к инстанции априорного знания, но выводим правила его образования из него же самого. Я полагаю, что пора предпринять исследование системы появления объектов, возникновения и распределения видов высказывания, введения и рассеивания концептов, развертывания стратегических предпочтений, а также определить абстрактные и спорные общности вместо того, чтобы принимать уже данные если не в неоспоримой очевидности, то, по меньшей мере, в излишне общепринятой форме.
Но о чем, собственно, я говорил до сих пор? Каков был объект моего исследования? Что я пытался описать? «Высказывания» — одновременно в их прерывности, освобождающей от всех форм, и в общем, неограниченном и, по-видимому, бесформенном поле дискурса. Я остерегался давать предварительное определение высказыванию. Я не пытался сформулировать его по мере продвижения вперед, чтобы'найти оправдание наивности исходной точки отсчета. Более того — ив этом несомненно неизбежное последствие подобной беззаботности — я спрашиваю себя, не изменилась ли на протяжении пути моя ориентация, не поменял ли я свой первоначальный азимут? О высказываниях ли я говорил, анализируя «объекты», «концепты» и еще более тщательно «стратегии»? Определяют ли четыре совокупности правил, которыми я охарактеризовал дискурсивную формацию, группы высказываний? Наконец, вместо того, чтобы постепенно сужать и без того смутное значение слова «дискурс», я только умножил смыслы: то ли это общая область всех высказываний, то ли индивидуализируемая группа высказываний, то ли установленная […] го, как осуществлял анализ иди его точку приложения, по мере того, как терял из виду само высказывание?
Итак, первостепенная задача — вернуть к своим истокам определение высказывания и узнать, действительно ли оно применяется в предыдущих описаниях, о самом ли высказывании идет речь в анализе дискурсивных формаций.
Я неоднократно использовал термин «высказывание»- иногда затем, чтобы указать на «популяции высказываний» (когда речь шла об индивидуумах или единичных событиях), иногда затем, чтобы противопоставить его (как часть, отличную от всего остального) общностям, которые могли бы быть дискурсами. На первый взгляд, высказывание появляется как последний неделимый элемент, поддающийся изоляции в самом себе и способный вступать в отношения с другими ему подобными элементами… Точка вне плоскости, которую тем не менее можно отметить в планах разделения и частных формах группирования… Узелок на поверхности ткани, существенным элементом которой он является… Атом дискурса…
И сразу же возникает проблема: если высказывание — элементарная общность дискурса, то из чего оно состоит? Каковы его отличительные черты? Какие пределы следует за ним признать? Тождественна ли эта область той, которую логики определяют термином пропозиция, той, которую грамматисты характеризуют как фразу, или той, которую «аналитики» пытались обозначить понятитем акт? Какое место она занимает среди всех этих общностей, уже упорядоченных языковедами (хотя лингвистические теории порой далеки от совершенства, настолько проблемы, поставленные ими сложны, настолько во многих случаях затруднительно разграничить их строгим образом)?
Я не думаю, что непременное и достаточное условие существования высказываний — это присутствие определенной пропозициональной структуры. О высказывании можно говорить тогда и только тогда, когда есть пропозиция. Действительно, два совершенно отличных высказывания, принадлежащие к разным дискурсивным группам, можно получить в том случае, если есть пропозиция, обладающая одним единственным значением, подчиняющаяся одной и той же совокупности законов построения и несущая в себе одни и те же возможности применения. Предложения «Никто не услышал» и «Действительно, никто не услышал» неразличимы с логической точки зрения и не могут рассматриваться как две разных пропозиции. Но в качестве высказываний обе формулировки не равнозначны и не взаимозаменяемы. Они не могут занимать одно и то же место в плане дискурса и принадлежать к одной и той же группе высказываний. Если формула «Никто не услышал» находится в первой строке ро […] немую дискуссию, пререкания с самим собой или фрагмент диалога, совокупность вопросов и ответов. В обоих случаях пропозициональная структура одинакова, но высказывания различны. Однако полные и удвоенные пропозициональные формы или, напротив, фрагментарные и незавершенные пропозиции можно получить в том случае, когда перед нами оказывается простое, полное и автономное высказывание (даже если оно является частью совокупности других высказываний); известные примеры: «Нынешний король Франции — лыс» (высказывание можно анализировать с логической точки зрения, если признать в разновидностях одного высказывания две различные пропозиции, способные в отдельности быть истинными или ложными) или «Я лгу» (высказывание может быть истинным только по отношению к утверждению низшего уровня). Критерии, позволяющие определить тождественность пропозиции, выделить в ней несколько разных пропозиций под общностью формулировки, охарактеризовать автономию или полноту, не подходят для описания общности высказывания.
А фраза? Может быть, следует признать равноценность фразы и высказывания? Повсюду, где есть грамматически выделенная фраза, можно обнаружить существование независимого высказывания, однако нельзя говорить о высказывании, если ниже самой фразы проходит уровень обрзаующих ее элементов. Совершенно бесполезно оспоривать это соотношение, утверждая, что некоторые высказывания составлены вне канонической формы подлежащее-связка- сказуемое из простой именной синтагмы («Наш человек!»), или из наречия («Здорово!»), или из личного местоимения («Вы?»). Грамматики признают в подобных формулировках независимые фразы, даже если они подвержены серии трансформаций в соответствие со схемой подлежащее-сказуемое. Более того, они соотносят статус «приемлемых» фраз с совокупностью лингвистических элементов, построенных неверно, лишь бы их можно было интерпретировать; в то же время, они соотносят статус грамматических фраз с интерпретируемыми общностями при условии их правильного образования. В столь широком, и в некотором смысле, примиренческом определении фразы остается неясным, как опознать фразы, не являющиеся высказываниями или высказывания, не являющиеся фразами.
Тем не менее эта равноценность далеко не абсолютна, и относительно легко установить высказываня, несоответствующие лингвистической структуре фраз. Когда мы встречаем в латинской грамматике ряд слов, расположенных в столбик: «amas, amas, amat» — мы имеем дело не с фразой, но с высказыванием нескольких личных окончаний действительного наклонения настоящего времени глагола атаrе. Может быть, найдется спорный пример; может быть, в данном случае речь идет о простой уловке презентации, и это высказывание является эллиптической фразой, сокращенной и приобретшей пространственный характер относительно непривычным образом; в таком случае ее нужно читать как фразу «Настоящее время действительного наклонения первого типа глагола атаrе — ото» и т. д. Во всяком случае, другие примеры менее двусмысленны: классификационная таблица ботанических видов состоит из высказываний, а не из фраз (Genera Plantarum Линнея — книга, изобилующая высказываниями, в которой можно встретить лишь ограниченное число фраз); генеалогическое древо, бухгалтерская книга, учет торгового баланса являются высказываниями. А что же фразы? Можно пойти дальше: уравнение n-ной степени или алгебраическая формула закона преломления должны рассматриваться в качестве высказываний, и если они обладают слишком строгой грамматической правильностью (поскольку составлены из символов, смысл которых определяется правилами применения и последовательностью, вырабатываемой законами построения), то речь идет не тех же критериях, что позволяют выявить на обыденном языке интепретируемую или осмысленную фразу. Наконец, график, кривая роста, возрастная пирамида, облако распределения также образуют высказывания; фразы же, которыми они могут сопровождаться, неравноценны им и выступают в качестве интерпретаций иди комментария; это подтверждается и тем, что в большинстве случаев лишь ограниченное число фраз может быть равноценно всем элементам, скрыто сформулированным в данном виде высказывания. Таким образом, определить высказывание во всей его целостности грамматическими особенностями фразы не представляется возможным.
Остается последняя и, казалось бы, самая реальная возможность. Нельзя ли предположить, что высказывание присутствует везде, где опознается и выделяется акт формулирования — нечто наподобие Speech act, «иллокуторного» акта английских аналитиков? Ясно, что под этим подразумевается не материальный акт, состоящий в говорении (громким или тихим голосом) и в письме (от руки или на машинке), равно как и намерение индивидуума, пребывающего в состоянии говорения (то, что он хотел бы доказать, с чем готов согласиться, с помощью чего пытается найти решение проблемы или хочет сообщить новости) или возможный результат того, что он сказал (если он убедил иди вызвал недоверие; если его молитва была услышана, а просьбы удовлетворены). Мы описываем здесь операции, осуществляемы посредством самой формулы при ее возникновении:
обещание, приказ, декрет, контракт, обязательство, констатация. Иллокуторный акт до этого момента не отворачивается от высказывания (в мысли автора или в игре его намерений); он не может произойти после самого высказывания вслед за тем, что оно оставило позади себя и за его последствиями, но совершается он самим актом существования высказывания (и ничем более) при строго определенных обстоятельствах. Следовательно, можно предположить, что индивидуализация высказываний отмечает те же самые критерии, что и ориентация актов формулирования: каждый акт оформляется в высказывании, а каждое высказывай обживается одним из этих актов. Они существуют благодаря друг Другу и во взаимосвязи.
Однако подобное соотношение не мешает исследованию. И порой для выполнения speech act необходимо присутствие нескольких высказываний, а клятва, молитва, контракт, обещание, доказательство требуют большей частью известного числа различных формул или обоснованных фраз. Было бы сложно оспоривать статус высказывания для каждой из них под тем предлогом, что все они пронизаны одним и тем же иллокуторным актом. Можно предположить, что в данном случае самый акт не остается единственным в ряду высказываний, что в просьбе есть столько же ограниченных, последовательных, близлежащих актов просьбы, сколько и в просьбах, сформулированных различными высказываниями; что в обещании столько же обязательств, сколько индивидуализированных последовательностей в обособленных высказываниях. Но подобным ответом нельзя удовлетвориться хотя бы потому, что акт формулирования не служит более определению высказывания, но, напротив, должен определяться им самим, пусть оно и проблематично и требует критериев индивидуализации. Иначе говоря, некоторые иллокуторные акты могут рассматриваться в качестве завершенных в их единичной общности лишь в том случае, если между собой были связаны несколько высказываний, каждое на соответствующем ему месте. Следовательно, эти акты образуются рядом или суммой высказываний, их непременной близостью. Неверно полагать, будто все они полностью представлены в наименьшем из них и с каждым возобновляются. И здесь нам не установить дву- или однозначных отношений между совокупностью высказываний и совокупностью иллокуторных актов.
Индивидуализируя высказывания, нельзя признавать безоговорочно ни одну из моделей, заимствованных из грамматики, логики или аналитики. Во всех трех случаях очевидно, что предложенные критерии слишком многочислены и неоднозначны и не объясняют высказывание во всем его своеобразии. Если иногда высказывание и принимает описанные формы и полностью к ним приспосабливается, то в большинстве случаев оно им не подчиняется: вспомним высказывания без надлежащей пропозициональной структуры или присутствующие там, где нет фразы; вспомним высказывания, численно превышающие speech acts. Кажется, что вездесущее высказывание наделено более тонкой структурой и менее поддается определениям и структурированию нежели все эти фигуры, а его характерные черты немногочислены и легче поддаются объединению. Но в таком случае исключается возможность какого-либо описания, и чем дальше, тем все менее понятно, на какой уровень его поместить, и каким образом к нему подступиться; для тех видов анализа, к которым мы толькочто прибегли, оно всего лишь вспомогательное средство иди несущественная деталь: в логическом анализе высказывание является тем, что остается после извлечения и определения структуры пропозиций; для грамматического анализа оно — ряд лингвистических элементов, в которых можно признавать или не признавать форму фразы; для анализа речевых актов оно представляет собой видимое тело, в котором проявляются акты. В рассмотренных описательных подходах высказывание играет роль относящегося к существу дела.
Приходится окончательно согласиться с тем, что высказывание не может иметь собственных характерных черт и не поддается адекватному определению, тогда как для лингвистического анализа оно является сопутствующей проблемой, в связи с которой устанавливаются интересующие их объекты. Следует ли признать, что для конструирования высказываний достаточно любого ряда фигур, знаков или следов, какой бы организации или вероятности они ни были, тогда как грамматика должна установить, идет ли речь о фразе, логика — определить наличие пропозициональных форм, а аналитика — уточнить, какой речевой акт может здесь содержаться? В данном случае нужно было бы признать, что высказывание существует, если существует несколько близлежащих знаков, и если среди них есть один и единственный знак. Тогда порог высказывания был бы порогом существования знаков. Необходимо, однако, учитывать, что все не так просто, и смысл, который нужно придать выражению «существование знаков» требует разъяснения. Что имеют в виду, когда говорят, что знаки есть, и что достаточно им быть, для того, чтобы было высказывание? Какой частный статус дается этому «быть»?
Вполне очевидно, что высказывания не существуют в том смысле, в каком существует язык и вместе с ним совокупность знаков, определенная их дифференциальными признаками и правилами применения. Язык действительно никогда не дан в самом себе и в своей целостности; он может быть дан лишь вторично и путем описания, объектом которого он является; знаки, являющиеся его элементами, суть формы, предписываемые данным высказываниям и управляющие им изнутри. Если бы не было высказываний, язык бы не существовал; но существование высказывания не обязательно для существования языка (поэтому всегда можно заменить одно высказывание другим, не изменяя язык). Язык существует только в виде системы построения возможных высказываний, но, с другой стороны, он существует только в виде описания (более или менее исчерпывающего), основанного на совокупности реальных высказываний.
Язык и высказывание — явления разных уровней существования, нельзя сказать «есть высказывание», подобно тому, как говорят «есть язык». Но достаточно ли в таком случае, чтобы знаки языка образовывали высказывание, если они были произведены тем или иным образом (произнесены, нарисованы, изготовлены, начерчены), если они появились в определенный момент времени и в определенной точке пространства, если произнесший их голос или воплотивший их жест дали им измерение материального существования? Разве буквы алфавита, случайно написанные на листе бумаги как пример того, что не является высказыванием, разве литеры полиграфического набора (нельзя отрицать их материальности, обладающей пространством и объемностью) — разве эти видимые, выставленные напоказ, осязаемые знаки могут рассматриваться как высказывания?
Но при ближайшем рассмотрении эти примеры доказывают противоположные мнения. Пригоршня типографских литер, которые могут лежать на моей ладони, или буквы на клавиатуре пишущей машины не образуют высказывания — это в лучшем случае инструменты, с помощью которых можно будет записать высказывание. Но чем же являются буквы, которые я случайно написал на листе бумаги так, как они пришли мне в голову, чтобы показать, что в таком беспорядке они могут образовать высказывание? Какие фигуры они создают? Разве это не таблица случайных букв? Может быть, это высказывание алфавитного ряда, не подчиняющегося никаким законам, кроме закона случайности? Аналогично этому табель случайных чисел, которая применяется в статистике, — последовательность цифровых символов, не связанных между собой никакой синтаксической структурой, — тем не менее, является высказыванием, высказыванием совокупности шифров, достигающих способом исключения всего того, что могло бы увеличить вероятность последовательных результатов. Уточним пример: клавиатура пишущей машины — не высказывание, тогда как ряд букв A, Z, Е, Р, Т, пронумерованных в учебнике дактилографии, — высказывание алфавитного порядка, адаптированное французской машиной. Таким образом, мы сталкиваемся с несколькими негативными следствиями: закономерное лингвистическое построение не необходимо для образования высказывания (последнее может конституироваться рядом минимальной вероятности); однако и материального осуществления лингвистических элементов или присутствия знаков во времени и пространстве также недостаточно для того, чтобы появилось и начало существовать высказывания. Итак, высказывание не существует ни так, как существует язык (хотя и состоит из языков, поддающихся определению в своей индивидуальности только внутри естественной или искусственной лингвистической системы), ни так, как существуют какие бы то ни было данные в восприятии объекты (хотя и всегда обладает определенной материальностью и его всегда можно расположить в системе пространственно-временных координат).
Еще рано давать ответ на основной вопрос о высказывании и все-таки можно уточнить: высказывание не является общностью того же рода, что фраза, пропозиция или речевые акты и характеризуется Другими критериями; это и не общность, которая могла бы быть материальным объектом, определенным и суверенным. Оно необходимо в своем способе бытия (отнюдь не лингвистическом и не материальном) должно оставаться единичным для того, чтобы можно было установить, наличествует ли здесь фраза, пропозиция, речевой акт; для того, чтобы можно было сказать, точна ли (приемлема или интерпретируема) данная фраза, закономерно ли и правильно ли образована данная пропозиция, согласован ли акт с требованиями и «красиво›› ли оно исполнен. Приходится искать в высказывании не долгую или краткую, сильно или слабо структурированную, но взятую как и остальные в логической, грамматической и иллокуторной связи общность. Речь идет не об элементе среди других элементов или о разрыве, отмеченном на определенном уровне анализа, но о функции, которая исполняется вертикально по отношению к этим разным общностям и позволяет определить, представлены ли здесь ряды знаков или нет. Следовательно, высказывание — не структура (т. е. совокупность отношений между измеряемыми элементами, узаконивающая, таким образом, бесконечное число конкретных моделей), но функция существования, принадлежащая собственно знакам, исходя из которой можно путем анализа или интуиции решить, «порождают ли они смысл», согласно какому правилу располагаются в данной последовательности или близко друг к Другу, знаками чего являются и какой род актов оказывается выполненным в результате их формулирования (устного или письменного). Не стоит удивляться, если структурные критерии общности для высказывания так и не найдены; само по себе оно вовсе не общность, но функция, скрещивающая область структур и возможных общностей и организующая их появление во времени и пространстве.
Эту функцию как таковую, т. е. ее существование, условия, контролирующие ее, правила и поле, в котором она выплоняется, пришло время описать.
2. ФУНКЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Высказывание бесполезно искать среди единичных групп знаков. Синтагмы, правила построения, канонические формы последовательности, взаимные замены — лишь высказывания дает подобным совокупностям знаков право на существование и позволяет этим правилам и формам осуществляться. Но если оно и обеспечивает их существование, то только тем единственным способом, который нельзя путать с существование знаков в качестве элементов языка, ни, разумеется, с материальным существованием меток, занимающих фрагменты и продлевающих время на больший или меньший срок. Пора искать ответы на наши вопросы в этом единственное способе существования, характерном для любой последовательности знаков (лишь бы она была высказыванием).
а) Рассмотрим вновь пример знаков, начертанных в воздухе или нарисованных в определенной материальности и объединенных произвольным иди непроизвольным образом, — во всяком случае, не грамматический пример. Такова клавиатура пишущей машины; такова пригоршня типографских литер. Вполне достаточно того, что эти знаки даны; я переписываю их на лист бумаги (в том же порядке, в котором они следуют Друг за другом, не составляя никакого слова), чтобы они образовали высказывание — высказывание случайной группы букв алфавита, поставленных в порядке, облегчающем набор. Что же произошло для того, чтобы появилось высказывание? Что нового может иметь вторая совокупность по сравнению с первой? Свидетельствует ли удвоение о том, что это копия? Без сомнения нет, поскольку клавиши пишущей машины переписывают всю модель, но тем не менее не являются высказываниями. Вмешательство субъекта? Это был бы вдвойне неверный ответ, поскольку самого факта повторения ряда вследствие инициативы индивидуума недостаточно для трансформации этой инициативы в высказывание; кроме того, в любом случае проблема заключается не в причине или происхождении удвоения, но в отношении между двумя тождественными рядами. Второй ряд действительно не является высказыванием по той простой причине, что можно установить дву- однозначность отношения между любыми элементами первого ряда (это отношение характеризует либо факт удвоения, если речь идет о чистой и простой копии, либо верность высказывания, если порог высказывания уже преодолен; но не позволяет определить этот порог и самый факт высказывания). Ряд знаков превратится в высказывание атом и только в том случае, если к «другой вещи» (которая может быть ему парадоксальным образом подобна и квазитождественна, как в приведенном примере) у него будет частное отношение, касавшееся его самого, но не причины или составляющих элементов.
Можно возразить, что в этом отношении нет ничего загадочного, что оно, напротив, вполне привычно и что его постоянно анализируют; что речь идет об отношении означающего к означающему и об имени, в котором они указаны, об отношении фразы к своему смыслу или об отношении пропозиции к своему референту. Мне кажется, можно показать, что отношение высказывания к тому, что высказывается, не совпадает ни с какими другими отношениями.
Высказывание, даже если оно сведено к именной системе («Корабль!») или к имени собственному («Пьер!»), относится к тому, что оно высказывает иначе, нежели имя к тому, что оно обозначает или означает. Имя — это лингвистический элемент, способный занимать различные места в грамматических совокупностях; его смысл определяется правилами применения (пусть даже речь идет об индивидуумах, которые могут быть надлежащим образом им обозначены, или о синтаксических структурах, в которые оно может беспрепятственно входить); имя определяется возможностью рекурренции. Высказывание существует вне любой возможности появиться вновь; отношения, которые оно поддерживает с тем, что высказывает, не тождественны совокупности правил применения. Речь идет о единичном отношении, и если в этих условиях тождественная формулировка появляется вновь, то это те же, уже использованные слова, те же имена, — одним словом, та же фраза, но совершенно иное высказывание.
Нельзя также смешивать отношение между высказыванием и тем, что оно высказывает, с отношением между пропозицией и ее референтом. Как известно, логики утверждают, что пропозиция «Золотая гора находится в Калифорнии» не может быть проверена, потому что в ней отсутствует референт: то есть ее опровержение настолько же истинно, насколько и утверждение. Возможно ли в этой связи сказать, что высказывание ни с чем не соотносится, если пропозиция, которой оно дает существование, не имеет референта? Скорее, возможно утверждать обратное: не отсутствие референта влечет за собой отсутствие коррелята для высказывания, но, напротив, именно коррелят высказывания — то, с чем оно соотносится, то, что приводится им в действие, не только то, что сказано, но и то, о чем оно говорит, его «тема» — позволяет сказать, есть у пропозиции референт или нет и позволяет решить эту проблему окончательно. В самом деле, если предположить, что формулировка «Золотая гора находится в Калифорнии» встретилась нам не в учебнике географии или рассказе о путешествии, а в романе или каком-либо фантастическом произведении, то можно будет признать ее ценность истины или заблуждения в зависимости от того, указывает или нет воображаемый с мир, которым она соотносится, подобную геологическую или географическую фантазию. Нужно знать, с чем соотносится высказывание, каково его пространство корреляции, чтобы иметь возможность сказать, есть у пропозиции референт или нет. Утверждение «Нынешний король Франции — лыс» лишено референта лишь постольку, поскольку можно предположить, что высказывание соотносится с миром исторической информации современности. Отношение пропозиции к референту не может служить моделью или законом для отношения высказывания к тому, что оно высказывает. Последнее не только принадлежит к иному уровню, нежели первое, но и предшествует в появлении.
Наконец оно не совпадает и с отношениями, которые могут существовать между фразой и ее смыслом. Разница между этими двумя формами отношения отчетливо проявляется на примере совершенно бессмысленных, несмотря на вполне безукоризненную грамматическую структуру, фраз (например, «Бесцветные зеленые идеи бешено спят»). По сути дела, сказать, что фраза, подобная этой, лишена смысла, означает предположить, что некоторое число возможностей уже исключено, признать, что речь идет не об описании сна, поэтическом тексте, зашифрованном послании или словах наркомана, но об определенном типе высказывания, которое должно каким-то образом соотноситься с видимой действительностью. Отношение фразы к ее смыслу может быть установлено именно внутри определенных отношений высказывания. Более того, даже если поместить эти фразы на уровень высказываний, где они не имеют смысла, в качестве высказываний они не будут причастны к корреляциям, позволяющим сказать, что, например, идеи никогда не бывают цветными или бесцветными и, следовательно, фраза не имеет смысла (эти соотношения касаются, с одной стороны, плана действительности, в котором они невидимы, а цвета даны взгляду и т. д.; с другой стороны, представлений о фразе как о типе правильной синтаксической организации, пусть и лишенной смысла; эти отношения касаются плана языка, их законов и свойств). Фраза напрасно пытается стать незначащей, она всегда с чем-нибудь соотносится постольку, поскольку является высказыванием.
Но как же определить отношение, характеризующее собственно высказывание- отношение, скрыто допускаемое фразой или пропозицией и являющееся для них предварительным условием? Как отличить его от отношений смысла или ценности истины, с которыми его обычно смешивают? Коррелятом высказывания — каким бы оно ни было, пусть даже и столь простым, как его представляют — не может быть индивидуум или единичный объект, обозначенный определенным словом фразы: в случае высказывания «Золотые горы находятся в Калифорнии» коррелят не является действительным или воображаемым, возможным или абсурдным образованием, обозначенным определенной именной синтагмой, которая выполняет функции субъекта. Однако коррелят высказывания не является также и состоянием вещей или отношением, позволяющим проверить пропозицию (в приведенном примере это пространственное включение некоей горы в определенный район). Тем не менее, коррелят высказывания можно определить как совокупность областей, в которых могут возникать данные объекты и устанавливаться данные отношения: такова, например, область материальных объектов, обладающих некоторыми постоянными физическими свойствами, отношениями параметров восприятия, или, напротив, область объектов фиктивных, наделенных произвольными свойствами (даже если у них есть определенные постоянство и упорядоченность) без инстанции экспериментальных или перцептивных проверок; такова область пространственных и географических локализаций с системой координат, понятием расстояния, отношениями соседства и включения, или, напротив, область символических атрибутов и скрытых подобий; такова область объектов, существующих в одно и то же мгновение и на одной и той же временной шкале, где формулируется высказывание, или же область объектов, принадлежащих к совершенно иному настоящему — тому настоящему, что обозначено и конституировано самим высказыванием, но отнюдь не тому, которому высказывание принадлежит.
Коррелят не может присутствовать, а равно и отсутствовать «напротив» высказывание (как бы лицом к лицу) — подобно тому, как пропозиции соотнесена с референтом (или его отсутствием), а имя собственное обозначает индивидуума (или никого). Скорее, высказывание связано с Преференциальным», которое конституируется не «вещами», «фактами», «реалиями» или «существами», но законами возможности, правилами существования для объектов, которые оказываются названными, обозначенными или описанными, для отношений, которые оказываются утверждаемыми или отрицаемыми. Референциальное высказывание формирует место, условие, поле появления, инстанцию различения индивидуумов или объектов, состояний вещей и отношений, приведенных в действие самим высказыванием; оно определяет возможности появления и разграничения того, что придает ему смысл, а пропозиции — ценность истины. Именно эта совокупность характеризует уровень высказывания для формулировки в противоположность ее грамматическому и логическому уровням: посредством отношения с различными областями возможности высказывание создает синтагму или ряд символов, фразу, которой можно или нельзя придать смысл, пропозицию, которая может получить или не получить значение истины.
Во всяком случае, очевидно, что описание уровня высказывания невозможно ни с помощью формального анализа, ни посредством семантических исследований, ни с помощью проверок, но лишь путем анализа отношений между высказыванием и пространствами различения, в которых оно выявляет различия.
в) Помимо всего прочего, высказывание отличается от любой последовательности лингвистических элементов тем, что оно поддерживает определенное отношение с субъектом, — отношение, природу которого необходимо уточнить и которое нужно обособить от отношений, обычно с ним смешиваемых.
В самом деде, нельзя сводить субъект высказывания к грамматическим элементам первого лица, представленным внутри данной фразы. Прежде всего, это связано с тем, что субъект высказывания не находится внутри лингвистической синтагмы, а также потому, что высказывание, не содержащее в себе первое лицо, тем не менее, обладает субъектом. Наконец, — и в особенности, — потому, что различные высказывания, наделенные определенной грамматической формой (будь то первое или второе лицо), имеют разные типы отношений с субъектом высказывания. Нетрудно заметить, что в высказываниях типа «Наступает вечер» или «Все имеет свои причины» эти отношения не тождественны друг другу; что же касается высказывания типа «Давно уже я не ложился спать рано», отношение к субъекту высказывания будет различным в зависимости от того, слышим ли мы его в разговоре или читаем написанным на первой странице книги «В поисках утраченного времени».
Что, если внешний субъект фразы — это просто-напросто реальный индивидуум, который ее произнес или написал, а вовсе не знаки иди кто-либо, их порождающий, во всяком случае, не что-либо наподобие элемента-передатчика' Для существования последовательности знаков необходим (в соответствии с системой причинности) «автор» или любая иная производящая инстанция. Но автор не тождественен субъекту высказывания, и отношения производства, которое он поддерживает с формулированием, не сопоставимо с отношением, объединяющим субъект высказывания и то, что он высказывает. Не будем рассматривать — как слишком простой — случай совокупности начерченных в воздухе или оставивших след материальных знаков: их производство предусматривает автора, но не обладает ни высказыванием, ни субъектом высказывания. Чтобы показать расподобление между передатчиком знаков и субъектом высказывания, можно было бы вспомнить пример текста, прочитанного третьим лицом или актером, декламирующим свою роль, но число таких случаев весьма ограничено. В общем и целом, по меньшей мере, на первый взгляд, кажется, что субъект высказывания может быть субъектом, производящим из него различные элементы с целью сигнификации, однако на деле все это не так просто. Хорошо известно, что в романе автор формулировки — это реальный индивидуум, имя которого фигурирует на обложке книги. Здесь сразу возникает проблема диалогических элементов, фраз, относящихся к мыслям персонажей, текстов, опубликованных под псевдонимом; известны все сложности, которые вызывает раздвоение у сторонников интерпретативного анализа, когда они пытаются отнести формулировки во всей их совокупности к тому, что хотел сказать автор текста, к тому, что он думал, — одним словом, к тому великому безмолвному дискурсу, невидимому и однородному, на основе которого они выстраивают пирамиду различных уровней. Но даже вне этих инстанций формулирования, не тождественных индивидууму-автору, высказывания романа имеют не одинаковые субъекты, судя по тому, что они наделяют — как бы извне — рассказанную историю историческими и пространственными координатами, а также судя по тому, что они описывают вещи — как бы с точки зрения анонимного, невидимого и безразличного индивидуума — таинственно слившимися с фигурами фантастического романа, или же судя по тому, каким образом они дают — как бы с помощью внутренней и непосредственной расшифровки — словесную версию того, что молчаливо испытывает персонаж. Эти высказывания, хотя у них один и тот же автор, хотя они приписываются исключительно ему одному, хотя он не выдумывает никаких дополнительных посредников между тем, кем является он сам, и читаемым текстом, — эти высказывания не предполагают одинаковых отличительных черт для субъекта высказывания; они не предусматривают отношения между субъектом и тем, что он пытается высказать.
Можно возразить, что столь часто упоминаемый пример романного текста не имеет решающего значения. Скорее, что он ставит под вопрос самое сущность литературы, но не статус субъекта высказываний. Однако именно от собственно литературы автор отлынивает, прячется, открещивается или не сходится с ней во взглядах. И из этого размежевания не стоит, впрочем, заключать раз и навсегда, что субъект высказывания отличен во всем — в природе, статусе, функции, тождественности — от автора формулировки. Хотя это несоответствие актуально не только для литературы, но и для многих других вещей — постольку, поскольку субъект высказывания является определенной функцией, которая в то же время вовсе не одинакова для двух разных высказываний, а также постольку, поскольку эта пустая функция, способна наполняться до некоторого предела с помощью безразличных, когда им приходится формулировать высказывание, индивидуумов и постольку, поскольку один и тот же индивидуум всякий раз может занимать в ряду высказываний различные положения и играть роль различных субъектов.
Рассмотрим пример математического трактата. В той фразе из предисловия, в которой объясняется, почему был написан этот трактат, при каких обстоятельствах, для ответа на какую нерешенную проблему иди с какой педагогической целью, используя какие методы, после каких ошибок и погрешностей положение субъекта высказывания может быть занято только автором (или авторами) данной формулировки. Условия индивидуализации субъекта действительно очень строги, многочисленны и предполагают в данном случае лишь один единственно возможный субъект. Зато если мы встречаем пропозицию «Два количества, равные третьему, равны между собой» в самом тексте трактата, субъект высказывания здесь будет совершенно нейтральным, безразличным по отношению к времени, пространству и обстоятельствам положением, тождественным любой лингвистической системе и любому письменному или символическому коду, положением, которое может занять каждый индивидуум, утверждающий данную пропозицию. С другой стороны, фразы типа «Мы уже показали, что…» содержат для возможности быть высказываниями точные контекстуальные условия, не предусмотренные предшествующей формулировкой: в таком случае положение фиксируется внутри области, образованной конечной совокупностью высказываний, оно локализовано в последовательности событий высказываний, которые уже должны были совершиться; оно осуществлено в указанном времени, предшествующие моменты которого никогда не теряют друг друга и которым нет нужды возобновляться и повторяться тождественно для того, чтобы вновь обрести присутствие (достаточно упоминания, чтобы привести их в действие); оно определяется предварительным существованием некоторого числа эффективных операций, произведенных, может быть, не одним и тем же индивидуумом (говорящим в данный момент), но по праву принадлежавших субъекту высказывания, представленных в его распоряжение, — операций, которые он может вновь привести в действие, как только в этом возникнет необходимость. Те, кто попытаются наделить предмет какого-либо высказывания совокупностью этих необходимостей и возможностей, не смогут описать его как индивидуум, который действительно выполнял операции, жил в определенное время, усвоил в горизонте своего сознания всю совокупность истинных пропозиций и, тем самым, воспрепятствовал в живом настоящем своей мысли мнимому повторному возникновению (под этим понимается всего-навсего аспект психологического и «пережитого» в их качестве субъектов высказывания).
Подобным же образом можно было бы описать, каково специфическое положение субъекта высказывания фраз типа «Я называю прямой любое единство точек, которые…» или «Предположим законченную совокупность каких-либо элементов…»; в обоих случаях положение субъекта связано с существованием одновременно определенной и актуальной операции; в обоих случаях субъект высказывания является также и субъектом операции, субъект, производящий определение, является субъектом, который его высказывает, субъект, полагающий существование, является в то же время субъектом, который полагает высказывание, наконец, в обоих случаях посредством этой операции и высказывания, которое она производит, субъект связывает высказывания и возможные в будущем операции, поскольку в качестве субъекта высказывания он принимает это высказывание как свою закономерность.
Тем не менее, мы можем отметить некоторые отличия: в первом случае высказывание является конвенцией речи — той речи, которая должна использовать субъект высказывания и внутри которой он определяется. Следовательно, субъект высказывания и то, что является высказыванием, находятся на одном уровне, тогда как для формального анализа высказывание, подобное данному, предполагает собственное смещение в метаязык. Во втором случае субъект высказывания, напротив, дает существование внеположенному объекту, принадлежащему уже определенной области, законы возможности которой артикулированы, а характерные особенности которой предшествуют полагающему его акту высказывания. Понятно, что положение субъекта высказывания тождественно не всегда, когда речь идет об утверждении истинной пропозиции; очевидно, что оно не является одним и тем же, когда речь идет об осуществлении в самом высказывании или в операции.
Итак, не следует понимать субъект высказывания как тождественный автору формулировки — ни содержательно, ни функционально. Он действительно не является причиной, источником иди точкой отсчета этого феномена, который можно определить как письменную или устную артикуляцию фразы; он также не является означающим направлением, которое, молчаливо предвосхищая слова, организует их как видимое тело его интуиции; он не является постоянным, неподвижным и самотождественным очагом операций, которые высказывания поочередно выявляют на поверхности дискурса. Он является определенным и пустым местом, которое может быть заполнено различными индивидуумами; но, вместо того, чтобы быть определенным раз и навсегда и сохраняться без изменения на протяжении текста, книги или произведения, это место изменяется, — или, скорее, оно достаточно изменчиво для того, чтобы либо настойчиво придерживаться в своей тождественности нескольких фраз, либо изменяться с каждой. Оно является измерением, характеризующим любую формулировку в качестве высказывания. Оно является одной из черт, принадлежащих собственно к функции высказывания и позволяющих ее описать. Если пропозиция, фраза, совокупность знаков могут быть названы «высказываниями», то лишь постольку, поскольку положение субъекта может быть определено.
Итак, описать формулировку в качестве высказывания означает не проанализировать отношения между автором и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, не желая того), но определить положение, которое может и должен занять индивидуум для того, чтобы быть субъектом.
с) Третья характерная особенность функции высказывания: она не может выполняться без существования области ассоциированного. Это превращает высказывание в нечто иное, нежели простое соединение знаков, нуждающееся для своего существования только в материальном отношении — в видимости, в записи, в звуковом материале, обрабатываемом материале, глубоком срезе следа. Но это отличает его также и от фразы или пропозиции.
Предположим некую совокупность слов и символов. Чтобы решить, образуют ли они грамматические общности типа фразы или логические общности типа пропозиции, необходимо и достаточно определить, по каким правилам они построены. «Пьер не ходил на карьер» образует фразу, а «Карьер не Пьер на ходил» не образует; «A+B=C+D» конституирует пропозицию, но «ADC+ = D» не конституирует. Только исследование элементов и их распределения по отношению к естественной или искусственной системе языка позволяет установить различие между тем, что является пропозицией, и тем, что ею не является, между тем, что является фразой, и беспорядочным нагромождением слов. Это исследование достаточно для того, чтобы определить, к какому типу грамматической структуры относится интересующая нас фраза (утвердительная фраза, фраза, построенная в прошедшем времени, фраза, содержащая или не содержащая именное подлежащее и т. д.) или какому типу пропозиций отвечает ряд рассматриваемых нами знаков (равнозначность между двумя суммами). В крайнем случае, можно анализировать фразу или пропозицию, которая определяется как «одна и только одна», без какой-либо другой, служащей ей контекстом, без единой совокупности фраз или связанных с ней пропозиций, — пусть даже в данных условиях они будут бесполезны и непригодны к использованию, это не помешает их признанию в своей единичности.
Несомненно, найдется несколько возражений. Например, такого рода: пропозиция может быть создана и индивидуализирована как таковая только при условии, что известна система аксиом, которым она подчинена; не образует она ли определение, правило, конвенцию письма ассоциированного поля, которое неотделимо от пропозиции (так же, как грамматические правила, скрыто находящиеся в произведении в компетенции субъекта, необходимы для того, чтобы можно было опознать фразу определенного типа)? Тем не менее, необходимо отметить, что эта совокупность — действительная и возможная — располагается на ином уровне, нежели пропозиция или фраза. Она основывается на своих элементах, их возможных последовательностях и распределениях. Она не связывает их друг с другом. Она предполагается посредством пропозиции. На это можно возразить, что большинство пропозиций (не тавтологических) не могут быть проверены исходя только из правил их построения и для того, чтобы решить, ложные они или истинные, необходимо применить референт; но, истинная или ложная, пропозиция всегда остается пропозицией, и вряд ли применение референта решает, пропозиция она или нет. Это верно и для фраз: в большинстве случаев они могут производить смысл только в контексте (хотя бы они и содержали деиктические элементы, отсылающие к конкретной ситуации или использовали местоимения первого и второго лица, обозначавшие говорящего субъекта и его собеседников, или применяли местоименные элементы и частицы, относящиеся к предыдущим фразам). Но то обстоятельство, что смысл не может быть завершен, не мешает фразе быть грамматически полной и автономной. Видимо, недостаточно хорошо известно, что «хочет сказать» совокупность слов типа «Это я вам скажу завтра»; во всяком случае, нельзя ни датировать этот завтрашний день, ни назвать собеседников, ни догадаться о том, что должно быть сказано. Это ничего более, кроме как обычная фраза, согласованная с правилами построения французского языка. Наконец, станут возражать, что без контекста сложно определить структуру фразы (фраза «Если он умер, я этого никогда не узнаю» может быть построена как «В том случае, если он умер, мне никогда не узнать об этом» или же «Мне никогда не сообщили бы о его смерти»). Но в данном случае речь идет о совершенно определенной двусмысленности, одновременные возможности которой можно перечислить и которая является частью собственно структуры фразы. В общем и целом, можно сказать, что фраза или пропозиция — даже изолированная, даже оторванная от естественного контекста, который ее проясняет, даже освобожденная и отделенная от всех элементов, с которыми скрыто или явственно она могла бы соотноситься, — всегда остается фразой или пропозицией, и всегда возможно опознать ее как таковую.
Однако функция высказывания не может выполняться во фразе или пропозиции в свободном состоянии демонстрируя тем самым, что она не является чистой и простой конструкцией предварительных элементов. Для того, чтобы появилось высказывание и речь коснулась высказывания недостаточно произнести или написать фразу в определенном отношении к полю объектов или к субъекту; необходимо еще включить ее в отношения со всем прилегающим полем. Или, скорее, — поскольку речь здесь идет не о дополнительных отношениях, которые сказываются в других отношениях, — нельзя произнести или написать фразу, нельзя привести ее к существованию высказывания, если не используется побочное пространство. Высказывание всегда имеет края, населенные другими высказываниями. Эти края отличаются от того, что обычно понимают под «контекстом» — действительным или словесным — то есть от совокупности элементов ситуации или речи, мотивирующих формулировку и тем самым определяющих смысл. Они отличаются от перечисленного постольку, поскольку делают его возможным: контекстуальное отношение между фразой и другими окружающими ее фразами различно в случае романа или, например, физического трактата; оно будет различаться между формулировкой и объективной средой, когда речь идет о разговоре или, например, о результатах опыта. Именно на основании более общего отношения между формулировками, на основании всей вербальной сети определяется действие контекста. Края не тождественны и различным текстам, различным фразам, которые субъект может представлять в уме, когда говорит; здесь они еще более беспорядочны, нежели данное психологическое окружение; до некоторой степени они определяют его, так как в соответствии с положением, статусом и ролью формулировки среди остальных, в соответствии с тем, что она вписывается в поле литературы или должна рассеяться как незначительный предмет, в соответствии с тем, что она является частью рассказа или руководит доказательством — способ присутствия других высказываний в сознании субъекта не будет одинаковым: используются разные уровни, разные формы лингвистического опыта, словесной памяти, упоминания уже сказанного. Психологический ореол формулировки управляется издали диспозициями поля высказываний.
Ассоциированное поде, которое производит из фразы и знакового ряда высказывания и позволяет им обладать определенным контекстом, частным репрезентативным содержанием, представляет собой сложную структуру.
Сначала оно образуется рядом других формулировок, внутри которых высказывание вписывается и формирует элемент (игра реплик, составляющих разговор, система доказательства, ограниченная предпосылка с одной стороны и требованиями — с другой, последовательность утверждений, конституирущих рассказ). Оно обращается также в совокупность формулировок, с которыми, скрыто иди явственно, соотносится высказывание либо для того, чтобы их повторить или изменить и приспособить, либо для того, чтобы противопоставить их друг Другу, либо для того, чтобы говорить о них в свою очередь. Не существует высказывания, которое бы так или иначе не вводило в ситуацию другие высказывания (ритуальные элементы в рассказе, уже утвержденные доказательством пропозиций, общепринятые фразы в разговоре). Более того, оно образуется совокупностью формулировок, последующей возможностью которых распоряжается высказывание и которые могут идти за ним в качестве следствия, естественного продолжения или возражения (порядок не открывает те же самые возможности высказывания, что пропозиции аксиоматики или начало рассказа). Наконец, оно образуется совокупностью формулировок, статус которых разделяет рассматриваемое высказывание, среди которых оно занимает место вне линейного порядка, с которых оно стирается или напротив будет оценено, сохранено, сакрализовано и представлено как возможный объект будущему дискурсу (высказывание неотделимо от статуса, который может получить в качестве «литературы» или как несущественное замечание, вполне достойное быть забытым, или как установленная навсегда научная истина, или как пророческие слова и т. д.). Во всяком случае, можно сказать, что последовательность лингвистических элементов является высказыванием лишь в том случае, если она помещена в поле высказываний, где и появляется в качестве единичного элемента.
Высказывание — не прямая проекция определенной ситуации на план речи или совокупности репрезентаций. Оно применяется не просто через субъект, который порождает некоторое число элементов и лингвистических правил. С самого начала, от своих истоков оно вырисовывается в поле высказывания, где у него есть место и статус, который предполагает для него возможные отношения с прошлым и открывает прогнозируемое будущее. Любое высказывание существует подобным частным образом: нет высказывания вообще, свободного, безразличного и независимого, но лишь высказывание, включенное в последовательность или совокупность, высказывание, играющее роль среди других, основывающееся на них и отличающееся от них; оно всегда включено в игру высказываний, в которой у него есть своя простая и незначительная, как ему и подобает, роль, тогда как грамматическое построение для своего осуществления нуждается в элементах и правилах и, в конечном счете, возможно представить себе язык (разумеется, искусственный), который использовал бы для своего построения и всех нужд только одну фразу. Впрочем, учитывая алфавит и правила построения формальной системы, можно полностью определить первую пропозицию этого языка, но она тоже не является высказыванием. Нет высказывания, которое не предполагало бы других высказываний, которое не имело бы вокруг себя поля сосуществований, эффектов и последовательностей, распределения функций и ролей.
Если и возможно говорить о высказывании, то постольку, поскольку фраза (или пропозиция) фигурируют в определенной точке, в определенном положении, в игре высказываний, которая его переполняет. На основании сосуществования высказываний, на автономном и описательном уровне выделяются грамматические отношения между фразами, логические отношения между пропозициями и металингвистические отношения между языком и речью-объектом, речью, определяющей свои правила, риторические отношения между группами (или элементами) фраз. Очевидно, мы вправе анализировать все эти отношения, не ставя во главу угла самое поде высказываний, то есть область сосуществования, где выполняется функция высказывания. Но они могут существовать и поддаются анализу постольку, поскольку эти фразы были «высказываниями»; другими словами, постольку, поскольку они проявляют себя в поле высказываний, которое позволяет им находиться в определенной последовательности или порядке, сосуществовать и играть роль по отношению друг к другу. Высказывание, едва ли будучи принципом индивидуализации означающих совокупностей (значащим «атомом», исходя из которого существует смысл) — это то, что располагает сигнификативные, или означающие, общности в пространстве, где они умножаются и накапливаются.
d) Наконец, для того, чтобы последовательность лингвистических элементов могла рассматриваться и анализироваться как высказывание, необходимо, чтобы она выполняла четвертое условие: она должна обладать материальным существованием. Возможно ли говорить о высказывании, если оно не произнесено вслух, если его нельзя увидеть, если оно не воплощено в ощущаемом элементе и не оставило следа — всего за несколько мгновений — в памяти или пространстве? Возможно ли говорить о высказывании как о фигуре идеальной и безмолвной? Высказывание всегда дано «через» материальную толщу, — даже если оно рассеяно, даже если оно приговорено (с явным трудом) исчезнуть. Да и не только высказывание нуждается в материальности, — она, в свою очередь, тоже не дана ему в дополнение, но в каком-то смысле его образует. Составленная из одних и тех же слов, наделенная одним и тем же смыслом, пребывающая в семантической и синтаксической тождественности, фраза не конституирует одно и то же высказывание, если она произнесена кем-либо в разговоре или напечатана в романе, если она была написана некогда, несколько веков тому назад, и если она вновь появляется теперь в устной формулировке. Координаты и материальный статус высказывания являются некоторыми из присущих характерных особенностей. Это более, чем очевидно. Наверное. Так как, едва вещам уделяют толику внимания, они становятся менее ясными, а проблемы умножаются.
Конечно, хотелось бы сказать, что если высказывание лишь отчасти характеризуется материальным статусом, и если его тождественность чувствительна к изменениям этого статуса, то это же свойство присуще фразам и пропозициям: материальность знаков действительно совсем не чужда грамматике и даже логике. Известны теоретические проблемы, которые ставит перед ней материальное постоянство используемых знаков (как определить тождественность символа через разные субстанции, в которые он может быть воплощен и видоизменен в допустимые для него формы? Как его опознать и убедиться, что он-тот же самый, если его нужно определять как «конкретное физическое тело»?). Так же хорошо известны проблемы, которые ставит перед ней самое понятие «последовательность символов» (что означает предшествовать и следовать? приходить «до» и «после»? в каком пространстве расположены эти понятия?). Несколько лучше известны отношения материальности языка — роль письменности и алфавита, то, что в письменном тексте и в разговоре, в газете и книге, в письме и на афише используется совершенно разный синтаксис и словарь; более того, существуют последовательности слов, которые образуют индивидуализированные ивполне приемлемые фразы, если они фигурируют в заголовках газеты, и которые тем не менее в разговоре никогда не могли бы считаться фразой, имеющей смысл. Однако материальность играет для высказывания намного более важную роль: она не просто принцип смены, изменения критериев знания или определение лингвистических совокупностей меньшего масштаба (и уровня). Она отрицается самим высказыванием: нужно, чтобы высказывание имело материю, отношение, место и дату. И когда эти необходимые условия изменятся, оно само меняет тождественность- Сразу же возникает масса вопросов: одно высказывание или несколько образует одна и та же фраза, произнесенная громким или тихим голосом' каждое ли повторяемое предложение дает место высказыванию, когда заучивают текст наизусть, или следует полагать, что повторяется одно и то же? сколько высказываний во фразе, правильно переведенной на иностранный язык — два или одно? сколько высказываний можно насчитать в коллективном повторении текста — на молитве или уроке? как установить тождественность высказывания, учитывая эти случайные обстоятельства, повторения и переписывания?
Помимо всего прочего, проблема осложняется тем, что часто между уровнями царит неразбериха. Преде всего нужно выделить множественность актов высказывания. Нам возразят, что акт высказывания выполнен всякий раз, когда передана совокупность знаков. Каждая из этих артикуляций имеет пространственно-временную индивидуальность. Два человека могут одновременно сказать одно и то же, но, поскольку их двое, будет два разных акта высказывания. Один и тот же субъект может несколько раз повторить одну и ту же фразу, — таким образом, получится несколько разных актов высказываний во времени. Акт высказывания — не повторяющееся событие; оно имеет свою пространственную и временную единичность, которую нельзя не учитывать. Однако единичность влечет за собой некоторое количество постоянных — грамматических, семантических, логических — с помощью которых можно, нейтрализуя момент высказывания и координаты, его индивидуализирующие, опознать общую форму фразы, значения, пропозиции. Время и место акта высказывания, материальное отношение, им используемое, становятся тогда, по меньшей мере, малозначимыми; выделяется же форма, которая бесконечно повторяется и может дать место наиболее рассеяным высказываниям.
Итак, само высказывание не может быть сведено к чистому событию акта высказывания, так как, несмотря на свою материальность, оно может быть повторено: ничто не мешает нам сказать, что одна и та же фраза, произнесенная двумя людьми в разных обстоятельствах, конституирует только одно высказывание. И тем не менее, оно не сводится к грамматической или логической форме, поскольку оно чувствительно к различиям материала, материи, времени и места. Какова же эта материальность, присущая высказыванию и узаконивающая некоторые единичные повторения? Как становится возможным то, что можно говорить об одном и том же высказывании там, где есть несколько разных актов высказываний — тогда как следует говорить о нескольких высказываниях там, где нельзя опознать формы, структуры, правила построения и тождественные намерения? Каков же режим повторяющейся материальности, характеризующий высказывание?
Не это ли как раз ощутимая количественная материальность, данная в форме цвета, звука или твердости, и разграфленная той же пространственной ориентацией, что и перцептивное пространство? Возьмем очень простой пример: текст, воспроизведенный несколько раз, несколько изданий одной и той же книги или, еще лучше, разные экземпляры одного и того же тиража не образуют различных высказываний: во всех изданиях «Цветов зла» (не исключая варианты и недошедшие целиком тексты) мы вновь находим ту же самую игру высказываний, хотя ни буквы, ни чернила, ни бумага, ни любой способ локализации текста и расположения знаков не будут одинаковы: изменилась каждая крупица материальности. Но в данном случае эти «маленькие» различия не способны исказить тождественность высказывания и вызвать к существованию другое; они полностью нейтральны в основном — конечно, материальном, но одинаково институциональном и экономическом — элементе «книги»: книга, каким бы ни было количество экземпляров и изданий, на каких бы различных материалах она не возникала, — это место строгой равноценности для высказываний, для них это инстанция бесконечного повторения тождественности. Первый пример показывает, что материальность высказывания определяется вовсе не занимаемым пространством или датой формулировки, но, скорее, статусом вещи или объекта, — всегда неопределенным, но изменяющимся, относительным и всегда готовым быть поставленным под вопрос статусом: известно, например, что для историков литературы издание книги, опубликованной самим автором, имеет иной статус, нежели посмертные издания, что высказывания имеют в данном случае единичную ценность и являются не проявлением одной и той же совокупности, но тем, что должно быть и будет повторено. Подобным же образом, нельзя утверждать наличие равноценности между текстами Конституции и Библии или религиозного откровения и любыми рукописями или печатными текстами, которые воспроизводят их с помощью той же самой письменности, тех же букв и аналогичных материалов: с одной стороны, суть сами высказывания, с другой — их воспроизведения. Высказывание не отождествляется с фрагментом материи; его тождественность изменятся вместе со всем режимом материальных институций.
Итак, высказывание может быть одним и тем же — будь то рукопись на листе бумаги иди опубликованный в книге текст; оно может быть одним и тем же — произнесено ли оно вслух, напечатано на афише или воспроизведено на магнитофонной ленте; однако когда романист произносит какую-либо фразу в повседневной жизни и затем помещает ее, ничего не изменив, в рукопись, которую пишет, вкладывая ее в уста персонажа или даже позволяя произвести ее тому анонимному голосу, что слывет голосом автора, нельзя утверждать, что в этом случае речь идет об одном и том же высказывании. Режим материальности, которому непосредственно подчиняются высказывания, является скорее порядком институции, нежели пространственно-временной локализации; он определяет скорее возможности повторной записи и переписи (а также пороги и пределы), нежели ограниченные и «ленные» индивидуальности.
Тождественность высказывания подчинена второй совокупности условий и пределов, предписанных ей совокупностью других высказываний, среди которых оно фигурирует, областью, в которой его можно использовать или применять, ролью или функцией, которые оно должно исполнять. Утверждения «Земля круглая» или «Виды эволюционируют» не являются одним и тем же высказыванием до и после Коперника, до и после Дарвина; в столь простых формулировках изменился не смысл слов, но отношение этих утверждений к другим пропозициям, условия их использования и «реинвестирования», поле опыта, возможных проверок, разрешаемых проблем, с которыми можно их соотнести. Фраза «Сны реализуют желания» может повторяться веками, но она не будет одним и тем же высказыванием и у Платона, и у Фрейда. Схема применения, правила применения, созвездия, где они могут играть роль, их стратегические возможности образуют для высказываний поле стабилизации, которое, несмотря на все различия актов высказывания, позволяет им повторяться в своей тождественности, но, кроме семантических, грамматических и наиболее очевидных формальных тождественностей, это поле может определять порог, с которого равноценности более не существует, и нужно признать появление нового высказывания. Без сомнения, можно пойти далее и предположить, что одно и то же высказывание существует там, где, тем не менее, не тождественны ни слова, ни синтаксис, ни самый язык. Возьмем ли мы дискурс или синхронный перевод, научный текст на английском языке и его французскую, суждение о трех колоннах на трех различных языках — число высказываний будет не равно числу используемых языком. У нас получается только одна совокупность высказываний в различных лингвистических формах. Более того, данная информация может быть переведена еще раз, но уже с помощью других слов, в упрощенной синтаксической структуре или на установленном коде. Если информативное содержание и возможности использования — одинаковы, то можно будет сказать, что во всех случаях перед нами одно и то же высказывание.
К тому же, в данном случае речь идет не о критерии индивидуализации высказывания, но, скорее, о его принципе изменения: он более разнообразен, нежели структура фразы, а его тождественность тоньше, легче, изменчивей, нежели тождественность семантической или грамматической совокупности, либо более постоянен, нежели эта структура, а его тождественность шире, прочнее и устойчивей. Более того, не только тождественность высказывания не может быть раз и навсегда установлена по отношению к тождественности фразы, но она сама по себе относительна и неустойчива в соответствии с употреблением, которое находят высказыванию, и тем, как им распоряжаются.
Когда высказывание используют для того, чтобы вычленить из него грамматическую структуру, риторическую конфигурацию или коннотации, носителем которых оно является, вполне очевидно, что его нельзя рассматривать как тождественное в языке оригинала и перевода. Но если попробовать ввести его в процесс экспериментальной проверки, текст и перевод будут образовывать одну и ту же совокупность высказываний. К тому же, на определенной ступени макроистории можно предположить, что утверждение «Виды эволюционируют» образуют одно и то же высказывание у Дарвина и у Симпсона; на более тонком уровне, рассматривая более ограниченные поля употребления («неодарвинизм» в противопоставлении собственной системе Дарвина), мы имеем дело с двумя разными высказываниями. Постоянство высказывания, сохранение его тождественности в единичных событиях актов высказываний, раздвоения в тождественности форм, — все это является функцией поля использования, которым оно оказывает окружено.
Таким образом, высказывание не должно пониматься как событие, которое производилось бы в определенном месте и времени, которое было бы возможно полностью воспроизвести в акте памяти. Между тем очевидно, что оно не является также и идеальной формой, которую всегда можно актуализировать в любом теле, в какой бы то ни было совокупности и при любых материальных условиях. Слишком часто повторяющееся для того, чтобы полностью соответствовать пространственно-временным координатам своего рождения (оно отлично от даты и места появления), слишком тесно связанное с тем, что его окружает и учреждает, для того, чтобы быть столь же свободным, как чистая форма (в отличие от законов построения, управляющих совокупностью элементов), высказывание некоторой переменной тяжестью, относительным весом в том поле, куда оно помещено, некоторым постоянством, допускающим разнообразные использования, временной непрерывностью, которая лишена инерции простого следа и не проспит своего прошлого. В то время, как акт высказывания может быть вновь начат или вновь вспомнится, а форма (лингвистическая или логическая) может быть вновь актуализирована, высказывание может быть повторено, — но всегда при соблюдении строгих условий.
Повторяющаяся материальность, которая характеризует функцию высказывания, вызывает к жизни высказывание как специфический и парадоксальный объект, но все же как объект среди тех объектов, которые производятся, обрабатываются, используются, преобразуются, обмениваются, комбинируются, разбираются и собираются, может быть, разрушаются людьми. Вместо того, чтобы быть раз и навсегда сказанной вещью — затерянной в прошлом, как итог сражения, геологическая катастрофа или смерть короля — высказывание одновременно с появлением в своей материальности, возникает со своим статусом, включается в систему, располагается в поле использования, поддается перемещениям и возможным изменениям, участвует в операциях и стратегиях, где его тождественность поддерживается или исчезает.
Таким образом, высказывание функционирует, служит, скрывается, позволяет или препятствует осуществить желание, покоряется или сопротивляется интересам, включается в порядки раздоров и войн, становится предметом присвоения или соперничества.
3. ОПИСАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Направление анализа оказалось заметно смещено; я хотел дать определение высказыванию, которое изначально оставалось неопределенным. Все было сказано так, как будто высказывание — легко устанавливаемая общность, законы и возможности группирования которой мы пытались описать. Возвращаясь к пройденному, я обнаружил, что не могу определить высказывание как общность лингвистического типа, высшую по отношению к фонеме и слову и низшую по отношению к тексту, но, скорее, имею дело с функцией высказывания, приводящей в действие разнообразные общности: иногда они могут совпадать с фразами, иногда — с пропозициями, но иногда они состоят из фрагментов фраз, последовательностей или знаковых таблиц, игры пропозиций или равноценных формулировок; данная функция, вместо того, чтобы придавать «смысл» данным общностям, налаживает их отношение с полем объектов; вместо того, чтобы сопоставлять их с субъектом, открывает их общность возможных субъективных положений; вместо того, чтобы строго определить их границы, помещает их в область согласования и сосуществования; вместо того, чтобы определить их тождественность, располагает их в пространстве, где они инвестируются, используются и повторяются. Одним словом, мы сталкиваемся не с атомическим высказыванием — с его действием смысла, происхождением, границами и индивидуальностью, — но с полем изучения функций высказывания и условий, при которых она вызывает к жизни различные общности, которые могут быть (но вовсе не должны быть) грамматическим или логическим порядком. В данный момент я обязан ответить на два вопроса: что нужно понимать под изначально поставленной задачей описать высказывание? как теория высказывания может сочетаться с анализом дискурсивных формаций, который был намечен без ее помощи?
А
1. Прежде всего необходимо определить словарь. Если вербальным перформансом или, может быть, лучше лингвистическим перформансом принятно называть любую совокупность знаков, действительно произведенных исходя из естественного (или искусственного) языка, то формулировкой можно называть индивидуальный (или, в крайнем случае, коллективный) акт, который на каком-либо материале и в соответствии с определенной формой дает жизнь данной группе знаков: формулировка является событием, которое, по меньшей мере, всегда правомерно сориентировано в системе пространственно-временных координат, которое всегда может быть приписано автору и в состоянии самостоятельно образовывать частный специфический акт («перформативный» акт, как говорят английские аналитики). Фразой же или пропозицией мы будем называть общности, которые грамматика и логика могут признавать в совокупности знаков. Эти общности всегда можно охарактеризовать элементами, в них фигурирующими, и правилами построения, их объединяющими; тогда как вопросы первоначала, времени, места и контекста являются в этом случае второстепенными; принципиальный вопрос — это вопрос коррекции (пусть даже и ограниченной формой «приемлемости»). Высказыванием мы будем называть разновидность существования, присущего данной совокупности знаков — модальность, которая позволяет ему не быть ни последовательностью следов иди меток на материале, ни каким-либо объектом, изготовленным человеческим существом, модальность, которая позволяет ему вступать в отношения с областью объектов, предписывать определенное положение любому возможному субъекту, быть расположенным среди других словесных перформансов, быть, наконец, наделенным повторяющейся материальностью. Что касается термина дискурс, используемого слишком неопределенно, сейчас уже можно установить причину его неоднозначности: в самых общих чертах он обозначает совокупность словесных перформансов; следовательно, под дискурсом можно понимать то, что было произведено (возможно, все, что было произведено) совокупностью знаков. Но таким же образом можно понимать и совокупность актов формулировки, ряд фраз или пропозиций. И наконец, — этот смысл данного термина привилегированней, нежели первый, служащий ему горизонтом, — дискурс является общностью очередностей знаков постольку, поскольку они являются высказываниями, то есть поскольку им можно назначить модальности частных существований. И если мне удастся показать — а это я сейчас и пытался сделать — что явление, которое я прежде называл дискурсивной формацией, представляет собой закон подобного ряда, если мне удастся показать, что оно является принципом рассеивания и распределения не формулировок, не фраз, не пропозиций, в высказываний (в том смысле, который я придаю этому слову), то в таком случае термин дискурс может быть определен окончательно как совокупность высказываний, принадлежащих к одной и той же системе формаций Именно таким образом я смогу говорить о климатическом дискурсе, дискурсе экономическом, дискурсе естественной истории и дискурсе психиатрии.
Я знаю, что в большинстве своем эти определения не соответствуют общепринятым: лингвисты придают слову дискурс совсем другой смысл; логики и аналитики иначе используют термин высказывание. Но я не собираюсь переносить в область, которая только и ждет подобного разъяснения, игру концептов, форму анализа, теорию, которые были образованы в ином месте; я не собираюсь использовать модель, применяя ее с присущей ей эффективностью к новым содержаниям. Не то чтобы я хотел оспоривать ценность подобной модели или, даже не испытав ее, ограничить ее досягаемость и властно обозначить порог, который она не должна переступать. Мне бы хотелось дать жизнь описательной возможности, очертить область, для которой она пригодна, определить пределы и автономию. Эта описательная возможность непосредственно связана с другими, но не проистекает из них.
Очевидно, анализ высказываний не претендует на полное и исчерпывающее описание «языка» или «того, что было сказано». В любой толще, введенной словесным перформансом, он располагается на отдельном уровне, который должен быть выделен из других, охарактеризован по отношению к ним и к уровню абстракции. В частности, он не замещает логический анализ пропозиций, грамматический анализ фраз, психологический или контекстуальный анализ формулировок. Он предлагает другой подход к словесным перформансам, другой способ разлагать их целостности, изолировать пересекающиеся термины и отмечать различные закономерности, которым те подчиняются. Приводя в действие высказывания, противопоставляя их фразе и пропозиции, мы не стремились ни обрести утраченную целостность, ни воскресить полноту живого слова, богатство глагола, глубокое единство Логоса (подобно тому, как изобретают все новые ностальгии те, кому не молчится). Анализ высказывания соответствует частному уровню описания.
2. Итак, высказывание не является элементарной общностью, которая прибавляется или смешивается с общностями, описанными грамматикой и логикой. Он не может быть изолировано таким же образом, как фраза, пропозиция или акт формулирования. Описание высказывания не сводится к выделению или выявлению характерных особенностей горизонтальной части, но предполагает определение условий, при которых выполняется функция, давшая существование ряду знаков (ряду не грамматическому и не структурированному логически), — и притом, существование частное, существование, которое выявляет ее как нечто иное, нежели чистый след, скорее, как отношение к области объектов, как нечто иное, нежели результат действия или индивидуальной операции, скорее, как игру возможных для субъекта положений, как нечто иное, нежели органичная, автономная, замкнутая в самой себе целостность, способная формировать смысл только в себе самой, скорее, как элемент в поле сосуществований, как нечто иное, нежели скоротечное событие или неподвижный объект, скорее, как повторяющуюся материальность. Описание высказываний обращается — в соответствии со своего рода вертикальным измерением — к условиям существования различных означающих совокупностей. Отсюда парадокс: оно не пытается очертить, обойти словесные перформансы, чтобы открыть за ними и под их видимой поверхностью скрытый элемент, скрывающийся в них или возникающий подспудно тайный смысл; однако высказывание не видимо непосредственно; оно не проявляется столь же явным образом, как грамматическая или логическая структуры (даже если последняя не полностью ясна, даже если ее крайне сложно разъяснить). Высказывание одновременно и невидимо и несокрыто.
Оно несокрыто по самому своему определению, поскольку характеризует модальности существования, присущие совокупности действительно произведенных знаков. Анализ высказывания может основываться только на сказанных вещах, на фразах, которые были в действительности произнесены или написаны, на означающих элементах, которые оставили след или были артикулированы — и, более строго, на единичности, которая заставляет их существовать, предоставляет их взгляду, чтению, возможной реактивации, тысяче применений или возможных трансформаций среди других вещей, но не в качестве других вещей. Он может касаться лишь осуществленных словесных перформансов, поскольку анализирует их на уровне существования, описывая сказанные вещи именно в том качестве, в каком они были сказаны. Анализ высказывания, следовательно, является историческим анализом, который, тем не менее, остается вне любой интерпретации: он не вопрошает сказанные вещи о том, что они скрывают, о том, что в них сказано или недосказано, — об изобилии мыслей, образов и фантазмов, которые их населяют. Напротив, он задается вопросом о том, каким образом они существуют или что считается в них проявленным, оставившим след и, может быть, оставшимся для повторного использования; он спрашивает о том, что является для них очевидным, появившимся — и ни о чем более. С этой точки зрения нельзя признать возможность существования скрытого высказывания, так как рассматривают только то, что является очевидностью действующего языка.
Этот тезис сложно подтвердить даказательствами. Хорошо известно, — может быть, с тех пор, как люди научились речи, — что вещи часто говорятся Друг для друга, что фраза может одновременно иметь два разных значения, что один проявленный и полученный без особых хлопот смысл может таить в себе второй, эзотерический или пророческий, который будет открыт вследствие более тщательной расшифровки или эрозии времени, что под видимой формулировкой может царить другая, которая руководит ею, перестраивает и искажает, предписывая несвойственные ей формулировки, — короче говоря, тем или иным образом сказанные вещи говорят сами за себя и даже несколько больше. Но в действительности эффекты удвоения или раздвоения, и недосказанное, которое оказывается сказанным вопреки всему, не затрагивают высказывание, по меньшей мере, то, которое имеется в виду в данном случае. Полисемия — узаконивающая герменевтику и открытие другого смысла — касается фразы и семантических полей, которые она вводит в действие: одна и та же совокупность слов может дать место нескольким смыслам, нескольким возможным построениям, она может иметь несколько — переплетенных или чередующихся — различных значений, но на основании одного высказывания, которое остается самотождественным. Подобным же образом, подавление одного словесного перформанса другим, их замещение или наложение суть феномены, относящиеся к уровню формулировки (даже если они влияют на лингвистические и логические структуры); само же высказывание отнюдь не затрагивается этим раздвоением или вытеснением, поскольку является такой разновидностью существования словесного перформанса, какой оно было осуществлено. Высказывание не может рассматриваться как совокупный результат или кристаллизация нескольких неустойчивых, едва артикулированных высказываний, взаимодействующих друг с другом. Высказыванию не сопутствует тайное присутствие недосказанного, скрытое значение, репрезентации; напротив, способ посредством которого функционируют скрытые элементы и с помощью которого они могут быть восстановлены, зависит от самой разновидности высказывания. Хорошо известно, что «недосказанное», «вытесненное» не одно и то же — ни по своей структуре, ни по своему эффекту — когда речь идет о математическом высказывании и высказывании экономическом, когда речь идет об автобиографии или о изложении сна.
Тем не менее ко всем разнообразным разновидностям недосказанного, которые могут устанавливаться на основе поля высказываний, без сомнения нужно прибавить недостающее, которое, вместо того, чтобы быть внутренним, соотносилось бы с этим полем и участвовало в определении самого его существования. Оно действительно может существовать — и несомненно существует всегда в условиях появления высказываний, исключения, пределов иди лакун, которые обрисовывают референциадьное, утверждают единственную последовательность разновидностей, намечают или вновь замыкают группы сосуществования, препятствуют некоторым формам использования и т. д… Но нельзя смешивать —.ни в по статусу, ни в по эффекту действия — недостающее, которое характерно для закономерности высказываний, и значения, скрытые в том, что оказывается сформулированным.
3. Итак, напрасно стремление высказывания быть несокрытым, оно все равно невидимо, не дано восприятию как явный носитель пределов и характерных черт. Необходимо определенное изменение взгляда и образа действия для того, чтобы его можно было опознать и рассматривать самостоятельно. Может быть, это слишком хороший знакомый, который постоянно нас избегает; может быть, пресловутая прозрачность, которая для того, чтобы не скрывать ничего в своей толще, тем не менее, не дана во всей ясности. Уровень высказывания обрисовывается в его непосредственной близости.
Тому есть несколько причин. Первая уже приводилась: высказывание не является общностью наряду с фразами и пропозициями;
оно всегда включено в общности этого рода или даже в последовательности знаков, которые не подчиняются их законам (и которые могут быть списком, случайным рядом или таблицей); оно характеризует не то, что в них дано, или то, как они разграничены, но самый факт их данности и способ, которым они даны. Оно обладает той сверхневидимостью «есть», которая читается в том, о чем можно сказать «есть та или иная вещь».
Другая причина состоит в том, что сигнификативная структура языка всегда отсылает к другому; объекты оказываются им обозначенными, смысл — намеченным, субъект отмечен некоторым количеством знаков, даже если он сам и не присутствует. Язык всегда кажется населенным другим, — местом, расстоянием, удаленностью;
он опустошается отсутствием. Не является ли он местом появления чего-то иного, нежели он сам, и не рассеивается ли его собственное существование в этой функции? Итак, если необходимо описать уровень высказывания, нужно принять во внимание это существование;
опросить язык не о том, к чему он отсылает, но об изменении, которое его задает; оставить в стороне его власть обозначать, называть, показывать, выявлять, его способность быть местом смысла или истины, и задержаться на моменте, — либо застывшем, либо включенном в игру означающего и означаемого, — который определяет его единичное и ограниченное существование. Речь идет о том, чтобы в исследовании языка оставиться не только на точке зрения означаемого (теперь это уже привычно), но и на точке зрения означающего, чтобы заставить появиться то, что есть повсюду в отношении с областью объектов и возможных субъектов, в отношении с другими формулировками и вероятными повторными применениями языка.
Наконец, последняя причина сверхневидимости высказывания: оно предполагается любыми другими анализами языка, но его никогда не пытались рассмотреть в отдельности. Для того, чтобы язык мог быть исследован как объект, разделенный на различные уровни, описываемый и анализируемый, необходимо, чтобы присутствовало «данное высказывание», которое всегда будет определенном и конечным: анализ языка всегда осуществляется на своде слов и текстов, интерпретация и упорядочивание подразумеваемых значений всегда основаны на ограниченной группе фраз, логический анализ системы включает в повторную запись, в формальную речь данную совокупность пропозиций. Что касается уровня высказываний, он всякий раз оказывается маловажным: пусть он определяется только как демонстрационный образец, который позволяет освободить неопределенно применяющиеся структуры, пусть он тайно уклоняется в чистую видимость, за которой должна обнаруживаться истина другого слова, пусть он оценивается как незначительный материал, служащий опорой формальным отношениям, пусть всякий раз он необходим для того, что анализ мог иметь место, — любая существенность устраняет его для самого анализа. Если к этому прибавить то обстоятельство, что описания могут осуществляться, лишь сами будучи конечными совокупностями высказываний, сразу станет ясно, почему поле высказываний окружает их со всех сторон, почему они не могут освободиться от него и почему не могут рассматривать его непосредственно как предмет рассуждений. Рассматривать высказывания сами по себе — не означает искать вне всех этих анализов и на более глубоком уровне некую тайну или некий исток языка, которые они опускают, но попробовать сделать видимой и анализируемой столь близкую прозрачность, которая является элементом их возможности.
Несокрытый и невидимый, уровень высказывания находится на пределе языка: сам по себе он вовсе не является совокупностью признаков, данных не систематическим образом непосредственному опыту; но и вне себя он не является загадочным безмолвием, которое он не переводит. Он определяет модальность своего появления, скорее, ее периферию, нежели внутреннюю организацию, скорее, ее поверхность, нежели содержание. Но возможность описать поверхность высказывания доказывает, что «данное» языка не является простым прерыванием глубокой немоты, что слова, фразы, значения, утверждения, сцепления пропозиций не опираются непосредственно на первозданную ночь безмолвия, но внезапное появление фразы, вспышка смысла, неожиданное указание на обозначения всегда появляются в области осуществления функции высказывания и между языком — таким, каким его читают и слышат и таким, на котором говорят, — и отсутствием любой формулировки нет изобилия всех едва сказанных вещей, всех неопределенных фраз, всех наполовину сказанных мыслей, этого бесконечного монолога, лишь некоторые отрывки которого могут появляться; но прежде всего — или во всяком случае прежде него (так как он от них зависит) — условий, в соотвествии с которыми выполняется функция высказывания. Это доказывает также, что напрасно искать вне структурных, формальных или интерпретативных приемов анализа языка область, освобожденную наконец от любой позитивности, где могли бы развертываться свобода говорящего, тяжкий труд человеческого бытия или открытие трансцендентального предназначения. Нет смысла возражать против лингвистических методов или логического анализа: «Что после стольких слов о правилах построения вы делаете из самого языка в полноте его живого тела? Что вы делаете из этой свободы или предварительного любому значению смысла, без которых не было бы индивидуумов, понимающих друг друга в постоянно выполняемой работе языка? Разве вы не знаете, так легко преодолев конечные системы, которые делают возможным бесконечность дискурса, но не способны его основывать и контролировать, разве вы не знаете, что находка бывает или приметой трансцендентности иди произведением человеческого существа? Помните ли вы, что описали лишь некоторые характерные признаки языка, появление и способ быть которых абсолютно не сводим к вашему анализу?». Должно отбросить эти возражения, так как, если истино то, что существует измерение, не принадлежащее ни логике, ни лингивстике, то оно не является, тем не менее, ни восстановленной трансцендентностью, ни вновь открывшимся путем к недостижимому первоначалу, ни конституированном человеческим существом собственных значени. Язык в инстанции своего появления и способа быть — это высказывание; как таковой он зависит от описания, не являющегося ни трансцендентальным, ни антропологическим. Анализ высказывания не предписывает лингвистическому и логическому анализу предел, дойдя до которого они должны были бы отказаться двигаться дальше или признать свою беспомощность; он не проводит линию, которая бы ограничивала их область; он развертывается в другом и скрещивающемся направлении. Возможность анализа, индивидуализация, если она установлена, должна позволять установливать трансцендентальную опору, которую определенная форма философского дискурса проивопоставляет любому анализу языка во имя бытия самого языка и основания, откуда он должен вести происхождение.
В
Теперь я должен обратиться ко второй группе вопросов: как определенное подобным образом описание высказываний может соотноситься с анализом дискурсивных формаций, принципы которого я обрисовал выше? И наоборот: возможно ли сказать, что анализ дискурсивных формаций является описанием высказываний в том смысле, который я только что дал этому слову? Необходимо ответить на данные вопросы, так как именно в этой точке деятельность, которой я занимаюсь вот уже столько лет, которую я развивал вполне безрассудно, но общий силуэт которой я пытаюсь сейчас обрисовать, рискуя ее упорядочить, рискуя исправить большинство ее заблуждений или недочетов, — деятельность эта должна замкнуть свой круг. Как уже отмечалось, здесь я не пытаюсь сказать о том, что я хотел сделать некогда в том или ином анализе, проекте, который я собирался осуществить, о препятствиях, которые я встретил, о компромиссах, которые пришлось пойти, о более или менее удовлетворительных результатах, которых я достиг; я не описываю действительную профессиональную карьеру, чтобы обозначить то, чем она должна была бы быть, и то, чем она будет начиная с данного момента; я пытаюсь выяснить у нее самой — чтобы найти меры и установить требования — возможность описания, которую я использовал, не зная требований и средств; скорее, чем исследовать то, что я сказал, или то, что я мог бы сказать, я хотел бы выявить в закономерности, ему присущей, выходящей из моего подчинения, то, что делало возможным сказанное мной и мое говорение. Вполне очевидно, что здесь я не развиваю теорию в точном и строгом смысле этого термина: дедукция, исходящая из некоторого количества аксиом, из абстрактной модели, применимой к неопределенному числу эмпирических описаний. Для подобного предприятия, если оно вообще возможно, время еще не пришло. Я не вывожу анализ дискурсивных формаций из определения высказываний, выступающего в качестве основания; я не вывожу природу высказываний из того, что является дискурсивными формациями или из того, как можно было бы абстрагировать их от того или иного описания; я пытаюсь показать, как без изъянов, без противоречий, без внутренней произвольности может образовываться область, в которой подлежат обсуждению высказывания, принцип их группирования, большие исторические общности, которые они могут конституировать, и методы, позволяющие их описать. Я двигаюсь не посредством линейной дедукции, но, скорее, концентрическими кругами, и иду то ли к самым внешним, то ли к самым внутренним: исходя из проблемы прерывности в дискурсе и единичности высказывания (центральная тема), я попытался анализировать на периферии некоторые формы загадочных группировок. Но принципы унификации, которые казались мне в тот момент очевидными, не являлись ни грамматическими, ни логическими, ни психологическими и не основывались ни на фразе, ни на пропорции, ни на репрезентации, потребовали, чтобы я вернулся к центральной проблеме — проблеме высказывания, чтобы я попробовал выяснить, что же нужно понимать под высказыванием. Поэтому я бы отметил не то, что я построил точную теоретическую модель, но то, что я освободил упорядоченную область описания: я хотел бы выяснить удалось ли мне ‹(разорвать круг» и показать, что анализ дискурсивных формаций сосредоточен на описании высказывания в его специфичности, хотя я и не построил модели, по меньшей мере, открытой и упорядочивающей возможность; одним словом, смог ли я показать, что именно присущие дискурсу измерения приводят в действие в системе ориентации дискурсивные формации. Скорее, чем о законном обосновании теории — и о возможности это сделать (я не отрицаю: мне жаль, что я еще не достиг успеха) — речь пока идет об установлении возможности.
Изучая высказывания, мы открыли функцию, которая основана на совокупности знаков, которая не отождествляется ни с грамматической «приемлемостью», ни с логической коррекцией, и которая нуждается для осуществления в референте (не являющимся непосредственным фактом, состоянием вещей, ни даже объектом, но принципом различения), ни в субъекте (вовсе не говорящем сознании, не авторе формулировки, но положении, которое может быть занято при некоторых условиях различными индивидуумами), ни во ассоциированном поле (не являющемся реальным контекстом формулировки, ситуаций, в которой она была артикулирована, но областью сосуществования для других высказываний), ни в материальности (не являющейся только материалом или опорой артикуляции, но статусом, правилами переписывания, возможностями применения и повторного использования). Итак, то, что было описано под именем дискурсивной формации, представляет собой, строго говоря, группы высказываний. То есть совокупности словесных перформансов, которые не связываются между собой на уровне фраз посредством грамматических (синтаксических или семантических) связей, которые не связываются между собой на уровне пропозиций посредством логических связей (формальной упорядоченности или концептуальной цепи), которые не связываются на уровне формулировок посредством психологических связей (будь то тождественность форм сознания, постоянство менталитетов или повторение замысла), но совокупности словесных перформансов, которые связываются на уровне высказываний. Следовательно, можно определить основной режим, которому подчинены их объекты, форму рассеивания, которая последовательно распределяет то, о чем они говорят, систему референциадьного; следовательно, можно определить режим, которому подчинены различные типы актов высказывания, возможное распределение положений субъекта и систему, которая их определяет и организует; следовательно, можно определить общий режим для всех ассоциированных областей, форм последовательности, одновременности, повторения, которому все они подчиняются, и систему, связывающую между собой все поля сосуществований; следовательно, можно определить основной режим, которому следует статус данных высказываний, способ, которым они институализируются, принимаются, применяются, используются вновь, комбинируются между собой, каким образом они становятся объектами присвоения, инструментами желания или интереса, элементами стратегии. Описать высказывания, описать функцию высказывания, носителями которой они являются, проанализировать условия, при которых данная функция выполняется, проследить различные области, которые она предполагает, и способ, посредством которого они связаны друг с другом, означает предпринять упорядочивание того, что сможет индивидуализироваться как дискурсивная формация. Или того, что заставляет сказать то же самое, но в обратном порядке: дискурсивная формация это основная система высказываний, которой подчинена группа словесных перформансов, — не единственная ею управляющая система, поскольку сама она подчинена помимо того и в соответствии с другими измерениями логическим, лингвистическим и психологическим системам. Определенное как «дискурсивная формация›› устанавливает общий план сказанных вещей на частном уровне высказываний. Четыре направления, по которым его анализируют (образование объектов, образование положений субъектов, образование концептов и образование стратегических выборов), соответствуют четырем областям, в которых выполняется функция высказывания. И если дискурсивные формации свободны по отношению к большим риторическим областям текста или книги, если они не подчинены закону строгости дедуктивного построения, если они не отождествляются с произведением автора, они приводят в действие уровень высказывания с закономерностями, которые его характеризуют, но не грамматический уровень фраз или логический — пропозиция, или психологический — формулировок.
Исходя из этого, можно сделать несколько обобщений.
1. Можно сказать, что ориентация дискурсивных формаций, независимо от других принципов возможной унификации, упорядочивает частный уровень высказывания; но в то же время можно сказать, что описание высказываний и способа организации высказываний ведет к индивидуализации дискурсивных формаций. Оба определения одинаково обоснованы и обратимы. Анализ высказывания и анализ формации устанавливаются в соотношении друг с другом. Когда, наконец, наступит время основания теории, нужно будет определить дедуктивный порядок.
2. Высказывание принадлежит к дискурсивным формациям как фраза — к тексту, а пропозиция — к дедуктивной совокупности. Но в то время, как закономерность фразы определяется законами языка, закономерность пропозиции — законами логики, закономерность высказываний определяется самой дискурсивной формацией. Принадлежность высказывания и закон формации делают одно и то же, что не парадоксально, поскольку дискурсивная формация характеризуется вовсе не принципами повторения, но рассеиванием факта, так как для высказываний оно является не условием возможности, но законом сосуществования, и поскольку высказывания в свою очередь являются вовсе не взаимозаменяемыми элементами, но совокупностями, которые характеризуются модальностью существования.
3. Итак, теперь можно раскрыть полный смысл приведенного выше определения «дискурса». Будем называть дискурсом совокупность высказываний постольку, поскольку они принадлежат к одной и той же дискурсивной формации. Дискурс не образует риторической, формальной или бесконечно повторяющейся общности, появление и применение в истории которой можно было бы предсказать (и объяснять в случае необходимости); он конституируется ограниченным числом высказываний, для которых можно определить совокупность условий существования. Понимаемый таким образом дискурс естественно, не является идеальной или вневременной формой, которая имела бы ко всему прочему историю; проблема состоит не в том, чтобы спросить себя, как и почему он смог появиться и воплотиться в данной точке времени; он насквозь историчен — фрагмент, общность и прерывность в самой истории, ставящей проблему собственных пределов, разрывов, трансформаций, специфических форм темпоральности скорее, нежели проблему своего внезапного появления в среде сообществ времени.
4. И, наконец, можно уточнить понятие дискурсивной «практики». Нельзя путать ее ни с экспрессивными операциями, посредством которых индивидуум формулирует идею, желание, образ, ни с рациональной деятельностью, которая может выполняться в системе выводов, ни с «компетенцией» говорящего субъекта, когда он строит грамматические фразы. Это совокупность анонимных исторических правил, всегда определенных во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического пространства условия выполнения функции высказывания.
Теперь мне остается направить анализ, отнеся дискурсивные формации к высказываниям, которые они описывают, на поиски в иной области; на этот раз — вовне, на поиски законного применения этих понятий: что можно открыть с их помощью, какое место они могут занимать среди других методов описания, до какой степени они могут изменять и перераспределять область истории идей. Но прежде, чем решиться на столь резкий поворот и для того, чтобы он был более безопасен, я еще немного задержусь в измерении, которое только что исследовал, и попробую уточнить, что требует и что исключает анализ поля высказываний и формаций, которые его являют.
4. РЕДКОСТЬ, ВНЕШНЕЕ, НАКОПЛЕНИЕ
Анализ высказывания принимает во внимание эффект редкости. Большей частью анализ дискурса проходит под двойным знаком целостности и избытка. Мы показываем, как различные тексты, с которыми мы имеем дело, соотносятся друг с другом, организуются в единую фигуру, совпадают с институциями и несут значения, которые могут быть общими для любой эпохи. Каждый рассматриваемый элемент принимается как проявление целостности, которой он принадлежит и которая его переполняет. Таким образом, мы замещаем разнообразием сказанных вещей тип большого однородного текста, еще не артикулированного и впервые проливающего свет на то, что люди «хотели сказать» не только в речах и текстах, дискурсах и письменных источниках, но и в институциях, практиках, техниках, объектах, ими производимых. По отношению к этому подразумеваемому, высшему и суверенному «смыслу» высказывания с их быстрым распространением появляются в чрезмерном изобилии, поскольку с ним единственным все они соотносятся и только он конституирует их истинность — избыток означающих элементов по отношению к единственному означаемому. Но поскольку этот первый и последний смысл безразличен к проявленным формулировкам, поскольку он скрывается под тем, что возникает и что он тайно раздваивает, каждый дискурс таит в себе способность сказать нечто иное, нежели то, что он говорил, и укрыть, таким образом, множественность смыслов — избыток означаемого по отношению к единственному означающему. Изучаемый подобным образом дискурс является одновременно полнотой и бесконечным богатством.
Анализ высказываний и дискурсивных формаций открывает полностью противоположное направление: он хочет определить принцип, в соответствии с которым смогли появиться только означающие совокупности, бывшие высказываниями. Он пытается установить закон редкости. Эта задача включает в себя несколько аспектов.
— Она основывается на принципе «всего никогда не сказать»; высказывания (сколь бы они ни были многочисленны) всегда в дефиците по отношению к тому, что могло бы быть высказыванием в естественном языке, по отношению к неограниченной сочетаемости лингвистических элементов, исходя из грамматики и богатств словаря, которыми мы располагаем в данную эпоху, в общей сложности существует относительно мало сказанных вещей. Значит, принцип нехватки или, по меньшей мере, ненаполнения поля возможных формулировок будут понимать таким, каким его открывает язык. Дискурсивная формация появляется одновременно как принцип скандирования в переплетении дискурсов и как принцип бессодержательности в поле речи.
— Высказывания изучаются на границе, которая отделяет их от того, что не сказано, в инстанции, которая заставляет их появиться, в своем отличии от всех остальных. Речь идет не о том, чтобы заставить говорить окружающее их безмолвие, не о том, чтобы найти вновь все то, что в них или рядом с ними молчало иди умалчивалось. Речь идет не о том, чтобы изучать препятствия, которые помешали данному открытию, задержали данную формулировку, вытеснили данную форму акта высказывания, данное бессознательное значение или данное находящееся в становлении логическое обоснование, но о том, чтобы определить ограниченную систему присутствий. Значит, дискурсивная формация не является целостностью в развитии, обладающей своей динамикой или частной инертностью, вносящей в несформулированный дискурс то, что она уже не говорит, еще не говорит или то, что противоречит ей в данный момент. Это вовсе не богатое и сложное образование, а распределение лакун, пустот, отсутствий, пределов и разрывов.
— Тем не менее, мы не связываем эти «исключения» с вытеснением или подавлением и не предполагаем, что ниже проявленных высказываний остается нечто скрытое и глубинное. Высказывания анализируют не как находящихся на месте других высказываний, попавших ниже линии возможного появления, но как находящиеся на своем собственном месте. Их перемещают в пространство, которое полностью проявлено и не содержит никаких удвоений. У него нет текста снизу, а, значит, нет и никакого избытка. Область высказывания полностью располагается на своей поверхности. Каждое высказывание занимает на ней только ему принадлежащее место. Следовательно, описание состоит не в том, чтобы найти, место какого недосказанного занимает высказывание, не в том, как можно свести его к безмолвному и общему тексту, но, напротив, в том, какое единичное местоположение оно занимает, какие ответвления в системе формаций позволяют отметить его локализацию, как оно выделяется в общем рассеивании высказываний.
— Эта редкость высказываний, лакунообразная и отрывочная форма поля высказываний, тот факт, что в общей сложности сказанных вещей не может быть много, объясняют, почему высказывания не являются, как воздух, который они вдыхают, бесконечной прозрачностью, но являются вещами, которые передаются, сохраняются и оцениваются, которые повторяют, воспроизводят, преобразуют, которыми управляют предустановленные структуры и которым дан статус в системе институций, — вещами, которые раздваивают не только копией или переводом, но и толкованием, комментарием, внутренним умножением смысла. Поскольку высказывания редки, их принимают в целостности, которые их унифицируют и умножают смыслы, населяющие каждое из них.
В отличие от всех этих интерпретаций, самое существование которых возможно лишь благодаря действительной редкости высказываний, но которые, тем не менее, ее не признают и рассматривают главным образом компактное богатство того, что сказано, анализ дискурсивных формаций обращается собственно к редкости; он рассматривает ее как объект объяснения, он стремится определить в ней единую систему и, в то же время, учитывает то, что она может иметь интерпретацию. Интерпретация — это способ реакции на бедность высказывания и ее компенсирования путем умножения смысла, способ говорить, исходя из нее и помимо нее. Тогда как анализ дискурсивной формации — это поиск закона скудности, нахождение ее меры и определение ее специфической формы. В некотором смысле это взвешивание «ценности» высказываний, — ценности, которая не определяется их истинностью, которая не измеряется присутствием скрытого содержания, но которая характеризует их место, способность обращения и обмена, возможность трансформации не только в экономике дискурса, но, главным образом, в управлении редкими ресурсами. Понятый таким образом, дискурс перестает быть тем, чем он является для толкователей текста: настоящим сокровищем, откуда всегда можно черпать новые и всякие раз непредсказуемые богатства; провидением, которое всегда говорит заранее, и которое всегда донесет до слушателя, если тот умеет слышать, навеянные прошлым неоспоримые суждения: он появляется как благо, — конечное, ограниченное, желанное, полезное, — которое имеет свои правила появления, но также и условия присвоения и применения; благо, которое с начала своего существования ставит (и не только для «практического применения») вопрос о власти; благо, которое по природе своей — объект борьбы, и борьбы политической.
Другая характерная черта: анализ высказываний истолковывает их в систематической форме внешнего. Обычно историческое описание сказанных вещей полностью пронизано противопоставлением внутреннего и внешнего, полностью подчинено задаче вернуться из внешнего, которое было бы только случайностью или чисто материальной необходимостью, видимым телом или неточным переводом, к существенному ядру внутреннего. Предпринять историю того, что сказано, означает, в таком случае, выполнить вновь в другом направлении работу проявления: вновь рассмотреть высказывания, сохранившиеся на протяжении времени и рассеянные в пространстве, в скрытом внутреннем, которое им предшествует, откладывается на них и оказывается (во всех смыслах этого термина) предано. Таким образом, освобождается ядро основополагающей субъективности. Субъективности, всегда остающейся в стороне от явной истории, всегда находящей ниже событий другую историю, более серьезную, более тайную, более основательную, более близкую к источнику, теснее связанную с его последним горизонтом (и, соответственно, полноправную хозяйку всех определений). Другую историю, которая течет ниже истории, опережающей и неопределенным образом заменяющей прошлое, можно описать — социологическим или психологическим методом — как эволюцию менталитетов; можно дать ей философский статус в молитвенном уединении Логоса или в телеологии разума; можно, наконец, попробовать очистить ее в проблематике следа, который прежде всех слов будет разомкнутостью надписи и разрывом различенного времени; в любом случае это всегда вновь проявляющая себя историко-трансцендентальная тема.
Тема, от которой пытается избавиться анализ высказываний, чтобы восстановить высказывания в их чистом рассеивании. Чтобы анализировать их в несомненно парадоксальном внешнем, поскольку оно не соотносится ни с какой противостоящей формой внутреннего. Чтобы рассмотреть их в прерывности, не искажая положение, с помощью одного из разрывов, которые ставят их вне игры и делают их несущественными в разомкнутости или более важном различии. Чтобы уловить самое их вторжение в место и момент, когда оно производится. Чтобы найти их влияние на событие. Несомненно, скорее, чем о внешнем стоило бы говорить о «безразличном», но само это слово слишком нарочито отсылает к неопределенности веры, к стиранию или заключению в скобки любого положения существования, тогда как речь идет о нахождении той наружной части, где распределяются в своей относительной редкости, лакунообразном соседстве, развернутом пространстве события высказывания.
— Эта задача предполагает, что поле высказываний не описывается как «перевод» операций или процессов, которые развертываются в другом месте (в мыслях людей, в их сознании или бессознательном, в сфере трансцендентных структур), но принимается в своей эмпирической скромности как место событий, закономерностей, налаживания отношений, определенных изменений, систематических трансформаций; короче говоря, его трактуют не как результат или след другой вещи, но как практическую область, которая является автономной (хотя и зависимой) и которую можно описать на ее собственном уровне (хотя и следовало бы связать с другими).
— Она предполагает также, что область высказываний не относится ни к говорящему субъекту, ни к чему-либо наподобие коллективного сознания, ни к трансцендентальной субъективности; но что ее описывают как анонимное поле, конфигурация которого опредедяет возможное место говорящих субъектов. Нужно не располагать высказывания относительно высшей субъективности, но признать в различных формах говорящей субъективности эффекты, присущие полю высказываний.
— Она предполагает, соответственно, что в их трансформациях, последовательных рядах, ответвлениях поле высказываний не подчиняется темпоральности сознания как своей законной модели. Не стоит надеяться — по меньшей мере, на данном уровне и при данной форме описания — что возможно написать историю сказанных вещей, которая по праву была бы одновременно по своей форме, закономерности и природе историей индивидуального или анонимного сознания, замысла, системы намерений, совокупности целей. Время дискурса не является переводом в видимую хронологию смутного времени мысли.
Итак, анализ высказываний осуществляется безотносительно к cogito. Он не ставит вопрос о том, кто говорит, проявляется или скрывается в том, что он говорит, кто реализует в речи свою полную свободу или уступает, не зная того, требованиям, которые он до конца не осознает. Анализ высказываний в самом деле располагается на уровне «говорения» — и под этим нужно понимать не род общего мнения, коллективной репрезентации, предписываемой любому индивиду или великий анонимный голос, говорящий непременно сквозь дискурсы каждого, но совокупность сказанных вещей, отношений, закономерностей и трансформаций, которые могут в нем наблюдаться, — область, некоторые фигуры и пересечения которой указывают единичное место говорящего субъекта и могут получить имя автора. Не важно, кто говорит, но важно, что он говорит, — ведь он не говорит этого в любом месте. Он непременно вступает в игру внешнего.
Третья черта анализа высказываний: он обращается к специфическим формам накопления, которые нельзя отождествлять ни с интериоризацией в форме воспоминания, ни с безразличным подытоживанием документов. Обыкновенно, анализируя уже выполненные дискурсы, их рассматривают как охваченных существенной инертностью, — случай ли их сохранил или забота людей и иллюзии, которые они питали касательно ценности и непреходящей значимости своих слов, — тем не менее, они являются ни чем иным, как письменами, скопившимися в пыли библиотек, спящими беспробудным сном с тех пор, как они были забыты и как их видимое действие затерялось во времени. Самое большее, им посчастливиться быть восстановить свой статус в находках чтения или открыть носителей меток, отсылающих к инстанциям их акта высказывания. Хорошо еще, если эти однажды расшифрованные метки смогут освободить посредством некоторой памяти, пронизывающей время, значения, мысли, желания, погребенные фантазмы. Эти черты термина: чтение-след- расшифровка-память (какой бы ни была привилегия, данная тому или иному из них, каким бы ни было метафорическое пространство, ему соответствующее и позволяющее принять во внимание три остальных) определяют систему, которая обычно позволяет расшевелить дискурс, застывший в неподвижности, и на одно мгновение вернуть немного утраченной живости.
Итак суть анализа высказываний — не разбудить спящие в настоящий момент тексты, чтобы вновь обрести, заворожив прочитывающиеся на поверхности метки, вспышку их рождения; напротив, речь идет о том, чтобы следовать им на протяжении сна или, скорее, поднять родственные темы сна, забвенья, потерянного первоначала и исследовать, какой способ существования может охарактеризовать высказывания независимо от их акта высказывания в толщи времени, к которому они принадлежат, где они сохраняются, где они действуют вновь и используются, где они забыты (но не в их исконном предназначении) и возможно даже разрушены.
— Этот анализ предполагает, что высказывания рассматриваются в остаточности, которая им присуща, но не является остаточностью всегда актуализируемой отсылки к прошедшему событию формулировки. Сказать, что высказывания остаточны, не означает сказать, что они остаются в поле памяти или что можно найти то, что они хотели сказать; это означает, что они сохраняются благодаря некоторому количеству поддержек и материальных техник (единственным примером которых является, разумеется, книга), в соответствии с определенными типами институций (среди прочего, библиотекой) и с определенными разновидностями статуса (которые не одни и те же, когда речь идет о религиозном тексте, законе или научной истине). Это означает также, что они включены в техники, находящие им применение, вводящие их в практики, которые из них проистекают, в социальные отношения, которые конституируются или изменяются в них. Это означает, наконец, что у вещей вовсе не одни и те же способ существования, система отношений с тем, что их окружает, схемы применения, возможности трансформации после того, как они были сказаны. Не то, чтобы это сохранение во времени было случайным и счастливь™ продолжением существования, выполненного, чтобы пройти с этим мгновением, — остаточность по праву принадлежит высказыванию; забвение и разрушение в некотором роде лишь нулевая степень этой остаточности. А на основании ее существования могут развертываться игры памяти и воспоминания.
— Помимо этого, данный анализ предполагает, что высказывания трактуются в форме добавочности (аддитивности), которая является их специфической особенностью. Типы группирования последовательных высказываний действительно во многом различаются и никогда не выполняются путем простого нагромождения или соположения последовательных элементов. Математические высказывания не добавляются к ним как религиозные тексты или акты юриспруденции (они имеют один и тот же способ составления, аннулирования, исключения, наполнения, формирования более или менее неразделимых групп, обладающих единичными свойствами). К тому же формы добавочности не даны раз и навсегда для всех определенных категорий высказываний: медицинские наблюдения нынешнего времени образуют корпус изучаемых явлений, который не подчиняется тем же самым законам композиции, что и его аналог в XVIII в.; современные математики не накапливают высказывания той же модели, что Евклидова геометрия.
— Анализ высказываний предполагает, наконец, что во внимание принимаются феномены рекурренции. Любое высказывание содержит поле предшествующих элементов, по отношению к которым оно располагается, но которое оно способно реорганизовывать и перераспределять в соответствии с новыми отношениями. Оно становится своим прошлым, определяет по тому, что ему предшествует, собственные родственные связи, вновь обрисовывает то, что делает его возможным или необходимым, исключает то, что с ним несовместимо. Оно полагает это прошлое как приобретенную истину, как произошедшее событие, как изменяющуюся форму, как материю, поддающуюся преобразованию или как объект, о котором можно поддерживать разговор, и т. д. По отношению ко всем возможным возобновлениям, память и забвение, повторное открытие смысла или его подавление далеки от того, чтобы быть основополагающим законом, и являются лишь единичными фигурами.
Таким образом описание высказываний и дискурсивных формаций должно избавляться от столь частого и навязчивого образа возвращения. Оно не претендует на возврат вне времени, которое было бы лишь падением, скрытой возможностью, забвением, восстановлением или блужданием, к основополагающему моменту, где речь еще не связана ни с какой материальностью, не признана никакой устойчивостью и где она задерживается в неопределенном измерении разомкнутости. Такое описание не пытается конституировать для уже сказанного парадоксальное мгновение второго рождения; оно не призывает солнце вернуться к восходу. Напротив, оно трактует высказывания в густоте накопления, где они принимаются и которую они, тем не менее, постоянно изменяют, беспокоят, потрясают и иногда разрушают.
Описать совокупность высказываний не как закрытую избыточную целостность значений, но как лакунообразную и раздробленную фигуру, описать совокупность высказываний не в соотношении с внутренним намерения, мысли или субъекта, но согласно рассеиванию внешнего, описать совокупность высказываний для того, чтобы найти не момент или след происхождения, но специфические формы накопления, — это вовсе не означает упорядочить интерпретацию, открыть основание, освободить конституирующие акты, решить логическую проблему или избежать телеологии. Но установить то, что я охотно назвал бы позитивностью. Анализировать дискурсивную формацию означает, в таком случае, трактовать совокупность словесных перформансов на уровне высказываний в форме позитивности, которая их характеризует, или, более кратко, определить тип позитивности дискурса. Если возвращая анализ редкости к изучению целостности, описание отношений внешнего к предмету трансцендентального основания, анализ накопления к поиску первоначала, можно прослыть позитивистом, — что ж, значит, я счастливый позитивист и у меня нет никакой причины это отрицать. К тому же, я нисколько не сожалею о том, что использовал несколько раз (хотя еще и достаточно необдуманно) термин «позитивность», чтобы обрисовать в общих чертах тот клубок, который я пытался распутать.
5. ИСТОРИЧЕСКОЕ АПРИОРИ И АРХИВ
Позитивность дискурса — как и позитивность естественной истории, политической экономии или клинической медицины — характеризует общность сквозь время и вне индивидуальных произведений, книг и текстов. Эта общность явно не позволяет решить, кто был прав, кто приводил строгие доводы, кто меньше противоречил собственным постулатам — Линней или Бюффон, Кеснэ или Тюрго, Бруссэ или Биша; она не позволяет сказать, какое из произведений ближе всего к первому (или последнему) предназначению, какое более радикально формулирует общий проект науки. Однако она выявляет меру, в соответствии с которой Бюффон и Линней (или Тюрго и Кеснэ, Бруссэ и Биша) говорили об «одном и том же», располагаясь на «одном и том же уровне» или «на одном и том же расстоянии», развертывая «одно и то же концептуальное поле битвы»; она выявляет, почему нельзя сказать, что Дарвин говорил о том же, что и Дидро, что Леннек продолжатель Ван Свитена или что Жевон соответствует физиократам. Она определяет ограниченное пространство коммуникации. Относительно сжатое пространство, поскольку оно еще не приобщилось к масштабам науки, взятой во всем историческом становлении от более удаленного первоначала до настоящего момента выполнения; но, тем не менее, пространство более протяженное, нежели игра влияний, которая могла осуществляться от автора к автору, или нежели область объяснительных полемик. Разнообразные произведения, рассеянные книги, — вся эта масса текстов, принадлежащих к одной и той же дискурсивной формации, — и столько авторов, которые знакомы или не знакомы Друг с другом, критикуют друг друга, обвиняют Друг друга в несостоятельности, перенимают друг у друга идеи, находят друг друга, не зная того, и настойчиво пересекают свои единственные дискурсы в структуре, хозяивами которой они не являются, которую не замечают совсем и размер которой они себе плохо представляют — все эти фигуры и разнообразные индивидуальности не объединяются ни логической цепью пропозиций, которую они составляют, ни возобновлением предметов размышлений, ни настойчивостью переданного, забытого и вновь открытого значения; они объединяются формой позитивности дискурса. Точнее, форма позитивности (и условия выполнения функций высказывания) определяет поле, где могут устанавливаться формальные тождественности, тематические непрерывности, передачи концептов, полемические игры. В таком случае, играет ли позитивность роль того, что могло бы быть названо историческим априори?
Написанные рядом друг с другом, эти слова выглядят почти вызывающе; ими я хочу обозначить априори, которое было бы не только условием законности суждений, но и условием реальности для высказываний. Речь идет не о том, что можно было бы сделать законным какое-либо утверждение, но о выявлении условий возникновения высказываний, закона их сосуществования, специфической формы их способа быть, принципов, по которым они существуют, трансформируются и исчезают. Априори не истин, которые никогда не могли бы быть сказаны или непосредственно даны опыту, но истории, которая дана постольку, поскольку это история действительно сказанных вещей. Причина использования этого несколько варварского термина в том, что априори должно учитывать высказывания в их рассеивании, во всех открытых их бессвязанностью изъянах, в их наложении и обоюдном замещении, в их одновременности, которая не унифицирована, и, в их последовательности, которая не является дедуктивной; одним словом, оно учитывает то, что дискурс имеет не только смысл и истинность, но и историю, причем особенную историю, которая не сводит его к законам чужого становления. Оно должно продемонстрировать, что история грамматики не является проекцией на поле языка и проблем истории, которая представляла бы собой в основном историю разума и менталитета, во всяком случае, одну историю, которую она разделяла бы с медициной, механикой иди телеологией, но содержит в себе тип истории — форму рассеивания во времени, род последовательности, стабильность и реактивацию, быстроту развертывания или обращения — который принадлежит ей по существу, даже если она не находится в отношении с другими типами истории. К тому же априори не может избежать историчности: оно не стоит над событиями и в неподвижном небе как вневременная структура; оно определяется как совокупность правил, характеризующих дискурсивную практику: эти правила не предписываются из внешнего элементам, между которыми они налаживают отношения; они ввязаны в то, что они связывают; и если они не изменяются с меньшим из них, последние изменяют и трансформируют их в определенный окончательный порог. Априори позитивностей не только система темпорального рассеивания, но и преобразующая совокупность.
В противоположность формальным априори, юрисдикция которых распространяется без наложений, оно является чисто эмпирической фигурой; но, с другой стороны, поскольку оно позволяет понимать дискурсы в законе их действительного становления, оно должно быть способно учитывать то, что данный дискурс в данный момент может принимать и применять или, напротив, исключать, забывать и не признавать ту или иную формальную структуру. Оно не может учитывать (с помощью, например, психологического или культурного генезиса) формальные априори; но оно помогает понять, как формальные априори могут иметь в истории точки сцепления, места включения, вторжения иди появления, области или случаи применения; оно помогает понять, как эта история может быть совсем не внешней случайностью, совсем не необходимостью формы, разворачивающей собственную диалектику, но частной закономерностью. Значит, нет ничего более приятного, но и неточного, чем рассматривать это историческое априори как априори формальное, к тому же наделенное историей: большая неподвижная и полная фигура, появившаяся однажды на поверхности времени и заставившая оценить тиранию, которой ничто не может избежать, после чего внезапно исчезнувшая в затмении, которое не может предсказать ни одно событие: трансцендентальная синкопа, игра мерцающих форм. Формальное априори и историческое априори — явления разных уровней и разной природы: если они пересекаются, то находясь в двух разных измерениях.
Таким образом, область высказывания, артикулированная согласно историческим априори и «скандируемая» различными дискурсивными формациями, лишена рельефа монотонной, бесконечно протяженной равнины, которую я упоминал в начале, говоря о «поверхности дискурсов»; она также прекращает появляться в качестве неподвижного, чистого и безразличного элемента, в котором достигают одного уровня — каждый в соответствии с собственным движением или некой смутной динамикой — темы, идеи, концепты, знания. Теперь мы имеем дело с полным объемом, где различаются разнородные регионы и где развертываются согласно частным правилам практики, которые не могут совпадать друг с другом. Вместо того, чтобы смотреть на строящиеся в великой мифической книге истории слова, которые переводят в видимые характерные черты мысли, конституированные прежде и в другом месте, в толще дискурсивных практик мы имеем системы, которые устанавливают высказывания как события (имеющие свои условия и область появления) и вещи (содержащие свою возможность и поле использования). Все эти системы высказываний (событий с одной стороны, вещей — с другой) я предлагаю называть архивом,
Под данным термином я понимаю не сумму всех текстов, сохраненных культурой как документы своего прошлого и свидетельство поддерживаемой тождественности и не институции, которые в данном обществе позволяют регистрировать и сохранять дискурсы, память о которых желательно хранить, а свободный доступ к которым поддерживать, но, скорее, причину того, что столько вещей, сказанных столькими людьми на протяжении стольких тысячелетий, появились не только посредством законов мысли, не только благодаря стечению обстоятельств, не просто как знаки, на уровне словесных перформансов того, что смогло развертываться в порядке разума или в порядке вещей, но того, что они появились благодаря всей игре отношений, характеризующих собственно дискурсивный уровень; что вместо того, чтобы быть случайными фигурами, как будто привитыми почти что случайно к безмолвным процессам, они рождаются согласно частным закономерностям; одним словом, что если есть сказанные вещи, то непосредственную причину нужно искать не в вещах, являющихся сказанными, и не в людях, которые их сказали, но в системе дискурсивности, в устанавливаемых ею возможностях и невозможностях высказываний. Архив — это прежде всего закон того, что может быть сказано, система, обуславливающая появление высказываний как единичных событий. Но именно архив — причина того, что все сказанные вещи не скапливаются беспорядочно в аморфной множественности, не вписываются в непрерывную линейность и не исчезают при одном только появлении внешних случайностей, но группируются в различные фигуры, сочетаются друг с другом в соответствии с многочисленными отношениями, поддерживаются или постепенно исчезают в соответствии с частными закономерностями; причина того, что они не отступают в ногу со временем; и те, которые ярко сверкают как близкие звезды, действительно приходят к нам издалека, в то время как остальные современники едва мерцают. Архив — это не то, что охраняет, несмотря на непосредственную утечку, событие высказывания и сохраняет для будущего его общественное положение беглого; это то, что в первоначале высказывания-события и в теле, в котором оно дано, определяет с самого начала систему его высказываемости. Архив — это вовсе не то, что копит пыль высказываний, вновь ставших неподвижными, и позволяет возможное чудо их воскресения; это то, что определяет род действительности высказывания-вещи; это — система его функционирования. Далекий от того, чтобы превратиться в объединяющее начало всего сказанного этим великим сбивчивым шепотом дискурса, далекий от того, чтобы быть лишь тем, что обеспечивает нам существование в среде поддерживаемого дискурса, архив — это то, что различает дискурсы в их множественности и отличает их в собственной длительности.
Между языком, который определяет систему построения возможных фраз, и сводом изучаемых явлений, который пассивно собирает произнесенные слова, архив определяет частный уровень:
уровень практики, выявляющий множественность высказываний некоторого числа регулярных событий, как некоторого числа вещей, поддающихся истолкованию и операциям. У него нет тяжести перевода, и он не представляет собой библиотеку (вне времени и места) всех библиотек; но он и не радушное забвенье, открывающее любому новому слову поле осуществления его свободы; между переводом и забвением он заставляет появиться правила практика, которые позволяют высказываниям одновременно и существовать, и закономерно изменяться. Это основная система формации и трансформации высказываний.
Очевидно, что нельзя исчерпывающе описать архив общества, культуры, цивилизации; без сомнения, даже архив любой эпохи. С другой стороны, мы не можем описать наш собственный архив, поскольку мы говорим внутри этих правил, поскольку именно он дает тому, что мы можем сказать — и самому себе, объекту нашего дискурса — способы появления, формы существования и сосуществования, систему накопления, историчности и исчезновения. Во всей целостности архив описать невозможно; его актуальность неустранима. Он дан фрагментами, частями, уровнями несомненно настолько лучше и с настолько большей строгостью, что время отделяет нас от него: в конечном счете, если бы не было редкости документов, для его анализа было бы необходимо самое великое хронологическое отступление. Однако, каким образом описание архива могло бы проверяться, выяснять то, что делает его возможным, отмечать места из которых оно говорит, контролировать обязанности и права, испытывать и вырабатывать концепты — по меньшей мере, на той стадии изучения, когда оно может определять свои возможности только в момент их осуществления — если оно настойчиво описывает только самые отдаленные горизонты? Не нужно ли ему насколько это возможно приблизиться к позитивности, которой оно само подчиняется, и к системе архива, которая позволяет говорить в данный момент об архиве вообще? Не нужно ли ему осветить — не было бы это только уловкой — поле высказывания, частью которого оно является?..
Итак, анализ архива предполагает привилегированный регион: одновременно близкий нам, но отличный от нашей актуальности, — это кромка времени, которая окружает наше настоящее, которая возвышается над ним и указывает на его искажения, это то, что вне нас устанавливает наши пределы. Описание архива развертывает свои возможности (и принципы овладения этими возможностями) исходя из дискурсов, которые только что перестали быть исключительно нашими; его порог существования установлен разрывом, отделяющим нас от того, что мы не можем более сказать, и от того, что выходит за пределы нашей дискурсивной практики; оно начинается за пределом нашей собственной речи; его место — это разрыв наших собственных дискурсивных практик. В этом смысле оно ценно для нашего диагноза. Вовсе не потому, что оно позволило бы нам составить таблицу наших отличительных черт и заранее обрисовать фигуру, которая появится у нас в будущем. Но оно отнимет у нас наши непрерывности; оно рассеивает временную тождественность, в которую нам самим нравится смотреться, чтобы заклинать разрывы истории; оно нарушает течение трансцендентальных телеологий; и там, где антропологическая мысль спрашивает человеческое существо иди его субъективность, она заставляет вспыхнуть другое и вовне. Таким образом понятый диагноз не устанавливает факт нашей тождественности игрой различий. Он устанавливает, что мы являемся различием, что наш разум — это различие дискурсов, наша история — различие времен, наше Я — различие масок. Что анализ, далекий от того, чтобы быть забытым и вновь открытым первоначалом, — это рассеивание, которым мы являемся и которое мы совершаем. Никогда полностью не завершаемое, никогда полностью не извлекаемое из архива, упорядочивание формирует общий горизонт, к которому принадлежат описание дискурсивных формаций, анализ позитивности, ориентация поля высказываний. Право слов — которое не совпадает с правом филологов — позволяет на полном основании называть все эти исследования археологией. Этот термин не подталкивает к поискам любого начала; он не родственен анализу раскопок или геологического бурения. Он обозначает основной предмет описания, который опрашивает «уже-сказанное» на уровне его существования, уровне функции высказывания, которая в нем выполняется, на уровне дискурсивных формаций, которым он принадлежит, общей системы архива, в ведении которой он состоит. Археология описывает дискурсы как частные практики в элементах архива.
III. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ИДЕЙ
Теперь можно изменить направление нашего анализа; можно вновь спуститься вниз по течению и, осмотрев область дискурсивных образований и высказываний, обрисовав их общую теорию, направиться к возможным областям применений. Мы выясним, чему должен служить анализ, который я, может быть, слишком торжественно окрестил «археологией». Окрестил, впрочем, из соображений необходимости, поскольку, если быть искренним, вещи пока что не лишены некотрой неясности.
Я исходил из относительно простой проблемы установления дискурса посредством больших общностей, не являющихся общностями произведений, авторов, книг или тем. И когда с единственной целью их установить я приступил к работе над последовательностью понятий (дискурсивных формаций, позитивности, архива), я определил область (высказывания, поле высказываний, дискурсивные практики), я попытался выявить специфику метода, который не был бы ни формализаторским, ни интерпретативным, — одним словом, я обращался к любому инструментарию, сложность и несомненно странное устройство которого вызывает затруднения.
На то есть несколько причин: существует достаточно методов, способных описать и анализировать язык, и этого, кажется, достаточно для того, чтобы он высокомерно не пожелал прибавлять к себе другой. Кроме того, я не снимал подозрения с дискурсивных общностей в роде «книги» или «произведения», поскольку предполагал, что они не так уж и непосредственны и очевидны, как это может показаться на первый взгляд. В самой деле, разве разумно противопоставлять их общностям, которые устанавливают ценой такого усилия, после стольких подготовительных мер и согласно столь неопределенным принципам, что необходимо исписать многие сотни страниц, прежде, чем удастся их прояснить? И являются ли разграниченные в конце концов и отождествленные с помощью этих инструментов пресловутые «дискурсы» тем же явлением, что и фигуры (называемые «психиатрией», «политической экономией» или «естественной историей»), из которых я эмпирически исходил и которые послужили поводом для применения этого странного арсенала?
Теперь мне непременно нужно будет измерить «описательную эффективность» понятий, которые я попытался определить. Мне нужно знать, работает ли это устройство и что именно оно способно производить. Может ли «археология» предложить что-либо отличное от того, что предлагают другие способы описания? Какую пользу можно извлечь из столь сложного предприятия?
И сразу же у меня возникает первое подозрение. Я действовал так, как будто бы открыл новую область, как будто бы для ее описания мне нужны были еще никому неведомые вехи и ориентиры. Но задумаемся: не попал ли я в действительности в пределы пространства, уже давно и хорошо известного в качестве «истории идей»? Разве не в этих же пределах я оказывался неожиданно для самого себя, когда в два или три приема пытался установить свои дистанции? Разве бы я не нашел в нем, — уже вполне подготовленном, уже достаточно проанализированном, — разве бы я не нашел в нем того, что искал, не отведи я от него взгляда? В сущности, может быть, я всего лишь историк идей? Пристыженный или, если вам будет угодно, надменный… Историк идей, который захотел целиком и полностью обновить свою дисциплину; историк идей, который несомненно желал придать ей строгость, недавно приобретенную столькими родственными ей системами описания, историк идей, который, оказавшись неспособным действительно изменить прежнюю форму анализа, неспособным заставить ее преодолеть порог научности (пусть даже подобная метаморфоза никогда бы и не могла произойти, пусть даже у меня нет и не было сил для того, чтобы самостоятельно производить эти преобразования), заявляет, стремясь ввести читателя в заблуждение, что он всегда делал и хотел делать другое, нежели то может показаться… Может быть, весь этот туман предназначен лишь для того, чтобы скрыть нечто оставшееся во все том же прежнем пейзаже, неотделимое от старой почвы, истощенное использованием? Я не могу найти оснований для безмятежности и не могу стать безмятежным настолько, чтобы не показать, чем археологический анализ отличается от других способов описания и не отделить себя от истории идей.
Непросто охарактеризовать такую дисциплину как история идей:
неопределенные объекты, расплывчатые границы, заимствованные отовсюду понемногу методы, петляющий и сбивчивый ход мысли… Тем не менее, кажется, можно признать за ней две несомненные роли. С одной стороны, вспомним, она рассказывает историю побочных обстоятельств, историю по краям, — отнюдь не историю наук, но историю несовершенных, плохо обоснованных форм познания, которые так и не достигли на протяжении своей долгой жизни степени подлинной научности. Так, обычно это скорее история алхимии, нежели история химии, скорее, история животного разума или френологии, нежели история физиологии, скорее история атомистической тематики, нежели история физики. Это история призрачных философий, исследующих литературу, искусство, науки, право, мораль и самое повседневную жизни людей; это историй вечных сюжетов, которым никак не удается выкристаллизоваться в строгую и индивидуальную систему, но которые образуют спонтанную, стихийную философию для тех, кто никогда не философствует; это история не литературы, но окружающей ее молвы, этой повседневной письменности, так быстро стирающейся, что никогда не приобретающей статус произведения или сразу его лишающейся; это анализ сублитератур разного рода, альманахов, журналов и газет, мимолетных успехов, непризнанных авторов. Определенная таким образом (но сразу же видно, насколько сложно найти ее точные границы) история идей обращается ко всему скрытому массиву мысли, ко всей игре репрезентаций, анонимно протекающих между людьми, — в зазорах дискурсивных памятников она выявляет хрупкий фундамент, на котором они основываются. Это наука о сбивчивых речах, неоконченных произведениях, бессвязных суждениях… Это скорее анализ точки зрения, нежели анализ собственно знания, скорее анализ заблуждений, нежели анализ истины, наконец, скорее анализ менталитета, нежели анализ форм мысли.
Но с другой стороны, история идей дана нам для того, чтобы мы могли изучать существующие научные дисциплины, трактовать их и вновь интерпретировать. Она представляет собой скорее стиль анализа, угол зрения, нежели маргинальную область. Она берет на себя ответственность за все историческое поле наук, литератур и философий: но она же и описывает знания, послужившие историческим основанием и не размышляющие о дальнейших формациях; она пытается восстановить непосредственный опыт, предписываемый дискурсом, она следует генезису, который, исходя из полученных и приобретенных репрезентаций, дает рождение системам и произведениям… И, в то же время, она показывает как мало-помалу эти образованные подобным образом большие фигуры распадаются, она показывает как разрешаются неразрешимые было темы, как они следуют своей изолированной жизни, выходят из употребления или соединяются по-новому в новые формации. Так понятая, история идей оказывается дисциплиной, занятой началами и концами, описанием смутных непрерывностей и возвращений, воссозданием подробностей линеарной истории. Но, в равной степени, она может описать от одной области к другой всю игру обменов и посредничеств, она может продемонстрировать, как научное знание рассеивается, уступает место философским концептам и принимает всевозможные формы в литературных произведениях, она может показать, как проблемы, понятия, темы переходят из философского поля, в котором они были сформулированы, в научные или политические дискурсы, она может устанавливать отношения произведений с институциями, обычаями или нормами социального поведения, технологиями, потребностями и безмолвными практиками… И она же пытается вернуть к жизни самые разнообразные формы дискурса в том или ином конкретном пейзаже, в среде пересечения и развития, из которой они некогда появились. Она становится, тем самым, дисциплиной взаимодействий, описанием концентрических кругов, которые окружают произведения, очерчивают их, связывают между собой и включают во все то, что не является ими.
Вполне понятно, как взаимосвязаны две эти роли истории идей. В самом предварительном смысле можно сказать, что история идей постоянно описывает переход из не-философии в философию, из не-науки в науку, из не-литературы в само произведение- описывает во всех направлениях, где только такой переход осуществляется. Она, таким образом, является анализом тайных рождений, отдаленных соответствий, постоянства, которые упорно сохраняются ниже уровня очевидных изменений, медленных образований, которые извлекают выгоду из тысячи слепых соучастий, всеобъемлющих фигур, которые намечаются постепенно и внезапно сгущаются в заключительной точке произведения. Генезис, непрерывность, подытоживание — вот предметы, которыми занята история идей, вот ее темы, с помощью которых она привязывается к определенной, теперь уже вполне традиционной форме исторического анализа. В этих условиях естественно, что любой, кто представляет историю, ее методы, требования и возможности как эту, все же несколько обветшавшую идею, не может и помыслить о том, чтобы расстаться с такой дисциплиной, как история идей. Для такого исследователя естественно предположить, что любая другая форма анализа дискурса будет поистине предательством самой истории.
Итак, археологическое описание — это именно уход от истории идей, систематический отказ от ее постулатов и процессов, это последовательная попытка выработать любую другую историю того, что было сказано людьми. Что за беда, если кто-то не узнает в этом предприятии историю своего детства, что за беда, если кто-то оплакивает ее, взывает к ней, — к той эпохе, что более не доказывает наверняка этой великой тени прошлого свою исключительную верность? — Такой убежденный и последовательный консерватор только убеждает меня в моей правоте и придает мне уверенности в том, что я собирался сделать и сказать.
Между археологическим анализом и историей идей действительно существуют многочисленные различия. Сейчас я пытаюсь установить четыре из них, которые кажутся мне основными, а именно:
различие в представлении о новизне; различие в анализе противоречий; различие в сравнительных описаниях; и, наконец, различие в ориентации трансформаций. Я надеюсь, что в них можно будет найти частные особенности археологического анализа, и, вероятно, измерить его описательную способность. Для этого достаточно установить несколько принципов.
1. Археология стремится определить не мысли, репрезентации, образы, предметы размышлений, навязчивые идеи, которые скрыты или проявлены в дискурсах; но сами дискурсы, — дискурсы в качестве практик, подчиняющихся правилам.
Она не рассматривает дискурс как документ, как знак другой вещи, как элемент, которому бы должно быть прозрачным, но назойливую неясность которого приходится порой преодолевать, чтобы достичь наконец глубины существенного- там, где еще сохранилось существенное. Археология обращается к дискурсу в его собственном объеме как к памятнику. Это не интерпретативная дисциплина: она не ищет «другого дискурса», который скрыт лучше. Она отказывается быть «аллегорической».
2. Археология не стремится найти непрервный и незаметный переход, который плавно связывает дискурс с тем, что ему предшествует, его окружает и за ним следует.
Она не подстерегает ни момент, в который, исходя из того, чем дискурс еще не был, он стад тем, что он есть, ни момент, в который, расшатывая прочность фигуры, он начинает постепенно терять свою тождественность. Напротив, ее проблема заключается в том, чтобы определить дискурс в самой его специфичности, показать, в чем именно игра правил, которые он использует, несводима к любой другой игре; ее задача — следовать по пятам за дискурсом и, в лучшем случае, просто очертить его контуры. Археология не движется в медленной прогрессии из смешанного поля мнения к единичности системы или определенному постоянству науки; она вовсе не «славословие», но различающий анализ, дифференциальное счисление разновидностей дискурса.
3. Археология не упорядочивается в суверенной фигуре произведения; она не стремится уловить момент, когда последняя отделяется от анонимного горизонта.
Она не хочет восстановить загадочную точку, где индивидуальное и социальное переходит друг в друга. Она не является ни психологией, ни социологией, ни, что важнее, антропологией творения. Произведение не является для нее существенным разрывом, даже если речь идет о его перемещении в глобальный контекст или в сеть причинностей, которые ее поддерживает.
Археология определяет типы и правила дискурсивных практик, пронизывающих индивидуальные произведения, иногда полностью ими руководящих и господствующих над ними так, чтобы ничто их не избегало. Инстанция создающего субъекта в качестве причины бытия произведения и принципа его общности археолгии чужда.
4. Наконец, археология не стремится восстановить то, что было помыслено, испытано, желаемо, имелось в виду людьми, когда они осуществляли дискурс; она не задается целью описать эту точку концентрации, где автор и произведение обмениваются тождественностями, где мысль остается еще ближе к самой себе в пока что не искаженной форме, а язык еще не развертывается в пространственном и последовательном рассеивании дискурса.
Другими словами, — археология не пытается повторять то, что сказано, настигая уже-сказанное в самой его тождественности. Она не претендует на то, чтобы самостоятельно стереться в двусмысленной скромности чтения, которое вернуло бы далекий слабый, едва брезжущий свет первоначала во всей его чистоте. Она не является ничем более и ничем иным, нежели перезаписью, трансформацией по определенным правилам того, что уже было написано, в поддерживаемой форме внешнего. Это не возврат к самой тайне происхождения; это систематическое описание дискурса-объекта.
2. ОРИГИНАЛЬНОЕ И РЕГУЛЯРНОЕ
Обычно история идей рассматривает дискурсивное поле как область, где существуют два достоинства: каждый отмеченный элемент здесь может характеризоваться как старый или новый, новоизобретенный иди воспроизведенный, традиционный или оригинальный, как соответствующий общему типу или отклоняющийся от него. Итак, можно выделить две категории формулировок: одни — наделенные ценностью и сравнительно немногочисленные, появляющиеся впервые, не имеющие в предшествующем ничего схожего — в некоторых случаях становятся моделью для других и, вследствие этого, достойны считаться самостоятельными творениями; вторые — заурядные, обыкновенные, массовые, несамостоятельные — отталкиваются от того, что было уже сказано, порой для того, чтобы буквально повторить то же самое. За каждой из вышеописанных групп история идей закрепила особое положение и анализирует их по-разному. Описывая первую, она рассказывает историю открытий, перемен и метаморфоз, показывает, как истина отделилась от заблуждений, как сознание пробудилось от сна, как одна за другой поднялись новые формы, чтобы образовать наш нынешний кругозор и, таким образом, стремится раазглядеть сквозь эти изолированные точки, сквозь непрерывную цепь разрывов цельную линию эволюции. Другая группа, напротив, манифестирует историю как инерцию и силу тяготения, как медленную аккумуляцию пройденного и молчаливое накопление произнесенного; здесь высказывания должны быть рассмотрены в массиве того, что есть между ними общего. Их случайное своеобразие может быть нейтрализовано; подлинность их авторства, время и место возникновения также теряют значение, — измерению подлежит их продолжительность: вплоть до какого места и до каких пор они повторяются, по каким каналам передаются, в каких группах циркулируют, какой целостный кругозор очерчивают в сознании людей, как его ограничивают, наконец, каким образом, характеризуя эпоху, они дают возможность отличить ее от других эпох. Следовательно, здесь рисуется ряд глобальных образов. В первом случае история идей описывает последовательный ряд событий в области мысли; во втором — непрерывную ткань взаимодействия; в первом случае воссоздается момент внезапного появления новых знаний или форм, во втором — воспроизводятся забытые всеобщие знания и отображаются дискурсы в их взаимном соотношении.
Правда, история идей постоянно устанавливает взаимодействие между этими двумя подходами; в ней никогда не бывает только одного из двух этих типов анализа в чистом виде. Она описывает конфликты между старым и новым, противодействие накопленных познаний, подавление ими любого нового слова, покровы, под которыми они его скрывают, забвение, на которое порой его обрекают; но она описывает также и явления, облегчающие и подготавливающие — незаметно, загодя — возникновение новых дискурсов. Она описывает отблески открытий, скорость и продолжительность их распространения, медленный процесс их перемещения или мгновенные толчки, переворачивающие разговорный язык; она описывает включение новаций в уже структурированное поле познаний, нарастающий спад от оригинального к традиционному иди же возрождение ранее сказанного. Однако такое скрещение не мешает ей постоянно проводить биполярное разделение на старое и новое, — разделение, которое в каждый из моментов привносит в эмпирическую часть истории проблематику первоначального источника: во всяком произведении, в любой книге, в мельчайшем тексте — задача сводится к тому, чтобы найти переломную точку, установить с наибольшей возможной точностью место разрыва во внутренней толще явлений, верность — быть может, невольную — приобретенному знанию, закономерность дискурсивных неизбежностей и живость созидания, прыжок в несокращаемую разность. Это описание своеобразий, хотя и кажется, что оно разумеется само собой, ставит две весьма непростые методологические проблемы: подобие и происхождение. Оно в самом деле предполагает, что возможно установить нечто в роде большого и единого ряда, в котором все формулировки были бы одинаковым образом датированы. Но если взглянуть поближе, — разве сходным образом и на одной временной линии Гримм с его законом звуковых изменений предшествует Боппу (цитировавшему и использовавшему его, давшему практическое применение и внесшему в него ряд уточнений), а Керду и Анкетийль-Дюперрон (установив аналогию между греческим и санскритом) предвосхитили определение индоевропейских языков и явились предшественниками основателей сравнительной грамматики? Действительно ли образуют единый ряд и на одном и том же основании базируются последовательность, по которой Соссюр оказывается «преемником» Пирса с его семиотикой, Арно и Лансдо с их классическим пониманием знака, стоики с их теорией «обозначающего»? Предшествование не есть наименьшая основная данность; она не может служить абсолютным мерилом, которое позволило бы оценить все дискурсы и отделить оригинальное от повторенного. Самого по себе определения предшественников недостаточно, чтобы определить порядок дискурсов: напротив, оно само зависит от анализируемого дискурса, избранного уровня, установленной шкалы. Распределяя дискурс по протяженности календаря, присваивая каждому из его элементов дату, мы упускаем четкую иерархию предшественников и оригинальных явлений; последняя же не может не относиться к дискурсивным системам, которые предполагает оценить,
Что касается подобия между двумя или большим числом взаимосвязанных формулировок, то и оно, в свою очередь, создает целый ряд проблем. В каком смысле и на основании каких критериев можно утверждать: «это уже было сказано»; «то же самое содержится в таком-то тексте»; «это предложение уже весьма близко к тому» и т. д.? Что такое идентичность в дискурсивном строе — частность или всеобщее явление? Даже когда два акта высказывания совершенно идентичны, составлены из одних и тех же слов в одном и том же значении, нельзя, как известно, полностью их отождествлять. Хотя бы у Дидро и Ламарка или у Бенуа де Майе и Дарвина и нашлись одинаковые формулировки эволюционного принципа, нельзя считать, что у первых двух и у двух других речь идет об одном и том же дискурсивном событии, которое складывалось с течением времени в ряд повторений. Итак, идентичность критерием не является; тем более поскольку она частична, поскольку слова в каждом случае использованы в ином смысле или само смысловое ядро было воспринято посредством различных слов: каким измерением можно подтвердить, что сквозь столь различные дискурсы и словари Бюффона, Жюссье и Кювье пробивается одна и та же органиницистская тема? И, наоборот, можно ли сказать, что одно и то же слово «организация» передает одно и то же значение у Добентона, Блюменбаха и Жоффруа Сент-Илера? И вообще, в самом ли деле подобие, отмеченное между Кювье и Дарвином и между тем же Кювье и Линнеем (или Аристотелем) — это подобие одного и того же типа? Между формулировками не существует немедленно распознаваемого подобия как такового; их сходство — это эффект дискурсивного поля, в котором они отмечены.
Недопустимо, конечно, спрашивать ни с того, ни с сего у текстов, названия которых всем известны с рождения, в самом ли деле они настолько благородного происхождения, что могут претендовать (как это требуется в данном случае) на полное отсутствие предков. Такой вопрос может иметь смысл только применительно к четко определенным рядам, к единствам, чьи область и пределы установлены, между метками, ограничивающими достаточно однородное дискурсивное поле*. Но искать в огромном нагромождении уже сказанного текст, который «заранее» походил бы на позднейший текст, копаться в истории в поисках перекликающихся предвидений и отзвуков, восходить к первоистокам или спускаться до мельчайших следов, по
________________
* Как раз таким образом М. Кангюльем выстроил последовательность предложении, которыми от Вилиса до Прохазки давалось определение рефлекса.
очереди демонстрировать, применительно к тексту, то его принадлежность к трагедии, то его долю несократимого своеобразия, то преуменьшая, то преувеличивая степень его оригинальности, утверждать, что грамматики Пор-Рояля совершенно ничего нового не изобрели, или открыть, что у Кювье было гораздо больше предшественников, нежели принято считать — все это приятные, но запоздалые забавы, развлечение для историка в коротеньких штанишках.
Археологическое описание обращается к тем видам дискурсивной практики, для которых факты преемственности должны служить референтом, если мы не хотим выстраивать их по степени важности. На уровне, где оно располагается, оппозиция «оригинальность/банальность» уже нерелевантна: между первичной формулировкой и более или менее точным ее воспроизведением через годы и века — оно не устанавливает никаких ценностно-иерархических отношений;
существенной разницы для него здесь нет. Оно стремится только установить регулярность, или закономерность, высказываний. Здесь регулярность не противопоставляется нерегулярности, которая, в свою очередь, в пределах обычных воззрений или наиболее употребительных текстов могла бы характеризовать высказывания отклоняющиеся от общепринятых правил (ненормативные, пророческие, запоздавшие, гениальные или патологические); для всякого вербального речевого акта, каков бы он ни был (экстраординарным или банальным, единственным в своем роде или тысячекратно повторенным), она означает совокупность условий, при которых выполняется повествовательная функция, обеспечивающая и определяющая его существование. Понятая таким образом, регулярность не является некиим средним положением между критическими точками статистической кривой — а значит, не годится и в качестве показателя частотности или вероятности; она описывает фактическое поле явлений. Всякое высказывание является носителем определенной регулярности и раздельно они не существуют. Невозможно даже противопоставить регулярность одного высказывания нерегулярности другого (более неожиданного, странного, богатого инновациями), но это возможно применительно к иным видам регулярности в других высказываниях.
Археология не предназначена для поисков изобретений; и она остается бесстрастной в тот момент (охотно признаю — весьма трогательный), когда некто впервые открывает некую истину; она и не пытается возродить отзвук того великого дня. Однако не стремится она и к тому, чтобы обратить свое внимание на посредственные проявления общественного мнения и серенькую картину того, что в данное время у всех навязло в зубах. Она изучает тексты Линнея или Бюффона, Петти или Рикардо, Пинеля или Биша — не затем чтобы составить святцы основоположников — но для того чтобы обнажить регулярность дискурсивной практики, — практики, осуществляемой в равной степени, как всеми их хоть сколько-нибудь самостоятельными последователями, так и подобными же предшественниками; практики, которая сама проявляется в их работе — не только в наиболее оригинальных утверждениях, ни одно из которых не было бы ранее выдвинуто, но и в тех, что были ими переняты, даже и списаны у своих предшественников. В качестве высказывания открытие — не менее регулярное явление, нежели текст, где оно повторяется и развивается; что в банальности, что в исключительности — регулярность ни менее действенна, ни менее продуктивна. При таком подходе невозможно найти различий в природе творческих высказываний (тех, что раскрывают нечто новое, передают доселе неизвестную информацию и являются в каком-то смысле «активными»), — и высказываний подражательных (которые заимствуют информацию, будучи, так сказать, «пассивными»). Поле высказываний не является совокупностью неподвижных мест, оглашенных в благоприятный момент;
это область, активная от начала до конца.
Такой анализ регулярности высказывания можно вести по многим направлениям, которые когда-нибудь стоило бы, наверное, исследовать, с большим усердием.
1. Итак, одна из форм регулярности описывает объединение высказываний без того, чтобы было необходимо или возможно ввести различие между тем, что представляется новым, и тем, что таковым не представляется. Но эти виды регулярности — до них мы еще дойдем — не даны раз и навсегда; это не та же регулярность, какая находится в трудах Турнефора и Дарвина иди Лансло и Соссюра, Петти и Кейнса. Имеются однородные поля регулярности (ими характеризуются дискурсивные формации), но эти поля отличны друг от друга. Итак, нет необходимости, чтобы переход на новое поле регулярности высказываний сопровождался соответствующими изменениями на всех других уровнях дискурса. Можно найти примеры вербального речевого акта, идентичные с точки зрения грамматики (словаря, синтаксиса и общего способа речи); идентичные, в равной степени, с точки зрения логики (структуры предложения или дедуктивной системы, в которой она располагается) — но которые будут различны как высказывания. Так, определение количественной связи между ценой и массой обращающихся денег может быть осуществлено при помощи одних и тех же слов — или синонимов — и получено с помощью одного и того же хода рассуждений; но оно как высказывание различно у Грехема или Локка и у материалистов XIX в., оно не принадлежит в обоих случаях к одной и той же системе объединения предметов и понятия. Нужно, следовательно, различать лингвистическую аналогичность (или переводимость) от логической идентичности (или эквивалентности) и однородности высказывания. Именно эти виды однородности — и исключительно они — составляют предмет археологии. Она может наблюдать, как возникает новая дискурсивная практика в словесных формулировках, остающихся лингвистически аналогичными или логически эквивалентными (повторяя — иногда слово в слово — старую теорию фразы-атрибуции и глагола связки, грамматики Пор-Рояля открыли закономерность высказываний, чью специфику должна описать археология). И наоборот, она может пренебречь словарными различиями, может перейти на семантические поля или различного рода дедуктивные произведения, если будет в состоянии опознать в обоих случаях, вопреки такой разнородности, некоторую регулярность высказывания (и с этой точки зрения теория «трудовых выкриков», разыскание происхождения языка, поиски начальных корней, какими мы находим в XVIII в., не являются «новыми» по отношению к «логическиому» анализу Лансло).
Так вырисовывается определенное число расхождений и пересечений. Теперь можно говорить лишь об открытии, формулировке основного принципа или определении предварительного замысла — и о массовом явлении, новой фразе в истории дискурса. Теперь нельзя больше заниматься поисками того момента абсолютного начала или тотального переворота, в ходе которого все организуется, все становится возможным и необходимым, все отменяется, чтобы начаться заново. Мы имеем дело с явлениями различных типов и уровней, рассматриваемыми в конкретных исторических структурах; с однородностью высказывания, организованной способом, в ней самой не содержащимся, но который начиная с этой минуты и в течение последующих десятилетий и столетий люди будут считать и называть одним и тем же; не содержащий и определения — развернутого или нет — каких бы то ни было принципов, их которых вытекало бы как следствие все остальное. Однородность (и разнородность) высказываний пересекается с лингвистической неизменностью (и изменением) и с логической идентичностью (и различием), хоть они и не идут рука об руку и не обязательно соотносятся. Вместе с тем между ними должно существовать какое-то количество связей, чья область — бесспорно, весьма сложная — также заслуживает описания.
2. Другое направление разысканий — внутренняя иерархия в регулярности высказываний. Как мы видим, всякое высказывание связано с определенной регулярностью и, следовательно, не может быть сочтено первозданным творением или волшебным произведением взбалмошного гения. Однако мы видим также и то, что никакое высказывание не может быть расценено как пассивное и принято за тень или едва похожая копия первоначального высказывания. Все поле высказываний регулярно и подвижно в одно и то же время, оно непрестанно изменяется; наименьшее высказывание — самое сдержанное или в высшей степени банальное — использует весь механизм правил, которыми определены его объект, его модальность, используемые им концепты и стратегия, частью которой оно является. Правила эти никогда не даны в определении, они пересекаются между собой и сами создают пространство, в котором сосуществуют; но невозможно разыскать такое единичное высказывание, которое бы собственно их артикулировало. В то же время, некоторые группы высказываний используют эти правила в их наиболее общей и наиболее широко применимой форме; наблюдая их, можно видеть, как новые объекты, новые понятия, новые модальности высказывания или новые виды выбора стратегии могут быть образованы на основании более частных правил с более специфической областью применения. Можно, таким образом, описать применительно к высказыванию древо деривации, в основе которого лежат высказывания, использующие правила построения в их обширнейшем понимании, а в вершине (после некоторого числа разветвлений) оказываются высказывания, следующие той же регулярности, но сформулированной тоньше, лучше определенной и более ограниченной в объеме.
Археология, таким образом, может (в этом — одна из ее основных тем) состоять в воссоздании деривационного древа дискурса, — например, дискурса естественной истории. В корневой области она расположит под общим названием — направляющих высказываний те из них, что имеют отношение к определению доступных для наблюдения структур и к области возможных объектов, те, что предписывают доступные формы описания и коды восприятия, те, что обнажают наиболее общие возможности характеристики и открывают, тем самым, всю область строящих концептов, те, наконец, что, создавая возможность для стратегического выбора, оставляют место для множества последующих решений. И на концах ветвей или в побегах кроны она найдет и «открытия» (например, ряды ископаемых), и преобразования концепций (например, новое понятие жанра), и неожиданные ответвления определений (например, определения млекопитающего или организма), и методологические усовершенствования (принципы организации собрания, метод классификации и номенклатура). Эта деривация, идущая от направляющих высказываний, не может быть смешана с дедукцией, идущей от аксиом; она в равной степени не должна быть уподоблена процессу зарождения общей идеи или философской истины, чьи значения проявляются понемногу по мере накопления опыта или уточнения формулировок;
наконец, она не может быть принята за психологический генезис, идущий от открытия, развивая и расширяя понемногу его следствия и возможности применения. Она отличается от всех этих путей и должна быть описана самостоятельно.
Итак, можно описать археологические деривации естественной истории без того, чтобы начать с ее недосказуемых аксиом или фундаментальных тем (к примеру, с предположения о континуальности природы), а также и без того, чтобы принять за отправную точку и направляющую нить первые открытия или ранние изыскания (поиски Турнефора, следовавшего за Линнеем, иди Джонстона, шедшего за Турнефором). Порядок в археологии — не тот же, что в систематике или хронологической преемственности.
Как мы видим, открывается целая область возможных вопросов. Поскольку каждое из этих разнообразных направлений стремится к самостоятельности и своеобразию. Для каких-то дискурсивных формаций археологический порядок может не особенно отличаться от систематического, как, в равной степени, в иных случаях он может следовать за нитью хронологической преемственности. Эти параллелизмы (в противоположность обнаруживаемым в других местах несоответствия) заслуживают изучения. Во всяком случае, важно не смешивать различные порядки, не искать в первоначальном «открытии» или регулярном характере формулировки — все объясняющего и все порождающего принципа; не искать в общем принципе закона регулярности высказываний или индивидуальных изобретений; не требовать от археологической деривации воспроизведения хронологической последовательности или порождения дедуктивной схемы.
Нет большей ошибки, нежели стремление видеть в анализе дискурсивных формаций опыт всеобщей периодизации: дескать, начиная с какого-то момента и в течение некоторого времени все будут думать одинаково, невзирая на внешние различия, сообщать одно и то же, пользуясь разнородным словарем, и воспроизводить некий большой дискурс, обозримый во всех направлениях. Археология, напротив, описывает уровень однородности высказываний, имеющих свой временной срез и не объемлющей всех остальных форм идентичности и различия, какие только можно заметить в речи. На этом уровне она устанавливает порядок, иерархию, направление разветвлений, исключающие массовую, аморфную и данную раз и навсегда синхронию. В этих смутных единствах, которые мы называем «эпохами», она выявляет во всей их спецификой «периоды высказываний», объединяющиеся, не перемешиваясь, в виде эпохи господства понятия, фазы развития теории, стадии формализации и этапа языковой эволюции.
3. ПРОТИВОРЕЧИЯ
Ванализируемом дискурсе история идей предполагает обычно наличие связности. Что же, если ей приходится констатировать нерегулярность в словоупотреблении, многочисленные взаимоисключающие предложения, игру значений, не стыкующихся друг с другом, игру понятий, которые невозможно объединить в какую-либо систему? — Тогда она вынуждена находить на более или менее глубоком уровне принцип связности, организующий дискурс и восстанавливающий его скрытое единство. Этот закон связности есть эвристическое правило, необходимое условие процедуры, ограничение в исследовательской работе, имеющее почти нравственный характер: не умножать бесполезных противоречий, не позволять себе увлечься мелкими различиями, не уделять слишком большого внимания изменениям, доработкам, возвратам к сделанному и полемике, не раздумывать о том, что человеческий дискурс постоянно подтачивается изнутри людскими желаниями, испытаниями, которым люди подвергаются, или условиями, в которых они живут, но исходить из того, что если они вообще разговаривают, если общаются друг с другом, то делают это, скорее всего, затем, чтобы преодолеть эти противоречия и обрести точку, опираясь на которую можно было бы подчинить их своей воле. Однако сама эта связь есть также результат разысканий: она определяет конечные единства, венчающие анализ, она раскрывает внутреннюю организацию текста, форму развития индивидуального произведения или место встречи различных дискурсов. Чтобы ее воспроизвести, необходимо ее предполагать, а с уверенностью говорить о том, что она найдена, можно только проследовав за ней достаточно долго и далеко. Она появляется как оптимум — наибольшее возможное число противоречий, решенных простейшим образом.
Однако подобные способы весьма многочисленны, и вследствие этого найденные связности могут быть весьма различны. Анализируя действительность предложений и объединяющие их отношений, можно определить поде логического непротиворечия: тогда будет раскрыта системность, тогда от видимого корпуса фразы мы перейдем к чистому идеальному построению, которое настолько же заслоняется грамматическими двусмысленностями, знаковой перегруженностью слов, насколько и отражается в них. Но можно, совсем напротив, следуя за течением аналогий и символов, наткнуться на тему, еще менее реальную, нежели дискурс, скорее аффективную, чем рациональную, и более отдаленную от концепта, нежели от произвольного желания. Такая тема одушевляет своей силой, но, вместе с тем, неразрывно сливает в медленно изменяемом единстве самые противоположные явления, — имеется в виду пластичный континуум, перемещение смысла, обретающего форму в воспроизведениях, образах и разнообразных метафорах. Тематические или систематические, ясно выраженные или скрытые, эти виды могут отыскаться на уровне воспроизведения, осознанного говорящим, но чей дискурс из-за сложившихся обстоятельств или вследствие неспособности, связанной с самой формой его речи, проявился слабо. Можно также отыскать их и в тех структурах, которые скорее сами принуждают и творят автора, нежели сами им создаются, — в структурах, которые предписывают ему, для него самого безотчетно, постулаты, оперативные схемы, языковые правила, совокупность фундаментальных положений и убеждений, образы или всю логику воображения. Речь, наконец, может идти о связности, устанавливаемой на уровне индивидуума — о сязности его биографии или каких-либо иных частных обстоятельств его дискурса, — однако можно установить подобного рода связность и в более широких пределах, придав ей коллективные и диахронные масштабы эпохальности, всеобщей формы сознания, типа общества, совокупности традиций, воображаемой глобальной панорамы всей культуры и проч.
Во всех этих формах раскрытая таким образом связность всегда играет одну и ту же роль: она показывает, что непосредственно наблюдаемые противоречия суть не более чем поверхностные отсветы, и что необходимо сфокусировать воедино эту игру рассеянных бликов. Противоречие — это ложная наружность скрытой или скрываемой цельности: оно существует только на стыке сознания и бессознательного, на сдвиге между мыслью и текстом, между идеальным образом и частным выражением. Во всяком случае, цель анализа — снять, насколько это только возможно, противоречие.
В итоге подобной работы сохраняются только остаточные противоречия: противоречия случайности, погрешности, дефекты, — или, напротив, возникает (например, если весь анализ двигался с трудом, вымученно и поневоле) фундаментальное противоречие: использование, начиная с самих основ метода, взаимоисключающих постулатов, скрещивание несовместимых влияний, изначальное преломление желания, экономический и политический конфликты, противопоставляющие общество самому себе — все это вместо того, чтобы предстать в виде изобилия внешних элементов, подлежащих сокращению, окончательно раскрывается как организующий принцип, как основной и тайнодействующий закон, ответственный за все скрытые противоречия и дающий им твердое основание — в общем, модель всех других оппозиций. Подобное противоречие, далекое от того, чтобы быть видимостью или ошибкой дискурса, далекое от того, чтобы быть всем тем, от чего необходимо его освободить, чтобы он дал, наконец, возможность раскрыться своей внутренней природе, — подобное противоречие и составляет самый закон его существования. Именно вследствие такого противоречия дискурс возникает; в то же время, именно для того, чтобы преобразовать и преодолеть это противоречие дискурс произносится, а для того, чтобы его избежать (в то время как оно безостановочно само себя воспроизводит) он продолжается вновь и вновь до бесконечности. Именно по той причине, что противоречие это всегда пребывает вне дискурса и, следовательно, никогда не может быть вполне очерчено, дискурс изменяется, преображается, вытекает сам из себя в своей континуальности. Следуя за течением дискурса, противоречие, таким образом, действует как основа его историчности.
Итак, история идей различает два уровня противоречий: случайные и разрешимые в рамках дискурса, — и фундаментальные, дающие повод для самого дискурса.
Дискурс, — с точки зрения его связи с первым из этих уровней, — является идеальной фигурой, которую следует очистить от случайного присутствия легко обнаруживаемых противоречий; с точки зрения связи со вторым дискурс является фигурой эмпирической, которую могут захватить противоречия и в которой для того, чтобы обнаружить их своевольное вторжение, следует разрушить видимость связности. Дискурс — это путь, ведущий от одного противоречия к другому: если он и предоставляет место для тех, что видимы, то только от того, что подчиняется тем, что скрыты. Проанализировать дискурс — это значит разрушить старые и открыть новые противоречия; это значит показать игру, в которую они в нем играют;
это значит объяснить, в чем они могут выражаться, признать их значимость или приписать их появлению случайный характер.
Для археологического анализа противоречия не представляются ни внешним явлением, которое надлежит преодолеть, ни скрытым принципом, который предстоит высвободить. Напротив, они являются объектами описания сами по себе, вне поисков точки зрения, с которой их можно было бы развеять, или уровня, на котором они бы радикализовались и действительно стали причиной.
Рассмотрим простой пример, который весьма схож с очень многими случаями, ему подобными: креационистский принцип Линнея был опровергнут в XVIII в. не столько открытием Пелории, изменившего в нем лишь правила применения, сколько известным числом «эволюционистских» утверждений, которые можно найти у Бюффона, Дидро, Бордо, Медье и многих других. Археологический анализ заключается не в том, чтобы показать, что этой оппозицией и на более существенном уровне все они принимали определенное количество основных тезисов (непрерывность и полнота природы, взаимосвязь между новыми формами и климатом, почти неощутимый переход от неживой природы к живой); он не заключается также и в том, чтобы показать, что такая оппозиция отражает в частной области естественной истории более общий конфликт, разрывающий все познание и всю мысль XVIII в. — конфликт между идеей упорядоченного творения, свершенного раз и навсегда, развернутого без непознаваемой тайны, и идеей самопроизводящей, самопорождающей природы, наделенной загадочными способностями, развертывающейся в истории постепенно и переворачивающей по прошествии долгого времени космический порядок. Археология стремится показать, как два воззрения, креационизм и «эволюционизм», сосуществуют в конкретном описании видов и родов. В качестве объектов это описание рассматривает видимую структуру органов (то есть их форму, размер, число и расположение в пространстве); оно может определять ее двумя способами — как целостный организм либо как некоторые из его частей, выделенные то ли на основании их значимости, то ли из соображений таксономического удобства. Во втором случае появляется, таким образом, упорядоченная таблица, имеющая некоторое число соответствующих отделений и содержащая, если можно так сказать, программу любого возможного творения (в результате чего порядок видов и родов — современный, еще не существующий или уже исчезнувший — оказывается четко зафиксирован); в первом же случае — ряд родственных групп, остающихся неопределенными и открытыми, отделенными одна от другой и принимающими в любом количестве новые формы, настолько близкие, насколько это позволяют формы предшествующие.
Итак, выстраивая противоречие между двумя тезисами некоей области объектов, ограниченной и упорядоченно структурированной, мы отнюдь не полагаем разрешить это противоречие и не ищем примиряющей позиции, но, в равной степени, и не переводим его на более глубокий уровень. Мы только определяем пространство, в котором это противоречие располагается, выявляем альтернативные ответвления, устанавливаем точку расхождения и место, где два дискурса накладываются друг на друга. Представления, которые условно можно назвать «структурной теорией», не являются общим постулатом, базой целостного мировоззрения, разделяемого и Линнеем, и Бюффоном, твердым фундаментальным убеждением, которое сводило конфликт «эволюционизма» и креационизма на уровень второстепенной дискурсии, — это основание их несовместимости, закон, определяющий их расхождение и их сосуществование.
Принимая противоречия как объект описания, археологический анализ не пытается обнаружить в них общую форму или общую тематику, не пытается определить меру или формулу их различия. В отличие от истории идей, которая стремится слить противоречия в призрачном единстве целостности фигуры иди превратить их в отвлеченный всеобщий принцип, наподобие принципа интерпретации иди экспликации, археология предназначена для описания различных пространств разногласия.
Следовательно, археология отказывается от того, чтобы рассматривать противоречие как всеобщую функцию, действующую в равной степени на всех уровнях дискурса, анализ которой следовало бы либо вообще упразднить, либо свести к примитивной конститутивной форме: в бесконечной игре противоречия («вообще»), скрывавшегося под тысячью обличий, потом уничтоженного и, наконец, достигшего своей кульминации и воскресшего в коренном конфликте, она заменяет анализ разнообразных типов противоречия, различных уровней, где его можно обнаружить, функций, которые оно может выполнять.
Начнем с разных типов.
Некоторые противоречия располагаются в едином плане предложений или утверждений, нисколько не влияя на порядок высказываний, делающий их возможными: так, в XVIII в. утверждение об органическом происхождении полезных ископаемых противостояло более традиционному представлению об их неорганической природе. Безусловно, выводы, которые можно сделать из обоих этих тезисов, многочисленны и далекоидущие; однако, можно показать, что порождены они одной и той же дискурсивной формацией, в одной ее точке и вследствие одних и тех же обстоятельств действия функции высказываний. Эти противоречия, — с археологической точки зрения, — производные, они являют собою конечное состояние. Другие, напротив, переходят пределы дискурсивной формации, они противопоставляют тезисы, не следующие из одних и тех же условий высказывания: так, Линнеев креационизм находится в противоречии с креационизмом Дарвина, но лишь постольку, поскольку возможно нейтрализовать различие между естественной историей, к которой принадлежит первый, и биологией, к которой относится второй. Мы наблюдаем здесь противоречия внешние, отсылающие к противоположности между двумя дискурсивными формациями. Для археологического описания (не принимая в расчет возможного в реальной работе бестолкового и слепого поиска) это противопоставление составляет terminus a quo, тогда как противоречия производные составляют terminus ad quem анализа.
Между двумя этими крайностями археологическое описание определяет то, что можно было бы назвать противоречиями внутренне присущими: те, что развиваются в самой дискурсивной формации и, в то же время, будучи порождены в единой точке системы формаций, вызывают появление подсистем: таково для нас, если взять пример из естественной истории XVIII в., противоречие, организующее оппозицию между «методическим» и «систематическим» анализом.
Здесь противоречие отнюдь не является непримиримым: это не два взаимоисключающих утверждения об одном объекте, не два несовместимых применения одного концепта, но два способа построения высказывания, отличающихся, — как первый, так и второй, — характерным объектом, характерной позицией субъекта, характерными концептами и характерным выбором стратегии. Между тем, эти системы не самобытны постольку, поскольку можно показать, из какой обе они выходят точки одной и единой реальности — реальности естественной истории. Для археологического анализа существенны именно такие внутренне присущие оппозиции.
Теперь — о различных уровнях.
Внутренне присущее с археологической точки зрения противоречие не является чистым и простым фактом, который достаточно было бы констатировать как правило или описать как эффект. Это сложный феномен, протекающий на различных планах дискурсивной формации. Так, например, для систематической естественной истории и естественной истории методической, которые на протяжении всего XVIII в. находились в состоянии беспрерывной оппозиции, можно обозначить: неадекватность объектов (в одном случае описывается общий вид растения, в другом — несколько переменных, определенных заранее; в одном случае описывается растение в совокупности или хотя бы его важнейшие части, в другом — определенное число элементов, самовольно отобранных по принципу таксономического удобства; во внимание принимаются различные стадии роста и созревания растения или же, напротив, ограничиваются одним моментом и стадией, оптимальной для наблюдения); расхождение модальности высказываний (в случае систематического анализа растения используют строгие правила наблюдения и описания, и неизменную шкалу; для методического описания правила относительно свободны и могут применяться различные шкалы); несовместимость концептов (в «системах» понятие родового признака является произвольным, хотя и не ошибочным, родоразличительным понятием; в методиках тот же термин призван раскрыть истинное определение рода); и, наконец, исключение теоретического выбора (систематическая таксономия признает возможным креационизм, если даже он пропущен через идею творения, протяженного во времени и развертывающего свои элементы постепенно, или идею стихийного бедствия, нарушая, на наш нынешний взгляд, линеарность природного сосуществования, — но она исключает возможность изменения, которую метод принимает, несмотря на то, что абсолютно ее не включает).
Функции.
Все эти формы оппозиции играют разные роли в дискурсивной практике: они, равным образом, отнюдь не является препятствиями, которые необходимо преодолеть, или основой развития. Во всяком случае, недостаточно видеть в них лишь причину замедления либо ускорения исторического хода; появление времени в реальность и идеальность дискурса не есть следствие такого пустого и всеохватного по форме явления, как противоречие.
Оппозиции — это всегда предопределенные функциональные моменты. Некоторые из них обеспечивают дополнительное разбитие поля высказываний и открывают последовательность различных объяснений, опытов, проверок и выводов, они дают возможность определить новые объекты, они порождают новые модальности высказываний, они определяют новые концепты или изменяют поле применения уже существующих, — однако, так, чтобы ничего не изменилось в системе дискурсивной реальности (как, например, произошло с дискуссиями между натуралистами XVIII в. о разграничениях мира минералов от мира растений, о пределе жизни иди о происхождении полезных ископаемых). Подобные дополнительные процессы могут оставаться открытыми или оказаться окончательно закрытыми вследствие аргумента, их опровергающего, либо открытия, ставящего их вне игры.
Другие же вызывают реорганизацию дискурсивного поля: они поднимают вопрос о возможном воспроизведении одной группы высказываний в другой, о точке связности, которая могла бы их соединять, о более общей интеграции их в пространстве (так, оппозиция метода и системы у натуралистов XVIII в. порождает ряд попыток переписать их вместе в форме единого описания, соединить произвольность системы с конкретным анализом метода); это не новые объекты, не новые понятия, не новые модальности выражения, линейно присоединенные к прежним, но объекты иного — более общего или более частного — уровня, концепты с иной структурой и иным полем применения, акты высказывания иного типа, без которых, тем не менее, должны были бы перемениться законы формации.
Противопоставления третьего рода играют роль критическую: они обеспечивают существование и «приемлемость» дискурсивной практики, определяют момент невозможности ее исполнения и возвратного поворота ее истории (так, в той же естественной истории описание органических взаимосвязей и функций, осуществляющих при различных условиях окружающей среды у организмов с различной анатомической организацией, уже не позволяет говорить о естественной истории — в смысле таксономической науки о живых существах, исходящей из наблюдаемой внешности, — как о замкнутой дискурсивной формации).
Дискурсивная формация — это отнюдь не идеальный текст, протяженный и гладкий, протекающий в свете разнообразных противоречий и разрешающий их в спокойном единстве упорядоченной мысли; это и не поверхность, в которой отражается в тысяче разных видов противоречие, отступающее всегда на второй план и в то же время доминирующее. Это скорее пространство множества разногласий; это единство различных противоположностей, для которых можно выделить и уровни и роли.
Археологический анализ, таким образом, все же снимает примат противопоставления, чья модель сводится к утверждению и отрицанию в одном и том же предложении. Снимает, однако, совсем не затем, чтобы нивелировать все противопоставления в общих формах мышления и насильно примирить их посредством принудительного априори. Речь, напротив, идет о том, чтобы отметить в некоей дискурсивной практике момент, где они возникают, определить форму, которую они принимают, связи, образующиеся между ними, и область, в которой они господствуют. Короче говоря, речь идет о том, чтобы сохранить дискурс со всеми его шероховатостями и, следовательно, закрыть тему потерянного или, равно, найденного, решительного и всегда возрождающегося противоречия в недифференцированной стихии Логоса.
4. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Археологический анализ выделяет и описывает дискурсивные формации. Это значит, что он должен их сопоставлять, противопоставлять друг Другу в одновременности, где они находятся, отделить те из них, что лежат в другом календаре, устанавливать связь, придающую им специфику, между ними и недискурсивными практиками, окружающими их и служащими их общим начальным элементом. Археологическое исследование, и в этом также весьма отличное от эпистемологических иди «архитектонических» описаний, анализирующих неподвижную структуру теории, — археологическое исследование всегда пользуется множественным числом: оно осуществляется на многих уровнях, преодолевает промежутки и проходит через зазоры; область его — там, где единства перекрываются, разделяются, прекращают свое течение, противостоят друг Другу и оставляют между собою пробел. Когда же оно обращается к какому-либо одному типу дискурса (например, к психиатрии в «Истории безумия» или к медицине в «Рождении клиники»), то делает это затем лишь, чтобы установить для них на основании внешнего сравнения хронологические вехи, — а также и для того, чтобы описать одновременно с ними групповое поле, единство событий, действий, политических решений, взаимосвязь экономических процессов, учитывающих демографические колебания, виды благотворительности, потребности и требования рабочих, различные уровни безработицы и т. д. Но археологическое исследование может также (в порядке побочного сопоставления, как я это делал в «Словах и Вещах») ввести в оборот многочисленные и разнообразные реалии, состояния которых, существующие на протяжении определенного периода, оно сопоставляет и которые оно сравнивает с другими типами дискурса, занявшими их место в данную эпоху.
Замети однако, что виды эти весьма отличны от тех, которые применяются обыкновенно.
1. Сравнение всегда ограничено и локализовано. Отнюдь не стремясь выявить всеобщие формы, археология старается нарисовать очертания единичных объектов. Когда между собой сопоставляются всеобщая грамматика, анализ накоплений и естественная история классического периода, то это делается не затем, чтобы объединить эти три проявления менталитета, для которых в особенности характерна экспрессивность оценок и которые до сих пор, как ни странно, пребывают в пренебрежении, — три проявления менталитета, очевидно, господствовавшего в XVII–XVIII вв., и не для того чтобы воссоздать, опираясь на уменьшенную модель и в частной области, формы мышления, существовавшие во всей классической науке, даже и не затем чтобы осветить в наименее известном ракурсе культурный облик, кажущийся нам близким и знакомым. Мы не хотим утверждать, что людей XVIII в. порядок интересовал, как правило, больше, нежели история, классификация — больше, нежели становление, а знаки — больше, нежели механизм причинности. Речь идет о том, чтобы показать вполне определенное единство дискурсивных понятий, имеющих между собой некоторое количество поддающихся описанию связей. Эти связи не выходят за границы смежных областей и нельзя постепенно перенести их ни на всю общность современных дискурсов, ни, тем более, на то, что обычно называют «классическим духом»: они тесно замкнуты в рассматриваемой триаде и действуют только в области, которая оказывается, таким образом, определена. Это интердискурсивное единство как группа само по себе тоже оказывается в связи с иными типами дискурса (с одной стороны — с анализом представления, общей теорией знака и «идеологией»; с другой стороны — с математическим анализом и с попыткой восстановить матезис). Эти-то внутренние и внешние связи и характеризуют естественную историю, анализ накоплений и всеобщую грамматику как специфическое единство и позволяет признать в них интердискурсивную конфигурацию.
Что же до тех, кто спросит: «Почему мы не говорим о космологии, физиологии или толковании Библии? разве химия до Лавуазье, математика до Эйлера и история до Вико, — коли уж о них зашла речь, — не способны разрушить весь анализ, какой только можно найти в "Словах и вещах"? Разве нет в изобретательном обогащении XVIII в. множества других идей, совсем не входящих в жестокие рамки археологии?», — то на их законное нетерпение, на все их контрдоводы, которые, я знаю, могли бы быть представлены, я отвечаю:
«Разумеется. Я не только допускаю, что мой анализ ограничен — я этого хочу и этого от него требую. Единственное, что в самом деле будет для меня контрдоводом — это возможность такого утверждения; все эти связи, описанные нами применительно к трем отдельным формациям, все эти переплетения, где соединяются между собой теория определения, артикуляции, обозначения и деривации, вся эта таксономия, базирующаяся на прерывистой характеризации и непрерывности следования — точно так же и таким же образом обнаруживается в геометрии, теоретической механике, физиологии телесных соков и зародышей, в критике священной истории и в описании кристаллообразования». Вот это действительно будет доказательством того, что я не смогу описать, как хотел бы это сделать, область интердискурсивности; я характеризовал дух или науку эпохи — вот против чего направлен весь этот мой выпад. Связи, которые я описывал, годятся для того, чтобы определить отдельную обособленную конфигурацию; это вовсе не знаки для описания всего облика культуры в ее целостности. Друзья Weltanschanung будут разочарованы: я стремлюсь к тому, чтобы описание, к которому я приступил, было совершенно иного типа. То, что для них было бы лакуной, упущением или ошибкой, для меня — намеренное, методологическое исключение.
Однако могут сказать: «Вы сопоставляете всеобщую грамматику с естественной историей и анализом накоплений. Почему же не с историей, какою она представлялась в ту же эпоху, почему не с библейской критикой, не с риторикой, не с теорией искусства? Разве все это не то же поле интерпозитивности, которое вы стремились описать? Какая же привилегия у того, что было вами рассмотрено, сравнительно с другим?» — «Никакой привилегии, — отвечу я. — это просто одно из доступных для описания единств». Если действительно взять всеобщую грамматику и постараться определить ее связи с историческими дисциплинами и критикой текста, наверняка можно увидеть, как вырисовывается вся система взаимоотношений; и описание покажет интердискурсивную сеть, не накладывающуюся на всеобщую грамматику, но пересекающуюся с нею в определенных точках. Так же и таксономия натуралистов могла бы быть сопоставлена не только с грамматикой и экономикой, но и с физиологией и патологией; здесь тоже вырисуются новые интерпозитивности (как при сопоставлении отношений таксономии, грамматики и экономики, рассмотренных в «Словах и Вещах», и отношений таксономии и патологии, изученных в «Рождении клиники»). Количество этих сетей, однако, не предопределено заранее; самый подход к анализу может показать, существуют ли они и какие из них существуют (иначе говоря, какие из них поддаются описанию). При этом ни одна дискурсивная формация не принадлежит (во всяком случае — не принадлежит обязательно) лишь одной из этих систем, но они одновременно входят во многие поля отношений, не занимая в них одно и то же место и не выполняя одной и той же функции (связи таксономия-патология не изоморфны связям таксономия-грамматика; связи грамматика-анализ накоплений не изоморфны связям грамматика-экзегеза).
Итак, горизонт, к которому обращается археология — это не сама по себе наука, мышление, менталитет или культура; это скрещение интерпозитивностей, чьи пределы и точки пересечения могут быть мгновенно обозначены. Археология — сравнительный анализ, предназначенный не для того, чтобы редуцировать многообразие дискурсов и отображать единство, долженствующее их суммировать, а для того, чтобы разделить их разнообразие на отдельные фигуры. Следствие археологического сравнения — не объединение, но разделение.
2. Сопоставляя всеобщую грамматику, естественную историю и анализ накоплений XVII–XVIII вв., можно спросить себя, какими общими идеями располагали в ту эпоху лингвисты, натуралисты и теоретики экономики; можно спросить себя, какими скрытыми постулатами мыслили они вместе, несмотря на различие их теорий, каким основным принципам повиновались, пусть даже негласно; можно спросить себя, какое влияние языковой анализ оказал на таксономию или какую роль идея упорядоченной природы сыграла в теории капитала; можно, в равной степени, изучать взаимное проникновение этих сложных видов дискурса, признанный за каждым из них авторитет, оценку каждого из них, обусловленную его древностью (или, напротив, новизной) и большей точностью, каналы коммуникации и пути, по которым происходит обмен информацией; можно, наконец, дойдя до совсем традиционного анализа, спросить себя, в какой мере Руссо перенес на изучение языков и их происхождения свои ботанические познания и опыт, какими общими категориями пользовался Тюрго в анализе денежного обмена и в теории языка и этимологии; как идея универсального языка, искусственного и совершенного, была переработана и использована Линнеем или Адамсоном… Конечно, все эти законы были бы законны (по крайней мере, некоторые из них). Но ни одни, ни другие не релевантны на уровне археологии.
Археология, в первую очередь, стремится в специфике разграниченных между собой дискурсивных формаций установить игру аналогий и различий такими, какими они предстают перед нами на уровне правил формации.
Таким образом, перед археологией стоят пять отдельных задач:
a) показать, как совершенно разные дискурсивные элементы могут быть образованы вследствие аналогичных правил (концепты всеобщей грамматики, такие, как глагол, подлежащее, дополнение, корень, образованы на основании тех же положений поля высказываний — теорий определения, артикуляции, обозначения и деривации — что и концепты естественной истории и экономики, порой совершенно различные, порой абсолютно однородные), — задача показать среди разнообразных формаций археологический изоморфизм;
b) показать, в какой мере эти правила сочетаются (или не сочетаются) сходным образом, перекрещиваются (или не перекрещиваются) в одном порядке, располагаются (или не располагаются) по одной модели в различных типах дискурса (всеобщая грамматика скрещивает между собой и именно в указанном порядке теории определения, артикуляции, обозначения и деривации; естественная история и анализ накоплений меняют местами две первые с двумя последними, но скрещивают их каждая в обратном порядке, — задача определения археологическую модель каждой формации;
c) показать, как совершенно разные концепты (такие, как цена и специфический признак, или стоимость и родовой признак) занимают аналогичное местоположение в ответвлениях их системы реальности, — как, следовательно, они обретают археологическую изотопию, хотя область их приложения, степень их формализации и, в особенности, их исторический генезис — делают их абсолютно друг другу чуждыми;
d) показать взамен, как одно и то же понятие (по случайности обозначенное одним и тем же словом) может означать два с археологической точки зрения разнличых элемента (понятия происхождения и эволюции играют разную роль, занимают разное место и создают разные формации в системах реальности всеобщей грамматики и естественной истории), — задача регистрации археологических расхождений;
e) наконец, показать, каким образом от одной реальности к другой могут выстраиваться связи подчинения или дополнения (например, как в соотношении с анализом накоплений, так и с анализом видов, описание языка играет в классическую эпоху доминирующую роль постольку, поскольку оно является теорией институционных знаков, раздваивающих, маркирующих и представляющих самое представление), — задача установления археологических корреляций.
Во всех этих описаниях ничто не опирается на определение влияний, изменений, информационной передачи, коммуникации. Речь идет и не об их отрицании или оспоривании того, что они могли бы стать объектом описания, но о том, чтобы в связи с этим сперва несколько отступить назад, перевести направление анализа на другой уровень, показать, что сделало их возможными, обозначить точки, в которых стала осуществима проекция одного понятия на другое, установить изоморфизм, обеспечивающий перенос методов или технологий, показать близость, симметрию или аналогию, давшие основание для обобщений; короче говоря, — о том, чтобы описать поле векторов и дифференциальной рецепции (проницаемости и герметичности), послужившее основанием для исторической возможности изменений. Конфигурация промежуточного состояния — это не группа смежных дисциплин, не просто наблюдаемый феномен подобия многих дискурсов с одним или другим, — это закон их коммуникации. Мы не станем утверждать, что, поскольку Руссо и иже с ним размышляли по очереди о порядке видов и о происхождении языков, завязались связи и произошли переносы между таксономией и грамматикой, поскольку Тюрго, вслед за Лоу и Петти, рассматривал деньги как знак, экономика и теория языка сблизились, и их история все еще несет следы этих попыток. Но скажем, — если все-таки собираемся осуществить археологическое описание, — что взаиморасположение этих трех реальностей было таково, что на уровне произведений, авторов, индивидуального существования, замыслов и попыток — можно найти подобные переносы.
3. Археология раскрывает также связи между дискурсивными формациями и областями недискурсивными (учреждения, политические события, экономическая деятельность и процессы в экономике). Эти сближения не ставят своей конечной целью осветить большие культурные континуумы или выделить механизмы причинности. Рассматривая единство фактов высказывания, археология не задается вопросом, чем бы оно могло быть мотивировано (этим занимается разыскание контекстов формулировки), не стремится она и к отысканию того, что в них выражено (недостаток герменевтики), — она пытается определить, как законы формации, из которых появляется это единство и которые характеризуют реальность, которой оно принадлежит, могут быть связаны с недискурсивными'системами: она, таким образом, стремится определить специфические формы артикуляции.
Обратимся к примеру клинической медицины, введение которой в конце XVIII в. совпало по времени с определенным числом явлений в области политики, экономических феноменов, организационных перемен. Нетрудно, по крайней мере, интуитивным способом, заметить связь между событиями и организацией больничной медицины. Но как ее анализировать? Символический анализ увидит в организации клинической медицины и в совпавших с нею исторических процессах два синхронных выражения, отражающие и символизирующие друг друга, служащие друг для друга зеркалом, значения которых проявляются в неопределенной игре отражений: два выражения, не представляющие ничего кроме общей для них формы. Таким образом, медицинские идеи естественной солидарности, функционального сцепления, связи тканей и отказ от принципа классификации заболеваний в пользу анализа взаимодействий в теле соответствуют (отражая ее и отражаясь в ней) политической практике, раскрывающей под все еще феодальной стратификацией связи с функциональным типом, экономическую солидарность, общество, в котором внутренние зависимости и соответствия должны были подтвердить под формой коллектива аналог жизни. Причинный анализ зато будет заключаться в том, чтобы выяснить, в какой степени политические изменения, экономические процессы могли определять сознание научных деятелей: их кругозор, направленность интересов, систему ценностей, взгляд на вещи. Так, в эпоху, когда индустриальный капитал начал считаться с повседневными нуждами своих рабочих, заболевание приобрело социальное значение: поддержание здоровья, лечение, помощь бедным больным, поиск причин и очагов заболеваний — все это сделались коллективной заботой, которую государство должно было частично взять на свой счет, частично принять под наблюдение. С этого берут начало отношение к телу как орудию труда, забота о рационализации медицины по образцу других наук, усилия, направленные на поддержание уровня здравоохранения, забота о терапии, о ее эффективности феноменов долгожительства.
Археология располагает свой анализ на другом уровне: феномены выражения, отражения и символизации для нее — не более чем явления из общего материала к отысканию формальных аналогий или переноса смысла; а причинные связи могут быть определены лишь на уровне контекста или по ситуации и по их воздействию на говорящего. Во всяком случае, как первые, так и вторые могут быть установлены, только если будут определены реальности, где они проявляются, и законы, согласно которым эти реальности сформировались. Поле отношений, характеризующее дискурсивную формацию, — вот точка, отправляясь от которой могут быть замечены, локализованы и определены символизация и воздействие. Если археология сближает медицинский дискурс с определенным числом практик, то делает это для того, чтобы раскрыть связи, гораздо менее «непосредственные», нежели выражение, но гораздо более прямые, нежели связи причинности, ретранслированные сознанием говорящих. Она стремится показать не то, как политическая деятельность определила содержание и форму медицинского дискурса, а как и в каком качестве она составила часть условий его появления, интеграции и функционирования.
Связь может быть отмечена на многих уровнях. Во-первых, на уровне выделения и ограничения объекта медицины: мы, конечно, далеки от того, чтобы утверждать, будто это политическая практика начала XIX в. дала медицине новые объекты, — такие, как повреждение тканей или анатомо-физиологическая соотнесенность, — но она открыла новые поля отмеченных объектов медицины (эти поля определились вследствие наличия массы населения, административно руководимой и наблюдаемой, расслоенной с точки зрения определенных норм жизни и здоровья, анализируемой в формах статистической и документальной регистрации; они определились также на основании огромных народных масс эпохи Революции и Наполеона и тогдашней специфической формой медицинского контроля; они определились, сверх того, на основании учреждений больничного вспоможения, которые в конце XVIII — начале XIX вв. функционально определялись как экономическая потребность эпохи и социально-классовых взаимоотношений). Эту связь политической практики с медицинским дискурсом в равной степени можно обнаружить в статусе врача, ставшего не только привелегированным, но и практически исключительно правомочным обладателем дискурса, в форме отношений, установившихся между врачом и госпитализированным больным иди частной клиентурой, в предписанных или разрешенных для этого знания разновидностях обучения и пропаганды. Можно, наконец, уловить эту связь в функции, которой наделен медицинский дискурс, или в роли, которой от него ж требуют, коль скоро речь идет о суде над индивидуумом, о принятии административного решения, об установлении общественной нормы, о рассмотрении конфликтов иного порядка (с тем, чтобы их «разрешить» или прикрыть), о создании естественных моделей для анализа общества и присущего ему типа поведения. Речь ведь идет не о том, чтобы продемонстрировать, как политическая практика в данном обществе закрепила иди видоизменила медицинские понятия и теоретическую структуру патологии, а о том, как медицинский дискурс как практика, обращаясь к определенному полю объектов, будучи поручен определенному числу утвержденных согласно закону лиц, выполняя, наконец, определенные функции в обществе — соединяется со внешними для себя практиками, недискурсивными по своей природе.
Если в данном виде анализа археология на время заслоняет тему выражения и отражения, если возвращается к рассмотрению в дискурсе видимости символической проекции событий или расположенных вовне процессов, то не затем чтобы выявить причинную последовательность, которую можно было бы описать по пунктам и которая позволила бы установить связь между открытием и событием или между концептом и социальной структурой. Однако, с другой стороны, если она оставляет подобный причинный анализ нерешенным, если стремится избегнуть неизбежного промежуточного присутствия говорящего, то не для того чтобы закрепить полную независимость и обособленность дискурса, но для того чтобы раскрыть область существования и функционирования дискурсивной практики. Иными словами, археологическое описание дискурсов развертывается в масштабах всеобщей истории; оно стремится раскрыть всю область учреждений, экономических процессов, социальных отношений, с которыми может быть связана дискурсивная формация; оно пытается показать, как автономность дискурса и его специфичность не сообщают ему, тем не менее, статуса чистой абстракции. То, что оно стремится осветить — это тот своеобразный уровень, на котором история может породить определенные типы дискурсов, имеющие, сами по себе, собственный тип историзма и связанные со всей совокупностью многообразных видов историзма.
5. ИЗМЕНЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ
Вернемся к археологическому описанию изменений. Сколь бы глубокой и жестокой теоретической критике мы не подвергали традиционную историю идей, она все равно будет рассматривать в качестве одной из своих основных тем феномен временной последовательности и очередности, и анализировать их в соответствии со схемами эволюции, описывая, таким образом, историческое развитие дискурса.
Однако археология истолковывает историю лишь для того, чтобы ее запечатлеть. С одной стороны, описывая дискурсивные формации, она пренебрегает темпоральными последовательностями, которые могут в них проявляться. Она исследует общие правила, одинаково верные и применимые во всех точках времени. Но не предписывает ли она, таким образом, медленному и скрытому развитию принудительную фигуру синхронии? Не оценивается ли она как разновидность неподвижной мышления в этом самом по себе непостоянном мире идей, где стираются, стремительно исчезают даже самые стабильные фигуры и где, тем не менее, происходит столько событий, которые противоречат какой-либо закономерности, а позднее приобретут определенный статус, — в мире, где будущее всегда опережает само себя, тогда как прошлое удаляется, все более и более неуловимо?..
С другой стороны археология прибегает к хронологии исключительно для того, чтобы зафиксировать на границах позитивностей две принципиальные точки: момент их рождения и момент их исчезновения, — как если бы длительность использовалась лишь для составления этого несовершенного календаря и игнорировалась на протяжении самого анализа; как если бы время находилось только в незаполненном мгновении разрыва, в том парадоксальном вневременном пробеле, в котором одна формация внезапно сменяет другую… Рассматриваемое как синхрония позитивностей или же как мгновенность замещений, время игнорируется, и вместе с ним исчезает возможность исторического описания. Дискурс отстраняется от закона становления и осуществляется в прерывной вневременности, утрачивая свою подвижность по частям — хрупким осколкам вечности. Но ни несколько следующих друг за другом вечностей, ни игры исчезающих поочередно образов не прородят движения, времени и истории.
Поэтому нам придется приступить к более тщательному рассмотрению проблемы.
А
Прежде всего, рассмотрим мнимую синхронию дискурсивных формаций. Действительно, правила не могут быть применимы к каждому высказыванию, они не могут осуществляться в каждом из них и всякий раз изменяться. Зато их можно обнаружить в деятельности высказываний или групп высказываний, рассеянных во времени. Мы показали, например, что почти целое столетие — от Турнефора до Жюсье — различные объекты естественной истории подчинялись одим и тем же правилам образования. Мы показали, что теория присвоения одинакова и играет одну и ту же роль у Ланседо, Кондильяка и Дестутта де Траси. Более того, мы показали, что порядок высказываний, основанный на археологической деривации, не воспроизводит в точности порядок последовательностей: так, например, у Бозе можно найти высказывания, которые археологически предшествуют высказываниям, встречающимся в грамматике Пор-Рояля. Следовательно, в подобном анализе присутствует некоторая приостановленность временных цепей или, если быть более точным, календаря формулировок. Заметим, однако, что такого рода при оста — новленность может быть направлена только на выявление отношений, которые бы характеризовали темпоральность дискурсивных формаций, а также на соединение их в последовательности, пересечение которых не препятствует анализу.
а) Итак, археология определяет правила образования совокупности высказываний. Тем самым она показывает, каким образом последовательность событий — в том порядке, в котором она представляется, — становится объектом дискурса, регистрируется, описывается, объясняется, разрабатывается с помощью понятийного аппарата и создает условия, в которых возможен теоретический выбор. Археология анализирует степень и форму проницаемости дискурса:
она устанавливает принцип его артикуляции в цепи последовательных событий, определяет операторы, посредством которых события вписываются в высказывания. Археология не оспаривает, например, связи между анализом накоплений и значительными колебаниями денежного курса XVII и начала XVIII вв.; она пытается показать, что могло бы быть рассмотрено в этих кризисах в качестве объекта дискурса, каким образом эти кризисы могли концептуализироваться в такого рода объект, как интересы, соперничающие друг с другом на протяжении этих процессов, могли бы осуществлять их стратегии. Она не настаивает на том, например, что эпидемия холеры 1832 г. не была событием для медицины, но она показывает, каким образом клинический дискурс ввел в обиход такой комплекс правил, что стало возможным реорганизовать любую область медицинских объектов, использовать всю совокупность методов регистрации и оценивания, отвергнуть понятие «горяки» и, в итоге, окончательно разрешить старую теоретическую проблему лихорадки. Археология не отрицает возможности новых высказываний в соотношении с «внешними» событиями. Ее задача — показать, при каком условии между ними возможна корреляция, и в чем именно такая корреляция заключается (каковы границы этих высказываний, форма, код, закон возможности). Она не избегает той подвижности дискурса, которая приводит такого рода высказывания в движение в ритме совершающихся событий. Она пытается выявить уровень, на котором начинается ее деятельность, — то, что можно было бы условно назвать «уровнем событийного сцепления», — сцепления, специфического для любой дискурсивной формации и располагающего различными правилами, различными операторами, различной чувствительностью в рамках анализа накоплений, например, и в рамках политической экономии, в рамках старой медицины «составляющих» и в рамках современной эпидемиологии…
b) Более того, правила образования, — правила формации, — установленные археологией для позитивностей, не равнозначны: некоторые являются более частными и вытекают из других. Подобная субординация может показаться лишь иерархической, однако она может привносить временной вектор. Так, в общей грамматике взаимосвязаны теории глагольной и именной части составного сказуемого: вторая вытекает из первой, но при этом между ними нельзя установить порядок последовательности — иной, нежели дедуктивный или риторический, избранный для проведения доказательства. С другой стороны, анализ дополнения или исследование корня слова могли появиться (или возродиться) лишь после того, как развился анализ аттрибутивной фразы или представление об имени как аналитическом знаке репрезентации.
Приведем другой пример: начиная с классической эпохи, принцип непрерывности эволюции существ вводится с помощью классификации видов в соответствии со структурными признаками. В этом смысле они являются одновременными. Но, с другой стороны, лакуны и погрешности могут интерпретироваться в категориях истории природы, земли и видов только лишь в случае использования этой классификации. Иными словами, археологическое разветвление правил формации не представляет собой одновременную однородную сеть: существуют связи, ответвления, деривации, нейтральные во временном отношений, и, наряду с ними, существуют другие, предполагающие определенное направление во времени. Таким образом, археология не принимает модель ни чисто логической схемы одновременностей, ни линеарной последовательности событий, но пытается продемонстрировать пересечение, которое возникает между непременно последовательными связями и связями, которые не являются таковыми. Из этого, впрочем, отнюдь не следует заключать, что система позитивностей является синхронной фигурой, которую можно воспринимать лишь при условии вынесения за скобки совокупности диахронических процессов. Далекая от того, чтобы быть нейтральной по отношению к последовательности, археология намечает временные векторы деривации.
Археология не пытается рассматривать как одновременно присутствующее то, что дано как последовательное. Она не стремится запечатлеть время и заместить потоком событий соотношения, обрисовывающие неподвижную фигуру. Напротив, она ставит под сомнение точку зрения, согласно которой последовательность — это абсолют: первичная и неразделимая цепь, в которую выстраивается в соответствии с законом своей конечности дискурс. В равной степени она развенчивает предубеждение, согласно которому в дискурсе существует только одна форма и один уровень последовательности. Всем такого рода воззрениям археология противопоставляет типы анализа, позволяющие выявить одновременно различные формы последовательности, которые налагаются друг на друга в дискурсе (под формами здесь следует понимать не ритмы или причины, но сами ряды и последовательности), и способ, с помощью которого связываются Друг с другом специфизированные таким образом последовательности. Вместо того, чтобы следовать течению исходного календаря, в соответствии с которым устанавливалась бы хронология последовательных и одновременных событий, хронология скоротечных и продолжительных процессов, мгновенных и постоянных феноменов, мы пытаемся показать, каким образом возникает сама возможность последовательности и на каких различных уровнях могут быть обнаружены разные последовательности.
Следовательно, для того, чтобы написать археологическую историю дискурса, необходимо отказаться от двух моделей, которые уже достаточно давно навязывают свое присутствие, — следует отказаться от линеарной модели языка (и отчасти, по меньшей мере, письма), в которой все события следуют Друг за другом, не подпуская возможности совпадения или наложения, — и от модели потока сознания, чье присутствие всегда ускользает от самого себя в перспективу будущего и удержания прошлого. Как бы парадоксально это не звучало, дискурсивные формации располагают иной моделью историчности, нежели течение сознания или линеарность языка. Дискурс, по крайней мере, дискурс, являющийся предметом анализа археологии, — то есть взятый на уровне позитивности, — это не сознание, которое помещает свой проект во внешнюю форму языка, это не самый язык и, тем более, не некий субъект, говорящий на нем, но практика, обладающая собственными формами сцепления и собственными же формами последовательности.
В
Археология более охотно, нежели история идей, говорит о разрывах, сдвигах, зазорах, совершенно новых формах позитивности и внезапных перераспределениях.
Практика политической экономии, например, традиционно заключалась в поиске всего того, что могло предшествовать Рикардо, всего того, что могло очертить контуры его исследований, методы и основные понятия, — всего того, что могло сделать открытия более вероятными. Практика истории сравнительной грамматики заключалась в поиске — от Боппа до Раска — предшествующих исследований в области родства и подобия языков, в определении роли, которую сыграл Анкетиль-Дюперрон в возникновении представлений об индоевропейском единстве и, соответственно, области индоевропеистики, в обнаружении первого сравнения спряжений санскрита и латыни (сделанного в 1769 г.), в возвращении, если бы возникла необходимость, к Харрису и Рамусу. Археология же действует в противоположном направлении. Она пытается нарушить все те связи, которые терпеливо и методично налаживались историками; она умножает различия, размывает границы сообщений и пытается усложнить переход от одного феномена к другому. При этом археология отнюдь не стремится показать, что физиократический анализ производства подготовил появление анализа Рикардо, равно как она не считает уместным говорить в своих исследованиях о том, что Керду подготовил приход Боппа.
Но чем обосновано это парадоксальное настойчивое обращение к прерывностям? По правде сказать, парадоксально-то оно только лишь для последователедовательных приверженцев истории идей. В самом деле, ведь именно история Идей — неотделимая от непрерывностей, переходных этапов, опережений и предзнаменований — вступает в игру с парадоксом. От Добантона до Кювье, от Анкетиля до Боппа, от Граслина, Тюрго или Форбоннэ до Рикардо — несмотря даже на столь незначительный хронологический разрыв — невозможно перечислить всех различий, а тем более описать их природу: одни локализованы, а другие же — генерализованы, одни касаются методов, а другие — концептов, некоторые относятся к области объектов, а иные — ко всякому лингвистическому инструментарию… Еще более поразителен пример из области медицины: за четверть века — с 1790 до 1815 гг. — медицинский дискурс изменялся глубже и существеннее, нежели начиная с XVII в., со Средних веков и, может быть, со времен греческой медицины. Таким образом, появились новые объекты (органические поражения, глубокие раны, повреждения тканей, пути и формы интерорганической диффузии, клиническо-анатомические знаки и соотношения и проч.), технологии обследования, поиск очагов патологии, регистрация, новая перцептивная сетка и практически совершенно новый описательный словарь, новый комплекс концептов и нозографических распределений (категории столетней, а иногда и тысячелетней давности — «горячка» или «конституция» — исчезают, тогда как болезни — ровесники мира, наподобие туберкулеза, например, наконец изолированы и поименованы). Те, кто утверждают, будто археодогия-де изобретает различия произвольно, даже и не открывали «Философскую нозографию» или «Трактат о мембранах». Археология просто-напросто пытается рассмотреть все эти различия должным образом, распутать их переплетение, определить, каким образом они расходятся Друг с другом, вовлекают друг друга, управляют или управляются Друг Другом, к каким различным категориям они принадлежат.
Одним словом, речь идет об описании этих различий, без устанавления между ними какой-либо системы различений. Если археология и парадоксальна, то не оттого, что она умножает различия, но лишь оттого, что она отказывается сокращать их число и пересматривать, таким образом, устоявшуюся иерархию ценностей. Для истории идей появление различия указывает на заблуждение или ловушку. Вместо того, чтобы приступить к изучению различия, ловушку пытаются разгадать со всей проницательностью историка: найти за ней меньшее различие и ниже последнего еще более меньше — и таким образом дойти до идеального предела, не-различия совершенной непрерывности. Археология же в качестве объектов описания рассматривает то, что принято считать препятствием: ее цель состоит не в обнаружении различий, но в их анализе, определении, в чем именно они состоят, в их различении. Но каким же образом осуществляется подобное различение?
1. Вместо того, чтобы рассматривать дискурс, состоящий лишь из одной последовательности однородных событий (индивидуальные формулировки), археология различает в самой толщи дискурса несколько уровней возможных событий: уровень собственно высказываний в их единичном появлении; уровень возникновения объектов, типов актов высказываний, концептов и стратегических выборов (или трансформаций, которые воздействуют на уже существующие); уровень деривации новых правил формации на основе уже применяющихся правил, остающихся, тем не менее, элементом одной и той же позитивности; наконец, уровень, на котором выполняется замещение одной дискурсивной формации на другую (или появление и исчезновение позитивности). Эти, по большей части, весьма редкие события чрезвычайно важны для археологии, — во всяком случае, только археология может их выявить. Однако они не составляют единственный объект ее описания. Ошибкой было бы полагать, будто они сохраняют полную власть над всеми остальными событиями и ведут к аналогичным одновременным разрывам на различных уровнях. Никакое происходящее в толщи дискура событие не располагается на одной линии с подобного же рода событиями. Разумеется, появление дискурсивной формации порой сопровождается широким обновлением объектов, форм актов высказываний и стратегий (принцип, тем не менее, не универсальный: общая грамматика образовалась в XVII в. без значительных изменений в грамматической традиции), но невозможно зафиксировать определенный концепт или объект, который внезапно обнаруживает свое присутствие. Подобное событие не стоит описывать, пользуясь категориями, которые могут соответствовать возникновению формулировки или появлению нового слова. Это событие едва ли ответит на вопросы в роде:
«Кто его автор? Кто здесь говорил? В каких обстоятельствах и в каком контексте? Воодушевленный какими намерениями и с какой целью?» и проч. Появление новой позитивности вовсе не обозначается с помощью новой фразой, — неожиданной, удивительной, логически непредсказуемой, не соблюдающей стилистических норм, — которая бы включалась в текст и обещала начало новой главы или вторжение фигуры нового повествователя. Это совершенно иной тип события.
2. Для того, чтобы анализировать подобного рода события, недостаточно указать на изменения и соотнести их либо с теологической или эстетической моделью создания (с трансцендентностью, со всем взаимодействием ее источников и изобретений), либо с психологической моделью акта сознания (с ее предварительной неясностью, забеганиями вперед, благоприятными обстоятельствами, властью реорганизации), либо с биологической моделью эволюции. Необходимо точно определить, в чем именно состоят эти изменения, — иначе говоря, заменить на неопределенную отсылку к изменению, содержащую одновременно общее для любого события и абстрактный принцип их последовательности, анализ трансформаций.
Исчезновение одной позитивности и появление другой вызывает несколько типов трансформаций. Переходя от более частных к более общим, можно и должно описать, как трансформировались различные элементы системы формации (каковы были, например, изменения уровня безработицы и требований рабочего класса, каковы были политические решения, касающиеся цехов и университетов, каковы были новые требования и новые возможности специальной помощи в конце XVIII в. — ведь все эти элементы включены в систему формации клинической медицины), как трансформировались отношения, характерные для системы формаций (как, например, в середине XVII в. было отмечено отношение между перцептивным полем, лингвистическим кодом, использованием инструментов и информаций, введенных в обиход дискурсом о живых существах, таким образом сделав возможным появление объектов, относящихся к естественной истории), как трансформировались отношения между различными правилами формации (как, например, биология изменила порядок и зависимость, которые естественная история установила между теорией характеризования и анализом временных дериваций), как, наконец, трансформировались отношения между различными позитивностями (как отношения между филологией, биологией и экономикой трансформируют отношения между грамматикой, естественной историей и анализом накоплений; как разлагается интердискурсивная конфигурация, обрисованная привилегированными отношениями трех дисциплин «тривиума»; как изменились их частные отношения с математикой и философией; как появляется место для другой дискурсивной формации и, в частности, для интерпозитивности, которую позднее будут называть гуманитарными науками). Археология пытается не столько призывать живую силу изменения (словно бы оно было его собственным принципом), не столько исследовать причины (словно бы оно было не более чем просто механизм), сколько установить систему трансформаций, образующих «изменение». Она пытается выработать это пустое и абстрактное понятие, чтобы дать ему анализируемый статус трансформации. Мы понимаем, что все те, кто увлечен этими старыми метафорами, с помощью которых вот уже полтора столетия пытаются дать представление об истории как о «движении», «течении», «эволюции», — все они видят в археологии лишь отрицание истории и ошибочное утверждение прерывности. В действительности же, они могут согласиться с тем, что изменение способно освободиться от всех дополнительных моделей, лишиться приоритета универсального закона и статуса основного действия и, наконец, заместиться анализом различных трансформаций.
3. Утверждение о том, что одна дискурсивная формация заменяется другой, вовсе не означает, что весь мир совершенно новых объектов, актов высказывания, концептов и теоретических предпочтений появляется в полностью обустроенной и организованной форме в тексте, который определяет его место раз и навсегда. Утверждение это подразумевает, что основная трансформация уже была произведена, хотя и не подвергла все элементы значительным изменениям. Утверждение это подразумевает, что высказывания подчинены новым правилам формации, но вовсе не свидетельствует о том, что исчезают все объекты и концепты, все акты высказываний или теоретические выборы. Напротив, исходя из этих правил можно описать и анализировать феномены непрерывности, возвращения, повторения. Не следует забывать, что правила формации — это не определение объекта, не характеристика типа акта высказывания, не форма или содержание концепта, но принцип их множественности и рассеивания. Один или несколько из этих элементов могут оставаться тождественными (сохранять то же разделение, те же характерные признаки, те же структуры), но принадлежать к различным системам рассеивания и подчиняться разным законам образования.
Итак, можно обнаружить следующие феномены: элементы, сохраняющиеся на протяжении нескольких разных позитивностей, их формы и содержания не претерпевают изменения, но формации разнородны (денежный оборот как объект поначалу анализа накоплений, а в дальнейшем политической экономии; концепт характерного признака поначалу в естественной истории, а позднее в биологии);
элементы, которые образуются, изменяются и организуются в одной дискурсивной формации и, в конце концов стабилизируясь, фигурируют в другой (концепт рефлекса, который, как показал Г. Кангилем, формировался в классической науке от Виллиса до Прохазки и позднее вошел в современную физиологию); элементы, появляющиеся позднее — например, первоначальный источник дискурсивной формации — и играющие первоначальную роль в последующем формации (так понятие организма, которое появилось в конце XVIII в. в естественной истории и выступало в качестве результата всего таксономического процесса характеризования, становится главенствующим концептом биологии во времена Кювье; или же понятие очага поражения, введенное Моргани и ставшее одним из основных концептов клинической медицины); элементы, которые возникают вновь после периода неупотребления, забвения и даже обесценивания (возвращение к фиксизму линнеевского типа у таких биологов, как Кювье; повторное обращение в XVIII в. к старой идее первоязыка)…
Задача археологии состоит вовсе не в том, чтобы отрицать эти феномены или пытаться умалить их значимость, но, напротив, стремиться к их описанию и измерению, стремиться понять, как возможно существование этих постоянств, повторений, столь длинных последовательностей и кривых, проецирующихся сквозь время. Археология не рассматривает содержание как первостепенную и окончательную данность, которая должна учитывать, все остальное. Напротив, она считает, что тождественное, повторенное и непрерывное создает не меньше проблем, нежели разрывы. Для археологии тождественное и непрерывное не являются теми явлениями, которые следует найти в результате анализа. Они фигурируют в элементах дискурсивной практики, они подчиняются правилам формации позитивностей; далекие от того, чтобы проявлять эту основополагающую и успокаивающую инертность, к которой принято относить изменение, — они сами активно и регулярно сформированы. И тем, кто попытается упрекнуть археологию в предпочтении анализа прерывного, во агорафобии по отношению ко времени и истории, тем, кто не отличает разрыва от иррационального, я отвечу: «Именно вы обесценили непрерывное тем, как вы его использовали. Вы считаете его вспомогательным элементом, к которому должно быть отнесено все остальное; вы представляете его основополагающим законом, существенной ценностью любой дискурсивной практики. Вы хотите, чтобы каждое изменение анализировалось в поле этой инертности подобно тому, как всякое движение анализируют в поле гравитации. Но статус, который вы для него устанавливаете, его же и нейтрализует, приводит на внешнем пределе времени к первоначальной пассивности. Археология предлагает изменить эту ситуацию или, скорее (поскольку речь идет не о придании прерывному роли, только что соответствующей непрерывности), — противопоставить прерывное и непрерывное друг другу, показать, как непрерывное образуется при тех же условиях и по тем же правилам, что и рассеивание, и что оно, присутствуя на равных с различиями, изобретениями, инновациями, новшествами, отклонениями и искажениями, входит в поле дискурсивной практики».
4. Появление и исчезновение позитивностей, введенная ими игра замещений не образуют однородного процесса, протекающего повсюду одинаковым образом. Ошибочно полагать, что разрыв — это разновидность сильного смещения, которому могут быть подвержены все дискурсивные формации одновременно. Разрыв — это не неопределенный промежуток времени — пусть даже и мгновенный — между двумя проявленными периодами, это не погрешность, лишенная длительности, которая разделяет два периода и развертывает с обеих сторон этой трещины два разнородных времени, — разрыв всегда остается прерывностью между двумя определенными позитивностями, прерывностью, специфизированной несколькими различными трансформациями. Таким образом, анализ археологического разрыва направлен на установление между разнородными изменениями аналогий, различий, иерархий, отношений дополнительности, совпадений и разделений: одним словом, он пытается описать рассеивание самих прерывностей.
Идея единичного разрыва, одновременно разделяющего все дискурсивные формации, прерывающего их одним движением и вновь образующего по тем же самым правилам, не находит у нас поддержки. Одновременность нескольких трансформаций еще не означает их точного хронологического совпадения: каждая трансформация может иметь свой собственный показатель временной «вязкости». Естественная история, общая грамматика и анализ накоплений образовались в течение XVII в. подобным способом; но система формации анализа накоплений была связана с большим числом условий и не-дискурсивных практик (рыночный оборот, денежные операции и их последствия, система защиты торговли и мануфактуры, колебания объема металлических денег); отсюда замедленность процесса, протекавшего более чем столетие (от Граммона до Кантильона), тогда как трансформации, имевшие место в общей грамматике и естественной истории, заняли не более двадцати пяти дет. Современные аналогичные и связанные трансформации, напротив, не принадлежат к одной модели, репродуцируемой многократно на поверхности дискурсов и предписывющей всем тождественную форму разрыва. При описании археологического разрыва, давшего место филологии, биологии и экономике необходимо показать, каким образом были связаны эти три позитивности (посредством исчезновения анализа знака и теории репрезентации), какие симметричные действия она могла производить (идея целостности и органической адаптации у живых существ; идея морфологической связности и закономерной эволюции в языках; идея формы производства, имеющей собственные законы и границы развития). В то же время, необходимо показать, каковы специфические особенности этих трансформаций (в том числе, как историчность частным образом вводится в эти три позитивности), а также продемонстрировать, что, в таком случае, их отношение к истории не может быть одинаковым, несмотря на то, что все они имеют с ней определенные отношения).
Наконец, между различными археологическими разрывами — а зачастую даже между дискурсивными формациями, непосредственно соседствующими и связанными многочисленными связями — существуют важные сдвиги. Рассмотрим пример лингвистических дисциплин и исторического анализа: большая трансформация, образовавшая в начале XIX в. историческую и сравнительную грамматику, предшествовала изменению исторического дискурса, произошедшего через пятьдесят лет. В итоге система интерпозитивности, в которую была включена филология, оказалась заметно преобразованной во второй половине XIX в., в то время как позитивность филологии даже не была поставлена под сомнение. Отсюда феномен «фрагментарного сдвига», на который можно привести другой известный пример: концепты прибавочной стоимости, падения нормы прибыли, встречающиеся в теории Маркса, могут быть описаны на основе системы позитивностей, фигурирующей еще у Рикардо; но эти концепты (новые сами по себе, хотя и образованные по старым правилам) появляются и у самого Маркса как принадлежащие одновременно к совсем другой дискурсивной практике; здесь они образованы в соответствии с ее специфическими законами, занимают другое положение и не фигурируют в тех же последовательностях. Но эта новая позитивность вовсе не является трансформацией анализа Рикардо, она отнюдь не некая новая политическая экономия. Она представляет собой дискурс, осуществленный в контексте деривации нескольких экономических концептов, но определяющий, тем не менее, условия, в которых выполняется дискурс экономистов, таким образом имея возможность оцениваться и как теория, и критика политической экономии.
Археология разрушает синхронию разрывов таким же образом, как она могла могла бы разрушить абстрактную область изменения и событий. Период не является ни ее основной общностью, ни горизонтом, ни объектом: если она и говорит об этом, то всегда в контексте определенной дискурсивной практики и в качестве результата их анализа. Часто упоминавшаяся в археологических анализах классическая эпоха не является временной фигурой, которая предписывает свою общность и пустую форму любому дискурсу, — это имя которое можно дать переплетению непрерывностей и прерывностей, изменений внутри позитивностей, появляющихся и исчезающих искусственных формаций. Подобным же образом, разрыв не является для археологии основанием анализа, пределом, который она намечает издалека, не имея возможности его определить и придать ему специфичность. Разрыв — это просто название, данное трансформациям, которые основываются на общих правилах одной или нескольких дискурсивных формаций. Так, Французская революция — поскольку до настоящего момента она была центром всех археологических исследований — не играет роль внешнего дискурсу события, эффект раздела которого нужно было бы, по логике вещей, найти в любом дискурсе; она функционирует как сложная артикулированная подлежащая описанию совокупность трансформаций, которые оставили неповрежденными несколько позитивностей, которые зафиксировали несколько других правил, все еще остающихся нашими, а также установили позитивности, которые только что исчезли или же исчезают на наших глазах.
6. НАУКА И ЗНАНИЕ
Всем предшествующим анализом нам было предписано молчаливое ограничение, принцип и общие форма которого так и не были намечены. Все без исключения приведенные примеры относились к очень узкой области. Я не могу похвастаться тем, что охватил, а тем более продумал в общих четах всю необъятную область дискурса: почему, например, я систематически избегал «литературных», «философских» и «политических» текстов? Неужели дискурсивные формации и системы позитивностей отсутствуют в них? И почему, уделяя большую часть внимания наукам, я ничего не сказал о математике, физике или химии? Зачем я обращался к столь сомнительным и неопределенным дисциплинам, как грамматика, экономическая теория, естествознание, — дисциплинам, обреченным, быть может, навсегда остаться ниже порога научности?
Одним словом, каковы взаимотношения между археологией и анализом науки?
(а) Позитивности, дисциплины, науки
Первый вопрос, который встает перед нами, можно сформулировать следующим образом: неужели же археология, обозначенная несколько странными терминами, как то «дискурсивная формация» и «позитивность», не описывает просто-напросто псевдонаучные области, (например, область психопатологии), науки в их «доисторическом» состоянии (естественная история) иди науки, полностью пронизанные идеологией (в роде политической экономии)? Не является ли археология по сути дела анализом того, что всегда останется квази-научным? Если «дисциплинами» называют совокупности высказываний, заимствующих организацию у научных моделей, придерживающихся связности и наглядности, признанных, институционализированных, передаваемых и зачастую преподносимых как науки, можем ли мы утвенрждать, что археология описывает дисциплины, которые в действительности не являются науками, тогда как эпистемология описывает науки, которые образовались на основе (или несмотря на) существующих дисциплин или вопреки им?
На эти вопросы можно ответить только с помощью отрицательных определений. Археология не описывает дисциплины. Последние в их проявленном развертывании могут служить в лучшем случае отправной точкой для описания позитивностей, но они отнюдь не устанавливают пределы, не предписывают определенные разрывы, не появляются в конце анализа точно такими же, какими были в его начале. Наконец, между институционализируемыми дисциплинами и дискурсивными формациями невозможно установить дву- однозначные отношения.
Рассмотрим пример подобного искажения.
Отправной точкой для написания «Истории безумия» было появление в начале XIX в. психиатрической дисциплины. Эта дисциплина не имела ни того же содержания, ни той же внутренней организации, ни того же места в медицине, ни той же практической функции, ни того же способа применения, что традиционная глава из медицинского трактата XVIII в. под заглавием «Болезни головы» или «Нервные болезни». Но при изучении этой дисциплины, мы обнаружили две любопытные вещи: то, что сделано возможным ее появление в определенный момент времени, то, чем обуславливалось значительное изменение в экономике концептов, типов анализа и доказательств, было всей совокупностью отношений между госпитализацией, содержанием в больнице, условиями и процедурами социального исключения, правилами юриспруденции, нормами буржуазной морали и индустриального труда, — короче говоря, всей системой отношений, характеризующих для научной дискурсивной практики формацию высказываний. Но эта практика проявляется не только в дисциплине с научным статусом и установками; ее можно обнаружить и при работе с юридическими текстами, с литературными и философскими произведениями, событиями политического характера, сформулированными воззрениями и повседневными разговорами. Соответствующая дискурсивная формация шире, нежели психиатрическая дисциплина, указывающая на ее существование; она выходит далеко за границы последней.
Более того, возвращаясь в прошлое и пытаясь отыскать то, что могло предшествовать в XVII–XVIII вв. образованию психиатрии, мы обнаружим, что никакой предваряющей дисциплины не существовало: то, что врачи классической эпохи говорили о маниях, бреде, меланхолии и нервных заболеваниях ни в малейшей степени не образовывало автономную дисциплину, в лучшем случае то был комментарий к анализу лихорадок, измененных состояний сознания или возбуждений мозга. Тем не менее, несмотря на отсутствие установленной дисциплины, дискурсивная практика психиатрии со своей закономерностью и наполнением была введена в обиход. Эта дискурсивная практика очевидно уже присутствовала в медицине, но не более, нежели в административных распоряжениях, литературных и философских текстах, казуистике, теории или проектах принудительных работ и помощи бедным. Существовавшим в классическую эпоху и вполне пригодным для описания дискурсивной формации и позитивности не соответствует ни одна дисциплина, сколько-нибудь соспоставимая с психиатрией.
Однако, если верно то, что позитивности не являются простыми дубликатами существующих дисциплин, отличаются ли они от прототипов будущих наук? Не понимают ли под дискурсивной формацией ретроспективную проекцию наук на их собственное прошлое или тень, которую они отбрасывают на то, что им предшествовало и появление которой обрисовывает их в общих чертах? Не было ли то, что мы попытались описать как анализ накоплений или общую грамматику, наделяя их, может быть, искусственной автономией, — всего-навсего политической экономией на стадии начального становления или предварительным этапом в образовании строгой науке о языке? Не попыталась ли археология, не погнушавшись' весьма ретроградными приемами, правомерность которых, несомненно установить очень сложно, — не попыталась ли она просто перегруппировать в независимую дискурсивную практику все те разнородные и рассеянные элементы, чье участие окажется необходимым для образования науки?
Вновь мы вынуждены ответить отрицательно. То, что было проанализировано как естественная история, не охватывает в единственной фигуре всего того, что в XVII–XVIII вв. могло оцениваться как прототип науки о жизни и фигурировать в виде ее законной генеалогии. Установленная таким образом позитивность учитывает определенное число высказываний, касающихся подобий и различий между вещами, их видимой структуры, частных и общих признаков, возможной классификации, прерывностей, которые их разделяют и передач, которые их связывают. Однако она вовсе не уделяет внимания множеству других исследований, которые датируется, тем не менее той, же эпохой и очерчивают первичные фигуры биологии: таков анализ рефлексивного движения (который будет крайне важен для образования анатомо-биологии нервной системы), такова теория эмбриона (которая, может быть, опережает постановку проблем эволюции и генетики), таково объяснение животного и растительного роста (позднее это станет основным вопросом физиологии организмов в целом). Более того, не опережая будущую биологию, естественная история — таксономический дискурс, связанный с теорией знаков и замыслов науки о порядке — исключила, пользуясь своей стабильностью и автономией, образование отдельной науки о жизни. Подобным же образом такая дискурсивная формация как общая грамматика совершенно не учитывает всего того, что могло быть сказано о языке в классическую эпоху и что позднее напомнило бы о себе следами, оставленными в филологии: наследство или отречение, развитие или критика. Она обходит вниманием методы библейского толкования и философию языка, сформулированную у Вико или Гердера. Таким образом, дискурсивные формы — это не будущие науки, находящиеся на той стадии развития, когда, еще не осознанные «внутри себя, они выглядят уже вполне сформированными. Они действительно» не подлежат телеологической субординации по отношению к ортогенезу наук.
Нужно ли в таком случае говорить, что там, где существует позитивность, не может быть науки, и что позитивности всегда исключают науки? Нужно ли подчеркивать, что, не вступая в хронологические отношения с науками, они всегда противопоставляются им? Напоминать о том, что они в некотором роде позитивная фигура определенного эпистемологического изъяна?
Но для данного случая можно было бы найти и совершенно противоположный пример. Клиническая медицина, очевидно, не является наукой. Кроме того, что она не отвечает формальным критериям науки и не достигает уровня строгости, который можно ожидать от физики, химии или даже физиологии, она располагает едва организованным нагромождением эмпирических наблюдений, непроверенных экспериментов и результатов, терапевтических предписаний и институциональных распоряжений. Но даже эта не-науке не исключает некоторой научности: на протяжении XIX в. она установила определенные отношения с полностью состоявшимися науками — физиологией, химией, микробиологией; более того, она предоставила место дискурсам патологоанатомии, которой торжественно присвоили титул лже-науки.
Итак, дискурсивные формации нельзя отождествлять ни с науками, ни с дисциплинами, переживающими раннюю стадию научного развития, ни с фигурами, дистанциированно очерчивающими образующиеся науки, ни, наконец, с формами, изначально исключающими любую научность. Каково же в таком случае отношение между позитивностями и науками?
(в) Знание
Позитивности не характеризуют формы познания — будь то априорные положения, непременные условия или формы рациональности, которые могли поочередно вводиться в обиход историй. Но они не определяют и состояние познания в данный момент времени, они не устанавливают баланс того, что с определенного момента показано как истинное и приобретает статус окончательного знания или баланс того, что, с другой стороны, признавалось без доказательств и освидетельствований, или того, что утверждалось общей верой или силой воображения. Проанализировать позитивности, — означает показать, по каким правилам дискурсивная практика может образовывать группы объектов, совокупности актов высказываний, игры концептов, последовательности теоретических предпочтений. Образованные таким образом элементы не составляют науки с определенной структурой идеальности, система их отношений наверняка менее строга. Но они не являются и нагромождением познаний, пришедших из опыта, традиций или разнообразных экспериментов и связанных только тождественностью субъекта, который ими располагает. Они являются тем, на основании чего строятся связные (или бессвязные) пропозиции, развиваются более иди менее строгие описания, выполняются проверки, разрабатываются теории. Они образуют предварительные условия для того, что будет осуществляться и функционировать как познание или иллюзия, признанная истина или выявленное заблуждение, приобретенный опыт или преодоленное препятствие.
Это предварительное условие, конечно, не может анализироваться как данное, как пережитый опыт, еще полностью включенный в воображение и воспитание, который человечество на протяжении своей истории осуществляет в форме рационального суждения или, в который каждый индивидуум может проникнуть по-своему, если ему захочется найти идеальные значения, содержащиеся или скрытые в нем. Речь идет не о предварительном познании или архаической стадии движения, ведущего от непосредственного познания к аподиктичности, но об элементах, которые должны быть образованы дискурсивной практикой, если научный дискурс должен устанавливаться и специфицироваться не только формой и строгостью, но и объектами, с которыми он имеет дело, типами актов высказывания, которые он вводит в обиход, концептами, которыми он манипулирует, и стратегиями, которые он использует. Таким образом, наука не связана с тем, что должно было быть пережито или должно переживаться, если установлена присущая ей интенция идеальности; но связана с тем, что должно было быть сказано — или должно говориться, если возможно существование дискурса, который при первой необходимости отвечал бы экспериментальным и формальным критериям научности.
Эту совокупность элементов, сформированных закономерным образом дискурсивной практикой и необходимых для образования науки, хотя их предназначение не сводится к созданию таковой, можно назвать знанием. Знание — это то, о чем можно говорить в дискурсивной 'практике, которая тем самым специфицируется: область, образованная различными объектами, которые приобретут иди не приобретут научный статус (знание психиатрии в XIX в. является не суммой общепринятых истин, но совокупностью практик, единичностей, искажений, о которых можно говорить в дискурсе психиатрии). Знание — это пространство, в котором субъект может знать позицию и говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе (в этом смысле знание клинической медицины — это совокупность функций наблюдения, изучения, расшифровки, регистрации и решения, допустимые для выполнения субъектом медицинского дискурса). Знание — это поле координации и субординации высказываний, в котором определяются, появляются, применяются и трансформируются концепты (на этом уровне знание естественной истории XVIII в. — это не сумма уже-сказанного, но совокупность способов и координат, с помощью которых можно включать в каждое новое высказывание уже-сказанное).
Наконец, знание определяется возможностями использования и присвоения, установленными данным дискурсом (так, знание политической экономии в классическую эпоху — это не тезис уже утвержденных тезисов, но совокупность их точек соприкосновения с другими дискурсами или практиками, не являющимися дискурсивными). Существуют знания, независимые от наук, которые не являются ни его историческим прототипом, ни изнанкой пережитого, но не может существовать знание, лишенное дискурсивной практики, так что любая дискурсивная практика может определяться знанием, которое она формирует.
Вместо того, чтобы рассматривать схему сознание-познание-наука (которая не может избежать субъективности), археология рассматривает схему дискурсивная практика-знание-наука. И в то время, как история идей находит точки равновесия своего анализа в элементе познания (вынуждая себя, тем самым, столкнуться с трансцендентальным вопрошанием), археология находит точку равновесия своего анализа в знании, — то есть в области, где субъект обязательно получает точную локализацию и вступает в зависимости, но никогда не может создавать главенствующую фигуру (все равно, в качестве ли трансцендентальной деятельности или же в качестве эмпирического сознания).
Итак, мы должны строго различать научные области и археологические территории: их разрывы и принципы организации отнюдь не одинаковы. К области научности принадлежат лишь пропозиции, подчиняющиеся определенным законам построения; с другой стороны, из нее исключены утверждения, имеющие одинаковый смысл, говорящие одинаковые вещи, в той же мере истинные, но принадлежащие к разным системностям: то, что в «Сне Д'Аламбера» Дидро говорит по поводу развития видов, может удачно выразить некоторые концепты иди научные гипотезы этого период, даже опередить будущую истину и, безусловно, принадлежит не к области научности естественной истории, но к археологической территории, если в ней можно открыть те же правила формации, что и у Линнея, Бюффона, Добантона или Жюссье. В той же мере, что и в научных текстах, археологические территории можно обнаружить и в «литературных» или «философских» сочинениях. Знание проявляет себя не только в доказательствах, но и в воображении, размышлениях, рассказах, институциональных распоряжениях, политических решениях. Археологическая территория естественной истории включает «Философский палингенезис» Боннэ и «Теллиамеда» Бенуа де Майе, хотя они и не отвечают общепринятым в тот период научным нормам и полностью нарушают научные требования, которые появятся в дальнейшем. Археологическая территория общей грамматики сочетает в себе прозрения Фабра д'0ливье (которые никогда не получат научного статуса и принадлежат скорее всего к сфере мистической мысли) и анализ атрибутивных пропозиций (который был принят в то время как неоспоримая истина и, может быть, предвосхитил открытия порождающей грамматики).
Дискурсивная практика не совпадает с научным развитием, которому она может дать место; знание, которое она образует, не является ни прототипом, ни побочным продуктом повседневной жизни образованной наукой. Если на мгновение оставить в стороне различие между дискурсами, имеющими статус научности или предпосылки к нему, и дискурсами, которые действительно представляют формальные критерии науки, можно сказать, что науки появляются в элементе дискурсивной формации и на основе знания. Это влечет за собой два ряда проблем: во-первых, каковы могут быть место и роль области научности на археологической территории, где они появляются? А во-вторых, в соответствии с каким порядком происходит появление области научности в данной дискурсивной формации? В настоящий момент мы не можем дать ответ на эти вопросы; в наших силах лишь попытаться указать, в каком направлении можно было бы их анализировать.
(с) Знание и идеология
Однажды возникнув, наука более не осуществляет (вновь соблюдая все присущие ей внутренние связи) всего того, что организовало дискурсивную практику, в которой она появилась, — она не рассеивает окружающее ее знание, чтобы приговорить его к предыстории заблуждения, предрассудков и воображения. Патодогоанатомия не свела к формам научности позитивность клинической медицины. Знание — это не эпистемологическое строительство, исчезающее в науке, которая его выполняет. Наука (или то, что считается наукой) локализуется в поле знания и играет в нем определенную роль — роль, которая изменяется в соответствии с различными дискурсивными формациями и преобразуется вместе с ними. То, что в классическую эпоху считалось медицинским познанием душевных болезней, заняло незначительное место в знании безумия: оно образовало не многим более, чем одну среди многих других поверхность контакта (среди Других — юриспруденция, казуистика, полицейские распоряжения и т. д.). Однако психопатологический анализ XIX в., который также считался научным познанием душевных болезней, сыграл совсем иную и намного более важную роль в познания безумия (роль модели и инстанции решения). Подобным образом научный дискурс (или предпосылки к нему) не выполняет одной и той же функции в экономическом знании XVII и XVIII вв. В любой дискурсивной формации мы обнаруживаем частное отношение между наукой и знанием; вместо того, чтобы установить между ними отношения исключения или изъятия, археологический анализ, который пытается отыскать то, что укрывается в знании и-еще сопротивляется науке, что все еще остается для науки компромиссом, благодаря близости и влиянию знания, — этот археологический анализ должен будет позитивно продемонстрировать, каким образом наука может функционировать в элементе знания.
Вероятно, именно здесь, в этом пространстве взаимодействий, устанавливаются и специфицируются взаимоотношения археологии и наук. Приоритет идеологии перед научным дискурсом и идеологическое функционирование наук не связаны друг с другом ни на уровне идеальной структуры (даже если они могут выражаться более или менее наглядным образом), ни на уровне их технического использования в обществе (хотя оно и может получить от них результаты), ни на уровне сознания субъектов, которые его строят. Они связываются там, где наука выделяется из знания. Если вопрос идеологии может быть задан науке, то лишь постольку, поскольку последняя, не отождествляясь со знанием, но и не стирая и не исключая его, локализуется в нем, структурирует некоторые его объекты, систематизирует некоторые акты высказывания, формализует те или иные концепты и стратегии; лишь постольку, поскольку эта разработка устанавливает знание, изменяет и перераспределяет его с одной стороны, утверждает и позволяет оценивать, — с другой; лишь постольку, поскольку наука находит свое место в дискурсивной закономерности и поскольку тем самым она разворачивается и функционирует иди не разворачивается и не функционирует на всем поле дискурсивных практик. Одним словом, заданный науке вопрос идеологии — это не вопрос ситуаций или практик, которые она отражает более или менее сознательным образом, это не вопрос возможного использования или не-использования, но вопрос ее существования как дискурсивной практики и функционирования среди других дискурсивных практик.
В общем и целом, можно сказать, оставив в стороне все второстепенные проблемы и частные вопросы, что политическая экономия играет важную роль в капиталистическом обществе и служит интересам класса буржуазии, что она создана им и для него, что она несет следы своего происхождения в концептах и логической структуре. Но любое, сколько-нибудь более подробное описание отношений между эпистемологической структурой экономики и ее идеологической функцией, должно учитывать анализ дискурсивных формаций, который образовал его, и совокупности объектов, концептов, теоретических предпочтений и проч., которые она должна была выработать и систематизировать.
В таком случае, мы должны показать, как дискурсивная практика, давшая место подобной позитивности, функционировала среди других практик, возможно дискурсивного порядка, но может быть и политического или экономического.
Это позволяет нам высказать несколько предположений:
1. Идеология не исключает научности. Немногие дискурсы занимали в археологии такое же место, как клиническая медицина или политическая экономия: это недостаточная причина для того, чтобы толковать целостность их высказываний как отмеченную заблуждениями, противоречиями и отсутствием объективности.
2. Теоретические противоречия, лакуны, погрешности могут указывать на идеологическое функционирование науки (или дискурса с задатками научности). С их помощью можно определить, в какой точке системы выполняется функционирование. Но анализ такого рода функционирования должен быть осуществлен на уровне позитивности и отношений между правилами образования и структурами научности.
3. Исправляя собственные ошибки, выявляя заблуждения и уточняя формулировки, дискурс не разрывает своих отношений с идеологией. Роль последней не уменьшается по мере того, как возрастает точность и рассеивается ложность.
4. Изучать идеологическое функционирование науки для того, чтобы выявить его и изменить — это не означает вводить в обиход предполагаемые философии, которые могут ее населять, это не означает и возвращаться к основаниям, которые делают возможным и законным ее существование. Но это означает поставить науку как дискурсивную формацию под сомнение, это означает напасть не на формальные противоречия объектов или типов актов высказываний, концептов, теоретических предпочтений, но рассматривать ее как практику среди других практик.
(d) Различные пороги и их хронология
Можно описать несколько различных точек появления дискурсивных формаций. В момент, в который дискурсивные практики достигают индивидуализации и автономии и система, тем самым, трансформируется, — момент этот можно назвать порогом позитивности. Когда во взаимодействии дискурсивных формаций совокупность высказываний выделяется, претендуя оценивать нормы проверки и связности, даже не достигнув их, когда она осуществляет доминирующую функцию в отношении знания (модели, критики и проверки), мы сможем сказать, что дискурсивная формация преодолевает порогом эпистемологизации. Когда таким образом очерченная эпистемологическая фигура подчиняется определенному числу формальных критериев, когда высказывания отвечают не только археологическим правилам формации, но и определенным законам построения пропозиций, мы можем сказать, что она преодолевает порог науч […] тети. И, наконец, когда научный дискурс в свою очередь сможет определить аксиомы, которые ему необходимы, элементы, которые он использует, пропозициональные структуры, которые для него законны и трансформации, которые он принимает, когда он сможет выстроить, полагаясь только на себя, формальную структуру, мы сможем сказать, что он преодолел порог формализации.
Разделение во времени этих различных порогов, их последовательностей, сдвигов, возможного совпадения, способа управления друг другом или взаимного вовлечения, условия, при которых они устанавливаются, — все это составляет для археолога одну из основных областей изучения. Их хронология действительно не закономерна и неоднородна. Дискурсивные формации не преодолевают их одновременно и единственным способом, проявляя, таким образом, историю человеческих познаний в разные эпохи: в период, когда большинство позитивностей преодолело порог формализации, большинство других еще не достигли порога научности или даже эпистемологизации. Более того, каждая дискурсивная формация не проходит последовательно через эти пороги как через естественные стадии биологического взросления, где изменяющимся было бы только латентный период или длительность интервалов. Перед нами действительно события, рассеивание которых не носит эволюционного характера:
их единственный порядок — это один из признаков каждой дискурсивной формации.
Рассмотрим несколько примеров подобных различий. В некоторых случаях порог позитивности преодолевается прежде, чем порог эпистемологизации: так, психопатология как дискурс с задатками научности эпистемодогизировала в начале XIX в. с Пинелем, Хейнротом и Эскиролем дискурсивную практику, существовавшую до нее и давно уже приобретшую автономию и систему закономерности. Но вполне возможно и смещение этих порогов во времени или совпадение установления одной позитивности с появлением эпистемологической фигуры. Иногда пороги научности связаны с переходом от одной позитивности к другой. Иногда они различаются. Так, переход от естественной истории (с присущей ей научностью) к биологии (как науке, не классифицирующей существа, но выявляющей соотношения различных организмов) не осуществляется в эпоху Кювье без трансформации одной позитииности в другую. С другой стороны, экспериментальная медицина Клода Бернара, затем микробиология Пастера изменили тип научности, приобретенный анатомией и патофизиологией, не исключая из обихода дискурсивную формацию клинической медицины в том виде, в каком она бытовала в данный период. Подобным же образом, новая научность, установленная в биологии эволюционизмом, не изменила биологическую позитивность, которая сложилась в эпоху Кювье. В случае экономики расхождения особенно многочисленны. В XVIII в. можно признать порог позитивности: он почти совпадает с практикой и теорией меркантилизма, но его эпистемологизация будет проводиться позднее — в самом конце века или начале следующего Локком и Кантильоном. Тем не менее, XIX в. на примере Рикардо отмечает одновременно новый тип позитивности, новую форму эпистемологизации, которую Курно и Жевон изменят в свою очередь тогда же, когда Маркс на основе политической экономии выявит совершенно новую дискурсивную практику.
Признавая в науке лишь линейное накопление истин или ортогенез разума и не признавая в ней дискурсивную практику, имеющую свои уровни, пороги, различные разрывы, можно описать только единственный исторический раздел, модель которого возобновляется на протяжении всего времени и для любой формы знания: раздел между тем, что еще не является научным, и тем, что можно назвать таковым со всей определенностью. Вся масса нарушений, рассеивание разрывов, разделение их последствий и взаимодействие зависимости друг от друга сводятся к монотонному акту основания, который необходимо постоянно повторять.
Возможно, существует только одна наука, для которой нельзя определить различные пороги и описать подобную совокупность сдвигов. Математика — это единственная дискурсивная практика, преодолевшая одновременно порог позитивности, порог эпистемологизации, порог научности и формализации. Сама возможность ее существования изначально предусматривает то, что во всех науках остается рассеянным на протяжении всей истории: первая позитивность должна была образовать уже формализованную дискурсивную практику (даже если бы другие формализации должны были впоследствие быть использованы). Отсюда следует, что их установление будет одновременно и чрезвычайно загадочным (в высшей степени малоприемлемым для анализа и ограниченным формой абсолютного начала) и чрезвычайно ценным (поскольку оно ценно одновременно и как источник, и как основание). Отсюда следует также и то, что в первом же жесте первого математика мы увидели образование идеальности, которая разворачивалась на протяжении истории и ставилась под сомнение лишь затем, чтобы быть повторенной и очищенной; отсюда следует и то, что начало математики исследовалось, скорее, как принцип историчности, нежели как историческое событие. Наконец, отсюда следует, что для любой другой науки описание исторического развития, проб и ошибок, запоздалых успехов связывают с метаисторической моделью геометрии, появляющейся внезапно раз и навсегда из тривиальных практик размежевания. Однако рассматривая установление математического дискурса как прототип рождения и становления любой другой науки, мы рискуем привить однородность любой частной форме историчности, свести к инстанции единственного разрыва любой порог, который может преодолевать дискурсивная практика и до бесконечности в любой момент времени воспроизводить проблему первоначала: таким образом могли бы быть восстановлены права историко-трансцендентадьного анализа. Математика служила моделью для большинства научных дискурсов с их стремлением к формальной строгости и доказательности, но для историка, изучающего действительное развитие наук, она будет неудачным примером, — во всяком случае, примером, который нельзя обобщить.
(е) Различные типы истории наук
Многочисленные пороги, которые мы могли бы установить, пропускают различные формы исторического анализа. В первую очередь это анализ уровня формализации: это например, та история, которую не перестает рассказывать о самой себе математика в процессе собственного развития. Она сообщает о том, чем располагает в данный момент (о своей области, методах, объектах, которые определяют математику, о языке, который они используют). Все вышеперечисленное никогда не выносится во внешнее поле не-научности, а, напротив, находится в постоянном обновлении (если только не оказывается в области забытого и временно непродуктивного), в той формальной системе, которую она конституирует; это прошлое раскрывается как особый случай, как наивная модель, как частично и недостаточно обобщенный замысел или как наиболее абстрактная теория, более могущественная и находящаяся на более высоком уровне: свои действительные исторические перспективы математики вновь переводят в словарь смежностей, независимостей, подчинений, в словарь прогрессивных формализаций и развивающихся обобщений. Для такой истории математики (истории, которую они конституируют и которую рассказывают о самих себе) алгебра Диофанта не является забытым на переферии науки опытом; это и есть тот особый случай алгебры, который известен, начиная с Абеля и Галуа; греческий же метод истощения не представляется тем тупиком, из которого должно выбраться любой ценой, а является просто-напросто наивной моделью интегрального счисления. Каждое историческое событие оказывается на своем уровне и имеет свою формальную локализацию. Это рекуррентный анализ, который может проводиться только внутри уже сложившейся науки, переступившей однажды порог своей формализации.
Другой тип исторического анализа располагается на пороге научности, вопрошает себя относительно того способа, при помощи которого он смог бы преодолеть основания различных эпистемологических фигур. Речь идет о том, чтобы узнать, например, каким образом концепт, перегруженный метафорами и воображаемым содержанием, очищается и становится способным принимать статус и функции научного концепта. Проблема в том, чтобы уяснить, каким образом та область опыта, отчасти уже установленная и частично артикулированная, но еще характеризующаяся непосредственным практическим использованием или действительными оценками, может обращаться в область науки. Нам необходимо узнать как наука в своих наиболее общих принципах устанавливалась поверх и против того донаучного уровня, который одновременно и подготавливал ее, и противодействовал ей в дальнейшем, — узнать как наука смогла преодолеть препятствия и ограничения, которые встречала на своем пути. Г. Башляр и Г. Гангилем дали модели такого рода истории.
Такая история не нуждается в том, чтобы как рекуррентный анализ располагаться внутри той же науки, таким образом, смещая любые эпизоды в ту систему, которую сама же и конституирует. Она не 'нуждается и в том, чтобы сообщить о своей формализации, — в том формальном вокабулярии, который является ее собственным. Действительно может ли история быть такой с тех пор, как она показала то, от чего наука освобождается и что она должна оставить за своими пределами, чтобы достигнуть порога научности? Таким образом, это описание пригодно именно для норм уже конституированной науки: история, которую она рассказывает необходимым образом проявляется в противопоставление истины и заблуждения, рационального и иррационального, препятствия и плодотворности, прозрачности и туманности, научность и ненаучности. Таким образом, речь идет об эпистемологической истории науки.
Третий тип исторического анализа, избрал своим главным направлением порог эпистемологизации как точку раскола между дискурсивными формациями, определенными в их позитивности, и эпистемологическими фигурами, которые не являются строго обязательными и, к тому же, в действительности никогда не станут окончательно оформившейся наукой. На этом уровне научность не выступает в качестве нормы, и единственное, что нам остается прояснить в нашей археологии истории — это дискурсивные практики в той степени, в какой они дают место знанию, и где это знание обретает статус и роль науки. Подойти к истории науки на таком уровне — вовсе не значит описать дискурсивную формацию, не принимая в расчет эпистемологические структуры. Скорее, наша задача состоит в том, чтобы показать, как установление науки и возможность ее движения к формализации находит свое обоснование в дискурсивной формации и в изменениях своей позитивности. Речь идет о том, чтобы подобный анализ прояснил контуры истории наук, исходя из практических дискурсивных описаний; определил, каким образом и в соответствии с какими закономерностями и изменениями она может обрести место в процессах эпистемологизации, достигая границ научности и, может быть, порога формализации в целом. Отыскивая в исторической густоте наук уровень дискурсивной практики, не стоит возвращать его к глубинному или первоначальному уровню, не стоит переносить его на почву жизненного опыта (ту землю, которая урывками и клочками раскрывается до всех геометрий, в то небо, которое просвечивает сквозь таблицы всех астрономии). Мы хотим раскрыть среди позитивности знаний, эпистемологических и научных фигур всю игру различий, связей, отталкиваний, смещений, независимостей, автономий и, вместе с тем, тот способ, который последовательно артикулирует их собственную историчность.
Анализ дискурсивных формаций, позитивности, и знаний в их связях с фигурами эпистемологии и науки и есть то, что называется анализом эпистемы, — мы вводим это определение для того, чтобы дифференцироваться от других возможных форм истории наук. Можно заподозрить, что такая эпистема является чем-то в роде мировоззрения или образа мира, отрезком тотальной истории всех видов знания, которая навязывает им единые нормы и положения. Можно предположить также, что эпистема есть некая обобщенная стадия разума, определенная структура мысли, с которой неразрывно связан человек в каждую конкретную эпоху, что это, наконец, великая легализация, начертанная раз и навсегда неизвестной рукой. На самом же деле под эпистемой мы поднимаем совокупности связей, которые могут объединить в данную эпоху дискурсивные практики, которые предоставляют место фигурам эпистемологии, наукам и любым возможным формализованным системам. Иначе говоря, эпистема — это тот способ, в соответствии с которым в каждой из дискурсивных формаций становится возможным и совершается движение эпистемологизации, научности и формализации; это и перераспределение тех порогов, которые могут совпадать друг с другом, подчиняться друг Другу или пребывать смещенными во времени; это и побочные связи, которые могут существовать между эпистемологическими фигурами или науками по мере того, как они смещают соседствующие, но отличные друг от друга дискурсивные практики. Эпистема — это не форма знания и не тип рациональности, который проходит через различные науки, манифестирует обособленные единства субъекта, духа или эпохи; эпистема — это, скорее, совокупность всех связей, которые возможно раскрыть для каждой данной эпохи между науками, когда они анализируются на уровне дискурсивных закономерностей.
Описание эпистем представлено несколькими важнейшими характеристиками: оно открывает неисчерпаемое пространство, которое никогда не может быть закрыто, оно не ставит своей целью завершить реконструкцию системы постулатов, которые определяют все знания эпохи, а покрывает бесконечное поле связей. Тем более, что эпистема не является неподвижной фигурой, которая однажды появившись также неожиданно вынуждена будет исчезнуть; эпистема есть бесконечно подвижная совокупность проявлений, смещений, совпадений, которые устанавливаются и распадаются. Кроме того, эпистема как совокупность связей между науками, эпистемологическими фигурами, позитивностью и дискурсивными практиками, позволяет охватить игру принуждений и ограничений которые в данный момент навязываются дискурсу; но эти ограничения не являются теми негативными ограничениями, которые противопоставляют знание неведению, выводы — воображению, видимость — опыту вооруженному точностью, дедукцию — умствования. Эпистема это не то, что можно знать в ту или иную эпоху, принимая в расчет несовершенство технологий, особенности ментальности и пределы, установленные традицией. Напротив, то, что в позитивности дискурсивных практик делает возможным существование эпистемологических фигур и науки в целом, и будет называться эпистемой. Наконец, становится очевидным, что анализ эпистемы не является поводом обратиться к вопросам критики («если дано то, что мы называем наукой, то каковы ее права и правомерно ли ее существование?»). Такого рода вопрошание допускает факт существования науки только для того, чтобы задавать один и тот же вопрос: что делает науку наукой? Загадка научного дискурса, как мы ее понимаем, заключается не в том, что дискурс претендует стать наукой, а в том, что он вообще существует. И точка, в которой наука начинает расходиться с любой наличной философией знаний, связана не с тем первоначальным даром, который в трансцендентальном субъекте устанавливает факт и права, а с процессом исторической практики.
(f) Другие археологии
Но можно ли провести такой археологический анализ, который заставил бы выявиться закономерности знания, не распространяясь на научные или эпистемологические фигуры? Только ли эпистемологические операции могут открыться в нашей археологии? Должна ли она быть только определенным способом исследования науки? Иначе говоря, ограничивается ли научный дискурс, подчиняется ли археология той необходимости, которую она не в состоянии преодолеть, — или она намечает в особых случаях такие формы анализа, которые могут иметь совершенно иную глубину?
Я на мгновение забегу вперед для того, чтобы раз и навсегда ответить на этот вопрос: я с удовольствием представляю себе, — вместе с многочисленными испытаниями, которые встречаются на моем пути и первыми неверными шагами, — такую археологию, которая могла бы развиваться в различных направлениях. Речь может идти, например, об археологическом описании сексуальности. Теперь я отчетливо вижу, каким образом возможно ориентироваться в пространстве эпистемы: в первую очередь, необходимо показать, каким образом в XIX в. формируются такие эпистемологические фигуры, как биология и психология сексуальности, через какие разрывы, связанные главным образом с Фрейдом, устанавливается дискурс научного типа. Но со всем этим для меня очевидна и другая возможность анализа: вместо того, чтобы исследовать сексуальное поведение людей в данную эпоху, открывая его законы в социальной структуре, в коллективном бессознательном или в определенных моральных нормах, вместо того, чтобы описывать то, что эти люди могли бы думать о сексуальности (какие религиозные интерпретации давали ей, с каким значением или осуждением к ней относились, какие разногласия и нравственные конфликты она могла порождать и проч.), необходимо исследовать, присутствуют ли в данных условиях, в данных представлениях все дискурсивные практики, является ли сексуальность, вне своей направленности на научный дискурс, совокупностью объектов, о которых возможно говорить (или на обсуждение которых наложен запрет), полем возможных высказываний (идет ли речь о лирических выражениях или юридических инструкциях), совокупностью концептов (которые, несомненно, могут существовать в элементарной форме понятий или тем), игрой предпочтений, которая может проявляться в устойчивости поведения или в системе предписаний. Такая археология, если она справится с поставленными перед ней задачами, должна показать каким образом запреты, ограничения, оценки, свободы, трансгрессия сексуальности, со всеми своими вербальными и невербальными провозглашениями, связаны с определенной дискурсивной практикой. Она может проявиться не в виде последней истины, но как одно из измерений, в соответствии с которым можно описывать сексуальность как определенный «способ говорения», и этот последний покажет нам, что он применен не в научном дискурсе, а в системе запретов и допущений.
Таков анализ, который будет двигаться не в направлении эпистемы и эпистемологии, а в направлении, которое можно было бы назвать этическим.
Но вот пример другой возможной ориентации. Для анализа произведения живописи возможно восстановить неявный дискурс самого художника, попытаться услышать тихий голос его намерения, которое облекается в слова, но рассеяно в линиях, плоскостях, красках; возможно постараться высвободить эту скрытую философию непосредственно связанную с формированием видения мира живописцем. В равной степени, можно вопрошать науку или исследовать мнения эпохи и постараться уяснить себе, каким образом художник мог их использовать. Однако археологический анализ может иметь и другую цель, — он ищет такое пространство, дистанцию, глубину, цвета, свет, пропорции, объем, контуры и проч., которые не были в исследуемый период рассмотрены, обозначены, высказаны, концептуализированы в дискурсивной практике: необходимо решить не было ли это тем знанием, в котором обретает место данная дискурсивная практика, и которое внесено в теорию или, может быть, в разного рода спекуляции, в формы предписаний, в методы, в процессы или даже в самый жест художника. Речь идет не о том, чтобы доказать что живопись — способ означения или «говорения», характерной чертой которого является способность обходиться без слов. Наша задача состоит в том, чтобы показать, что, по крайней мере в одном из своих измерений, живопись является дискурсивной практикой, воплощенной в технике и эффектах. Описанная таким образом живопись, сама по себе не является чистым видением, которое необходимо впоследствии перенести в материальное пространство. Не является живопись к тому же и простым фактом, немая и бесконечная пустыня знаний которого должна быть свободна от используемых интерпретаций. Независимо от научных знаний и философских тем, живопись полностью пронизана позитивностью знания.
Мне кажется, что также было бы возможно провести аналогичный анализ политических знаний. Мы постарались бы увидеть, не обуславливается ли политическое поведение общества, группы или класса определенной и описуемой дискурсивной практикой. Очевидно, что эта позитивность не совпадает ни с политическими теориями эпохи, ни с экономическими определениями, но она устанавливает, что политика может становиться объектом для высказываний, определяет формы, которые эти высказывания могут принять, концепты, которые могут использоваться, и те стратегические предпочтения, которые там присутствуют. Это знание вместо того, чтобы быть рассмотренным, что всегда возможно, в направлении конкретной эпистемы, открывающей для него место, анализируется в направлении поведения, борьбы, конфликтов, решений и различных тактик. Таким образом выявляется политическое знание, не являющееся вторичной теоретизацией практики, а также чисто теоретическим приложением. Поскольку оно, как правило, сформировано такой дискурсивной практикой, которая разворачивается среди других практик и артикулируется в них, постольку оно не является и тем выражением, которое более или менее адекватно отражает определенное количество «объективных данных» или реальных практик. Оно немедленно вписывается в игру, разворачивающуюся в поле практических отличий, где сразу же обретает свою спецификацию, свои функции, свою сетку зависимостей. Если такое описание было бы невозможно, то тогда, очевидно, не было бы нужды двигаться через инстанции индивидуального и коллективного сознания, чтобы увидеть то место, где осуществляется артикуляция политической практики и теории; не было бы тогда необходимости выяснять, в какой мере это сознание может выражать безмолвные условия и чувственно раскрываться в теоретических истинах; не было необходимости задаваться психологическими воспросами об актах сознания. Вместо всего этого можно было бы заниматься формациями и трансформациями знания. Проблема не будет определяться тем, с какого момента возникает революционное сознание, ни тем какую особую роль могут играть экономические условия и разъяснительная теоретическая работа в генезисе этого сознания; речь не идет о том, чтобы излагать отдельные биографии революционеров или искать истоки их замыслов. Напротив, задача состоит в том, чтобы показать как формируется дискурсивная практика и революционные знания, которые обуславливают поведение и стратегию, предоставляют место для выработки теории общества, оперирующей обоюдными трансформациями и взаимодействиями этого поведения и этих стратегий.
И, наконец, вопрос, который продолжает занимать нас все время: занимается ли археология только науками? Являеется ли ее объектом только научный дискурс?
Теперь можно ответить на эти вопросы: нет и нет. То, что пытается описать археология, является не наукой в ее специфической структуре, но, скорее, строго дифференцированной, отличной от всего остального областью знания. Тем более мы отвечаем «нет», если устанавливаем, что археология занимается знанием в его связях с эпистемологическими и научными фигурами. В этос случае она может вопрошать знание в совершенных различных направлениях и описывать его в другой группе связей. Ориентация на эпистему единственное, что было исследовано до сих пор. Причина этого состоит в том, что из-за перепадов, которыми без всякого сомнения характеризуется наша культура, дискурсивная формация не перестает эпистемологизироваться. Через вопрошание наук, их истории, их странных единств, их рассеиваний и разрывов выявляется область позитивности, а в просветах научного дискурса можно уловить игру дискурсивных формаций. В этих условиях неудивительно, что эпохой наиболее плодородной, наиболее открытой для археологических описаний был «классический век», который, с начала Ренессанса и вплоть до XIX в., наращивал эпистемологизацию в качестве позитивности. Не был неожиданностью также и тот факт, что дискурсивные формации и специфические закономерности знания выявляются там, где уровни научности и формализации представлялись трудно достижимыми. Но это не составляет предпочтительного направления для наших исследований и не составляет для археологии обязательную область.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
— На протяжении всей книги Вы худо бедно пытаетесь избавиться от ярлыка структурализма иди от всего того, что мы обычно понимаем под этим словом. Вы хотели извлечь выгоду из того, что не используете ни структуралистскую методологию, ни структуралистские понятия, не прибегаете к методам лингвистического описания, избегаете всяческой формализации. На что же указывают подобные различия, как не на то, что Вы потерпели неудачу, используя то, что могло бы с успехом применяться в структурном анализе, и что последний обладает достаточной строгостью и действительной наглядностью? Что область, которую Вы пытаетесь так или иначе трактовать, восстает против подобных попыток, и ее богатство никак не укладывается в схемы, в которые Вы пытаетесь ее загнать? С какой непринужденностью Ваше бессилие было травестировано в строгий метод; теперь же Вы нам представляете в качестве очевидно желаемого отличия непреодолимую дистанцию, которая отделяет и всегда будет отделять Вас от подлинно структурального анализа.
Вам не удастся провести нас. Правда, в пустоте, оставленной теми методами, что остаются без применения, Вы ниспровергаете все те ряды понятий, которые представляются чуждыми ныне допущенным концептам, посредством которых описываются мифы или языки, литературные произведения и сказки; Вы говорите о формациях, независимости, знании, дискурсивных практиках во всем многообразии терминов — на значимость и чудесное могущество которых Вы всякий раз горделиво обращаете наше внимание. Но разве стали бы Вы изобретать столько странностей, если не имели намерения внедрить все это в область, несводимую к основным темам структурализма- даже и к тем, которые конституируют их наиболее спорные постулаты и наиболее сомнительную философию. Создается впечатление, будто Вы удерживались от современных методов анализа, не прибегали к эмпирической и серьезной работе, а использовали две или три темы, которые являются скорее обобщениями, нежели необходимыми принципами. Таким образом, получается, что Вы хотели, собственно говоря, уменьшить значительность дискурса, отбросить его особую нерегулярность, скрыть то, что он может допустить в качестве инициативы и свободы, компенсировать ту неустойчивость, которую водворяет в языке: Вы хотели заслонить эту открытость. Вместо конкретных лингвистических форм, Вы пытаетесь поставить себя на место говорящего субъекта, Вы думаете, что возможно очистить дискурс от всей его антропологической соотнесенности, трактовать его так, словно он никогда не был никем сформулирован, словно он не был порожден никакими особыми обстоятельствами, как если бы он не был пронизан представлениями, словно он ни к кому не был обращен. Наконец, Вы соединили дискурс с принципом синхронности: Вы отказались видеть, что дискурс может быть, в отличие от языка, по существу историчен, что он был конституирован не находящимися в нашем распоряжении элементами, а реальными и последовательными событиями, которые мы не можем анализировать в отрыве от времени, где они происходят.
— Вы правы. Я действительно не признаю трансцендентальности дискурса; описывая его, я отказываюсь говорить о его связи с субъективностью, и, в первую очередь, не хочу извлекать никакой выгоды, допуская, что это должно было быть его общей формой (его диахронический характер). Но все это не предусматривает, за областью языка, дальнейшего разворачивания тех концептов и методов, которые там были использованы. Если я говорю о дискурсе, то вовсе не для того, чтобы показать, насколько полно он удерживает механизмы или процессы языка; моя задача состояла, скорее, в том, чтобы во всем многообразии вербальных представлений выявить существование различных уровней анализа, чтобы показать, что наряду с методами лингвистического структурирования (или методами интерпретации) мы можем установить специфические описания высказывания, формаций и собственно дискурсивных закономерностей. Если я оставил в стороне отсылки к говорящему субъекту, то вовсе не затем, чтобы раскрыть законы конструкции или формы, которые таким образом были бы применимы в отношении всех говорящих субъектов, не затем, чтобы заставить говорить великий универсальный дискурс, который был бы общим для всех людей данной эпохи. Напротив, речь шла о том, чтобы показать, в чем же состоят различия, как оказалось возможным то, что люди внутри одной и той же дискурсивной практики, говоря о различных объектах, имели противоположные мнения, осуществляли противоречащие друг другу выборы; речь шла о том, чтобы показать, чем одни дискурсивные практики отличаются от других, — короче говоря, я не собирался исключать из своего исследования проблему субъекта, но хотел лишь определить те позиции и функции, которые он может занимать и выполнять в различных дискурсах. Наконец, вы не дадите мне солгать:
я не отрицал истории; я просто отошел на время от общих категорий и ничего не значащих определений с целью выявления трансформации различных уровней; я отказался от унифицированной модели темпоральности для того, чтобы в отношении каждой дискурсивной практики описать правила ее накопления, исключения, реактивации, формы ее собственного образования и характерные виды сцепления в различных дискурсивных последовательностях.
Я не пытался пойти дальше законных границ структуралистского исследования. И вы с чистым сердце подтвердите, что ни одного раза я не прибегнул к термину «структура» в соей книге «Слова и вещи». Но, если угодно, оставьте это тем, кто спорит о «структурализме»; все эти споры с великим трудом сохранятся в пустынной местности, удерживаемой теми, кто принимает в них участие. Это борьба, которая могла быть весьма плодотворной, ни привела теперь ни к чему иному, кроме как к актерству и поясничанью.
— Вы напрасно заговорили об этих спорах, поскольку сами не избежали этих проблем, поскольку они не ограничиваются только лишь проблемами структурализма. Не кривя душой, мы признаем его правоту и эффективность его методов: когда речь идет об анализе языка, мифологий, популярных рассказов, поэм, снов, литературы, может быть, фильмов, — структурное описание выявляет отношения, которые никаким иным способом не могут быть вычленены; оно позволяет определить рекуррентные элементы с помощью противопоставления форм и критериев их индивидуальности; оно позволяет также установить законы конструкции, тождественности и правил трансформации. И несмотря ни на какие оговорки, которые нам пришлось сделать в самом начале, мы без труда признаем теперь, что язык, бессознательное, воображение людей подчиняется законам структуры. Но мы полностью отказывается от того, что пытаетесь сделать Вы: анализировать научные дискурсы в их преемственности, не соотносясь с такими вещами, как конституирующая активность, не признавая, даже в их колебаниях, открытости первоначального замысла или основополагающей телеологии, не находя той глубины непрерывности, которая связывает их и доводит до той точки, где мы можем сделать их предметом исследования; мы не можем принять, что, таким образом, возможно развести становление и разум и избавиться от всех указаний исторической субъективности мысли. Давайте ограничим наши споры: мы допускаем, что могли бы рассуждать в терминах элементов и правил конституирования о языке вообще — о нашем языке и о языке, который был прежде и который является языком мифов, о языке, несмотря на всю его странность, нашего бессознательного и наших произведений, но язык наших знаний — это язык, который находится в нашем распоряжении здесь и теперь, это самый структурный дискурс, который позволяет нам анализировать столько других языков, именно этот язык, во всей своей исторической наполненности, не подлежит никакому редуцированию. Мы не можем забыть, что начиная с него, исходя из его медленного развития, через таинственное становление, приведшее его теперь к нынешнему положению вещей, но подучили возможность говорить о других дискурсах в терминах структуры, что именно этот язык дал нам эту возможность и это право: он очертил то белое пятно, благодаря которому все вещи вокруг нас располагаются так, как это имеет место сегодня. Пусть мы играем с элементами, отношениями и прерывностями, когда анализируем индоевропейские легенды иди трагедии Расина, — мы этого не хотели; пусть, насколько это возможно, мы обходимся без исследований говорящего субъекта, — и это мы допускаем; но мы решительно не согласны с тем, что возможно использовать эти удачные попытки для того, чтобы отступить от анализа, чтобы продвинуться к тем формам дискурса, которые делают их возможными, и чтобы поставить под сомнение даже то место, откуда сегодня доносится голос, где анализируемая субъективность увиливает от того, чтобы в себе самой хранить собственную трансцендентальность.
— Мне кажется, что на самом деле (и в гораздо большей степени, нежели вопрос о структуре) это и является источником споров и вашего упорства. Позвольте мне, может быть, несколько игриво (вы знаете, что я обычно не склонен заниматься интерпретациями), сказать вам, как я сейчас понимаю ваш дискурс. «Конечно, — скажете вы под сурдинку, — конечно, мы вынуждены отныне, несмотря на все арьергардные бои, которые мы ведем, все-таки признать, что формализовали дедуктивный дискурс; конечно, мы должны признать, что описывали скорее архитектонику философской системы, нежели историю души иди проект существования; конечно, что бы мы об этом не думали, нам необходимо примирить эти исследования, связующие литературные произведения не с жизненным опытом, а, в первую очередь, со структурой языка. Конечно, нам придется отбросить все эти дискурсы, которые некогда привели нас к тому, чтобы признать суверенность сознания. Но то, что уже более полувека потеряно нами, теперь необходимо возвратить задним числом при помощи анализа всех анализов или, по крайней мере, через всестороннее исследование того, что мы связывали с ними. Мы должны спросить их, откуда они пришли, в чем состоит их историческое предназначение, которое пронизывает их, оставаясь вместе с тем неосознанным, внутри них самих; какая наивность сделала их слепыми к тем условиям, благодаря которым они проявились, и в каких метафизических границах замыкается их рудиментарный позитивизм. И вдруг, в конце концов, окажется совершенно неважно, что бессознательное не является, как мы думали и утверждали, очевидной границей сознания или что мифология не составляет более мировоззрения и что роман — не что иное, как одна из сторон жизненного опыта, и причина, устанавливающая все эти новые истины, составляет вершину нашего интереса: но ни она, ни ее прошлое, и то, что сделало возможным ее существование, ни то, что ее сделало нашей, не избежало о трансцендентального обоснования. Благодаря этой причине — и мы решили никогда от этого не отказываться — мы задаемся теперь вопросами о происхождении, первом установлении, телелогическом горизонте, темпоральной непрерывности. Именно она — актуализированная сегодня как наша — удерживается теперь в историко-трансцендентальной области. Поэтому, если мы будем должны, — по доброй воле или нет, — допустить все «структурализмы», то примем только то, что в этой истории соприкасается с самими нами; мы удовольствуемся тем, что распутаем все эти трансцендентальные нити, которые, начиная с XIX в., связаны с проблематикой происхождения и субъективностью. И тому, кто приближается к этой крепости, в которой мы укрывались долгое время и которая еще крепко нас удерживает, мы с жестом, который должен остановить непосвященного, повторяем: Noli tangere».
Но мне-то необходимо двигаться дальше, — и вовсе не потому, что я уверен в победе или несокрушимой силе моего оружия, но поскольку мне кажется, что на мгновение нашему взгляду открылось главное: необходимость избавить историю мысли от нее трансцендентальной зависимости. Для меня главная проблема состоит не в том, чтобы структурировать эту историю, налагая на становление знания или генезис наук категории, которые обеспечивали бы им обоснование в области языка. Речь идет о том, чтобы проанализировать историю в такой прерывности, которую не может в дальнейшем разрушить никакая телеология, установить ее в таком рассеивании, которое не может ограничить никакой предварительно заданный горизонт, оставить ей возможность разворачиваться в такой анонимности, которой никакое трансцендентальное установление не сможет навязать форму субъекта, открыть такую темпоральность, которая не допустит никакого возвращения к истокам. Речь идет о том, чтобы искоренить любой трансцендентальный нарциссизм; необходимо вырвать историю из дурной бесконечности обретения и потери истоков, где она томилась долгое время; показать, что история мысли не может играть роль разоблачителя того трансцендентального момента, которым, несмотря на все попытки обнаружить его, не обладает ни механическая рациональность, — после Канта, ни математическая идеальность, — после Гуссерля, ни обозначения воспринимаемого мира, — после Мерло-Понти.
Я думаю, что в сущности, несмотря на двусмысленности, явившиеся в образе споров вокруг структурализма, мы вполне уяснили, для нас стало очевидным, что мы пытались сделать нечто иное. Представляется совершенно естественным, что вы защищаете право исторической непрерывности, одновременно, открытой в работе телеологии, и бесконечных процессах причинности; однако это должно служить не для того, чтобы отделить вторжение структуры, не признающей в истории никакого движения, от спонтанности и внутреннего динамизма; в действительности, вы хотите сохранить власть установленного сознания, поскольку именно оно в начале нашего исследования было поставлено под вопрос. И эта защита должна занимать иное место, а вовсе не то, где разворачиваются наши дискуссии: ибо если вы признаете в эмпирических поисках, в самой незначительной исторической работе право оспоривать трансцендентальную область, то вы упустите главное. Отсюда и ряды смещений. Отсюда и стремление трактовать археологию как поиск источника, формальных априори, основополагающих действий, или, короче говоря, желание видеть в ней некий вид исторической феноменологии (тогда как мы, напротив, хотим освободить ее именно от ига феноменологии) и готовность усомниться в археологии, когда она не в состоянии выполнить эту задачу и не раскрывает ничего, кроме рядов эмпирических фактов. А затем, в пику археологическим описаниям, наперекор заботе об установлении порогов разрывов и трансформаций, вы пытаетесь противопоставить ей «подлинную» работу историков, которая состоит в демонстрации непрерывности (хотя десятилетиями история не имела к непрерывности никакого отношения), и адресовать археологии упреки в «эмпирической бесконечности». Более того, историю пробовали рассматривать как возможность описания культурных всеобщностей, как унификацию наиболее очевидных различий и опыт раскрытия универсальности противоречащих друг Другу форм (хотя они непосредственно связаны с единичной спецификацией дискурсивных практик) и, следовательно, как возможность снимать их различия, изменения и изменения. И, наконец, пробовали указать на «внесение» структурализма в область истории (хотя их методы и концепты никоим образом не могут быть смешаны) и показать затем, что в этом случае структурализм не может осуществлять свои функции структурного анализа.
Все эти смещения и непризнавания чрезвычайно устойчивы и необходимы. Они имеют уже свою побочную выгоду: возможность сообщаться по диагонали со всеми теми формами структурализма, которые необходимо допустить и от которых уже возможно отказаться, заявив: «Вы видите, что вас ожидает, если вы соприкаснетесь с той областью, которая по праву считается нашей; ваши методы, которые в ином месте смогли бы принести пользу, доходят там до предела своих возможностей и пытаются избежать какого-либо конкретного содержания, которое бы вы хотели проанализировать. Вы будете вынуждены отказаться от вашего благодушного эмпиризма и окажетесь против своей воли в чуждой вам онтологии структуры. Пусть вам достанет мудрости удержаться на земле, которая, без сомнения, завоевана вами и которую мы скроем от вас, — тем самым даровав, — ибо мы сами устанавливаем ее границы. Что же касается высшей пользы, то она состоит, разумеется в сокрытии того кризиса, в котором мы оказались уже давно и размах которого растет с каждым днем: кризис, происходящий из трансцендентальной рефлексии, с которой философия со времен Канта себя отождествляла и который вытекает из темы источника, этого обещанного возвращения, благодаря которому мы избегаем различий нашего присутствия. Начиная с антропологической мысли, которая организует все эти исследования, связанные с вопросами бытия человека, и которая позволяет избежать анализа конкретных практик, этот кризис сопровождает все гуманистические идеологии и, в конце концов, обусловливается статусом субъекта. Все это споры, которые бы вы желали скрыть и от которых надеятесь, как мне кажется, отвлечь внимание, преследуя забавные взаимодействия становлений и системы, синхронии и становления, отношений и причины, структуры и истории. Но уверены ли вы, что не практикуете теоретический матезис?».
— Допустим, споры действительно ведутся о том, о чем Вы говорите, допустим, речь идет о защите или нападении трансцендентальной мысли, допустим мы готовы признать, что наши сегодняшние дискурсии вызваны тем кризисом, о котором Вы упомянули: как же тогда назвать Ваш дискурс? Откуда он явился и кто дал ему право говорить? Если Вы ничего не предпринимаете, кроме эмпирического исследования появления и трансформации дискурсов, если только описываете совокупности высказываний, эпистемологических фигур, исторических форм знания, то как же Вы сможете избежать откровенной наивности позитивизма? Что Ваше начинание может противопоставить вопросам источника и необходимости возвращения к установленному субъекту? Но если Вы претендуете на то, чтобы открыть новый способ радикального вопрошания, если Вы хотите расположить Ваш дискурс на уровне, на котором находимся мы сами, то Вам должно быть хорошо известно, что он включается в наши взаимодействия, и в свою очередь, удлиняет ту систему, от которой пытается освободиться. Либо он Вас настигнет, либо мы сами его затребуем. Во всяком случае, Вы удерживаетесь от того, чтобы сказать нам, чем же являются эти дискурсы, за которыми Вы охотитесь вот уже десять лет, не удосуживаясь придать им соответствующее положение? Одним словом, что это: история или философия?
— Более, чем все ваши теперешние возражения, меня, сознаюсь, волнуют именно эти вопросы. Впрочем, не настолько сильно, как это могло бы показаться, — я бы предпочел на некоторое время оставить их в стороне. Сейчас я не располагаю подходящим именем, и мой дискурс, который не обрел еще твердой почвы под ногами, также далек от того, чтобы я смог определить то место, откуда он говорит. Это дискурс о дискурсах; но я и не пытаюсь извлечь из него какого-нибудь скрытого в нем закона или скрытый источник, для которого я не смогу сделать ничего иного, кроме как даровать ему свободу. Я не пытаюсь, исходя из него самого и через него, установить общую теорию, по отношению к которой все они были бы конкретными моделями. Речь идет о том, чтобы показать такое рассеяние, которое ни при каких обстоятельствах не может привести к единой системе отличий или показать такую распыленность, которая не соотносилась бы с абсолютной осью референции. Речь идет о применении такой «децентрации», которая не оставила бы в привилегированном положении ни одного центра. Задача такого дискурса состоит не в том, чтобы снять пелену забвения, или чтобы на самом дне сказанных и умолкнувших вещей найти момент их рождения (как если бы речь шла об их эмпирическом создании или трансцендентальном акте, явившемся их истоком). Этот дискурс и не пытается быть молитвенным уединением первоначала или воспоминании об истине. Напротив, он порождает различия, конституирует их как объекты, анализирует и определяет их. Вместо того, чтобы преодолевать поле дискурса, вместо того, чтобы восстанавливать на свой лад оставленные целостности, вместо того, чтобы искать в уже-сказаном другой, скрытый дискурс, который бы оставался все тем же (следовательно, вместо бесконечной игры аллегорий и тавтологии), он, ни на минуту не останавливаясь, порождает различия, выступая их диагностом. И если философия есть память или возвращение к истокам, то, в таком случае все, что делаю я, никоим образом не может рассматриваться как философия; и если история мысли состоит в возвращении к жизни полуистлевших фигур, то мои попытки отнюдь не являются историей.
— Из всего, что Вы сейчас сказали, следует задержаться на том, что Ваша археология — не наука. Вы спустили ее на воду с крайне неопределенным статусом описания. Кроме того, без сомнения, один из этих дискурсов хотел бы выдать себя за еще не оформившуюся до конца научную дисциплину, что приносит их авторам двойную пользу тем, что, во-первых, не требует последовательного и строгого научного обоснования, и тем, что выводит их на будущую всеобщность, освобождая, таким образом, от случайности своего рождения; Другой из этих проектов оправдывает себя тем, что не откладывает в долгий ящик существо своих задач, момента верификации, локализацию их когерентности; третье из этих оснований было провозглашено одним из самых распространенных, начиная с XIX в., ибо хорошо известно, что в теоретическом поде современности наивысшее удовлетворение приносит приносит не установление доказуемых систем, а, напротив, те дисциплины, которые нам открывают возможности, программы которых мы намечаем, и которые препоручают Другим свое будущее и свою судьбу. Но вот их пунктирно намеченные контуры, уже исчезли вместе с их авторами. И поле, которое они должны были обжить, остается навеки выхолощенным.
— Совершенно справедливо: я никогда не представлял археологию ни как науку, ни как основание для науки будущего. Еще менее она виделась мне как план будущего сооружения, и мои усилия были направлены, главным образом, на то, чтобы заставить раскрыться — и отложить, в конечном счете, со множеством исправлений, — то, что я пытался сделать в каждом конкретном случае. Слово археология не имеет никакого профетического значения: оно указывает только на одно из направлений анализа вербальных представлений, на спецификации уровня, высказывания и архива, на определение и высветление какой-то одной области, — например, закономерности высказываний, позитивности, установления взаимодействия концептов правил формации, археологической деривации, априори истории и проч. Но почти во всех своих параметрах, во всех своих остановках, мой замысел остается непосредственно связанным с науками, с исследованиями научности или теорий, отвечающих критериям научной строгости. Прежде всего, этот замысел связан с теми науками, которые конституируют и устанавливают свои нормы в археологически описываемом знании: для нашей науки они могли бы быть такими же науками-объектами, какими уже стали патоанатомия, филология, политическая экономия, биология. Этот замысел также связан с научными формами анализа, от которого он отличается либо по уровню, либо по области и методам, и с которыми, между тем, граничит. Направленный, во всем многообразии сказанного, на определенные высказывания как на функцию реализации вербальных возможностей, он отрывается от исследований, которые для привилегированного поля имели бы лингвистическую компетенцию, — в то время, как такое описание, чтобы определить приемлимость высказываний, конституируют модель, археология для определения условий реализации высказываний пытается установить правила формации. Отсюда следует, что между этими двумя типами анализа образуется определенное количество аналогий и, разумеется, различий (это справедливо и для того, что непосредственно связано с возможным уровнем формализации); во всяком случае, для археологии генеративная грамматика играет роль анализа-дополнения. Помимо всего прочего, археологические описания в их развертывании ив том поле, которое они преодолевают, переносятся в другие дисциплины. Стараясь определить вне всех отсылок к психологической или установленной субъективности различные положения субъекта, которые могут имплицироваться в высказываниях, археология сталкивается с вопросом, который сегодня ставит психоанализ; пытаясь выявить правила формаций концептов, виды последовательностей, сцеплений и сосуществований высказываний, археология сталкивается с проблемой эпистемологической структуры; изучая формация объектов, поле, в котором они выявляются и специфицируются, исследуя также условия присвоения дискурса, наша наука приходит к анализу социальных формаций. Все вышеперечисленное для археологии составляет коррелятивное пространство. И, наконец, по мере того, как оказывается возможным конституировать общую теорию продукции, археология, взятая как анализ правил в различных дискурсивных практиках, обретает то, что мы могли бы назвать ее обволакивающей теорией.
И если я располагаю археологию среди такого количества уже конституированных дискурсов, то не для того, чтобы по смежности или по аналогии принести ей выгоду, сообщив тот статус, который она никогда не была способна открыть в себе самой, и не для того, чтобы дать ей место, окончательно очерченное, в неподвижных плеядах, а затем, чтобы вместе с архивом, дискурсивными формациями, позитивностями, высказываниями, условиями их формаций выявить ее специфическую область, — область, которая еще не становилась объектом какого-либо анализа (или, по крайней мере, никогда не сталкивалась с тем, что она может обладать чем-то, что несводимо к интерпретации или формализации), область, которая впоследствии (вплоть до того, все еще рудиментарного установления, где я теперь нахожусь) не гарантирует, что останется устойчивой и автономной. И, наконец, возможно, что археология будет ничем иным, как тем инструментом, который менее расплывчато, чем прежде, позволит осуществить анализ социальных формаций и описание эпистем, связать анализ положений субъекта с теорией истории наук или поможет выявить точки пересечений между общей теорией производства и генеративным анализом высказываний.
И, возможно, в конце концов окажется, что археология — имя данное некоторым явлениям теоретической конъюктуры современности. Пусть она открывает дороги той индивидуализированной дисциплине, первые черты и самые общие границы которой намечены здесь, пусть она вызывает к жизни целую область проблем, действительная устойчивость которых не мешает тому, чтобы в дальнейшем они переместились в другую область или, иначе говоря, расположились на уровнях более высоких и анализировались с использованием иных методов. Все это сейчас я уже не в состоянии решить. И, по правде говоря, не мне принимать решения. Я допускаю, что мой дискурс полностью исчезнет как фигура, которая смогла его поддерживать до сих пор.
— Вы довольно странно распоряжаетесь той свободой, в которой отказываете другим, поскольку забираете в свое распоряжение все поде свободного пространства, которое сами же отказываетесь определить. Может быть, Вы уже позабыли о всех тех трудах, которые потребовались для того, чтобы втиснуть дискурс других в систему правил? Не забыли ли Вы все те ограничения, которые описаны вами с такой педантичностью? Не вы ли отняли у людей право личного вмешательства в те позитивности, в которых располагается их дискурс? Вы связали самые незначительные слова с условиями, которые обрекают на конформизм малейшие нововведения. Революция, которую Вы совершили, не стоила Вам ни капли крови, когда, разумеется речь заходила о Вас самих, но она нестерпимо тяжела, когда речь идет о других. Хотелось бы, чтобы Вы полнее продемонстрировали основание тех условий, о которых Вы же и говорили и, кроме того, было бы недурно, если бы Вы питали больше доверия к реальным поступкам людей и к их возможностям.
— Я опасаюсь, как бы вы не впали в двойное заблуждение: в отношении дискурсивных практик, которые я пытаюсь определить, и того, что вы понимаете под человеческой свободой. Позитивности, которые я пытаюсь установить, не должны быть поняты как совокупность определений, навязанных извне мышлению индивидуумов или как существующие внутри и заданные заранее; они констатируют, скорее, совокупности условий, в соответствии с которыми осуществляется особого рода практика, и в соответствии с которыми эта практика открывает место отчасти или абсолютно новым высказываниям; в соответствии с которыми она, наконец, может быть изменена. В гораздо меньшей степени речь идет о границах, положенных активностью субъекта, нежели о том поле, где она проявляется (без указания центра системы), о правилах, которые она использует (а не изобретает или формулирует), о тех отношениях, которые служат ей основанием (не являясь при этом результатом подобных отношений, ни точкой их совпадений). Задача состоит в том, чтобы выявить дискурсивные практики во всей их густоте и сложности: показать сказанное, — это значит нечто иное, нежели выразить продуманное; перевести знание, — это нечто иное, нежели выявить взаимодействия структур языка. Необходимо показать, что именно привносит высказывание в уже существующую последовательность высказываний; необходимо сделать сложный и ответственный ход, который бы имплицировал условия (а не только ситуацию, контекст, мотивы) и использовал различные логические правила и конструкции; необходимо доказать, что изменение в порядке дискурса не допускает никаких «новых идей», нововведений и креативности, никакой иной ментальности, но только изменения в практике (и, возможно, в тех дискурсивных практиках, которые соседствуют с ней) или изменения в общей артикуляции. Я далек от того, чтобы отрицать возможность изменения дискурса, но настаиваю на безотлагательном признании исключительных правах независимости субъекта.
И в свою очередь, я хотел бы, чтобы закончить, наконец, задать вам свои вопросы: какая идея привела вас к тому, что вы стали говорить об изменениях, или, даже, о революции, по крайней мере, в научном порядке и в поле дискурса, если вы связывает ее с темами смысла, замысла, истоков или возвращения, с установленным субъектом, — короче говоря, со всей той тематикой, которая'обеспечивает истории универсальное присутствие Логоса? Какие возможности она раскрывает перед вами, если вы анализируете ее в соответствии с динамическими, биологическими, эволюционистскими метафорами, в которые мы обычно погружаем сложные и специфические проблемы исторических изменений? Не могли бы вы уточнить, какой политический статус можно придать дискурсу, если вы видите в нем только прозрачную пленку, которая мерцает на границе, разделяющей слова и мысли? Не избавила ли вас практика дискурса революции и научного дискурса, существующая вот уже почти двести лет в Европе, от представления о том, что слова — это ветер, внешнее лепетанье, шум крыльев, которые едва доносятся до нашего слуха из-под покрова серьезной истории? Может быть, необходимо допустить, что, желая отказаться от этого урока, вы упорствуете, не признавая в их собственном существовании дискурсивных практик, и что вы хотели бы возмутить против него историю духа, познаний, разума, идей, мнений? В чем же состоит этот страх, который заставляет вас отвечать в понятиях знаний, когда мы говорим вам о какой-либо одной практике, ее условиях, правилах и исторических изменениях? Что это за болезнь, которая вынуждает вас за всеми пределами, разрывами, сотрясениями, проявлениями видеть великое историко-трансцендентальное предзнаменование Запада?
На этот вопрос, я думаю, не существует никакого иного ответа, кроме политического. Оставим же на сегодня его в стороне. Может быть, скоро появиться необходимость взяться за него по-другому.
Вся эта книга устраняет только лишь некоторые предварительные сложности. Как любой автор, я знаю, насколько «неблагодарными» (в строгом смысле) могут быть те исследования, о которых я говорю, и те замыслы, которые уже десяток лет меня волнуют. Есть много надуманного в том, что я трактую дискурс, исходя не из нежности, мягкости и сокровенности сознания, которое в нем себя выражает, а из непонятных совокупностей анонимных правил. Вызывает неприятие то, что выявляются границы и необходимости практики там, где обычно видят ничем не замутненную прозрачность и развертывание взаимодействий гения и свободы. Существует нечто, что провоцирует трактовать эту историю дискурса, которая до сих пор оживляется внушающими доверие метаморфозами жизни или интенциональной непрерывностью жизненного, как пучок трансформаций. Кажется невыносимым, наконец, то, что каждый желает устанавливать или думает устанавливать «самого себя» в своем собственном дискурсе, когда пытается говорить; несносно то, что членятся, анализируются, комбинируются, заново воссоздаются все эти вновь обратившиеся в тишину тексты, где так никогда и не проступит преображенное лицо автора: «Ну, столько слов нагородил, столькими значками покрыл это море бумаги и выставил их на всеобщее обозрение, столько усердия проявил, чтобы удержать все это за артикулирующим их жестом, столько старания приложил, дабы сохранить и внести их в память людей, — и все это только для того, чтобы, в конечном счете, ничего не осталось от той бедной руки, которая разбросала все эти знаки, чтобы ничего не сохранилось от того беспокойства, которое пыталось найти в них покой!»… Неужели ничего не осталось от этой завершенной жизни, которая была прожита только для того, чтобы выжили они? Дискурс, в своем наиболее глубоком определении, не будет ли простым «следом», не будет ли он в своем шепоте — жестом бессмертия без субстанции? Может быть, стоит допустить, что время дискурса не является временем сознания включенного в область истории, ни временем присутствия истории в форме сознания? Может быть, необходимо допустить, что в моем дискурсе отсутствуют условия моего выживания? И что говоря, я вовсе не заклинаю свою смерть, а, напротив, призываю ее? Может быть, я всего лишь отменяю любое внутреннее в этом беспредельном «вне», которое настолько безразлично к моей жизни и настолько нейтрально, что стирается грань, отличающая мою жизнь от моей смерти?..
Конечно, я хорошо понимаю их беспокойство. Им, конечно, трудно признать, что их история, экономика, их социальные практики, язык, на котором они говорят, мифология их предков, даже сказки, которые им рассказывают в детстве, — все это подчиняется правилам, которые не вполне даны их сознанию. Они бы не хотели вовсе, чтобы мы, помимо и сверх того, лишили их возможности владеть тем дискурсом, на котором они стремятся говорить непосредственно, без какой-либо дистанции то, что они думают, во что они верят или что они представляют. Им легче признать, что дискурс не является сложной и дифференцированной практикой, подчиненной правилам и анализируемым трансформациям, нежели лишиться всей этой нежной, утешительной уверенности в силе изменений, таких как мир, жизнь или, по крайней мере, «смысл», явленный в единственной свежести слова, что происходило только из них самих и пыталось расположиться как можно ближе к бесконечному источнику. Столько вещей в языке ускользнули от них, и они не желают, чтобы и впредь все уходило сквозь пальцы, включая и то, что они говорят, — эти маленькие фрагменты дискурса (слова или письма), хрупкость и неопределенность которого должна нести их жизнь дальше навеки. Они не могут допустить (право, их можно понять), чтобы кто-то сказал им:- Дискурс — это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, в нем вы не примиряетесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, нежели Ему.

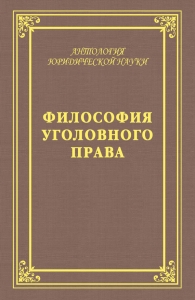


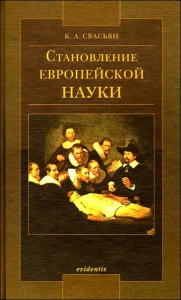
Комментарии к книге «Археология знания», Мишель Фуко
Всего 0 комментариев