Янис Варуфакис Беседы с дочерью об экономике
Γιάνης Βαρουφάκης
ΜΙΛΏΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΌΡΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Εκδόσεις Πατάκη
Переводчик благодарит Тавифу Маркову (11 лет) за большой труд по редактированию перевода
Перевод – Александр Марков
Copyright © S. Patakis S.A. & Yanis Varoufakis Athens 2013
© Марков А., перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
* * *
Предисловие
Эта книга обязана своим появлением просьбе издателя, Елены Патаки. Ей потребовался понятный любому подростку рассказ об экономике.
Я всегда думал, что если ты не можешь объяснить важнейшие экономические вопросы понятным подросткам языком, значит, ты сам их не понимаешь. В наше время экономический кризис стал главным вопросом, который всех волнует, и все говорят только о нем. Наше общество поляризовано. Поэтому просьба Елены стала для меня настоящим вызовом. Я ей сразу ответил: «Постараюсь написать такой текст». Если он удастся, наверное, он будет полезен и другим читателям, включая мою жену Данаю Страту и ее детей Никола и Эсмеральду Монферрату, и они сразу захотят его прочесть. Теперь книга издана, и любой может судить, удалась она или нет.
Мой положительный ответ на предложение Елены был обязан и другому обстоятельству моей жизни. Мне не так часто удается видеться с дочерью от первого брака, к которой обращены эти беседы: она живет в Австралии; и мы вместе считаем дни до каникул, когда она может приехать хотя бы на несколько дней, – чтобы потом опять месяцами не видеться. Когда я писал эту книгу и обдумывал, какие возражения на какие слова выдвинет мне дочь, я чувствовал, что она рядом. Она самый строгий мой критик, – и поэтому, надеюсь, я смог изложить вопросы как можно яснее, без лишних слов. Еще я задумался и о том, что эта книга, и это меня особо радовало, поможет ей лучше говорить по-гречески: ведь в Австралии она говорит и читает только по-английски.
Что до содержания, я решил не останавливаться на греческой повседневности последних печальных лет – на всех этих меморандумах, нищете, позоре, на всем, что мы переживаем с 2010 года. Я сосредоточился на больших вопросах большой экономики, которые касаются каждого из нас. Читатель сможет под другим углом посмотреть на продолжающееся разрушение нашей греческой экономики и понять, почему наши власти упорно отказываются принять необходимые меры, которые бы очень помогли Греции, Европе и всему миру.
Предисловие к русскому изданию
Я начал заниматься экономической теорией в 1970-е годы, когда верх над прочими убеждениями взяла новая идеология. Большинство ее знают и узнают под названием «неолиберализм». Жизнь на Западе необратимо поменялась, когда в Британии, где я тогда учился, Маргарет Тэтчер и в США – Рональд Рейган во всеуслышанье объявили о новой форме совершенно уже необузданного капитализма, постоянно усиливающего финансовый капитал (банковский сектор, хеджирование сделок, страхование предприятий и т. д.) и подрывающего при этом одновременно наемный труд и промышленный капитал. Я наблюдал за этими переменами одновременно с интересом и с испугом: новая идеология капиталистического режима, неолиберализм, имела не больше общего со старым капитализмом, чем прежний марксизм – с тем, что построили в Советском Союзе: а именно ничего!
Исчезновение красного флага над Кремлем в декабре 1991 года совпало с глобальной победой неолиберализма и концом марксизма. Не изменилось только одно: новая идеология, как и все господствующие идеологии, пестовалась новым правящим классом с целью легитимировать свои действия и свою политику. Настоящей целью было, конечно, продвижение интересов новых правителей – точно так же как правившие в СССР подмяли под себя и исказили марксизм, оправдывая им любые свои действия. Другими словами, экономическая теория просто скрывала интересы людей, «кто кого опередит», по бессмертному выражению Ленина. Более того, так называемые экономические эксперты устремились учить народ России, как все устроено в экономике «на самом деле», выступая от имени науки как от своего собственного.
Дорогой читатель! Эта маленькая книга создана из убеждения, что экономика – слишком важная вещь, чтобы доверять ее экономистам, вне зависимости, работают ли они на советскую власть или представляют интересы корпораций и различных олигархов. В этом смысле эта работа совсем не похожа на привычную научно-популярную литературу, пересказывающую достижения ученых.
Конечно, если нам нужно соорудить мост, лучше предоставить это дело знатокам – инженерам. Если нам нужна хирургическая операция, мы обращаемся к профессионалу. Да и вообще научно-популярная литература важна в вышедшем из берегов мире, где президент США начал открытую войну против науки, а наши дети зевают на научных лекциях, предпочитая нездоровую атмосферу бизнес-курсов, тренингов и разных воркшопов по пиару. Поэтому широкое признание науки – прекрасная защита научного сообщества, без экспертизы которого общество не выживет.
Я давно преподаю экономику и всегда считал, что если ты не можешь объяснить экономику, чтобы молодежь все поняла, то значит, ты сам ничего в ней не понимаешь. Со временем я понял и другое утешительное противоречие, лежащее в основе моей профессии, которое только подтвердило мое начальное убеждение: Чем научнее наши модели экономики, тем меньше отношения они имеют к действительно существующей экономике.
Итак, в экономике все не так, как в физике, инженерном деле и других позитивных науках, где чем изощреннее становится научное знание, тем лучше мы понимаем, как действительно устроена природа. Вот почему я убежден, что экономика – слишком важное дело, чтобы отдавать его на откуп «экспертам»-экономистам. Вот почему книга ведет читателей в противоположном направлении, чем популяризация науки, – она побуждает каждого из вас, читатели, взять экономику в свои руки. Мы должны научиться понимать хотя бы то, почему самозваные «эксперты» по экономике (называющие себя учеными-экономистами) всегда ошибаются!
Отнять у изолгавшихся экспертов их бизнес, право авторитетным тоном говорить об экономике – предварительное условие общественного благополучия и настоящей демократии. Подъем и спад экономики определяет нашу жизнь, воздействие экономики превращает демократию в розыгрыш, экономика лезет нам в душу, создавая за нас наши надежды и чаяния. Поэтому лучше держаться подальше от экономистов, а иначе все наши решения будут продиктованы только их прихотями.
Может быть, власть экспертов над нашими телами и душами была бы мягкой и более-менее приемлемой диктатурой, если бы они действительно лучше других разбирались в своем предмете. Но они ничего не понимают в экономике! Они лукавые, а иногда благонамеренные, но искренне заблуждающиеся люди – их объединяет то, что самоназначенный статус экспертов служит их личной выгоде. Они – сегодняшний извод монахов, богословов, кардиналов, испанских инквизиторов или революционных комиссаров, которые претендуют на прямую связь с божеством и на монопольное владение мудростью. Небезопасно вступать с ними в спор, но эта книга опасна для них.
Чтобы книга стала такой – небольшой, но опасной, – я выбрал простую стратегию: написать книгу как объяснение экономики для Ксении, моей тринадцатилетней дочери, без всяких умных слов, без ссылок на «авторитетных экспертов», без любых – измов (капитализм, социализм, коммунизм). Надеюсь, читатель, что она послужит и твоей пользе.
Глава 1 Как возникло неравенство?
Почему австралийские аборигены не вторглись в Англию?
Все младенцы рождаются на свет голыми. Весьма скоро некоторые уже ходят в самых дорогих и прекрасных платьях, купленных в лучших бутиках, хотя большинство довольствуется ношеными одежками и тряпками. Когда дети подрастают, первые, которых мало, воротят взгляд, когда родственники и друзья дарят им одежду (им нужны совсем другие подарки!), а вторые, которых очень много, мечтают, когда же, в один прекрасный день, они пойдут в школу не в дырявых ботинках.
Это только одно из проявлений неравенства, царящего в нашем мире. Мы больше слышим о неравенстве, чем видим его: ведь вместе с тобой в школу не ходят, к сожалению, дети, приговоренные к нищете, подвергнутые унижениям, а во всем мире таких подавляющее большинство. Ты знаешь хотя бы на словах, что большинство детей в мире живут не как ты и твои одноклассники. Недавно ты спросила меня: «Откуда взялось такое неравенство?» Но мой ответ не удовлетворил даже меня самого. Поэтому давай, я еще раз попытаюсь ответить на этот вопрос, который мучает и меня самого.
Сейчас ты живешь и растешь в Австралии, и на уроках в твоей сиднейской школе вам много рассказывали об аборигенах, как их преследовали, как уничтожали их культуру, как белые британцы переселяли их и лишали всяких прав два века, в какой нищете, к нашему стыду, они до сих пор живут. Но при этом никто не задал вопрос, почему британцы вторглись в Австралию, захватили всю землю и все имущество аборигенов, уничтожили весь их мир, почему было не наоборот? Почему не могло быть такого, что войска аборигенов высадились в Дувре, марш-броском дошли до Лондона и перебили всех англичан, осмелившихся выйти им навстречу? Уверен, что в вашей школе ни одному учителю даже в голову такой вопрос не придет.
Но этот вопрос задать надо. Если мы поторопимся с ответом, то будем и впредь ошибочно считать, что европейцы всегда были умнее и способнее. Но и другой ответ, что аборигены были всегда добрыми и просто не захотели быть жестокими колонизаторами, тоже никуда не годится. Ведь они смогли бы стать колонизаторами, только если бы построили большие морские суда, изобрели современное оружие и высадились на побережье Англии войском, достаточным для полной победы над англичанами. Можно было бы судить, что они добрые, если бы они не обратили англичан в рабство, не разграбили бы графство Сассекс, графство Суррей, графство Кент.
Чтобы ответить на заданный вопрос, нужно разобраться, откуда появилось неравенство между народами? Неужели одни народы умнее, а другие глупее? А если дело не в происхождении или генетике, почему в нашем городе не встретишь такую нищету, как на любой улице Таиланда?
Рынок и экономика – разные вещи
В обществе, в котором ты растешь, все по ошибке сводят экономику к работе рынка. Но что такое рынок? Это место, где происходит обмен. В супермаркете мы заполняем тележку товарами и «меняем» на деньги, которые потом обменяют на другие товары те, кто их заработает (это может быть владелец супермаркета, а может быть работник, получающий от него часть денег). Если бы денег не существовало, нам пришлось бы отдать продавцу что-то из нашего имущества. Итак, ты поняла, что рынок – место, где происходит обмен. В наши дни рынок бывает и цифровым: скажем, ты меня просишь покупать тебе приложения на iTunes и книги на Amazon.
Рынки существовали еще тогда, когда люди жили на деревьях и не умели пахать землю. Наш далекий предок принес соседу банан, потребовав за него яблоко, – это был обмен. Это уже был самый простой рынок: один банан стоил одно яблоко, и наоборот. Но это еще была не экономика. Чтобы возникла настоящая экономика, нужно было создать производство, а не просто охотиться, рыбачить или собирать бананы.
Два больших скачка: речь и избыток
Примерно 82 тысячи лет назад человечество совершило первый большой скачок. Люди научились употреблять голосовые связки не только для того, чтобы кричать, но и чтобы разговаривать. Через 70 тысяч лет после этого человечество совершило второй большой скачок. Люди научились обрабатывать землю. Речь и производство пищи, а не просто крик и не просто употребление даров природы, и создали то, что мы сейчас называем экономикой.
Через 12 тысячелетий после изобретения земледелия, мы можем сказать, что тогда произошло. Человек впервые перестал полагаться на природу с ее дарами, но научился, прилагая усилия, самостоятельно производить нужные ему вещи. Был ли человек этому рад? Конечно, нет. Единственное, что заставило человека возделывать землю – страх голода. Человек истребил многих диких зверей и птиц, на которых привык охотиться, устраивая ловушки и силки, а плодов деревьев не хватало для пропитания всех людей. Поэтому и пришлось изобретать обработку земли.
Нельзя сказать, что это был наш выбор – развивать технологии. Наоборот, технологии, земледельческая экономика создала нас самих! Благодаря земледелию сразу изменилось общество. Производство продуктов создало главный элемент настоящей экономики – избыток. Что такое избыток? Это продукт, которого хватает не только для пропитания и для нового посева («вклад» в землю), но и про запас. Его можно собрать и сохранить на будущее, скажем, сохранить зерно на случай неурожая или засухи. А можно это зерно высадить, в надежде собрать еще больший урожай, чтобы еще больше пополнить запасы. Так растет избыток.
Обрати внимание на две вещи. Прежде всего, охота, рыбная ловля или собирательство не могут создать избытка – выловленная рыба, пойманный заяц и собранные бананы скоро испортятся и сгниют. А вот пшеница, кукуруза, рис, ячмень сохранятся. Затем, производство сельскохозяйственной продукции произвело на свет все чудеса общественной жизни: письменность, долги, деньги, государства, войска, жрецов, бюрократию, технику и технологии и даже некое подобие биохимических войн. Но обо всем по порядку.
Письмо
Археологи сообщают нам, что первая форма письменности возникла в Месопотамии. И что там записывали? Записывали количество зерна, которое каждый земледелец сдал в общие закрома (амбар, зернохранилище). В чем смысл? Одному землепашцу трудно построить себе хранилище, чтобы держать излишки. Лучше всем вместе соорудить общие склады, находящиеся под надзором распорядителя, чтобы каждый земледелец хранил там урожай. Но подобная организация хранения требовала, чтобы всем было видно, что, например, милостивый государь Набух положил столько-то тогдашних килограммов (или других мер веса) в амбар, ведь не будешь каждый раз ходить и пересчитывать. Действительно, письменность и была изобретена для того, чтобы вести всем понятный учет, чтобы можно было предъявить, сколько чего положено в общие закрома. Неудивительно тогда, что общества, не нуждавшиеся в развитии земледелия, довольствовавшиеся охотой и собирательством, как общества австралийских аборигенов или коренных жителей Северной Америки, добились больших успехов в живописи и музыке, но даже не стали изобретать письменность.
Долги и деньги
Учетная запись количества продуктов, например зерна, принадлежащего нашему любезному другу Набуху, и легла в основу и долговых расписок, и денег. Мы знаем, опять же благодаря археологическим открытиям, что многим работникам платили черепками, на которых были написаны числа – указание, сколько зерна начальник должен им будет выдать за работу. Зерно, в указанном количестве, может быть, еще и не было произведено, поэтому эти черепки по сути были долговой распиской начальника перед работником. Одновременно они стали первой формой денег: работники на эти черепки покупали друг у друга продукты.
Интереснее всего, что именно возникло с появлением металлических денег. Многие исследователи думают, что металлические монеты были созданы, чтобы быть надежнее в употреблении, не изнашиваться, проходя через множество рук. Но это не всегда было так. Например, в Месопотамии металлические деньги были просто формой записи, единицей учета, сколько зерна надлежит выдать; при этом монеты могли быть не выпущены, а только обозначены в записи! Поэтому мы можем предположить, что с какого-то момента запись прав собственности на зерно, хранящееся в общих закромах, приняла форму металлических монет. Мы не случайно употребили слова форма и единица. Действительно, делалась запись, что господин Набух получит зерно ценою в три металлических монеты – но самое смешное, что этих монет никто не видел. Их никто еще не чеканил, или чеканили изредка – регулярный выпуск монеты датируется несколькими столетиями позже – а если эти монеты и существовали, это были тяжелые железные болванки, которые было трудно носить с собой. Итак, сделки по излишкам урожая совершались не с помощью монет, а «в форме монет», образно или символически. А значит, эти названные символические единицы получили доверие, или как мы называем это по-латыни кредит, от латинского credere – веровать: люди поверили в то, что эти условные единицы имеют покупательную способность, и что можно работать за эти единицы.
Но чтобы такая вера стала действенной, должна была заявить о себе та неведомая сила, которую мы сейчас называем властью. Власть – это форма и формула закона, переживающая каждого отдельного начальника. Благодаря этой формуле каждый знает, что ему в урочное время выдадут положенную, принадлежащую ему часть урожая.
Власть, бюрократия, армия
Итак, в одном ряду идут долг, деньги, кредит и власть. Без записи долга невозможно правильно распределить излишек урожая. Но чтобы обозначить этот долг, нужны деньги. А чтобы деньги обладали ценностью, нужна власть, устанавливающая те законы, по которым деньги заслуживают доверия.
Власть существует только при условии, что она забирает часть излишков, потому что власть нуждается в бюрократии и в средствах наведения порядка. Например, власть учреждает суды, занимающиеся тяжбами вокруг долга в случае, если заимодавец и должник не могут договориться, как должен быть выплачен долг. Также нужна полиция, для защиты прав частной собственности. Наконец, нужны те, кто будет всем управлять, начальники, и начальники всегда требуют (пока мы не обсуждаем, хорошо это или плохо) для себя высокого уровня жизни. Чтобы все это работало, нужен довольно большой излишек, чтобы прокормить всех названных людей, не работающих в поле. Без излишка невозможно также собрать и обучить армию. А без хорошей армии никакие полномочия начальства, и вообще никакая власть не может долго существовать, потому что иначе большая часть страны и населения, достанутся соседям-завоевателям.
Жрецы
Все государства, возникшие из сельскохозяйственных обществ, весьма несправедливо распределяли излишки. Как нам расскажет любой историк, больше всего доставалось тем, кто сильнее, кто влиятельнее, у кого больше оружия. Но сколь бы ни были сильны эти люди, и как бы много у них ни было власти, они не могли противостоять подавляющему большинству обездоленных земледельцев, которые, если бы смогли договориться, за несколько часов не оставили бы камня на камне от угнетающего порядка.
Как же удавалось властителям осуществлять власть вопреки воле большинства, распределяя излишки в свою пользу, а не в пользу других? Очень просто: они разработали систему идей, которая убедила подданных в законности их власти. Они имеют право на излишки, потому что они благородны и мудры, потому что они избранники, само небо их избрало для того, чтобы распоряжаться земными делами, потому что милостивые боги так решили.
Если бы не этот новый закон, не эта, как мы говорим, господствующая идеология, начальники не смогли бы связать с собой надежду всего населения. Кто бы их стал почитать только за то, что они есть? Другое дело, если рядом с начальником стоит полномочный представитель богов и от имени богов утверждает его власть.
Пока земледельцы просто выращивали урожай, до изобретения аграрной экономики, они и не думали, что общество может быть как-то организовано. Но как только власть утвердила себя как переживающая целые поколения и века, полностью сохраняющая свою форму после смерти правителя, тут же понадобилась идеология: возникло жречество, сообщавшее откровения богов и совершавшее действа, которые утверждали непрерывность бытия этого общества, незыблемость его святынь и несомненность полномочий начальника. Возникновение религии нельзя объяснить только страхом смерти: если бы не существовало больших излишков урожая, тогда бы и не возникло пышного жречества, которое ничего не производит, а живет только на излишки.
Технология
Человеческий ум совершил несколько технологических революций еще до появления земледелия: человек овладел огнем и научился обрабатывать металлы явно до того, как стал обрабатывать землю мотыгой. Но производство сельскохозяйственной продукции дало огромный толчок развитию технологий, иначе и быть не могло. Прежде всего, люди со способностями изобретателей теперь были освобождены от необходимости охотиться на зверей и птиц, чтобы насытиться. Изобретатели смогли создавать орудия сельскохозяйственного труда, оружие для армии, украшения для правителя и выменивать их на излишки урожая. Более того, аграрное общество потребовало прежде неведомых технологических новшеств: так, понадобились плуги и системы оросительных каналов.
Биохимическая война
В собранном урожае заводятся смертельные бактерии. Как только впервые собрали тонны урожая в общие закрома и как только тысячи людей сошлись вместе в большие поселения, первые города, взяв с собой еще и скот, дававший молоко и мясо, перевозивший урожай, эта громадная биомасса невольно сделалась страшной биохимической лабораторией: в ней бактерии быстро эволюционировали, размножались, мутировали и становились страшными – по крайней мере в сравнении с теми, с которыми люди прежде сталкивались, когда трудились порознь.
Так начались эпидемии, мучительные и губительные для множества людей, и число их жертв было огромно. Но постепенно аграрные общества и экономики стали вырабатывать в себе устойчивость к бактериям холеры, тифа и вирусу гриппа. Люди становились носителями миллионов этих смертельных микроорганизмов, не претерпевая от них никакого вреда. Поэтому, когда люди из аграрных обществ приходили к племенам, не знавшим сельскохозяйственного производства, для истребления этих племен им не требовалось ни мечей, ни стрел. Просто гибли все, кто вставал близко к ним. И в Австралии, и в Америке большинство аборигенов вымерло под действием бактерий, которые принесли на себе вторгшиеся европейцы, а вовсе не от пушек, пуль и мечей. В иных случаях европейские захватчики сознательно употребляли это биохимическое оружие. Например, есть сведения, что в Америке одно из индейских племен было полностью истреблено, когда европейское посольство подарило им одеяла, на которых намеренно была оставлена слюна с бактерией тифа.
Итак, почему же все-таки британцы победили аборигенов, а не наоборот?
Пора вернуться к жестокому вопросу, с которого я начал: почему британцы вторглись в Австралию, а не аборигены – в Англию? Почему все империалистические сверхдержавы возникли в Евразии, и с недавнего времени – в Северной Америке, благодаря навыкам, перенесенным из Европы? Почему сверхдержавы не возникли ни в Африке, ни в Австралии? Генетика здесь ни при чем. Правильный ответ мы уже дали.
Любая сильная власть начинается с избытка урожая. Без избытка урожая невозможно ни вооружить армию, ни управлять распределением урожая, ни научиться писать, ни внедрить новые технологии, ни создать порох, ни построить морские суда…
Мы увидели, что аграрные общества создали даже биохимическое оружие, способное уничтожать охотников и собирателей, например австралийских аборигенов.
Мы увидели, что в таких землях, как Австралия, где всегда хватало еды (три или четыре миллиона людей, благодаря щедрости природы, имели исключительный доступ ко всей флоре и фауне материка, по размерам равного Европе), не было никаких причин изобретать сельскохозяйственные технологии для сбора и хранения урожая.
Мы сейчас знаем (и хотя ты мала, ты уже это выучила), что у аборигенов была поэзия, музыка и мифология огромной культурной ценности. Но у них не было средств, чтобы нападать на другие народы или защищать собственный народ. Напротив, англичане, как участники событий в Евразии, самим ходом вещей были принуждены к тому, чтобы образовывать излишки урожая и все сопутствующее им: от морских кораблей до биохимического оружия. Поэтому, когда первый англичанин ступил на берега Австралии, у аборигенов не осталось никакого шанса на выживание.
А как же Африка?
«А африканцы? – ты сразу спросишь меня. – Почему не возникло могущественной африканской державы, которая угрожала бы Европе? Почему рабов везли только в одну сторону? Неужели африканцы не были так умны, как европейцы?»
Опять дело не в качествах людей. Посмотрим на карту и сравним очертания Африки с очертаниями Евразии. Прежде всего Африка оказывается растянутой: начинается со Средиземноморья, тянется на юг до экватора и уходит далее в Южное полушарие. Одним словом, африканская земля проходит через совершенно разные климатические зоны: пустыня Сахара, субтропики вокруг Сахары, чисто тропический климат на экваторе и умеренный климат Юга Африки. Посмотри теперь на Евразию. В отличие от Африки, тянущейся с севера на юг, Евразия идет от Атлантического океана на восток до берегов Китая и Вьетнама на Тихом океане. Евразия – континент-крепыш, если так можно сказать.
Что это означает? Когда мы движемся из одной области Евразии в другую, мы сталкиваемся лишь с небольшими различиями в климате – в отличие от Африки, где если мы проведем черту от Йоханнесбурга до Каира, она пройдет через множество климатических зон.
А почему это значимо? По той простой причине, что африканские общества, создавшие аграрную экономику (как сейчас в Зимбабве), не могли дойти до Европы, потому что их земледельцам пришлось бы сначала завести хозяйство севернее, но на экваторе, а уж тем более в Сахаре это невозможно. Тогда как народы Евразии после создания сельскохозяйственного производства могли легко перемещаться на Запад или на Восток, вторгаться в чужие области, присваивать чужие излишки и культуру завоеванных народов, перенимая их технологические достижения и создавая могущественные державы. В Африке все это было невозможно по географическим причинам.
Итак, как возникло неравенство?
Если говорить о всемирном распределении благ, то порабощение европейцами Африки, Австралии и Америки вполне объяснимо географически. Географические условия закономерно привели к нынешнему положению аборигенов Австралии, туземцев Америки и большинства жителей Африки. Ты видишь, что дело здесь не в цвете кожи и не происхождении. Причина одна – умение хранить излишки сельского хозяйства и сравнительная легкость географического распространения земледелия. Итак, с хранения урожая в общих закромах начинаются огромные державы, готовые распространить свою власть на весь мир – как мы называем их, империалистические.
Но есть и другой уровень неравенства – внутри развитых обществ. Я тебе говорил, как начальники и жрецы в первых государствах распределяли урожай в свою пользу, потому что правильное хранение урожая требовало сосредоточения власти и богатства в руках немногих. Это неравенство, при неравенстве политических возможностей, начинает подпитывать само себя, и постоянно только нарастает.
Доступ к собранному урожаю давал экономическую и политическую (а также культурную) власть, которая позволяла получить еще большую часть будущего урожая. Или, говоря просто, легко заработать миллион, если у тебя уже есть миллион. А если у тебя ничего нет, даже о тысяче ты можешь только мечтать.
Итак, неравенство действует на двух уровнях. Всемирный уровень объясняет, почему некоторые страны вступили в XX и в XXI век нищими, тогда как другие пользуются всеми преимуществами силы и богатства, во многом за счет разграбления бедных стран. А на уровне отдельной страны неравенство может быть сколь угодно большим: мы знаем, что в самых бедных странах немногие их богачи богаче многих богачей богатых стран.
Я тебе рассказал о том, как неравенство коренится в производстве экономического излишка после первой технологической революции в истории человечества – появления земледелия. В следующей главе я расскажу, как неравенство увеличивается после последующих промышленных революций, таких как появление атомной энергетики и компьютеров, и как мы пришли к тому обществу, которое ты видишь каждый день вокруг себя. Только смотри, никогда не поддавайся искушению оправдывать то неравенство, которое ты сама сейчас признала нежелательным.
Неравенство как выращивающая себя идеология
Когда мы говорили о роли жрецов, я заметил, что они вырабатывали идеологию, призванную узаконить неравное распределение урожая: чтобы все, имущие и неимущие, признали такое распределение высшим законом. Они просто создавали некоторый комплекс убеждений, который мы называем мифологией; и мифы способствовали как увеличению производительности, так и росту неравенства. Если подумать, ни одно убеждение не воспроизводится так хорошо, как мысль, что принадлежащее тебе принадлежит тебе по праву. С раннего детства ты убеждаешь сама себя, как и все дети, что твои игрушки, твоя одежда, твой дом по праву тебе принадлежат. Наш мозг автоматически отождествляет наличие собственности и право собственности. Такова психологическая основа, на которой и держится идеологическое убеждение, что властители и имущие (обычно это одни и те же люди) «по праву», «достойно» и «заслуженно» имеют много, а остальные столь же законно имеют мало.
Не надо считать всех нас злонамеренными. Просто мы слишком легкомысленно убеждаем самих себя, что существующее распределение благ, особенно если мы от него не слишком пострадали, «логично», «естественно» и «справедливо». Когда ты чувствуешь, что в тебе бродят такие мысли, вспомни, что мы говорили в начале: все дети рождаются равными, но одним предначертано одеваться в дорогие одежды, а другие осуждены на голод, эксплуатацию и нищету. Ты никогда душой не примешь такого положения дел, никогда не скажешь, что это «логично», «естественно» и «справедливо».
Глава 2 Цена вместо ценности
Два вида достояния
На Эгине вечереет. Середина лета. Ты сидишь на веранде и наблюдаешь, как пламенеющее солнце погружается в море. Если я подойду к тебе и начну излагать, что мне на ум взбрело, ты рассердишься, что я испортил тебе лучшую минуту жизни.
Другим летним вечером, в Марафоне, мы ужинаем компанией. Твой друг Парис привлек всеобщее внимание. Он рассказывает анекдоты, и все мы смеемся, даже ты, хотя тебя рассмешить не так просто. Вдруг капитан Костас, причаливший со своим рыболовецким судном недалеко от таверны, просит о помощи. Якорь ушел на глубину, и цепь порвалась от большого напряжения. «Прошу тебя, – обратился он к тебе, – так как ты умеешь нырять, можешь сейчас нырнуть и продеть эту веревку через скобу якоря? Я бы нырнул, но у меня ревматизм, спина болит». «Да, конечно», – говоришь ты, чтобы не упустить шанса стать героиней дня; и у всех на виду ныряешь в море.
Итак, ты помнишь закат, ты помнишь шутки Париса, ты помнишь свою радость, после того как нырнула, чтобы помочь капитану Костасу. Три вещи были прекрасными, были добром, были благом. Но они не были товаром.
В чем различие между благом и товаром? Товары – это блага (например, твой iPad), но блага – не обязательно товары. Товары – это блага, которые производятся на продажу. Закат на Эгине, анекдоты Париса и ныряние ради капитана Костаса невозможно выставить на продажу.
Не знаю, обращала ли ты на это внимание, но в обществе, в котором мы живем, все чаще смешивают блага с товарами. Чем дороже какой-то товар, тем более желанным он становится. Конечно, с товарами это так, потому что благодаря этому поддерживается производство: чем больше мы готовы заплатить за iPad, тем больше этих устройств готова производить фирма Apple. Но об анекдотах Париса мы так никогда не скажем. Если мы предложим заплатить Парису, чтобы он рассказал побольше анекдотов, это будет выглядеть странно. Скорее всего, как только мы ему заплатим, он начнет рассказывать их совсем не смешно. То же самое, если бы капитан Костас решил заплатить тебе за ныряние: твой подвиг сразу бы обесценился, ты не почувствовала достоинство смелости, азарт приключения, свободу нырнуть просто так, по дружбе.
Если Парис, когда вырастет, станет профессиональным комиком, а ты решишь выучиться на профессиональную ныряльщицу, тогда анекдоты и ныряния станут товарами. Вы будете их продавать за деньги: они приобретут рыночную стоимость. Цена товара соответствует меновой стоимости блага, выставленного на продажу; другими словами, соответствует ценности тех вещей, которые ты могла бы приобрести, предложив какому-то покупателю анекдоты или ныряния.
Но жизненная ценность ныряния, заката и анекдота – совсем другое. Все три вещи могут иметь огромную жизненную ценность и не иметь меновой ценности, меновой стоимости – закат ты не продашь. И напротив, можно рассказывать анекдоты без всякого удовольствия (особенно со сцены) и получать за это большие деньги.
Итак, две ценности, жизненная и меновая, – совсем разные. Но зачастую в современном обществе признаются только меновые ценности. Что не имеет цены, что нельзя выгодно продать, то считается лишенным значения. И наоборот, в наших обществах ошибочно считают, что если какое-то благо стоит дорого, если его меновая стоимость большая, то тогда это благо и полезнее всего для общества. Если мы говорим об iPad, то он очень полезен. Но не всякое благо имеет цену.
Рынок крови
Во многих странах кровь сдают бесплатно: доноры-добровольцы считают своим долгом помочь собратьям, жизнь которых в опасности. В других странах доноры получают плату за сданную кровь. Где, как ты думаешь, больше сдается крови? Где доноры получают плату за то великое благо, которое они жертвуют, или где не получают платы?
Думаю, ты угадала правильный ответ. Давно отмечено, что в тех странах, где доноры получают деньги за сданную кровь, собирают крови гораздо меньше, чем в странах, где кровь сдают добровольно и бесплатно. Плата отвращает многих из тех, кто хотел бы сдавать кровь добровольно, по порыву души, а не ради собственной пользы; а привлекает плата не многих.
Те, кто смешивает понятие блага с понятием выгоды, не могут понять, что сдача крови уменьшается, когда донорам начинают платить. Они спрашивают, почему же это доноры отказываются сдавать кровь, когда им собираются заплатить. Они не понимают, что жизненные ценности перестают что-то значить, если их оценивают выгодой!
Сейчас для тебя это уже просто: ты вспоминаешь, как нырнула по просьбе капитана Костаса. Он просто тебя попросил вечером нырнуть, чтобы помочь с якорем, и радость от вклада в общее дело и чувство, что ты поступаешь хорошо и «героически», пересилили страх перед темнеющим морем и неприятное ощущение, когда соль оседает на волосах. Вполне вероятно, что если бы он сказал: «Вот тебе пять евро, чтобы ты нырнула», ты бы не стала это делать. Подсознательно тебе бы не понравилось, что твой вклад, твой героизм и твоя радость стоят всего лишь пять евро. Ты бы даже сочла, что этих денег недостаточно, в сравнении с тем, что ты можешь наглотаться соленой воды, а потом будешь сохнуть. А вот твою безвозмездную радость, что ты нырнула, чтобы с удовольствием помочь капитану Костасу, уже ни на что не променять.
То же самое действительно и для донорства. Многие доноры радуются уже тому, что сдают кровь безвозмездно. Когда им предлагают за это деньги, они уже как бы не вносят свой вклад в общее дело, а получают частное возмещение, что разрушает радость от соучастия в общем деле. А для них радость важнее, чем трата времени и сил при сдаче крови и боль от донорской иглы.
Если мы проанализируем, что произошло в двух случаях, в случае ныряния по просьбе капитана Костоса и в случае сдачи крови, получится, что, когда меновая стоимость блага поднялась с нуля до некоторой положительной отметки, его жизненная ценность стремительно упала. В результате никто не хочет делать за плату то, что с удовольствием делал даром!
Оскар Уайльд определил циника как человека, который всему знает цену, но не знает ценности чего-либо. Наше общество в таком случае становится с каждым годом все более циничным. И нет никого циничнее того экономиста, который скажет, что нет никакой ценности кроме меновой и что мол жизненные ценности не востребованы в современном обществе, которое обо всем судит по рыночной стоимости. Но каким образом меновая ценность взяла верх над жизненной?
Экономия или экономика?
Представь такую сцену: мы празднуем Пасху. Весь день мы едим праздничные блюда. Мы, старшие, два дня трудились, чтобы приготовить еду, привести дом в порядок и накрыть на стол. Вечером я прошу тебя немного прибрать в доме. А ты уставшая, говоришь: «Сколько тебе заплатить, папа, чтобы мне не мучиться? Хочешь, я разобью копилку и заплачу тебе?» Как, ты думаешь, я это восприму? Вряд ли ты придумаешь, чем заплатить, чтобы смягчить мой гнев.
В семье или в команде каждый делает работу за другого. Это тоже можно назвать обменом, в некотором смысле, но это не торговый обмен. Когда мы помогаем друг другу поддерживать порядок в доме, такой обмен помощью больше всего напоминает обмен дарами, гостеприимство, а не рынок. На рынке обмен товарами и услугами идет безлично, на основании только меновой стоимости.
Но многие блага производятся и сейчас вне оборота торговых сделок, напоминая, скорее, то, как ведет дела семья, напоминая порядок в доме. От греческих слов экос (дом) и номос (закон) и происходят слова экономия и экономика. Семья земледельцев производила сама и хлеб, и сыр, и сласти, и мясо, и одежду. В благополучные времена, когда удавалось произвести больше необходимого, можно было обменять излишки (плоды или зерно, которые самим не съесть) на продукты других производителей, которые самим изготовить не получается, например зерно на топоры, а помидоры на абрикосы. В тощие годы, когда следует затянуть пояса и терпеть лишения, торговый обмен сходил на нет – ведь не оказывалось тех излишков, которые можно было бы обменять на другие продукты.
За последние два или три века наши общества совершили большой скачок. Все больше созданные нами продукты превращаются в товары, и все меньше мы производим что-либо для собственного пользования, для нашей собственной жизни или выживания. Загляни в шкаф на кухне, и ты увидишь, сколько продуктов там, произведенных ради их меновой стоимости – мы бы всей нашей семьей никогда не смогли бы их все сделать.
Такое превращение всего в рынок, победное торжество меновой ценности над житейской ценностью, развернулось прямо у нас на кухне. Когда-то земледельцы сами производили для себя весь материал: корм для скота, дрова или семена. Сейчас они все это закупают по большей части у международных компаний, располагающих необходимыми технологиями: новейшие корма позволяют коровам быстрее расти и набирать вес, дрова давно уступили место продуктам переработки полезных ископаемых, а семена прошли такой отбор, что теперь они устойчивы к жаре, холоду и химическим ядам против насекомых, которые, кстати, производят те же самые международные компании. Все эти компании заказывают научные исследования и после получают исключительное право на результаты исследований. Они охраняют свои права собственности на те виды семян, которые производят. Итак, рынок теперь проник и в микромир, и молекулы наследственности тоже получили меновую стоимость.
Постепенно все превращается в рынок: компании покупают и продают друг другу новые виды зерна и даже новые виды скота. Женская утроба получила меновую стоимость: по закону женщина может сдать ее в аренду, став суррогатной матерью, и в ней человеком станет эмбрион, зачатый в лабораторной пробирке. Скоро начнут торговать и космическими телами, и всемогущая власть рынка распространится на всю Вселенную: меновую стоимость получит все, от элементарных частиц до галактик.
Итак, ты видишь, что в наши дни экономика никак не связана с законами дома? Поэтому лучше было бы называть ее агораномикой, то есть рынкономикой, если бы это слово не имело в греческом языке другого значения: государственного контроля над качеством продуктов на рынке.
Мир, не подчиняющийся рынку
У Гомера, как ты знаешь, герои Троянской войны сражались, проливали кровь и отдавали жизнь ради таких благ, как слава, добыча (трофеи), блеск, благоволение Агамемнона и т. д. Ахилл, как рассказывает нам Гомер, оскорбленный решением Агамемнона отнять у него трофей, женщину, которую он считал своей священной добычей, перестал участвовать в войне. Хотя Агамемнон прекрасно понимал, что на войне он не сможет обойтись без помощи Ахилла, ему бы и в голову не пришло предложить компромиссное решение, например заплатить деньги взамен отнятой добычи. Если бы он предложил выкуп, Ахилл бы почувствовал себя еще более оскорбленным.
Не только древнегреческие поэты отождествляли действительные блага с купеческими товарами, называя все это добром. Овидий (римский поэт, желавший быть продолжателем Гомера) рассказывает о споре Аякса и Одиссея из-за доспехов погибшего Ахилла – доспехов исключительного качества, созданных лично Гефестом по просьбе матери Ахилла. Согласно Овидию, греческие военачальники решили послушать о деяниях претендентов и потом решить, кто более достоин носить доспехи погибшего полубога. Деяния хитроумного строителя Троянского коня оказались важнее деяний неустрашимого воина.
Насколько это непохоже на то, что мы наблюдаем сейчас! Наверное, сейчас доспехи достались бы тому, кто предложил бы за них большую цену.
Но почему мы не можем представить, чтобы доспехи были выставлены на продажу? Потому что эти доспехи интересовали Аякса, Одиссея и любого греческого военачальника не своей меновой стоимостью (они же не собирались их дальше продавать) и не простой утилитарной ценностью (они не собирались их использовать в бою). Они обладали для них огромной ценностью в смысле достоинства, в смысле святыни. Эта ценность была чисто символической, то есть жизненной.
Действительно, в древние времена только меньшая часть продуктов выходила на рынок. Конечно, это не значит, что в древности, в Средние века или в европейских колониях не было купцов, торговли, а значит, меновой стоимости. Все это еще как было. Древние финикийцы, греки, египтяне, китайцы, меланезийцы и другие преодолевали тысячи километров, рисковали жизнью, чтобы доставить разные товары с одного края земли на другой, и тем самым обращали в свою пользу разницу в меновой стоимости. Все общества с самого начала обзаводились своими рынками.
Все началось, как мы говорили в начале, с того момента, как один человек сказал другому: «Дай мне одно яблоко, а я дам тебе один апельсин». Но это еще не было рыночное общество. Иначе говоря, оно не руководствовалось правилами рынка, как это происходит сейчас. Это было общество, познакомившееся с рынком. Чтобы понять различие между рыночным обществом и обществом, в котором есть рынок, достаточно задать два вопроса:
Первый вопрос: Чем объясняется успех испанских торговцев в Латинской Америке и британских и голландских торговцев веком позже на Дальнем Востоке?
Второй вопрос: Чем объясняется успех японской автомобильной промышленности в США в 1970-е годы и позднее?
На первый вопрос легко ответить, приняв во внимание вооружение испанского флота и громадное военное превосходство конкистадоров (испанских завоевателей) над майя и другими жителями Америк.
То же самое можно сказать и о британском и голландском господстве на Дальнем Востоке: торговцы действовали при полной поддержке военного флота в Индийском и Тихом океанах. Итак, на первый вопрос мы ответили.
Но на второй вопрос уже нельзя дать ответ, просто указав на военную мощь и на военно-морские силы. Нам придется рассуждать только в экономических терминах, которые позволят понять устройство японской промышленности, возможность увеличить производство без увеличения расходов, высокое качество произведенных автомобилей, технические характеристики и т. д.
Проще говоря, господство европейских торговцев на Дальнем Востоке и в Америке до XIX века не требует экономического анализа для объяснения: по той простой причине, что тогда еще экономика не подчинилась логике рынка, не возникло рыночное общество, а просто рынок был частью экономики. А современные общества – рыночные общества, и единственный способ их понять – понять экономические законы, по которым они существуют. Но такими общества стали только в последние века, а никогда раньше такими они не были.
Сейчас надо ответить на вопрос: как и почему из общества, имеющего в своем составе рынок, возникает рыночное общество? Что при этом происходит с самим обществом?
Как возникло рыночное общество?
Для производства любого продукта требуется соблюдение трех условий: нужен человеческий труд, нужны инструменты или какие-либо механизмы и нужна, наконец, земля или какой-то землеотвод (это может быть канал или комната в офисе), чтобы было где что-то производить. Еще раз повторим, для производства нужны Труд, Средства Производства (их часто называют просто: Капиталом) и Земля.
В древних обществах ни одно из этих «условий производства» не было товаром. Оно было благом, «добром», «наградой», но не товаром. При феодализме крестьяне работали в поле до изнеможения, но они не продавали свой труд феодалу и не одалживали свой труд. Просто феодал забирал у них, применяя насилие, большую часть собранного ими. Также и мастерские, производившие средства производства, не продавали свой труд и свою продукцию: они обменивали продукцию на урожай крестьян, тем самым оказываясь в зависимости от того же феодала. Эта экономика больше всего напоминает питание в складчину, когда каждый приносит что-то на стол. Землю тоже нельзя было продавать: землевладельцу она досталась от предков, и ему бы даже не пришло в голову продавать наследие предков, а крестьяне работали на земле хозяина, и приобретать землю им было не на что и не у кого.
Рыночные общества возникают тогда, когда все три условия производства получают рыночную цену. Как мы говорим, они приобретают меновую стоимость! Все начинает покупаться и продаваться свободно: работники ищут работу на «рынке труда», ремесленники продают изготовленные ими инструменты на рынках продажи средств производства, наконец, земля получает меновую стоимость в ходе продажи и аренды.
Как же все три условия производства превратились в товар? Что именно дала нам та промышленная революция, которая началась в середине XVIII века в Британии и в Голландии, изменив весь мир и превратив всю планету в глобальное рыночное общество?
Ты понимаешь, что это очень долгая история, и, если я буду рассказывать ее во всех подробностях, мы устанем. В общих чертах, все началось с развития мореходства в Европе, появления компаса (который изобрели китайцы) и общего прогресса в технике навигации. Все это помогло европейским морякам открыть новые маршруты, охватившие весь мир. Испанцы, голландцы, британцы и португальцы грузили на корабли шерсть из Англии и Шотландии и выменивали ее в Китае на китайский шелк, а его могли выменивать на японские мечи в Йокогаме и затем отправиться в Бомбей и обменять мечи на специи, привезти специи и обменять их в Европе на гораздо большее количество шерсти, чем было в начале. И вновь, уже на бо́льших кораблях с бо́льшим числом шерсти, отправиться тем же путем.
Итак, различные продукты: шерсть, шелк, стальные мечи, специи – превратились в товары, имеющие международную стоимость: в товары, стоимость производства которых все больше отстает от меновой стоимости. Торговец или производитель быстро богатеет, когда продает товары на новом рынке.
В какой-то момент землевладельцы Англии и Шотландии, посмотрев на толпы крестьян у ворот своих замков, решили, что стоит лучше употребить новые возможности, предоставленные международной торговлей, чтобы еще больше разбогатеть. «Зачем нам столько крестьян, растящих лук и свеклу? Разве продашь на международном рынке свеклу? Конечно, нет!»
Они подумали, что шерсть гораздо ценнее и поэтому лучше заменить грядки крестьян на пастбища для овец: овцы и послушнее, и дают больший доход! Что и было сделано. В Англии была совершена одна из наиболее жестоких трансформаций общества, этот процесс затем назвали огораживанием. За несколько десятилетий вид Британии изменился полностью. Был совершенно разрушен мир крестьян, которые веками жили благополучно на одном месте, под властью одного и того же феодала, как жили их далекие предки, и этот спокойный порядок казался непреложным.
Как только в ускоренном порядке феодалы выкинули крестьян на улицу, заменив их овцами, Британия сразу стала превращаться из общества, имеющего свой рынок, в рыночное общество. Почему? Прежде всего, изгнание крестьян превратило и труд, и землю в товар! Представь, что бы мы делали, если бы тогда нас вдруг взяли и выкинули на проселочную дорогу? Мы бы пошли в ближайшее селение, постучались в первую дверь и сказали: «Мы готовы выполнять любую работу за кусок хлеба и крышу над головой». Это и есть первый шаг к регулярной оплачиваемой работе.
Так и происходило. Бывшие крестьяне бродили по большим и малым дорогам и предлагали всем единственный товар, который у них был: рабочую силу. В отличие от своих отцов и дедов, которые работали, но не получали оплаты за свой труд (хотя им давали землю и орудия труда), бывшие крестьяне были вынуждены торговать трудом, своим собственным трудом. Трагедия состояла в том, что многие десятилетия, пока рыночное общество не встало на ноги, на этом новом рынке предложение тысячекратно превышало спрос. До создания предприятий ни один купец не смог бы нанять такие большие толпы работников; из-за чего они голодали, болели и бродяжничали.
Теперь посмотрим, как земля стала товаром. Как только крестьяне были изгнаны с земли, сразу же земля была выставлена на рынок. Землевладельцы, променявшие крестьян на овец, поняли, что земля имеет меновую стоимость, а не только полезность и жизненную ценность и что меновая стоимость, хоть и опосредованно, но очевидным образом определяется на международном рынке. Чем больше растет меновая стоимость шерсти на мировых рынках, тем больше стоимость и гектара земли, способного вместить определенное количество овец. Но чем гуще трава растет на этом участке, тем больше овец может на нем пастись, а значит, тем больше шерсти может быть на нем произведено. Так меновая стоимость шерсти создала и меновую стоимость земли!
И вот как-то раз один лорд, у которого были необработанные поля, получил стимул сдать их в аренду некоторым бывшим крестьянам, за плату. Эти бывшие крестьяне, а теперь работники, были вынуждены продавать шерсть на рынке и из доходов платить за аренду.
Заметь, что крестьяне превратились в торговцев в тот самый момент, когда земля их предков стала товаром. До того как их согнали с земли, сохранялся феодальный порядок. Крестьяне принадлежали земле, а земля принадлежала господину. Крестьяне работали на земле, а господин получал оброк. В таком производственном процессе не было ничего рыночного. Продукция крестьян, сама земля и их труд имели лишь жизненную ценность, и все это делили крестьяне с феодалом в зависимости от того, насколько милостив или жесток был последний к первым.
После изгнания крестьян с земли все изменилось, и большинство населения было вынуждено отправиться на рынок. По большей части крестьяне устремились на рынок труда, предлагая всем собственный труд. Некоторые крестьяне продолжили работать на земле феодалов, но в совершенно другом качестве: как арендаторы, – и бремя арендной платы зависело от стоимости шерсти на мировом рынке. Если их родители заботились лишь о том, чтобы господин не забрал у них слишком много, чтобы они не голодали зимой, новые арендаторы переживали о совсем другом: «Сможем ли мы продать шерсть на рынке и достаточно заработать, чтобы заплатить хозяину арендную плату и купить хотя бы кукурузу на прокорм детей?» Иными словами, они волновались о меновой стоимости своего труда, думая о том, сколько им придется затратить усилий во время работы, а значит, о меновой стоимости шерсти, которую они производили как арендаторы земли.
Фабрики: мрачные мастерские истории
Итак, Британия стремительно превращалась из общества, имеющего рынок, в рыночное общество. Переход завершился во второй половине XVIII века, когда над городами и селами нависли мрачные бесчеловечные здания, с высокими трубами, день и ночь извергающими черный дым. В цехах этих заводов неустанно работали паровые машины, изобретенные шотландцем Джеймсом Уаттом.
Ты меня спросишь: почему это все было в Британии? Почему одновременно промышленные революции не произошли во Франции или в Китае? Было две основных причины. Во-первых, в Британии вся земля перешла в руки немногих землевладельцев. Во-вторых, у этих землевладельцев не было сколь-либо заметной военной силы, в отличие от других стран Европы или Китая, где феодалы располагали большими собственными армиями. Не имея в своем распоряжении военной силы, они были вынуждены искать другие способы увеличения своего богатства, кроме грубого военного вторжения и грабежа. Когда мореходы открыли пути всемирной торговли, британские землевладельцы получили возможность богатеть, увеличивая производство товаров, востребованных во всех странах. Так как земля находилась в руках немногих феодалов, массово согнать крестьян с земли (что и послужило толчком к созданию первого рыночного общества) удалось без особого труда – ведь для этого не нужно было добиваться согласия многих, а хватило молчаливого одобрения немногих.
Представим тогдашнюю Британию. Это огромный котел, в котором варятся сотни тысяч оставшихся без земли безработных. И там же множится золото в лондонских банках, горы которого приносит международная торговля и британские колонии (особенно Карибы, где рабы из Африки обрабатывают земли британских хозяев). Теперь прибавь к этому паровую машину, которую изобрел господин Уатт. Соедини все это вместе, и что у нас получается? У нас получается фабрика!
Бывшие крестьяне и их потомки находят работу (впервые в истории!) как промышленные рабочие. Но промышленность потребовала новых паровых механизмов.
А как возникла идея фабрики? Кто придумал, что нужно строить фабрики? Купцы и некоторые аристократы заметили, что отдельные товары очень востребованы на международном рынке: шерстяные изделия, одежда, металлические вещи. Они поняли, что, если научатся производить это быстро и с наименьшими затратами, они еще больше разбогатеют. Они видели толпы безработных бывших крестьян, готовых вкалывать за кусок хлеба, и сначала их труд считали самым дешевым. Но вдруг они услышали, что некий господин Уатт изобрел машину, способную заменить тысячи работников. Вот и все! Возникновение фабрик было вопросом времени.
Великое противоречие
Триумф ценностей торговли над ценностями производства изменил весь мир. И к лучшему, и к худшему – одновременно!
С одной стороны, продажа всех продуктов земли и ремесел на рынке положила конец рабской привязанности к месту, немыслимым суевериям, мракобесию и слепому доверию. Возникла идея свободы, стала реальностью перспектива отмены рабства, а техника предвещала производство множества благ для всех людей.
С другой стороны, она стала бедствием в череде последующих бедствий: возникли новые формы совершенной нищеты, новые виды действительного рабства. В рыночном обществе бывшие крестьяне, лишенные возможности обрабатывать землю и оставшиеся без всего, превратились либо в промышленных рабочих, либо в новых арендаторов земли у землевладельцев. В обоих случаях они стали свободными работниками, в том смысле, что их никто, как при феодализме, не заставлял работать. Они сами выбирали, работать им или умирать с голоду, и были освобождены и от внешнего принуждения, и от любых средств производства – они в буквальном смысле все оказались на улице. Они могли в любой момент уйти с работы, если только абсолютная нищета и отсутствие крыши над головой могло им чем-то помочь – ведь земли и дома у них не было. Продавая свое тело и ум, они приобрели товарный вид на рынке труда, который, в свою очередь, стал зависеть от всемирного спроса и всемирного предложения произведенных товаров.
Те из них, кто нашел себе работу, трудились по 14 часов в сутки в удушливых цехах Манчестера или на рытье каналов в Уэльсе. Газеты того времени сообщали о десятилетних детях в Англии и Шотландии, день и ночь стоявших за станками, не имея разрешения отойти. Беременные женщины трудились на рытье каналов в Корнуолле и иногда вынуждены были рожать сами, без всякой помощи, прямо на дне лодки. В это же время в колониях, например на Ямайке, но также и на севере США, производство в основном опиралось на труд рабов, которых европейские работорговцы захватили в Африке, и лишив родины, продали по меновой стоимости.
Такого никогда прежде не было в человеческой истории. Может быть, в начале бытия человечества мир тоже был един (как ты знаешь, мы все вышли из Африки). Но промышленная революция объединила мир и при этом создала великое противоречие: в одном мире рядом существуют баснословное богатство и кричащая бедность. Неравенство, созданное аграрной революцией, о котором мы говорили в предыдущей главе, меркнет перед неравенством, произведенным промышленной революцией, триумфом цен и ценностей над достоинством.
Глава 3 Долг, выгода, богатство
Долг
«Ад там, где я». Так говорит Мефистофель в знаменитой пьесе Кристофера Марло «Доктор Фауст». Являясь в темном серном облаке, Мефистофель приносит с собой ад повсюду. «Ношу с собой то место, в котором нахожусь», объясняет он Фаусту, и мы понимаем, почему Фауст проваливается в ад прямо в момент произнесения этих слов.
Ты еще не читала историю продажи души Фаустом Мефистофелю. Это история для взрослых, не для твоего возраста. Но не потому, что она слишком страшная: сказки братьев Гримм гораздо страшнее. Просто эта история не подходит для детей, потому что они еще не понимают главного в этой истории: что такое экономический долг.
Что происходит в пьесе Марло? Мефистофель подкупает доктора Фауста выгодным предложением. Он будет ему двадцать лет доставлять множество удовольствий, при условии, что Фауст через двадцать лет обещает отдать ему душу. Фауст поразмышлял и решил, что двадцати лет счастья ему хватит, а потом Мефистофель пусть делает с его душой что хочет. Итак, Фауст согласился на условия Мефистофеля. Посланник ада улыбнулся и потребовал подписать договор, который символически очень значим: поэтому Фауст должен подписать его не чернилами, а кровью.
Если мы посмотрим на этот договор спокойно и трезво, это была долговая расписка: Мефистофель дал Фаусту в долг под большой процент. Вот что было сказано в договоре: «Получаю от тебя двадцать лет счастья и обещаю, что, когда накопится долг, ты возьмешь мою душу».
Люди издавна брали в долг. Сосед мог прийти за помощью к другому соседу и, получив помощь, говорил: «Я твой должник». Они оба знали, без всякого договора, что если давший помощь в будущем окажется в нужде, тогда получивший от него добро поможет ему, «исполнив свой нравственный долг». Но есть два различия между нравственным долгом и экономическим долгом, каким мы его знаем: во-первых, появился договор, во-вторых, появились проценты.
Договор превратил неопределенную договоренность (вроде «ты мне поможешь сегодня, а я помогу тебе завтра») в определенные обязательства, в которых все оговорено в форме меновой стоимости, выраженной деньгами. Обозначение процента означает, что тот, кто дает в долг сегодня, получит большую цену завтра. Другими словами, если раньше, при взаимопомощи, стимулом было чувство того, что делается все правильно (я тебе помогаю, как ты помогаешь мне), то в случае долга под процент и договора стимул – меновая прибавочная стоимость: ты отдашь мне завтра больше в меновой стоимости, чем я тебе даю сегодня. Или, говоря иначе, вспоминая предыдущую главу, при взаимопомощи значима только жизненная ценность вещей. А когда ты даешь в долг на условиях рыночного общества, где торжествует меновая стоимость, возникает процент как выражение меновой стоимости.
История Фауста и его долга перед Мефистофелем так важна, потому что она отразила нравственные муки людей, когда привычное им общество превратилось в рыночное общество. Марло написал свою пьесу в начале XVI века, как раз тогда, когда постепенно меновая стоимость стала брать верх над жизненной ценностью. Вот почему я и повторяю, что история Фауста и Мефистофеля – не для детей. Это история, которая сообщает о самых тяжелых моментах большой истории человечества.
Наверное, ты слышала, что в исламе запрещено давать в долг под процент. Мусульмане считают недопустимым обогащаться за счет другого, пользуясь чужими процентами. То же самое думали и в христианском мире, когда Марло писал пьесу. Христиане, как и мусульмане, и в наши дни считают большим грехом ссужать деньги под процент. Существует немало церковных книг, в которых дача денег в рост называется одним из грехов («ростовщичество» от слова «рост») во чреве того змея, который и увлек Адама и Еву ко греху. Неслучайно, что возникавшие тогда, в начале XVI века, банки принадлежали евреям – их религия, в отличие от христианства и ислама, напрямую не запрещала давать деньги в рост.
Конечно, переход от общества, в котором есть рынок, к рыночному обществу, потребовал пересмотра этой идеологической строгости и отмены законодательного запрета на проценты. Процент утвердился, как только землю и труд стали продавать, о чем мы и говорили в предыдущей главе. Так произошел окончательный переворот в человеческих отношениях.
Огромную роль в этом перевороте сыграли протестанты, отколовшиеся от Католической церкви и усвоившие умонастроение купцов. Где допустима постоянная прибыль, там допустим постоянный процент. Католики и протестанты воевали более ста лет подряд по всей Европе, из чего нам сразу понятно, что общественные изменения оплачиваются большой кровью.
Если мы вернемся к истории Фауста, сразу заметим, что сейчас очень редко читают и ставят в театрах версию Марло, но обязательно читают и ставят более новую версию, созданную уже в XIX веке немецким писателем Гёте. Обрати внимание, чем прежде всего различаются эти две версии. В первой из них, версии Марло, по прошествии двадцати лет, Фауст всячески умоляет Мефистофеля освободить его от обязательств по договору и не увлекать за собой в ад. Мефистофель не слушает его и сразу забирает в ад. А в версии Гёте в конце концов Фауст спасается от ада.
Сейчас я тебе объясню, откуда такая разница двух финалов. В эпоху, когда писал Марло, ссуда под проценты считалась большим грехом. Театральные зрители требовали возмездия для Фауста, потому что он без колебаний взял долг у Мефистофеля под самый огромный процент, за цену собственной души, ради всего лишь двадцати лет счастья. А во времена Гёте все изменилось. Ценность сделки стала важнее ценности вещи. Процент превратился в процент прибыли, одобряемый нравственно и политически. Прибыль теперь – законный доход от вложенных денег.
Итак, общество во времена Гёте гораздо снисходительнее относилось к Фаусту. Фауст был для него прямой противоположностью Эбенезера Скруджа, которого ты хорошо знаешь из «Рождественской истории» Чарльза Диккенса. Скрудж всю жизнь собирал и копил богатство, получал огромную прибыль, а на себя расходовал самую малость. В конце концов, после встречи во сне с призраками Рождества, он открыл сундуки и стал все раздавать, впервые в своей жизни узнав радость. Если подумать, Фауст делает прямо противоположное. Сначала он щедро тратит, чтобы вкушать радости жизни, и при этом готов по итогам на выплату ужасающего процента.
Кто из двух героев, Скрудж или Фауст, как ты думаешь, больше отвечает запросам рыночного общества, готового торжествовать во времена Гёте и уже восторжествовавшего во времена Диккенса? Конечно же, Фауст!
Почему? Потому что если бы мы все были как Скрудж, копили бы богатство и ничего не покупали, тогда бы рынки опустели, магазины закрылись, за ними закрылись заводы и рыночное общество впало бы в глубокий кризис.
Долг в рыночных обществах – то же, что ад в христианстве: столь же необходим, сколь и нежелателен.
Выгода
«Все делается для денег!» Ты часто слышишь эту поговорку, и, хотя она беспощадно циничная и выражает пессимистический до слез взгляд на человечество, в ней, как всегда, увы, есть доля истины. Но как бы горько ни было это признать, это так; и утешает лишь то, что не все, что делается для денег, делается только для денег.
Раньше обычно все делалось для власти, для славы, для памяти среди потомков (вспомни египетские пирамиды). Деньги были просто важным инструментом достижения иной цели. Поэтому нельзя было говорить, что все делается для денег. Денежный доход чаще был только одним из средств для неденежной цели. Заработок не был самоцелью, как сейчас.
Невозможно представить себе феодала, который бы думал, как бы подороже продать свой замок. Продажа замка была бы для него чем-то противоестественным, нарушением воли предков и великим грехом. Это называлось бесчестьем. И если феодал был вынужден продавать что-то из отцовского имущества, что бывало редко, он считал себя несчастным, жалким, доведенным до отчаяния, даже если он выручал при этом хорошие деньги. В наши дни можно продавать и покупать замки, картины, яхты, лишь бы цена устраивала.
Как произошла такая перемена? Как деньги превратились из средства в цель? Во всем виновато, как ты уже догадываешься, торжество меновой стоимости над жизненной ценностью. В прошлой главе мы говорили, как произошел переход от общества, имеющего рынок, к рыночному обществу.
Чтобы ты поняла новую роль денег, сперва расскажу тебе, как становление рыночного общества заставило по-новому понимать долг. Долг стал первоосновой любой заметной выгоды. Человек, например, начинает работать, тем самым дает свой труд в долг работодателю и думает только о том, чтобы получить за это выгодную оплату. Выгода становится его главной целью.
Вспомни, как три с лишним века назад земля и труд превратились в товары, что и стало первым толчком возникновения рыночных обществ. Именно тогда долг стал следовать бок о бок с выгодой.
Посмотрим на это еще раз. В эпоху феодализма последовательность производства излишков (а как мы говорили в первой главе, излишки и создали цивилизацию) была такая:
Производство → Распределение → Долг
Сначала крестьяне обрабатывали землю и выращивали необходимое для питания – это было производство. Затем их господин, феодал, отправлял своего представителя, чтобы тот забрал, даже насильно, если понадобится, полагающуюся ему как землевладельцу часть – таково было распределение излишка между феодалом и крестьянами. Наконец, феодал продавал часть припасов и на вырученные деньги мог заказать какие-то товары и услуги – и здесь уже был долг: он дает деньги, а ему оказывают услугу.
Но когда земля и труд оказались на рынке, все пошло наоборот: раньше излишки сначала производились, а потом распределялись, а теперь сначала происходит распределение, а потом под него подстраивается, его догоняет производство. Как это получилось?
Ты помнишь, что в Британии с земель согнали крестьян, а их место заняли… овцы. Бывшим крестьянам приходилось арендовать землю у хозяина, получать шерсть с овец, продавать ее и выплачивать арендную плату или также нанимать на эти деньги еще работников. Иначе говоря, эти немногие бывшие крестьяне организовали производство как малые предприниматели, которые сразу платят за аренду земли, нанимают как работников обездоленных крестьян и работают руками в расчете на будущую прибыль, которую тоже надо будет вкладывать.
Но чтобы запустить такое производство, эти начинающие малые предприниматели должны были найти деньги до того, как производство начнет приносить плоды, а именно шерсть, которую можно будет продать. Деньги нужны, чтобы взять в аренду землю и заплатить работникам. Ты видишь теперь, что распределение излишка было расписано еще до производства этого излишка! Уже понятно, за что и как будет заплачено, прежде чем производство запущено.
Но где этим малым предпринимателям взять деньги, чтобы заплатить за аренду земли и нанять работников? Конечно же, взять в долг! Например, им могут одолжить сами землевладельцы, но при условии, что они вернут с процентами. Землевладельцы готовы охотно одалживать, чем больше одолжили, тем больше им будут должны с процентами. Что из этого следует? Две вещи.
Прежде всего, это означает, что долг становится условием организации производства. Если раньше сначала нужно было что-то произвести, чтобы образовался долг, то теперь, наоборот, нужно взять в долг, чтобы что-то произвести. Раньше распределялось произведенное, теперь распределяется то, что только предстоит произвести.
Затем, выгода становится фетишем предпринимательства, фетишем всего капиталистического строя: люди идут на все ради выгоды. Ведь она – условие выживания для новых малых предпринимателей. Если их доходы упадут, когда цена на их продукцию снизится, вполне возможно, что они не смогут вернуть с процентами то, что взяли в долг. Тогда они станут рабами долга… как Фауст.
Богатство
Теперь ты поняла, что погоня за выгодой, о которой думает все общество, создана победой меновой ценности над жизненной ценностью. А эта победа обязана переворачиванию привычного порядка, когда долг и распределение стали предшествовать самому производству.
Та же самая история, под другим углом зрения, может быть рассказана так: современные рыночные общества обязаны своим существованием свободной продаже труда и земли. Это выставление всего на продажу началось с труда (как только крестьяне были согнаны с земли своих предков), но и с порядка пользования землей в сельских областях Британии. Чтобы заплатить арендную плату и приступить к работе, требовалось сначала… взять в долг у хозяина земли или ростовщика. Итак, именно долг, а не что-либо еще, породил стремление к выгоде как самоцель. Сперва стала продаваться земля, потом, чтобы покрыть долги, стал продаваться труд, и так возникло рыночное общество.
Ты спросишь: «Разве не всегда было так? Разве люди не всегда работали за деньги?» Нет, это не всегда было так. При феодализме был землевладелец и были крестьяне. Крестьяне работали сами по себе и получали не деньги, а излишки, остававшиеся у них до тех пор, пока землевладелец не заберет часть, которую счел своей. Они не получали платы. Они не могли продать урожай повыгоднее. И землевладелец не вкладывал никуда богатство, но копил его; и даже если поиздержался, не считал себя должником, но просто забирал у крестьян еще долю урожая. В таких обществах, просто включавших в себя рынок как часть, выгода не была самоцелью и долг не стоял во главе экономики.
Конечно, могущественные люди хотели иметь много богатства, но для них гораздо важнее было восхищение со стороны других феодалов, блеск и признание, придворные интриги, победы в больших и малых битвах. Если богатство и давало им блеск, то много больший блеск давали власть, слава и почет. Им даже мысль не могла прийти о том, чтобы все продать и обогатиться. Только рыночные общества смогли неразрывно связать долг, погоню за выгодой и обладание богатством.
Что выгода как доход дает богатство, все понимают. Доход – как вода из крана, наполняющая ванну. Объем воды в ванне дает понять, как образуется богатство. Чем больше воды вытекает из крана (доход), тем выше поднимается уровень воды в ванне (богатство).
Но это понятно, а труднее понять, что богатство в рыночных обществах подпитывается долгом. «Как это получается?» – спросишь ты меня. «Не доведет ли нас долг до гибели, как доктора Фауста?» Может быть, доведет. Но баснословные богатства, созданные за последние три века, обязаны долгу. Долг, как я уже тебе говорил, в рыночных обществах то же, что ад в христианстве: нежелателен, но необходим.
Как создавалось это большое богатство, сопровождавшееся большими несчастьями, благодаря новой роли долга? Аристократы былых времен не имели никакого стимула совершенствовать технологию, чтобы увеличивать производительность и извлекать большую прибыль. Они удерживали свое господствующее положение в силу политического влияния, в силу непреложных обычаев того времени и уже потом – в силу экономического успеха, в том смысле, что им была обеспечена доля крестьянского труда. В отличие от них, предприниматели даже не знали, выживут ли они; за ними не стояли ни политическое главенство, ни покровительство закона, ни власть обычаев. Они могли выжить только тем, что постоянно получали доход.
Чтобы всегда получать доход, они должны были не сходить с производственной сцены. А чтобы действовать на сцене, нужно было брать в долг, и только взяв в долг, они могли что-либо на этой сцене предпринять.
Чтобы скорее рассчитаться с долгами и выплатить наименьший процент, им нужно было побыстрее продать товар. Для этого они снижали цену на товар, чтобы покупатели шли к ним, а не к другим продавцам. А чтобы снизить цену на товар, они уменьшали расходы и платили своим наемным рабочим самую малость. Но этого было недостаточно для уменьшения издержек. Нужно было увеличивать производительность труда.
Увеличить производительность труда можно было только с помощью технологий. Так предприниматели и стали использовать такие изобретения, как паровая машина Джеймса Уатта, превратившая мастерские в фабрики. Но технологии тоже стоят денег. Чтобы их приобрести и внедрить, приходилось немало брать в долг.
Ты понимаешь теперь, как долг стал детонатором промышленной революции, которая оставила после себя горы богатства, а в их тени изнемогала немыслимая нищета, о которой мы говорили в предыдущей главе.
Глава 4 Кредит, кризис и государство
Временна́я граница
Купцы были во всех странах, а предприниматели – не во всех. Что это значит? Купец – это, например, владелец корабля, купивший у английского землевладельца шерсть и с риском для жизни доставивший ее в Индию, чтобы поменять на специи, которые он привезет обратно, в Англию, продав по десятикратной цене. Такой купец может быть кем угодно, лишь бы у него был корабль. А предприниматель арендует превращенную в товар землю, добавляет к ней превращенный в товар (наемный) труд и благодаря этому производит и продает товары. Это занятие появилось только там, где возникло рыночное общество.
И здесь самое интересное. Любой предприниматель действует как волшебник, способный преодолевать временну́ю границу!
Представь, ты сидишь прямо напротив тонкой пленки, свесившейся перед тобой и отделяющей настоящее от будущего. Ты едва можешь разглядеть будущее через эту мутную пленку, даже если это самое ближайшее будущее: потому что оно по ту сторону временно́й границы.
Предприниматель прямо подходит к этой пленке и резким движением протягивает руку. Сам он стоит в настоящем, но его рука уже в будущем. Он нащупывает ладонью меновую стоимость в будущем. И затем столь же резким движением возвращает руку назад, резко перенося меновую стоимость к нам, в настоящее, по эту сторону временно́й границы.
Меновая стоимость, которая еще не произведена, возвращается в настоящее; и предприниматель закладывает ее в процесс производства. Ведь выручку он получит, только когда произведет товар в будущем, а расчеты он должен произвести уже в настоящем. Он не может начать ничего производить, если перед этим не заглянет в будущее, где продается пока еще не произведенный товар.
Вот почему рыночное общество основано на долге! Чтобы получить прибыль в будущем, ты должен произвести вложения сейчас, отдать деньги в долг производству. Ты как волшебник, у которого вещи исчезают и потом вдруг появляются из ничего! Но в отличие от сказок, где добрые волшебники всегда побеждают злых, экономика – это страшная сказка. В ней злые волшебники начинают побеждать добрых, и эти злые волшебники называются банкирами.
Ты видишь, что наше сравнение с рукой, проходящей через пленку, не полное. На самом деле предприниматель не сам направляет руку, чтобы захватить цену будущего товара. Конечно, предприниматель хочет получить выгоду и думает о ней. Но гораздо раньше думает об этом банкир.
Ведь в самом деле, чтобы начать производство, предприниматель нуждается в том, чтобы его взял за руку банкир. Банкир – не столько человек, сколько организация: начинал он как ростовщик (человек, дающий деньги в долг под проценты) эпохи феодализма, а сейчас он всемогущий повелитель в рыночном обществе.
Какова рука банкира?
Банкир, в отличие от предпринимателя, не организует производство. Тогда что он делает? Почему он сосредоточил у себя в руках столько богатства? Многие ошибочно думают, что банкир – посредник между людьми, у которых много денег, и другими людьми, которые хотят взять в долг. Столь же ошибочно они думают, что его доход складывается из разницы в процентах, что процент по вкладам меньше процента по кредиту и что эта разница и составляет доход банка.
Когда-то было так – несколько веков назад. И сейчас банкир продолжает играть эту же роль; но в малой, очень малой степени. Как только рыночные общества достигли зрелости, основной задачей банкира перестало быть посредничество между вкладчиками и кредитуемыми. В развитых рыночных обществах банкир не должен занимать реально существующие ценности у одного, чтобы дать их в долг другому. Он черпает их из будущего, чтобы выдать их в настоящем.
Почему? Потому что для развития рыночного общества недостаточно имеющейся меновой стоимости. Нужно привлечь гораздо большие вливания, а для этого найти запасы ценностей. А где их взять? У банкиров. А где их возьмут банкиры? В будущем.
Поэтому банкир – это не рука, которая собирает уже полученную стоимость. Это рука, пересекающая временну́ю границу, захватывая ценности, еще не произведенные, из будущего и несущая их в настоящее. Эти ценности и даются в долг предпринимателю, он вкладывает их в производство и производит ценности, отдавая из них долг банкиру. Так банкир и может вернуть ценности, похищенные из будущего… в будущем, которое тем временем и наступает.
Поэтому я и называю банкира посредником между временами. Как будто бы он украл одну из машин времени Герберта Уэллса и путешествует на ней, зарабатывая деньги тем, что помогает предпринимателям будущего давать в долг предпринимателям настоящего (причем это могут быть одни и те же люди). Он оставляет себе процент с того, что получит в будущем и что создает в долг в настоящем. Эта сделка, осуществляющаяся через временную границу, и поддерживает равновесие экономических процессов, растягивающихся во времени.
Но почему я назвал банкиров злыми волшебниками? Потому что здесь возникает такой парадокс, превращающийся в главную проблему экономики.
Чем больше банкир обеспечивает успешных сделок, тем чаще эта «рука» тянется в будущее и тем больше ценностей забирает из будущего в настоящее. Доход банкира растет, и вот уже все настоящее целиком оказывается в долгах перед будущим. Но банкир не может остановиться, он должен обеспечивать деньгами все новые сделки, которых благодаря ему становится все больше, и все больше он забирает себе, все деньги оказываются у него, в его банке. Но в настоящем они ничем не обеспечены, они все взяты из будущего. И тогда наступает крах.
Крах
Итак, настоящее оказалось в долгах перед будущим, и уже не способно выплатить долги. Рука банкира не может производить новые расчеты: невозможно взять в долг у долга. Тогда и наступает крах, обнищание, банкротство. Гордая рука банкира опускается под гнетом возмездия.
Обойдемся сейчас без иносказаний и посмотрим, как все происходит на самом деле. Банкиры используют будущую меновую стоимость. Этот механизм устроен так, что делает крах неизбежным.
Скажем, Михалис изготавливает велосипеды и просит у банкира кредит в 500 тысяч евро, чтобы купить станок, позволяющий делать раму из карбона: она будет гораздо легче и прочнее. Вопрос: где банкир возьмет эти деньги, чтобы дать в долг Михалису?
Не торопись с ответом. Ты, наверное, хотела ответить: «Банкир даст ему в долг из своих денег или из денег, которые другие клиенты положили в его банк». Это неверный ответ. Правильный ответ такой: «Из воздуха, из ничего!»
Банкир выпишет Михалису кредит в 500 тысяч евро. Что это означает? Что когда Михалис поместит свою карту в банкомат, на экране появится надпись «Остаток 500 000 евро». Михаил заплатит с этой карты производителю станков, и тогда 500 тысяч евро поступит с его банковского счета на банковский счет производителя. В начале была только запись банкира, а в конце оказались получены реальные 500 тысяч евро!
Поистине, банки с такой легкостью производят деньги из ничего, что уму непостижимо, как сказал один известный экономист. Но из воздуха деньги не возникают. Когда я тебе говорю, что банкир создал волшебным образом из ничего, из простой записи, 500 тысяч евро, то я прибавляю то, что уже сказал выше: 500 тысяч евро он взял из будущего!
Так и устроен весь процесс: рука банкира проходит через пленку времени, пересекает временну́ю границу, берет стоимость еще не произведенную, переносит ее в настоящее и дает ее под проценты Михалису как предпринимателю. Все рассчитывают на то, что новые велосипеды Михалиса с карбоновой рамой будут иметь достаточную меновую стоимость, чтобы он из доходов с продаж мог выплатить кредит в 500 тысяч евро.
Итак, милостью банкира Михалис получил 500 тысяч евро из ничего, а точнее, из будущего. Банкир получит от этого непорочного зачатия процент: чем больше денег из будущего он выдаст таким как Михалис, тем бо́льшим будет его доход. Вот его уже ничего не сдерживает, он раздает кредиты направо и налево. Он наслаждается стабильным развитием, и ему кажется, что нет никаких границ. Он распишется и создаст сколько угодно денег. Но на самом деле он просто берет все больше меновой стоимости из будущего и переносит ее в настоящее.
В какой-то момент все предприниматели настоящего не могут произвести всех тех ценностей, которые они задолжали будущему. Ведь кредит берут не только такие как Михалис, производители полезных товаров. Некоторые берут кредит для спекуляций: например, они покупают недвижимость в надежде, что она вырастет в цене, они продадут ее дороже и тем самым получат прибавочную меновую стоимость, не вложив никакого труда в экономику.
И вот в один прекрасный день все предприниматели и все искатели выгоды уже не могут выплатить долги банкиру, который тогда уже не может рассчитывать на будущее, на него работающее. Они закрывают свои производства и магазины. Люди теряют работу. Цены на недвижимость падают и строительные фирмы разоряются. Те магазины и предприятия, которые выжили во время первой волны кризиса, все равно с каждым днем сокращают объемы продаж и, наконец, закрываются. На улице оказывается множество новых безработных.
Через некоторое время сами банки оказываются погребены под горой обязательств: ведь они выдали множество кредитов таким как Михалис, а все эти предприятия лопнули и вернуть деньги не могут. Вкладчики этих банков чувствуют, что с банком что-то неладно, и требуют свои деньги назад. Банкам неоткуда уже взять денег, все деньги они потратили на свои цели, и они закрываются. Когда люди слышат, что банки закрываются, начинается паника и крах становится всеобщим.
Ты понимаешь, что происходит? Пока сделки регулярно заключаются, все идет как надо. Такие как Михалис производят прекрасные велосипеды, завод, который продал Михалису станок, платит своим рабочим, эти рабочие покупают эти же велосипеды и другие блага, банки зарабатывают, ничего не производя, и рыночное общество развивается.
Но в сердцевине развивающейся экономики таится семя зла, кокон лукавства, колдовское зелье. Это банковская система, которая все разрушает, все наполняет страхом, всем несет беды. Временное равновесие приводит к неравновесию, устойчивость – к неустойчивости, развитие – к краху. И невидимая рука банкира стоит за этим немыслимым распространением зла.
Вспомни, что я тебе говорил, что долг необходим в рыночном обществе, что без долга не будет прибыли, а без прибыли не будет богатства? А сейчас я добавлю: те процессы, которые производят прибыль и богатство, производят и кризис и крах. Чем устойчивее процесс развития, тем сильнее стимул банкирам употребить свою черную магию.
Но банкиры сами не успевают заметить, как их чары рассеиваются, открывая нам вид на крах. Крах – не что иное, как внезапное нарушение привычного равновесия, когда настоящее вынуждено признаться будущему, что нечем отдавать долг.
Зачем рыночному обществу нужно государство
В момент краха, если рыночное общество остается без тормозов, оно проваливается в воронку разорения самого себя. Предприниматели не могут ничего предпринять, потому что разорены или на грани банкротства. Банки тоже разорены и на грани банкротства. Рынки опустели.
Простые люди затягивают пояса, сокращая все траты. Но так уменьшается спрос на товары, а значит, закрываются и другие предприятия, значит, сокращается потребление и рынки схлопываются – и все это приводит не просто к кризису, а к полному краху.
Но что делать, если экономика «теряет сознание»? С того момента, как идиоты довели ее до такого катастрофического состояния, действовать может только власть. Начиная с XIX века, когда в рыночных обществах дали знать о себе первые экономические кризисы, власть была вынуждена вмешиваться под давлением рассерженных граждан. Но как?
Сначала вмешательство государства было направлено на банковскую систему как корень зол. Как только начиналась паника и один банк лопался за другим, единственным способом остановить беду было вмешательство государства, которое, чтобы прекратить обвал, принуждало банки, которые хотели закрыться, продолжать работать. Но как может работать банк, если в нем нет денег? Государство одалживало ему денег. Остается вопрос: откуда государство за такое короткое время могло бы найти деньги для всех банков?
Чтобы иметь такую возможность, государство вынуждено было создать собственный банк. Этот банк, который называется Центральный банк, дает в долг нуждающимся банкирам. А откуда он берет деньги на это? Ниоткуда, буквально из воздуха!
Только в какой-то худший момент то же самое, что произошло с обычным коммерческим банком, который произвел из воздуха 500 тысяч евро в кредит велосипедному промышленнику Михалису (не забыла этот пример?), произойдет и с Центральным банком, который производит миллионы, а то и миллиарды для каждого коммерческого банка. Поэтому, чтобы такого не случилось, Центральный банк имеет монополию на печатание денег. Поэтому мы говорим о государственной монополии на выпуск денег: об исключительном праве государства печатать деньги и вводить их в оборот.
Государственная монополия на выпуск денег и сохранение Центрального банка как безотказного кредитора необходимы для того, чтобы удержать экономику от краха, не вызвать всеобщей паники, хоть как-то стабилизировать рыночную экономику. Но он не всегда справляется с этим своими силами. Тогда государство вынуждено принимать и другие меры, например замораживать вклады граждан на некоторое время, для их же блага, чтобы эти вклады не исчезли вместе с банками. Ведь без такого вмешательства стоит пройти слуху, что «не все гладко у нас в экономике», как вкладчики побегут в банки забирать свои деньги, в банках не окажется достаточно наличных денег, чтобы выдать всем, это только усилит панику вкладчиков, и наступит крах, а потом еще крах за крахом. Поэтому государство и вынуждено хотя бы частично замораживать вклады: иначе у нас будет не просто кризис, а нарастающий крах.
Часто ты слышишь, как говорят: «Все зло от государства». Что «если бы государство оставило нас всех в покое и не трогало бы наши вклады, всем было бы только лучше». Глупости. Государство только потому управляет вкладами и удерживает монополию на выпуск денег, что, если бы оно этого не делало и «оставило всех в покое», один крах следовал бы за другим.
Когда все вокруг рушится, тогда те же самые люди начинают требовать от государства, чтобы оно «что-то сделало». А как только кризис минует, они начинают требовать от государства регулировать деятельность банков, чтобы такого больше не повторилось.
Государство и банкиры: токсичные отношения
Итак, здесь есть противоречие. С одной стороны, государство должно гарантировать, что банки не лопнут, если начнется обвал экономики. С другой стороны, государство должно наложить некоторые ограничения на возможности руки банкира, чтобы не получалось, что взятие кредита из будущего дает больший доход, чем развитие производства в настоящем. Но эти две задачи друг с другом несовместимы.
Когда банкир знает, что государство придет ему на помощь в трудную минуту, ему нечего бояться – он дает кредиты кому угодно, зная, что за это ничего ему не будет. А когда государство налагает ограничения на банкиров, чтобы они уменьшили кредитование в благополучные времена и не доводили дело до краха, то тем сильнее становится стимул банкиров найти какие-то средства обхода этого регулирования, пусть даже в ущерб общему благу. А так как банкиры экономически очень влиятельны и могут определять решения политиков, принимающих государственные законы (ведь эти политики победили на выборах благодаря поддержке банкиров), то банкиры до самого конца не уступают своего.
По правилам государство должно спасать банки (ведь банки не должны закрываться, чтобы простые граждане не потеряли свои вклады и чтобы не была разрушена та система расчетов, на которой и держится вся экономика), но не банкиров. Оно должно отправить банкиров по домам, принять все оздоровительные меры по отношению к этим банкам и затем, если само государство не захочет владеть этими банками, продать их новым владельцам, которые будут знать, что весьма скоро разорят и потеряют свои банки, если будут неразумно раздавать во все стороны кредиты.
К сожалению, очень часто находящиеся у власти политики спасают банкиров на те деньги, которые государство отнимает у бедных граждан. В свою очередь, банкиры содержат на свои деньги целые команды побеждающих на выборах политиков, которые всегда их выручают. Получается слишком уж горячая дружба политиков и банкиров. Очень вредная для всего общества.
Ты понимаешь, что из-за того, что банкиры знают, что государство всегда встанет на их сторону, они становятся циничными и неосмотрительными. Уже после краха они могут начать вести себя осторожнее, но как только все уляжется после государственных мер, они вздохнут свободно и вновь начнут добывать горы денег, забирая все ценности из будущего и перенося их в настоящее, где их произвести не могли бы. Что мы с тобой говорили? Устойчивость порождает неустойчивость, а длительное равновесие мигом взрывается из-за безудержной решительности банкиров.
Драматический призрак долга
В нашем обществе нетрудно заметить удивительную вещь. В сытые годы предприниматели и банкиры выступают против государства, ругают, что оно «ставит палки в колеса прогресса», что оно «паразитирует на предприимчивых людях» и «грабит тех, кто работает», а именно собирает налоги. Они сопротивляются любому существенному вмешательству государства в экономику страны. Почему? По двум причинам.
Во-первых, они боятся, что государство наложит ограничение на ссуды частным лицам, которые выдают банки. Вспомни, что без ссуд частным лицам невозможен доход частных лиц.
Во-вторых, они не хотят делиться с государством ради общественных нужд, ради того, чтобы государство строило больницы и школы, развивало искусство и культуру, побеждало бедность и нищету. Они боятся платить налоги, потому что, как богатым, им придется платить больший налог.
Банковский крах или экономический кризис сразу меняет положение дел. Как только цепная реакция доводит банкиров до разорения, банкиры и предприниматели требуют от государства помощи. Они просят от государства денег для своего спасения; при этом не думая, где государство возьмет эти деньги.
Вот так они себя ведут. Они хотят, чтобы общество их выручало в трудную минуту, но как только дела у них поправляются, они забывают о своих обязанностях перед обществом. А самые смекалистые из них начинают еще теоретизировать, что, дескать, «не вполне понятно, что такое общество», а те, кто осмелеет, вообще говорят: «общества как отдельной реальности не существует».
Но кроме риторики сильных есть сама реальность. И реальность нам говорит, что государство необходимо, чтобы те же самые сильные частники (по-гречески идиоты) могли сосредоточивать в своих руках все больше богатства. Я тебе уже объяснил, что, если не государство, которое напечатает деньги и насытит ими пошатнувшиеся банки, рыночное общество рухнет. Но не только поэтому государственная власть необходима для дохода богачей и выживания рыночных обществ. Есть и другие причины.
Без государства ни один влиятельный частник просто не смог бы разбогатеть. Вспомним, как я тебе рассказывал о том, как в Британии было создано первое рыночное общество. Мы говорили, что современная экономика началась с того, что крестьян согнали с земли их предков. Как еще смогли бы это сделать землевладельцы без участия государства? Действительно, государство, парламент, помогли землевладельцам согнать крестьян, подавив недовольство последних силами вооруженных солдат. И как удавалось бы иначе поддерживать «общественное спокойствие», когда ничтожное меньшинство сограждан жило в небывалой роскоши, тогда как подавляющее большинство таких же англичан умирало от голода в трущобах Манчестера, Бирмингема и даже Лондона? Это подавляющее большинство боялось вооруженной полиции и государственной армии. Одним словом, без государственного насилия не может быть личной выгоды и рыночной экономики.
Но не только военную силу государство предоставляет даром успешным частникам. Оно также роет каналы, а без них невозможно было бы доставить продукцию полей и заводов на рынки рыночного общества. Оно строит мрачные приюты для старых и немощных, искалеченных и измученных болезнями, чтобы они не бродили по дороге, внушая чувство тревоги и отчаяния «хорошему обществу». Оно также строит больницы и проводит вакцинацию, останавливая эпидемии: и не будь вакцинации, промышленная революция не шла бы по планете такими темпами. Оно строит школы, где учат читать и писать будущих тружеников, чтобы те были грамотными, умели делать более сложные вещи, обладающие большей меновой стоимостью для их работодателей.
Все эти государственные «дары» обеспечивают устойчивость рыночному обществу и позволяют всем частникам, особенно самым влиятельным, богатеть. Богатство производится всем миром: в его производстве участвуют рабочие и изобретатели, государственные служащие и предприниматели. Но оно стекается в руки самых влиятельных частников, которые (1) убеждают всех, что богатство заслужили лишь они и (2) клянут «хищное» государство, которое якобы отнимает «их» богатство с помощью налогов.
Когда эти влиятельные люди начинают влиять на правительство (а то и контролировать правительство), налоги для них начинают снижать – но государственные расходы уменьшить нельзя! Богатые требуют от государства, чтобы оно обеспечивало им лучшие условия существования, а платить за это не намерены. А что до рабочих, то оплаты их труда едва хватает, чтобы прокормить себя и детей. Какие налоги с них можно собрать? Теперь ты видишь, что государство поэтому часто расходует больше, чем может собрать доходов. Так образуется особый вид долга: государственный долг.
На языке арифметики нехватка собранных налогов на все расходы государства называется дефицитом государственного бюджета. Если каждый год в бюджете государства нехватка одного евро, то за десять лет нехватка будет уже в 10 евро с процентами. А у кого государство может взять в долг? У частных предпринимателей и… банкиров. Получается странная ситуация:
Богатые не хотят платить больше налогов, чтобы помочь экономически тому государству, без которого они бы не скопили и не сохранили свое богатство.
В государственном бюджете образуется дефицит, и государство оказывается должником.
Богатые, особенно банкиры, находят в этом возможность получения новой прибыли, одалживая обедневшему государству (под проценты!) деньги, которые они не хотели давать в качестве налогов.
Когда наступает крах, государство торопится спасать банкиров государственными деньгами – отчасти эти деньги производит государственный центральный банк, отчасти они берутся из существующих налогов, отчасти сокращаются государственные расходы и поддержка малоимущих, отчасти из новых налогов и пошлин, которые ложатся в основном не на своих, а на иностранных предпринимателей.
Как бы ни бранили богатые государство, они без него не могут обойтись, как не могут обойтись без легких или печени. В рыночных обществах государство и частники – сообщающиеся сосуды. И чем больше богатые частники бранят государство, тем более они на самом деле признают зависимость от него – только не хотят за это платить!
Если посмотреть на вещи со стороны, хладнокровно, станет понятно, что дефицит бюджета делает экономику более устойчивой. В благополучные времена, когда экономика растет, государство, взяв в долг у частников, может увеличивать свои расходы, например увеличивать пенсии – что ведет к росту спроса на товары, а значит, к развитию производства и всей экономики.
Банки тоже вовсю пользуются государственным долгом: ведь государство дает в долг деньги банкам, чтобы те давали в долг другим банкам, а те – частным лицам: предпринимателям и просто владельцам любого хозяйства. Когда наступает крах, государство, в лице Центрального банка, остается единственным, кто ведет себя разумно среди общего волнения, давая отсрочки по выплате долга. А так как за крахом пойдут целые годы кризиса, то дефицит бюджета будет означать, что государство отдаст эти деньги, которые должно людям, самой экономике – чтобы как-то поставить ее на ноги.
Итак, ты теперь видишь, что без дефицита бюджета (государственного долга) никакое развитое рыночное общество невозможно. Можно сказать, он всегда стоит за сценой, на которой идет спектакль под названием экономика, он скрыто движет всеми экономическими механизмами. Как сознание движет человеком и делает его человеком, отличающимся от робота, так и государственный долг действует за сценой как вдохновение, как тайный механизм экономического спектакля, который мы смотрим каждый день.
Основная функция государственного долга, принятая на себя государственным центральным банком, – сделать рыночное общество устойчивым, сберечь богатым людям все их богатство (в то время, как они бранят государство со всеми его долгами и своими обязательствами) и предельно смягчить тяжелые последствия краха и последующего длительного кризиса.
Долг, богатство, государство: как они существуют вместе?
Долг – основа любого рыночного общества. Что дает эта основа производству? Она дает доход: так называется форма, которую излишек приобретает в рыночных обществах.
Доход делится на две части. Одну вкладывают в новые технологии (поэтому Михалис и может производить велосипеды по новой технологии), в создание рабочих мест, в выпуск новой продукции. Другая остается… богатством в руках тех, кто имеет доступ к доходу: они и сосредоточивают у себя богатство.
Если открытие земледелия более двенадцати тысячелетий назад стало революцией, создавшей излишки, но вместе с тем и серьезное неравенство (об этом мы говорили в первой главе), то возникновение рыночного общества благодаря промышленной революции безмерно увеличило как излишки, так и неравенство (об этом я расскажу тебе в следующей главе). Одновременно рыночное общество породило современное государство, наделив его необходимой регулирующей ролью. Почему? «Чудо» рыночного общества зависит от «волшебства» банковской системы, летящей на манящий призрак высокого дохода как мотыльки на пламя свечи. В результате наступает крах, глубокий экономический кризис, и государство должно принимать долгосрочные меры. Но эти меры часто:
• Выигрышны для немногих, а отрицательные последствия имеют для всех;
• только усиливают неравенство;
• увеличивают власть банкиров над предпринимателями и, значит, над обществом в целом;
• систематически подрывают влияние в обществе тех, у кого нет ни банков, ни предприятий, кто может прокормить себя только наемным трудом (а точнее сказать, надеется найти себе оплачиваемую работу).
В каждом обществе есть свои мифы. Наше рыночное общество – не исключение. В наше время господствуют четыре мифа:
Частный долг – это зло, серьезные люди бегут от него как Мефистофель от ладана.
Банки дают кредиты из денег своих вкладчиков.
Доход производят частные лица в индивидуальном порядке, а государство приходит и отнимает часть дохода, чтобы отдать ее слабым и нуждающимся в помощи.
Государство по большей части паразитирует на том, что делают предприниматели.
Все эти мифы, как всегда, содержат долю правды. Но от правды они ох как далеки. Каждому мифу нужно противопоставить истину.
Частный долг – необходимая основа частной выгоды.
Частный долг ведет к краху и кризису только потому, что банки выдают кредиты из ничего – или, точнее, они массово переносят меновую стоимость из будущего в настоящее, чтобы самим заработать как можно больше.
В рыночных обществах доход производится всегда совокупными усилиями, но его присваивают те, кто имеет больший вес в обществе, при прямой поддержке власти.
Банки в основном паразитируют на всем, а государство играет необходимую регулирующую роль, справляясь с последствиями кризиса, вызванного частной жадностью и поспешностью, и при этом помогая богатым людям оставаться столь же богатыми.
Влиятельные люди в рыночном обществе требуют, чтобы государство не влезало в долги, потому что долг государства накладывает и на них некоторые обязательства. Но они же требуют, чтобы государство если что сразу давало им в долг.
Подведем итоги
За долгом доход, за доходом богатство, за богатством крах, за крахом кризис. Это все эпизоды одного спектакля, который мы должны научиться смотреть и видеть смысл. Не нужно сразу слушать ругань богачей, особенно банкиров, которые говорят, что якобы вообще могут обойтись без государства – они же чуть что, сразу требуют у государства огромных денег для своего спасения, восклицая, что «у них проблемы». Экономика – сложный пазл, загадка, которую можно разрешить только строгой логикой. Ведь экономика – это не только производство, сразу дающее готовый продукт. Это добыча сокровища везде, где можно, везде, где есть нужда, но где люди умеют трудиться, бороться и мечтать.
Глава 5 Когда думают машины
Синдром Франкенштейна
В начале XIX века безлунной ночью молодые писатели во главе с Мэри Шелли, среди которых был и поэт лорд Байрон, собрались где-то в Швейцарии в загородном доме. До поздней ночи на небе сверкали молнии и не стихал проливной дождь. При свете дрожавших свечей в эти часы светопреставления, прислушиваясь к блуждавшим по дому звукам, эта писательская компания решила устроить соревнование: пусть каждый напишет какую-нибудь страшную историю, а потом все проголосуют, у кого история получилась страшнее.
Шелли придумала историю доктора Виктора Франкенштейна – хорошего врача, мечтавшего победить смерть в те времена, когда смерть угрожала отовсюду. Холера и даже простой грипп, даже плохое питание несли гибель значительной части человечества. Этот искусный опытный врач начинает эксперименты с трупами: он берет лучше всего сохранившиеся части (голову, руки, внутренние органы…) и сшивает их в новое тело. Затем наш врач употребляет магическую силу электричества, чтобы вдохнуть в собственное творение жизнь. Творение доктора Франкенштейна внезапно оживает, поднимается с хирургического стола и мучительно начинает пытаться «войти» в жизнь. Виктор Франкенштейн, увидев результат эксперимента, в отличие от Прометея, полюбившего свои создания (то есть нас, людей), почувствовал страх и отчаянье, и малодушно бежал прочь от создания своих же рук.
Чудовище, которое он создал, не смогло вписаться во враждебное ему общество. Оно убивало всех подряд, в том числе убило жену Виктора, – в отместку за то, что создатель его бросил, оставил в невыносимом одиночестве. В конце концов создание убило и своего создателя, нагнавшего его на Северном полюсе с целью уничтожить и тем самым исключить опасность для человечества.
Какое отношение эта история имеет ко всему тому, что я говорю об экономике? Самое прямое! Когда Мэри Шелли писала свою повесть, за несколько лет до Греческого восстания 1821 года, в Европе рождалось рыночное общество и вовсю шла промышленная революция (о чем мы говорили во второй главе). Торжество меновой стоимости, обязанное рынку труда, открыло ворота механизации производства. Производство стало все больше зависеть от машин, особенно от самых мощных машин – паровых.
Почему так произошло? Потому что, как мы говорили в третьей главе, выгода впервые стала самоцелью. Предприниматели думали о том, чтобы поскорее извлечь выгоду и поскорее вложить весь полученный доход в производство, для еще большей выгоды. А если не получишь достаточно дохода после всех вложений, то ты станешь рабом своих долгов, как Фауст – рабом Мефистофеля, помнишь?
Механика, электричество, магнетизм сразу приобрели меновую стоимость, а не только жизненную ценность (радость новых открытий, производство нового знания). Машины, созданные на основе научно-технической методологии, сразу уменьшили издержки и тем самым позволили предпринимателям выжить.
А если мы посмотрим с точки зрения всего общества, то именно в те времена человечество стало создавать себе механических рабов, которые безропотно трудятся ради нас, позволяя нам жить лучше. Мы уже можем мечтать об обществе без всякого рутинного труда, где не нужно делать ничего, что мы не хотим делать – как общество в «Звездном пути», где люди изобрели Репликаторы. В результате они могут проводить время в философских беседах, а еда появляется автоматически из отверстия в стене. Так же появляются сами собой все вещи, в которых нуждаются люди: от одежды до обычных и музыкальных инструментов и косметики.
В наши дни машины стоят на любом заводе, на любой ферме, в любом офисе и магазине. Но они не смогли победить бедность, нищету, неравенство, борьбу за существование. В рабочие часы нам приходится делать много вредной для души рутины. Так почему же машины не оправдали наших надежд?
Они работают, производят невероятное количество готовой продукции. Но наша жизнь, увы, не стала легкой. Мы как никогда бегаем, суетимся и выбиваемся из сил. Условия нашей работы становятся все хуже, мы все меньше уверены в завтрашнем дне, мы с трудом находим работу и «сгораем» на работе, ради куска хлеба, который обходится нам все дороже. Мы крутимся как белка в колесе, разгоняя его и при этом никуда не двигаясь. Кажется, что не машины служат нам рабами, но мы рабски служим машинам, поддерживая их нормальную работу.
Под этим углом зрения роман Мэри Шелли получает глубокий смысл. Это иносказание, предупреждающее людей, что, если мы не будем осторожными, техника превратится из слуги человечества в чудовище, которое нас поработит, будет нас терзать и в конце концов уничтожит. Удача человеческого духа обернется поражением, как торжество доктора Франкенштейна, создавшего живое из мертвого, завершилось трагической развязкой: создание восстало против своего создателя.
«Матрица» как документальный фильм
Не случайно литература и кинематограф сообщают о страхе людей перед своими же созданиями. Сказка «Горшочек каши» братьев Гримм, «Ученик чародея» Гёте и, конечно, такие фильмы, как «Бегущий по лезвию» и цикл «Терминатор», говорят, что именно страшно в машинах. Но есть фантастическое произведение, не менее значительное, чем «Франкенштейн» Мэри Шелли, как аллегория устройства рыночного общества, в котором технологии не освободили, а поработили людей. Это вышедшая в 1999 году на экраны первая часть фильма «Матрица» Ларри и Энди Вачовски.
В «Матрице» похожий сюжет: машины угрожают уничтожить своих же творцов. Но в отличие от того создания, которое Виктор Франкенштейн сшил из частей трупов, набрасывающегося на людей только из-за страха за свое существование, и в отличие от машин в «Терминаторах», которые хотят уничтожить людей, чтобы утвердить собственную власть над всей планетой, в «Матрице» происходит другое. Перед нами общество, где машины незаметно овладели нами, подчинили нас себе, и хотя мы этого не замечаем, они употребляют нас как… органические электрогенераторы.
Что там случилось? Когда люди исчерпали все природные источники энергии (нефть, уголь, воздух), они стали вести между собой непримиримую войну, и в конце концов задействовали ядерное оружие, разрушившее города и покрывшее планету непроницаемым черным облаком, не дающим солнечным лучам пробиться к земле. Тогда машины, наши создания, обретшие разум, решили, что мы, люди – злобный вирус, который разрушает их организм – землю. Машины провозгласили свою власть над планетой. Но так как уже не было источников энергии, которые бы приводили эти машины в движение, они решили поработить нас, превратив в электрогенераторы. Как им это удалось? Они поместили людей в закрытые капсулы, подпитывая их как растения, а температуру их тел направили на производство электрической энергии для всего сообщества механизмов.
По сценарию фильма, в мире Матрицы души заключенных в капсулы людей уже не чувствуют, что они одиноки и совершенно лишены свободы. Иначе они начали бы уставать, и это грозило бы энергетическим кризисом всей машинной экономике. Поэтому машины создают Матрицу: мнимую реальность, внедренную в мозги порабощенных человеческих тел, соединяющих с помощью электродов голову каждого человека с сетью Матрицы. Эта мнимая реальность не дает им понять, что они совершенно лишены свободы и только эксплуатируются. Другими словами, для них создана иллюзия привлекательной человеческой жизни, в то время как их тела продолжают работать как бездушные генераторы для общества машин.
Матрица, как и доктор Франкенштейн, рождена фантазией. Она возникла в мозгу Вачовски как футурологическая антиутопия, по законам научной фантастики. Но тем не менее, как и «Франкенштейн» Мэри Шелли, «Матрицу» можно смотреть как… документальный фильм. Как не опасение худшего будущего, а как описание настоящего. Если ты когда-нибудь смотрела фильм 1936 года «Новые времена» с Чарли Чаплином, ты понимаешь, о чем я говорю.
Со времен промышленной революции, когда машины стали широко использоваться в производстве, мы поставлены перед выбором: либо мы приспосабливаемся к машине, следуем всем ее прихотям, превращаясь в приложение к машинам с ее цифрами и требованиями, либо… нас просто никто не возьмет на работу.
Но не только рабочие превратились в приложение к машине. Работодатели, предприниматели тоже должны были совершить нелегкий выбор: либо подавить всякое сопротивление рабочих тому, что их душа выставляется на продажу, а тело насильственно превращается в механизм, либо… разориться. Ведь в последнем случае конкуренты перетянут всех клиентов: они смогут снизить цены благодаря снижению издержек при механизации производства.
Одним словом, рабочие мы или работодатели, мы вынуждены превращаться в прислугу наших созданий. В приложение к механизмам. В электрогенераторы для Матрицы.
При таком рассмотрении дел, фильм «Матрица» – лишь крайний случай того, о чем писал величайший революционер XIX века Карл Маркс. На Маркса, кстати, повлиял роман «Франкенштейн». Вот что говорит Маркс: производящие машины – это «порабощающая нас сила». Она порабощает нас не только как рабочих, но и как работодателей. Люди сдаются и идут служить своим механическим созданиям.
Теперь ты поняла, что «Матрица» – это не столько научная фантастика, не изображение нежелательного будущего, а документальный фильм. Все, что в нем показано, уже происходит в настоящем.
Тайна меновой стоимости
Обращение к научной фантастике, к истории доктора Франкенштейна и к «Матрице», помогает нам понять не будущее, а происходящее вокруг нас прямо сейчас. В этих произведениях раскрывается фантазм, призрак, который заложен в самой глубине рыночных обществ, который не дает им покоя. Что это за фантазм? Это человеческий труд.
Итак, странно звучит, не правда ли? Труд, оказывается, – это призрак, фантазм, всех пугающий, не дающий спокойно жить рыночному обществу.
Поэтому я задам тебе простой вопрос. Те машины, которые в фильме «Матрица» захватили землю, которые используют человеческие тела как генераторы, они же явно создали, как показано в фильме, свою собственную и очень сложную экономику, так? Если посмотреть всю трилогию «Матрица», то там старые машины производят новые, другие машины производят материал, из которого делают расходные материалы и запчасти для машин, новые машины лучше старых – а это значит, что некоторые машины проектируют машины и разрабатывают более совершенные технологии. Есть целое войско машин, отвечающих за безопасность, которые воздействуют на умы людей – их рабов. Есть и войско машин, которое ловит людей, пытающихся бежать и сопротивляться. И так далее.
Можно ли считать экономику машин необходимой частью рыночного общества? Производят ли эти машины меновую стоимость? – вот в чем вопрос. Ответ, разумеется, зависит от того, как мы определяем общество, меновую стоимость, и главным образом от того, как мы различаем понятия стоимость и функция.
Возьмем, например, старые механические часы. Мельчайшие пружинки и колесики действуют вместе, каждые по-своему, но слаженно, и так «производят» правильное время. Они напоминают организм: каждое колесико необходимо и дополняет все остальные. Но можно ли назвать это «обществом», производящим «стоимость»? Ты, может быть, не видела механических часов, поэтому посмотри на свой компьютер: сложнейший процессор оживляет его, позволяя загружать видео с Youtube по первому требованию, и вообще управляет любыми действиями. Но производит ли компьютер при этом «стоимость» независимо от тебя?
Как в механических часах, так и в компьютере мы видим сложное взаимодействие функций. Но мы не видим там ни общества, ни рынка, ни, тем более, рыночного общества. Все потому, что понятие меновой стоимости не имеет никакого смысла в механической системе, из которой исключен человеческий фактор.
Когда часовщики изготавливают все эти колеса, шестеренки и пружины, они всегда рассчитывают и просчитывают, какую функцию что будет выполнять. Когда инженеры компьютерных систем делают их полностью автоматическими, они никогда не говорят о «стоимости», которую мог бы производить микропроцессор. Они говорят о функциях, о вводе-выводе данных и о подобных вещах. Слово «стоимость» («ценность») здесь явно лишнее, за ним не стоит никакого содержания. Было бы совершенно нелепо говорить о меновой стоимости того, что производит пружина или микропроцессор, в сравнении с ценностью любого другого эффекта внутри этой механической или электронной единицы.
Поняв это, можно прийти к следующему выводу: нет никакого основания применять дерзновенное понятие меновой стоимости для системы, в которой нет людей, где достаточно будет применить более скромное слово «функция». По той же самой причине очень неразумно употреблять слово общество (или общность, или сообщество), если мы говорим о механической системе, о сети или организме. В мире без людей (или в мире, где люди полностью утратили свет собственного сознания, как в «Матрице») понятия общества, рынка и меновой стоимости неуместны и неприменимы.
Следовательно, тайна меновой стоимости, при производстве вещей для потребления, заключена… в самом человеке как производителе. Люди, обладая сознанием, принимают свободное решение производить вещи.
Чем человек, способный сам принимать решения, отличается даже от самого изощренного робота? Чем отличается общество машин в «Матрице» от человеческого общества? Что, с экономической точки зрения, создает меновую стоимость и цену (в евро, долларах, иенах и т. д.)? Одним словом: что делает нас людьми?
В фильме «Бегущий по лезвию» главный герой Рик Декард (которого играет Харрисон Форд) выполняет непростую работу: он преследует антропоморфных роботов (в фильме их называют андроидами), которые сбегают с заводов и из хранилищ, и если те не возвращаются к владельцам и оказывают сопротивление, убивает их из особого пистолета. Технологии производства роботов стали настолько совершенными, что трудно различить андроида и настоящего человека. И когда последнее, новейшее поколение андроидов обучается чувствовать и стремится к свободе, тогда работа Рика становится… бесчеловечной.
В фильме «Бегущий по лезвию» поставлен вопрос, как определить, кто такой человек. Что именно в тебе нужно заменить механической частью, чтобы ты перестала считаться человеком? Если дать биокибернетическую ногу или ухо инвалиду или глухому от рождения, он останется человеком, хотя одна из частей тела станет механической.
Начнем заменять по органу: заменим сердце механическим сердцем, легкие – механическими легкими, ноги – механическими, печень и почки – тоже искусными протезами. Останется человек человеком? Конечно.
А если мы перейдем к мозгу? Например, человек страдает болезнью Паркинсона. Мы помещаем микрочип на стратегически важный участок мозга. Но он все равно человек.
Одним словом, мы будем идти до тех пор, пока человек не превратится в антропоморфного (человекообразного) андроида, как в фильме «Бегущий по лезвию». Общество таких андроидов больше будет напоминать Матрицу, чем человеческое общество. Оно перестанет производить меновую стоимость. Оно будет функционировать как компьютерная сеть, способная создавать сложнейшие структуры общего существования, но не способная произвести меновую стоимость, без которой нет рыночного общества. Получившиеся политические структуры, структуры общего существования, больше будут напоминать ульи, чем общества, – и их жители будут как пчелы, а не как граждане.
Конечно, мы не знаем, что в нас надо заменить, чтобы мы превратились из людей в постчеловеков – андроидов. Мы вряд ли сможем точно определить этот орган, это неизвестное, которое делает нас людьми. Но мы должны просто знать, что мы люди, и что только мы можем произвести прибавочную стоимость и тем самым создать рыночное общество.
Как человеческий труд не хочет становиться рыночным товаром
Армия трудящихся андроидов – мечта каждого работодателя и каждого предпринимателя. Они бы работали 24 часа в сутки, причем не только на черной работе, но и как планировщики, начальники цехов и даже изобретатели и инноваторы. Они бы не выдвигали никаких требований (кроме технических: регулярное обслуживание, смазка, электропитание), у них не было бы психологических проблем, им не нужно было бы отпусков и пособий, они бы не ошибались, и уж конечно бы, не имели никакой склонности к забастовкам.
Но осуществление подобной мечты просто уничтожило бы рыночное общество. Помнишь, мы говорили, что меновая стоимость не может существовать без человеческого вклада в производство? Если бы для производства хватало андроидов, тогда ни один продукт не имел бы меновой стоимости. Они бы производили неограниченное количество товаров, а их цена, их меновая стоимость, стремилась бы к нулю.
Именно так происходит в механическом обществе «Матрицы» или во внутренностях любого компьютера: там гигантское производство, выполнение миллионов механических действий, но никакой цены и ценности, никакой меновой стоимости. Вполне возможно, что технологическая революция и вовсе покончит с меновой стоимостью, при этом сохранив человеческое общество, как в «Звездном пути», где все производят машины, а люди исследуют мироздание и говорят о смысле жизни.
Если верно, что производство стоимости требует вмешательства человека, тогда мы сразу видим, сколь разительное противоречие заложено глубоко в основании современных рыночных обществ. Вот что у нас происходит. С одной стороны, большие корпорации, производящие огромные объемы всем нам желанной продукции, изо всех сил механизируют производственные процессы, чтобы уменьшить издержки. Если ты зайдешь на современный автомобильный или компьютерный завод, ты увидишь армию механических роботов, которые трудятся сами почти без участия человека. Но с другой стороны, чем больше удается заменить рабочих роботами и научить их механическим действиям, тем менее ценны эти продукты.
Одним словом, чем успешнее большие корпорации заменяют человеческий труд механическим и чем больше заставляют людей работать послушно, как роботы, тем меньшей становится ценность продуктов, которые производятся в нашем обществе; а значит, тем меньшую выгоду получают предприниматели.
Конечно, как я тебе говорил, всякий предприниматель мечтает, чтобы на него работали роботы. Но как только эта мечта осуществляется, она становится бичом для самих предпринимателей. Как говорят в таких случаях англичане: «Боже, сохрани меня от исполнения моих заветных желаний!»
Теперь ты понимаешь, почему я так много в этой главе рассказывал о докторе Франкенштейне, «Матрице», «Бегущем по лезвию» и других образцовых произведениях научной фантастики, которые на первый взгляд никак не связаны с экономикой. Они лучше всего объясняют экономику, потому что наглядно показывают, почему рыночные общества испытывают такие тяжелые кризисы.
Итак, что с чем связано. Большие предприятия вынуждены, в условиях жесточайшего соперничества, требовать от рабочих, чтобы те работали как безупречные механизмы. Рабочие эксплуатируются как электрогенераторы, они с точки зрения производства – андроиды, выполняющие необходимые операции.
Но как бы ни старались предприниматели, человека в робота не превратишь. Человеческий фактор всегда действует, даже невольно. Человек не может изгнать из себя все человеческое. Он может стать очень изобретательным и попытаться уподобиться ловкости робота, или наоборот, он может подавлять в себе свою личность, разрушить в себе личность – но это не сделает производство механическим. Все равно человек может повести себя непредсказуемо, может ошибиться – ведь даже электрогенераторы дают сбои, а компьютеры – зависают. А ведь если у андроидов бывает просто сбой программы, то человек всегда превосходит заложенную в него природой программу.
Таков парадокс истории: провальны все попытки подавить сопротивление трудящихся и превратить их в послушных андроидов – но именно эти провалы спасают рыночные общества. Ведь иначе бы все меновые стоимости, все цены и все доходы упали до нуля. А где нет дохода, там не может быть и рыночного общества: все бы сразу перестали работать, что-либо производить, и мы бы остались совершенно без всего.
В этом для меня смысл последней сцены «Бегущего по лезвию», когда зарождается любовь между Риком Декардом, главным героем, и одной из андроидов. Рик Декард не уничтожает андроида, а с улыбкой навсегда прекращает преследовать этих созданий. Андроиды ведут себя противоположно современным рабочим. Современные рабочие сопротивляются тому, чтобы превратиться в андроидов – и их сопротивление позволяет выжить рыночным обществам. А андроидам в «Бегущем по лезвию» удается перестать быть андроидами, преодолеть свою механическую природу и стать людьми. Так фильмы обнадеживают нас: технология не приведет обязательно к антиутопии «Матрицы», но, скорее, к утопии «Звездного пути».
Кризисы доходности: сопротивление человеческих обществ рынку в «Матрице»
В предыдущей главе я рассказывал тебе о «линии времени» и как банкиры ее пересекают, перенося будущую стоимость в настоящее. Тем самым они создают огромный долг, который в рыночных обществах обслуживает производство огромного числа товаров и развитие высоких технологий. Но создавая баснословное богатство, он же создает чудовищное неравенство, а значит, неизбежные кризисы. Ведь банкиры не могут остановиться, они берут из будущего все больше, переносят это в настоящее, и долг принимает немыслимые размеры.
В этой главе мы открыли для себя вторую причину кризиса, кроме самонадеянности банкиров, навлекающих на себя же самих крах. Какая это причина? Стремление предпринимателей механизировать все этапы производственного процесса. Изначально эта механизация дала огромный толчок развитию рыночного общества. Когда фабрикант, пытаясь уменьшить издержки и увеличить производство, возвестил в позапрошлом веке наступление эры паровых машин, а сейчас возвещает о наступлении эры роботов, он вызывает полезнейшую цепную реакцию различных новых процессов.
Ведь компания, производящая механизмы, тогда наберет на работу больше рабочих, чтобы можно было выполнить все заказы. Рабочие зарабатывают на этих заказах, покупают дома, машины, отправляются обедать в рестораны. Строители, производители автомобилей и владельцы ресторанов радуются росту своих доходов. Они тоже начинают больше тратить. Так растет производство с ростом трат.
Технический прогресс оставляет в прошлом некоторые рабочие места. Например, когда автомобиль заменил лошадь, исчезли профессии кучера, конюшенного или производителя сбруи. Но технический прогресс создает вместо этого множество новых рабочих мест в новых отраслях. Появились автомобили – и сколько строится автомобильных дорог, сколько людей перерабатывает нефть, работает на автозаправках и автомойках, чинит и обслуживает автомобили. Поэтому я и назвал эту цепную реакцию «полезной»: соперничество предприятий и технологический прогресс приводят к созданию новых, уже совершенно фантастических механизмов!
Но хотя цепная реакция приносит много пользы, в этом прогрессе уже с самого начала заложено зерно кризиса. Как только механические рабы, созданные человеческим гением, начинают производить необходимые нам вещи, параллельно создавая и больше рабочих мест для работающих людей, призрак кризиса начинает незримо витать над нашим обществом. Ведь постепенная механизация производства приближает наше общество к Матрице: состоянию, при котором машины производят не только продукцию, но и другие машины. Они сами с этим справляются, не нуждаясь в нас, людях!
Вспомни, что мы говорили об «экономике» Матрицы. Матрица выпускает невероятные продукты, создает целые удивительные страны, но она не может произвести одного: меновой стоимости. Чем больше механизируется производство и чем больше тем самым рыночное общество приближается к Матрице, тем ниже к самому нулю опускается меновая стоимость. Вот почему, в частности, iPod, который ты получила этим летом, оказался дешевле первого, который я купил тебе пять лет назад в аэропорту Сингапура. Его сделали роботы, с совсем малым участием человеческого труда в изготовлении.
Итак, когда производство механизируется, меновая стоимость резко падает. Цены сразу снижаются, и значит, уменьшается доход предприятия на единицу продукции, например iPod. И вдруг самое слабое предприятие видит, что его доход упал до нуля, и оно уже не сможет расплатиться с долгами. Оно закрывается, рабочие остаются без работы.
И рабочие сразу уменьшают свои расходы: они уже не могут ничего купить. Сразу же падают доходы других предпринимателей. Опять самые слабые предприятия не выдерживают и закрываются. Их рабочие лишаются работы. Так начинается цепная реакция задолженности, безработицы и начала упадка.
Как только на горизонте возникают черные тучи кризиса, предприниматели начинают паниковать. Прежде всего они отменяют заказы на новые механизмы: предвидя кризис, они сразу понимают, что спрос на их продукцию уменьшится. Значит, заказанные ими новые механизмы будут простаивать и покрываться пылью – в то время, как им придется точно в срок отдавать кредит, взятый под их покупку. Поэтому ясно, что лучше сразу отменить заказ.
Отмена заказа на новые механизмы, в преддверии скорого кризиса, несет в себе две действительных угрозы. Во-первых, она только приближает кризис и усиливает его, потому что производители механизмов тоже начинают отменять заказы, направленные их поставщикам. Во-вторых, этот удар по производителям новых технологий оказывается и ударом по прогрессу – отмена заказов приводит к тому, что не изобретаются и не создаются новые механизмы.
Чем больше рыночные общества приближаются к экономике Матрицы, тем больше человеческий фактор исключается из производства. Происходит разрыв экономики со всем человеческим, а значит, близка окончательная победа Матрицы над человечеством. Но где будет торжествовать Матрица, если производство остановится?
Подъем развития или предел развития?
Что происходит, когда начинается кризис? При благоприятном развитии событий за кризисом следует подъем, потому что механизация производства остановлена, и вновь важен вклад людей в развитие экономики. В разгар кризиса, когда царит отчаяние, рабочие готовы трудиться и за кусок хлеба. В один прекрасный момент человеческий труд начинает обходиться дешевле труда машин.
Одновременно во времена кризиса множество предприятий закрывается. Значит, множество механизмов продается за бесценок (идет распродажа имущества закрывшихся предприятий). В разгар кризиса лучше иметь кусок хлеба, чем целый заводской цех.
Конкуренция резко слабеет: ведь большинство фирм прекратило существование. Более того, предприятия, выжившие в водовороте кризиса, осознают, что у них практически нет конкурентов – конкуренты закрылись. Хотя та отрасль, в которой они работают, пережила резкое сокращение объемов производства, как, впрочем, и все производство везде вообще сократилось – их собственная доля в этом производстве стремительно увеличилась, а издержки предельно снизились. Ведь им уже не нужно тратить средства на войну с конкурентами, на рекламу, на перевозку товаров по завышенным ценам в условиях конкуренции, на борьбу за магазины и торговые точки и на многое другое.
Таков еще один великий парадокс рыночного общества. Чем хуже идут дела и чем больше предприятий обанкротилось, тем быстрее растет доходность выживших предприятий! Как говорится, «Если в одном месте что-то убывает, то в другом что-то прибывает». Можно уточнить: «Если в одном месте доходы сократятся, то в другом доходы увеличатся».
Великий парадокс доходности состоит в том, что в период развития и эйфории (всеобщего ликования) доход предприятий уменьшается. Тогда рыночное общество все больше напоминает экономику Матрицы: все заняты производством, и это производство не дает большого дохода, а только подпитывает Матрицу. Напротив, во времена кризиса доходность выживших предприятий хотя не сразу, но начинает расти.
О чем думает предприниматель, который выжил в период кризиса? Он думает о том, как ему хорошо, хотя кризис разрушил всю экономику. Ведь его собственный доход растет день ото дня, безработные выстроились в очередь на его предприятие, конкурентов пока не видно, а оборудование можно купить за десятую часть стоимости. Разумеется, он сразу решит, что надо употребить всю эту ситуацию в свою пользу. «Скорее скуплю все производства в этой области и стану монополистом».
Итак, что он сделает: скупит все остановившиеся механизмы, наймет безработных на новые производства, и тем самым займет господствующее положение в отрасли. Он ведь не захочет допустить нового кризиса, вызванного жесткой конкуренцией. Поэтому он будет наращивать производство и сам создавать законы для всей отрасли.
Таков хороший сценарий. Если в каждой отрасли окажется такой предприниматель, то общие показатели вскоре пойдут вверх. Экономика вновь оживет и постепенно восстановится.
Но бывает и плохой сценарий. Плохое развитие событий получается, если еще до кризиса, до слома общества на пороге Матрицы, жадность банкиров оставила все общество, и частных лиц, и государство, на дне долговой ямы. Как ты уже знаешь, как мы с тобой видели, всякий кризис означает, что настоящее не может расплатиться с будущим за те ценности, которые банковская система оттуда забрала. Но когда настоящее не может расплатиться с будущим, есть только один выход – списание долга, худший выход для всех, кроме банкиров.
Это не нравственный выход: потому что правильно и нравственно платить долги. Один человек возвращает долг другому человеку, так и настоящее должно возвращать долг будущему. Но таков будет практический выход. Ведь если у должника не осталось средств, ему неоткуда взять средства, и точка.
Увы, банкиры не могут смириться с суровой реальностью! Как только они ни изворачиваются, каких только ни плетут интриг, чтобы повлиять на политиков – с тем, чтобы политики сняли с них долг перед частниками, предприятиями и государством. Притом что они сами ответственны за бездумный перенос ценностей из будущего, из которых и образовался долг. Они перенесли в настоящее ценности – потому и не смогут их выплатить никому в будущем.
Заметь, как чудовищно то, что внушают банкиры. Они думают, что мы поверим, что все долги в будущем будут нам выплачены. Банкиры при этом не признают за собой тех долгов, которые они не могут выплатить. Они просто говорят, что не они виноваты в том, что не могут никому ничего выплатить. Просто они хотят выжить посреди кризиса, и вновь давать займы и брать проценты. Но спасти банки при всеобщем кризисе не получается по трем причинам.
• Во-первых, им уже никто не даст в долг. Банки, которые могли бы им дать в долг, тоже делали деньги из ничего, из частного и государственного долга, а значит, не обладают собственными средствами.
• Во-вторых, никто и не захочет им давать в долг, увидев, что они только множат долги. Все же перестают давать в долг хозяйке, которая не возвращает вовремя долги, потому что тратит больше, чем может добыть.
• В-третьих, потому что во время кризиса само государство нуждается. Если оно вынуждено спасать банки, чтобы они не закрылись и вклады не сгорели, то так как у государства есть и другие обязательства и долги, ему приходится облагать налогом уже разоряющихся предпринимателей и уже бесполезные домохозяйства. В результате и у предпринимателей ничего не останется, и домохозяйства будут разорены.
Ты видишь, что это плохой сценарий. Ведь здесь уже предприниматели, выжившие внутри глубокого кризиса, не смогут увеличить свою выгоду: они вынуждены будут распродать последнее. Если банкиры слишком влияют на общество и политиков, то возрождение предпринимательства исключено. Разве что само общество громко потребует не разорять предприятия, тогда только можно ждать улучшений. Тогда атмосфера очистится от мглы задолженностей и можно будет начать вновь производить и продавать.
А есть еще самый плохой сценарий: война. Во время войны никто ничего не должен, заводы и дома сами рушатся под бомбами, вместе с тысячами людей. Ни одного банка не остается тоже, кто пойдет в банк за кредитом во время войны? Зато кризис оказывается преодолен: все предпосылки кризиса уничтожены вместе со всей экономикой, а иногда – и всеми людьми.
Эпилог. Машины: наши рабы или наши слуги?
Человек стал цивилизованным, когда научился создавать орудия труда. Машины – более высокая форма орудий труда, а роботы и искусственный интеллект – самая высокая форма орудий труда. Как доктор Франкенштейн хотел освободить человека от страха смерти, так и машины, которые мы производим, воплощают наше праведное желание освободиться от суеты и утром писать стихи, днем философствовать, а вечером идти в театр, и часы напролет весело ужинать с друзьями и семьей.
В идеале наша способность изобрести и произвести механических рабов, которые освободят нас от работы, может приблизить нас к обществу как в «Звездном пути», где люди думают только о смысле жизни, а всю работу за них делают машины. Но когда машины принадлежат немногим, использующим их как инструменты обогащения, в то время как остальные сами зарабатывают себе на жизнь, тогда машины никому не облегчают жизнь – ни своим владельцам, ни наемным работникам.
Механизация рыночного общества приближает нас не к утопическому миру «Звездного пути», но к антиутопическому миру «Матрицы». Машины все больше похожи на то чудовище, которое создал доктор Франкенштейн. Целые поколения принесены в жертву кризисам, которые представляют собой инстинктивное сопротивление самого рыночного общества этому торжеству механизмов. Чем больше мы развиваемся, тем больше мы неосознанно подпитываем росток кризиса, который потом разрастается до непомерной величины. Одновременно мы оскверняем природную среду, отравляем воду, которую пьем, загрязняем воздух, которым дышим, и замусориваем землю, на которой стоим.
А так как для создания новых машин нужны большие инвестиции, а их могут дать только банкиры, которые бесконтрольно берут из будущего сколько угодно меновой стоимости, то кризис становится всеобщим. Все влезают в долги, и тогда уже обществу угрожает переворот или гражданская война, одним махом обнуляющая долг. И после гражданской войны мы вновь начнем с самого начала, нищие и разоренные, голодные и озлобленные, на оскверненной и загубленной промышленными выбросами земле.
Может ли общество вырваться из порочного круга? Может ли оно не погрязнуть в Матрице? Может ли оно преодолеть мучительный кризис, повергающий миллионы человек в отчаяние? Или за преодолением кризиса последует новый кризис и выхода из Матрицы нет?
Можем ли мы представить, чтобы наши создания стали мрачными хозяевами нашей судьбы? Есть ли вероятность, что технологии восстанут против нас, как они уже восстают против планеты, на которой мы живем?
Ответим словами, которые сказала одна из машин в «Матрице» главному герою Нео (одному из немногих людей, кто смог вырваться из Матрицы). Эта машина, называющая себя Агентом Смитом, говорит захваченному другими машинами Нео: «Всякое млекопитающее на этой планете инстинктивно поддерживает природное равновесие со средой. Но вы, люди – исключение. Разве есть еще какой-то организм на планете, который ведет себя как вы? Ты знаешь, кто я? Ты вирус. Люди – это болезнь, это рак планеты. Вы – эпидемия, а мы, машины, – излечение».
Может быть, машина в чем-то и права, если подумать о том, как мы себя вели на земле. Монстру, которого создал доктор Франкенштейн, тоже было за что ненавидеть трусливых людей и собственного создателя. Но я надеюсь, что твое поколение посрамит Агента Смита. Достаточно перестать думать, что рыночное общество – это данность и что механические рабы должны принадлежать частным лицам – когда они – достояние всего человечества.
Глава 6 Эдиповы комплексы рынка
Фауст без Мефистофеля?
В 1989 году мой друг Василис, только что защитивший диссертацию по экономике, пытался найти работу, но никак ее не находил. Месяцы шли, Василис не знал, что делать, потому что оставалось все меньше надежды на достойную работу. Как-то раз, уже доведенный до отчаяния, он написал мне в письме в Австралию, где я тогда жил: «Худшее, что может произойти с человеком, дорогой Янис, это дойти до такого отчаяния, что уже готов продать душу дьяволу, а он не хочет ее покупать».
Именно так себя чувствовали безработные в годы Великой депрессии: они были согласны на самую черную и низкооплачиваемую работу, но работодатели… отказывали им. Надеюсь, ты не окажешься в такой ситуации, но ты должна знать, что миллионы таких же, как ты, оказываются в ней.
Надеюсь, также, что ты не будешь слушать некоторых моих коллег экономистов, которые яростно отрицают, что люди часто оказываются в подобном положении. Что они говорят?
Они считают, что люди не бывают безработными вообще. Что якобы люди эти могли бы взяться за низкооплачиваемую работу, хоть что-то сделать и хоть какие-то деньги получить, а если они безработные, то только потому, что хотят иметь хорошую работу.
Чтобы ты поняла, как они обосновывают свое убеждение в том, что безработных в строгом смысле не существует, перескажу тебе разговор с другим моим другом, Андреем. Андрей жаловался мне, что не может продать домик на острове Патмос. Я сказал, что готов купить его дом за 10 евро.
Он рассмеялся, потому что понял различие между двумя утверждениями (1) я не могу продать и (2) я не могу продать за ту цену, которую прошу. Именно так мыслят те, кто отрицает безработицу, экономисты, которые считают, что Мефистофель всегда купит душу Фауста. Дескать, найдется работодатель, который хоть что-то заплатит Василису.
Эти экономисты рассуждают так:
«Если работа безработного производит какую-то ценность, и значит, есть из чего ему заплатить, тогда хоть что-то можно ему заплатить. Как продавец, отчаявшись продать дом, может продать его за 10 евро, так и работник, отчаявшийся найти работу, может пойти работать за 100 евро в месяц, и работодателю будет это только выгодно. Но как Андрей не хочет продавать дом так дешево, так и Василис не хочет получать так мало. Значит ли это, что Андрей не нашел покупателя? Он нашел его! Значит ли это тогда, что Василис не нашел работодателя? Он нашел его! Просто и Андрей, и Василис не встретили еще тех, кто готов заплатить требуемую ими цену. Это только их трудности. Это их выбор не продавать дом дешево и не наниматься на работу дешево. Ты можешь запросить миллион за дом или миллион за свою работу, но только покупателя не найдешь. Жадность сама себя наказывает. Если ты снизишь цену, то непременно найдешь клиента. Если у нас рыночное общество, то как на рынке не может быть покупателей? Просто твой друг Андрей считает, что меновая стоимость дома выше, чем на самом деле этот дом оценивается рынком. Также и твой друг Василис ставит цену своего труда выше, чем может быть предложена рынком. Это их право, но пусть они не считают себя жертвами рынка и не говорят, какие они бедные и безработные».
Итак, те, кто отрицает безработицу, отрицают само существование безработных, то есть людей, которые хотят найти работу, но не могут. Они считают, что Василис подобен Андрею, который не продает свой дом, пока ему не дадут подходящую цену.
Иными словами, отрицающие безработицу думают, что такие как Василис предпочитают оставаться безработными, чем работать за небольшую оплату. Поэтому они не безработные в собственном смысле слова – так как слово «безработный» обозначает человека, который хочет работать, но ему не дают работы. «Они ведь могут пойти собирать бутылки и мыть машины на улице, хоть что-то заработают» – так обычно советуют эти экономисты.
Вроде бы это рассуждение имеет некоторый смысл. Никто не может обещать, что плата, которую тебе предложит рынок труда, позволит жить достойно. Поэтому и кажется, что хоть какую работу можно найти, если снизить требования по оплате.
Ты мне возразишь: «Но работа мне нужна, чтобы заработать на еду, на одежду, заплатить за квартиру. Если мне заплатят так, что на все это не хватит, зачем такая работа? Это все равно, что быть безработной». Да, это так. Но вопрос о природе безработицы лежит глубже.
На так называемом рынке труда, если Василис начнет уменьшать требуемую оплату его труда (оплату, которой он ждет от работодателя), скорее всего, он все равно не найдет работы, в отличие от Андрея, который, если снизит цену за дом до 10 евро, найдет не одного покупателя. Другими словами, безработный похож на Фауста, который просит от Мефистофеля все меньшей оплаты за свою душу, а Мефистофель, вместо того чтобы заинтересоваться его душой, все меньше… хочет ее купить.
Олень, зайцы и польза оптимизма
Чтобы мы поняли, почему Андрей продаст дом, если снизит цену, а Василис не найдет работу, если снизит запрашиваемую оплату труда, я расскажу тебе историю, которую сочинил более двух веков назад французский философ Жан-Жак Руссо.
Представь команду охотников в джунглях Амазонки или в Африке. У них есть только сети, луки и стрелы. Они вышли с целью завалить большого оленя, чтобы потом донести тушу до стоянки и питаться всем вместе, включая семьи. Они видят оленя в просвете между деревьями и решают его окружить, двигаясь тихо, чтобы его не спугнуть. Их цель – оградить оленя сетями, чтобы он запутался, и затем можно было уже забить его стрелами – а если стрелять в оленя издали, стрелы не причинят никакого вреда этому большому и сильному животному.
Трудность в том, что окружение оленя может занять целый день, и если охотники не успеют обойти оленя до наступления темноты, то без еды останутся и они сами, и все их родственники. Также они знают, что упустят оленя, если один из охотников не успеет за всеми – тогда олень вырвется там, где цепь была разорвана. Один разрыв в цепи обнуляет труд всех, кто создавал цепь, и обрекает на еще один день голода.
Наконец, в этих краях много зайцев, которые бегают повсюду. Зайцев охотники легко могут подстрелить из лука, никаких особых усилий для этого не надо. Но если какой-то охотник задержится, подстреливая зайца, он не успеет замкнуть цепь, и оленя окружить не удастся. При этом хотя охотник и подстрелил зайца, этим зайцем не прокормить всю команду, и все опять же останутся голодными.
Итак, в какой ситуации оказываются охотники? Все они, разумеется, хотят поймать оленя и приготовить сытный ужин, с песнями и танцами, чтобы лечь спать сытыми и довольными. Если все в команде уверены в том, что их товарищи ни при каких условиях не уйдут с охоты на оленя, тогда все делают одно и то же – охотятся на оленя.
Но в противном случае, если некоторым охотникам начинает казаться, что их собратья приуныли и перестали следить за оленем, и думают уже о зайцах, ими овладеет пессимизм (вера в худшее развитие событий). Они сочтут, что, наверное, сегодня оленя мы не поймаем. Тогда все разойдутся охотиться на зайцев – потому что нельзя же возвращаться домой с пустыми руками. Но тогда команда рассыпается и они уже в этот день не поймают оленя, который насытит всех.
Итак, в чем суть дела:
• Все охотники предпочитают объединяться и слаженно действовать для охоты на оленя, а не охотиться поодиночке на зайцев.
• Каждый охотник продолжает охоту на оленя, пока уверен, что другие делают то же, что и он, – что никто не отвлекся на зайцев и все чувствуют себя единой командой.
• Тогда успех в охоте на оленя в конечном счете зависит только… от оптимизма охотников, от того, что они уверенны в том… что охотятся на оленя!
Последний пункт показывает как великую силу оптимизма (веры в лучшее развитие событий), так и злого демона пессимизма. Если охотники оптимистичны, если они уверены, что поймают оленя, это значит, что каждый охотник убежден, что никто из команды не бросит охоту на оленя ради охоты на зайцев. Тогда действительно, никто не побежит за зайцем, и все вместе поймают оленя.
Но даже толика пессимизма означает, что некоторым охотникам покажется, что оленя они не поймают. А другие испугаются, что среди них есть пессимисты, которые не будут охотиться на оленя. И как только пессимизм хоть на миг станет общим настроением, охотники, чтобы не остаться вовсе без добычи, кинутся за зайцами. Тогда цепь солидарности порвется и олень… убежит у них на глазах.
В чем суть аллегории Руссо? Очень во многих случаях успех наших совместных усилий зависит от того, насколько оптимистична наша команда или насколько оптимистично наше общество. Если мы верим в хороший исход, мы будем делать все что нужно, чтобы добиться результата, – и он оправдает наши ожидания. Но верно и обратное: если мы считаем, что наши усилия могут оказаться безрезультатными, тогда мы перестаем делать то, что от нас требуется, и наш пессимизм оказывается тоже оправданным.
Зачем я рассказал тебе историю об олене и зайцах? Чтобы ты поняла, в чем различие между случаем Андрея, который не может продать свой дом, и случаем Василиса, который не может найти работу.
Безработица в адском мраке отчаяния,
или Почему труд не дом и не помидор
Итак, что такое безработица, не все понимают сразу. Люди не верили, что мой друг Василис действительно безработный. Они считали, что труд выставляется на продажу так же, как дом Андрея, другого моего друга – если снизить цену (просить меньшую оплату за труд), то какой-нибудь работодатель тебя возьмет. Но безработица устроена совсем иначе. Одно дело – дом Андрея, а другое дело – труд Василиса.
• Что верно для автомобилей (если снизить цену на красный Ferrari до 1000 евро, его многие решат купить), неверно для услуг автомеханика;
• что верно для помидоров (если скинуть их цену к полудню на любом продовольственном рынке), неверно для наемного труда.
Но чем же труд таких Василисов, вообще безработных, отличается от домов, автомобилей и помидоров? Ответ дает аллегория Руссо с оленем и зайцами.
Дом Андрея кому-нибудь да нужен для жизни. Например, поехать на выходные на Патмос и там отдохнуть. Деньги, которые будут отданы за дом, соответствуют его жизненной ценности, но также и меновой ценности: если кто-то еще захочет купить этот дом, его можно будет перепродать.
Так что дом Андрея будет рано или поздно продан по достойной цене, потому что жить в этом доме – жизненная ценность. То же самое можно сказать о Ferrari: пока люди хотят водить эту машину (или, если не умеют водить, то научиться водить эту машину), они готовы ее купить, если им позволят их сбережения. Если цена на эту машину снизится, желающих купить окажется еще больше. То же самое мы скажем о помидорах: пока они не испортились, и пока есть люди, которые любят помидоры, можно их все распродать, хотя для этого и может понадобиться снизить цену.
Но этого нельзя сказать о работе безработного Василиса. Никакому работодателю не нужна работа Василиса как таковая, ему нужно решение его собственных задач.
Например, у Марии есть завод по производству холодильников. Для чего она может взять на работу Василиса? Чтобы он помог произвести еще больше холодильников, и больше ни для чего. При этом должны быть покупатели, готовые купить больше холодильников по той же цене, чтобы получить доход, часть из которого пойдет на оплату работы Василиса, а часть – на оплату производства этих дополнительных холодильников: на их изготовление ушел металл и другие материалы, потрачено электричество, оплачены телефонные звонки партнерам, арендован дополнительный склад и т. д.
Тогда при каких условиях Мария может нанять Василиса? Ответ простой: если Мария рассчитывает на то, что на дополнительно произведенные холодильники найдутся покупатели, которые заплатят цену, чтобы покрыть все издержки, включая оплату работы Василиса. А если холодильники не будут покупать, то Мария из-за того, что наняла Василиса, останется в убытке. Даже если она договорилась платить Василису совсем мало, убыток ее будет не маленький, а большой: на производство холодильников потрачено много средств, а их никто не купил.
Итак, представь, Мария размышляет, брать или не брать ей Василиса (и, может быть, и других его безработных коллег) для производства большего числа холодильников. Мария, конечно же, не уверена, что это стоит делать. Она возьмет безработных, ее завод произведет больше холодильников, а они будут стоять в магазине и их никто не будет покупать (или она будет вынуждена их продать дешево себе в убыток) – в любом случае она сама разорится.
Но если дополнительные холодильники будут хорошо продаваться, по оправданной цене, тогда и она получит выгоду, и бывшие безработные будут рады, что нашли хорошую работу, и семья их будет благодарить.
«Что мне делать? – думает Мария. – Я их возьму. А если я разорюсь?» Она мучительно пытается принять решение, понимая, что продаст ли она свои холодильники, зависит от общего состояния рынка, от текущего «климата» рыночного общества. Если «климат» будет благоприятным, то экономическая активность будет нарастать, доходы потребителей и их оптимизм будут расти и тогда многие купят себе новые холодильники, как и прочие товары, которые люди покупают, когда дела у них идут хорошо, и они уверены в завтрашнем дне.
Но если экономический климат ухудшится, если дела пойдут плохо, в обществе воцарится пессимизм и люди начнут придерживать деньги, опасаясь кризиса или потери работы, – тогда холодильники Марии никто не купит, и Мария потеряет все свои деньги и еще останется в долгах.
А от чего зависит экономический климат? От чего зависит, хорошо или плохо идут дела? От чего зависит, купят ли холодильники Марии, заплатив ту цену, которая даст доходы, превысившие расходы?
Это зависит от того, верят ли другие предприниматели, такие как Мария, что дела будут идти хорошо.
Когда достаточное число предпринимателей – оптимисты, они вкладываются в новые технологии, в новое оборудование, новые здания. Сразу же растет занятость, и растут доходы работников. Работники идут в магазины, супермаркеты, покупают холодильники и музыкальные центры, тем самым давая еще больше занятости и дохода производителям. Так все множество Марий видят, что их оптимистические ожидания оправдываются и что все их усилия хорошо окупились.
А если все множество Марий впало в пессимизм? Тогда предприятия не берут безработных Василисов, экономическая активность идет на спад, никто ничего не покупает, производители теряют доходы и уже точно не могут никого нанять.
Так оптимизм или пессимизм определяет, будет ли экономика на подъеме или потерпит крушение.
Почему так значима басня Руссо об олене и зайцах? Потому что она передает самую сущность рынка труда и вообще любого рынка. Когда команда охотников перестает верить, что они сегодня поймают оленя, они и не ловят оленя. Так и когда предприниматели начинают исходить из того, что будет падение производства, безработица и кризис, они как раз своими руками создают падение производства, безработицу и кризис. Как только они испугаются, что «дела плохо пойдут», дела действительно пойдут плохо.
Напротив, если они верят в лучшее будущее, тогда они будут производить больше, возьмут на работу таких как Василис и все рыночное общество покажет лучшие результаты. Охотники, верящие в то, что схватят оленя, его и схватят, а не разбегутся охотиться от отчаяния на зайцев.
Об этом и думает Мария вечером, ворочаясь в кровати. Она не может уснуть от мучающей ее мысли: брать на работу Василиса и других или не брать. Чтобы заснуть, она включила радио, радио ее обычно убаюкивает. И вот, предположим, она слышит по радио, что рабочие, через представляющие их объединения, заявляют, что готовы работать за половинную оплату, снизив требования по оплате труда на 50 %. Как тогда поступит Мария?
Неужели она закричит: «Прекрасно! Завтра я возьму Василиса и других на работу и мы произведем много новых холодильников»? Ни в коем случае. Она будет рассуждать так:
«Конечно, мне выгодно, что меньше надо тратить на оплату труда: мои расходы уменьшаются. Но если все они начнут у меня работать, то из этого ничего хорошего не выйдет. Хотя бы потому, что если все предприятия наймут всех за половину зарплаты, то ни у кого из работников не накопится достаточно денег, чтобы купить мои новые холодильники».
Итак, охотники на оленя и предприниматели, такие как Мария, зависят не от системы оплаты, а от системы ожиданий. Когда вся команда (а лучше сказать, вся «гурьба», все скопом) оптимистична, тогда их оптимизм сам себя подпитывает и сам себя оправдывает. А если все пессимистичны, то пессимизм тоже сам себя вырастит и сам себя оправдает.
Ты понимаешь, что это означает? Если рабочие объявят, что они готовы работать за меньшую плату, предприниматели, такие как Мария, могут просто счесть, что, значит, все плохо идет в экономике. В результате они сочтут нужным не увеличивать и снижать производство. Тогда они не только не возьмут таких как Василис, но и уволят своих рабочих, тем не на что будет покупать вещи, производство еще снизится, и так наступит крах.
Теперь ты видишь, что труд совсем не похож на дома, автомобили или помидоры. Цена труда (оплата) падает, и при этом спрос на труд, вместо того чтобы расти, тоже падает!
Труд и долг: товары чертовские, а другие не похожие
Большие экономические кризисы, такие как разразившийся в 1929 году и как недавно настигший нас в 2008 году, учат нас одному: рыночные общества становятся жертвой двух чертей. Один из них прячется на рынке финансов, другой – на рынке труда.
С рыночным чертом мы познакомились только недавно: он заставил Марию, владелицу завода по производству холодильников, уволить рабочих, хотя они стали меньше просить за свой труд! В отличие от рынка помидоров, домов, холодильников и автомобилей, на рынке труда спрос может не увеличиваться, а уменьшаться, когда цена падает. Конечно, чем черт не шутит, и да, пожалуй, только так он и шутит.
Но не только рынок труда населен чертями. Есть и другой рынок: рынок финансов, иначе говоря, денег. Ты удивишься: «Как это, деньги можно продавать на рынке?» Что это за рынок? Как можно продавать или покупать деньги? Просто на этом рынке деньги не выставляются на продажу, а просто одалживаются, вкладываются – как и на рынке труда никто не продает свой труд навсегда, а просто получает оплату за время своего труда. А для чего дают деньги в долг? Ради процентов. Как мы видели в предыдущих главах, банки могут давать серьезные кредиты, потому что они пересекают временную границу и забирают часть стоимости из будущего, и затем одалживают таким, как Мария, деньги под проценты. Вопрос только в том, что Марии должны хотеть взять в долг, чтобы нанять работников, закупить станки и развернуть производство. А это требует, чтобы были благоприятные условия – чтобы была занятость, чтобы в обществе все получали доход и могли покупать холодильники.
Ты же сама все время слышишь, что предприниматели берут кредит, чтобы «вкладывать» в производство, чтобы производство «развивалось».
Представим, что Мария берет в долг, чтобы покупать помидоры. Тогда мы будем убеждены, что чем ниже стоимость помидоров, тем больше помидоров она может купить. Цена на помидоры падает, и Мария покупает все больше помидоров.
Но сколько стоят деньги, которые Мария для этого взяла в долг? Они оцениваются процентом: чем выше процент по кредиту, тем больше стоит брать в долг. Мария потом должна вернуть деньги в банк с процентами.
Мы видели, что на рынке труда решение Марии о найме работников никак не зависит от стоимости труда. Мы видели, что Мария в период экономического упадка лучше уволит работников, хотя оплата труда уменьшилась.
То же самое действительно и на рынке финансов. Когда процент по кредиту снижается (снижается стоимость кредитных денег), то Мария начинает брать в кредит в банке меньше денег, а не больше. Но почему?
Потому что Мария знает, что она сможет вернуть кредит, вложив его в производство новых холодильников, только если экономика на подъеме и холодильники купят. Чтобы экономика была на подъеме, в нее вкладывается не только она, вкладываются и многие другие предприниматели. Вкладываются и большие корпорации, вкладываются и малые игроки рынка, как те рыбки, которые движутся рядом с большими хищными рыбами и питаются объедками. И всем нужны кредиты.
Большие корпорации тогда увеличивают спрос на кредит, и стоимость кредита увеличивается. Но почему большие корпорации берут кредиты, хотя стоимость кредитов выросла? Ответ один. Потому что они смотрят в будущее с оптимизмом.
Вернемся к истории про оленя и зайцев. Как команда охотников у Руссо вкладывается в охоту на оленя, так и в рыночных обществах предприниматели вкладывают кредиты в найм рабочих и оборудование, тем самым поощряя производство и общий экономический рост – пока господствует оптимизм. А уменьшение цены труда (оплаты труда) и денег (процентов по кредиту) работает на усиление кризиса. Тогда увеличивается безработица, нет возможности расплатиться с долгами, и предпринимательство сходит на нет.
Поэтому, когда Мария слышит, что государство снижает процент по кредиту или что рабочие готовы трудиться за меньшую плату, она с большим пессимизмом смотрит на общую экономическую обстановку. Она думает: «Раз всем пришлось снижать цены, и на труд, и на деньги, то значит, снижается экономическая активность. Тогда ничего хорошего экономику не ждет. Раз работники готовы трудиться за кусок хлеба, значит, даже если они найдут работу, они не смогут покупать холодильники, которые я выпускаю». Так пессимизм Марии и всех остальных предпринимателей только усиливается. В результате и рабочих увольняют, и кредиты не берут, и в производство никто не вкладывает, и безработица растет, и все уже с головой в тяжелом кризисе.
Ты видишь теперь, в чем ошибка отрицающих безработицу, когда они считают, что безработные просто не хотят работать за предлагаемые им деньги? Нельзя считать, что если Андреас может продать свой дом дешевле, то и Василис может продать свой труд дешевле.
И ты теперь понимаешь, что в потайных комнатах двух главных рынков, рынка финансов и рынка труда, кишат черти, которые изо всех сил разжигают экономические кризисы.
Эдиповы комплексы рынков труда и финансов
Ты слышала о «Царе Эдипе», знаменитой трагедии Софокла? Она основана на мифе об Эдипе, который убил царя Фив, не зная, что это его отец, и женился на его вдове, не зная, что это его мать. Основная мысль всего рассказа – могущество пророчества.
Перескажу тебе эту историю. Лай, фиванский царь, узнает, что его супруга Иокаста беременна, и спрашивает у оракула, какая судьба ждет его ребенка. Оракул ответил ужасным пророчеством, что родится сын, который собственными руками убьет самого Лая. В ужасе Лай приказывает Иокасте умертвить сына сразу после рождения. Но она не может заколоть собственного ребенка и приказывает сделать это слуге. Но даже слуга не настолько дерзок, чтобы убить беззащитного младенца. Он отнес новорожденного в лес и оставил его умирать от холода и жажды и только надрезал ему ступни, чтобы он не смог сам встать, откуда и его имя Эдип, раненые ступни. Но мимо шел пастух, который услышал крик младенца: он взял его и отнес в Коринф, где того усыновил бездетный царь.
Когда Эдип вырос, он стал подозревать, что коринфский царь – не настоящий его отец. Поэтому он отправился к оракулу, чтобы узнать о своих родителях. Оракул ответил другим ужасным пророчеством: «Ты женишься на собственной матери». В страхе он решил бежать как можно дальше от Коринфа, думая, что его мать – коринфская царица.
Долго ли, коротко, он подошел к Фивам. Случайно на перекрестке он встретил царя Лая, и царевич поспорил с царем, кому надлежит идти первым. В гневе Эдип ударил Лая посохом и убил. Так исполнилось первое пророчество: Лай погиб от рук собственного сына.
Позднее Эдип спас Фивы от чудовищной женщины по имени Сфинкс, отгадав загадку. Благодаря своему ответу он не только спас город, но и сделался его царем по воле благодарных жителей. Но в те времена, чтобы взойти на царство, полагалось жениться на вдове прежнего царя. Он женился на Иокасте, собственной матери, и так исполнилось второе страшное пророчество.
Как этот миф связан с рынками труда и финансов? Связан напрямую. Посмотри. Первое пророчество исполнилось само собою: Эдип не убил бы Лая, если бы не было этого пророчества. Почему? Потому что без этого пророчества Лай не был бы перепуган, не отдал бы приказа умертвить своего сына, сын бы тогда рос в фиванском дворце, знал бы, кто его отец, и ни в коем случае не стал бы его убивать. То же самое можно сказать о втором пророчестве: если бы оракул не сказал, что Эдип женится на матери, тот бы не бежал из Коринфа, не убил отца, не оказался рядом с Фивами, не спас Фивы от Сфинкса и не женился на матери.
То же самое происходит во время кризиса и с рынками труда и финансов: когда Мария и остальные предприниматели пророчествуют, что кризис будет еще долго и что экономическая активность снизится, они прекращают занимать деньги, на которые могли бы нанять больше работников, и так пророчество исполняется и кризис никак не кончается. А когда кризис обрушивает стоимость труда и денег (снижается оплата труда и доходность любых вложений), то вместо того, чтобы наращивать занятость и создавать новые вложения, начинают делать прямо противоположное, так что вся экономика входит в еще больший кризис, сама себя повергая в бездну отчаяния.
Эпилог. От охоты на оленя к Эдипу, Фаусту и последствиям безработицы
Труд и деньги – это шестеренки, которые приводят в движение любое рыночное общество. Но они же – кошмары, преследующие это общество. Причина, по которой они не могут работать как «нормальные» шестеренки (как работают, скажем, помидоры, электродвигатели, расходные материалы и т. д.) – это то, что они радикально отличаются от других товаров. Более того, на самом деле для предпринимателя они нежеланны!
На самом деле предприниматели хотели бы обойтись без подчиненных и не влезать в долги. Кто хочет оставаться должником? Всякий работодатель мечтает о том дне и часе, когда техника, наконец, станет настолько совершенной, что он распустит всех своих рабочих и заменит их послушными роботами, которые не устают, не болеют и не бастуют. Кроме того, роботам не надо платить и не надо под них брать кредиты. Конечно, нужно потратить деньги на закупку и обслуживание роботов; но в отличие от электричества, которое ты все время покупаешь в необходимом для производства количестве, труд их сразу же будет переходить в капитал. Власть капитала тогда будет несомненной благодаря непрерывности труда.
С точки зрения работодателей, покупка труда – неизбежное зло: предприниматели вынуждены оплачивать труд рабочих, чтобы получить потом прибыль. Но прибыль будет, только если будет спрос на произведенные товары в будущем! Как охотники у Руссо ждут оленя и не отвлекаются на зайцев, пока верят, что поймают оленя, так и предприниматели платят рабочим и берут кредиты под новое оборудование и найм (оформление на работу) новых рабочих, только когда они верят в то… что все они как один верят в лучшее.
А если их охватывает вера в худшее, тогда они начинают снижать свои расходы, сокращать рабочих и не закупать новое оборудование, – потому что исходят из того, что в будущем спрос на продукцию уменьшится. Он и уменьшается. Казалось бы, можно было радоваться, что они могут сократить издержки; но они сокращают издержки вместе с производством.
В период кризиса с предпринимателями происходит то же самое, что произошло с Лаем и Эдипом. Они верят дурным пророчествам, делают все, чтобы не испытать их последствий, но дурные пророчества исполняются и ударяют прямо по ним.
А безработные, вопреки расхожим убеждениям отрицающих безработицу, что мол достаточно уменьшить оплату труда, и все безработные найдут работу, если захотят, напоминают такого Фауста, который не способен заставить Мефистофеля купить его душу. Даже если он снизит цену как никогда.
Глава 7 Люди-вирусы
Высокомерные вирусы
Великие религии, почитающие единого Бога: иудаизм, христианство, ислам – говорят человеку, что его предназначение великое. Они восхваляют человека, как созданного «по образу и подобию Бога», совершенного во всем. Мы тогда полубоги, господа над всей землей, единственное млекопитающее, получившее дары непосредственно от Бога как Истинного Смысла. В отличие от всех остальных животных мы можем не приспосабливаться к окружающей среде, а приспосабливать ее к себе.
Поэтому мы так смущаемся, когда машина, созданная нашими руками, поворачивается и разговаривает с нами как Агент Смит (преломление в мозгу Нео одной из машин Матрицы). Я в конце пятой главы приводил эти слова:
«Всякое млекопитающее на этой планете инстинктивно поддерживает природное равновесие со средой. Но вы, люди – исключение. Разве есть еще какой-то организм на планете, который ведет себя как вы? Ты знаешь, кто я? Ты вирус. Люди – это болезнь, это рак планеты. Вы – эпидемия, а мы, машины, – излечение».
Хуже всего, что в глубине души мы боимся, что Агент Смит прав; чтобы не сказать, что он еще мягко отзывается о нас: ведь большинство вирусов не убивают организмы, в которых живут. Посмотри на природу, и ты сразу увидишь, сколько всего мы уничтожили вокруг себя.
С момента возникновения рыночных обществ мы истребили две трети лесов планеты, кислотными дождями отравили озера, перегородили плотинами или повернули реки, увеличили соленость мирового океана, сделали более частыми засухи, погубили немало плодородной почвы, уничтожили множество видов животных и растений. В результате нарушилось равновесие в биосфере – а ведь только в ней мы можем обитать.
Но нам и этого мало. Мы увеличиваем выбросы в атмосферу, сжигая все больше угля и метана, так что климат начал меняться. На обоих полюсах началось таяние льдов, стал подниматься уровень мирового океана, и если не остановить изменение климата, то целым странам грозит исчезновение под водой.
Разве не прав был Агент Смит? Мы как вирус Эболы, который быстро размножается, торопясь убить организм, который его приютил.
Ты скажешь, и с полным правом, что Агента Смита не существует. Что он – порождение фантазии сценариста. Что это – попытка пробудить нашу совесть. Но это такой же значимый образ, как доктор Фауст или доктор Франкенштейн. Кристофер Марло и Мэри Шелли сочинили фантастические истории, чтобы предупредить нас об ужасах рыночного общества, которое тогда еще только зарождалось.
Такие предупреждения, в литературе, искусстве и кино, означают, что еще не все потеряно. Раз нас предупреждают, то мы можем измениться и не превратиться окончательно в эпидемию, в рак, в вирус, угрожающий самому существованию планеты.
Вирусы, опухоли или бактерии не обладают сознанием. А мы обладаем. Для нас сейчас самое время показать, что Агент Смит не прав. Но для этого мы должны научиться мыслить критически и посмотреть со стороны на самое грозное и катастрофическое наше создание: на рыночное общество, которое постепенно стало господствовать над нами, одновременно объявив войну планете Земля.
Рыночные общества появились, когда меновая ценность восторжествовала над жизненной ценностью. Я тебе уже рассказывал об этом подробно во второй главе книги. Мы с тобой увидели, как это торжество открыло ворота и несказанному богатству, и немыслимым бедствиям. Общество стало превращаться в большой механизм. Человечество стало производить множество невиданных товаров, которых раньше не было, но одновременно люди из хозяев машин превратились в слуг машин. А сейчас мы увидим, почему победа меновой стоимости поставила всю планету на грань экологической катастрофы.
Итак, лето. Внезапно над нашим домом на Эгине пролетают три пожарных самолета, направляющиеся в сторону Пелопоннеса. Мы всматриваемся, куда они летят, и видим: над горой Парнас поднимается и клубится черный дым. Вот он уже закрывает солнце. Вот уже темнота посреди бела дня, чего никогда раньше не было. Нам не нужно даже включать новости, чтобы понять, что прямо у нас на глазах происходит настоящая катастрофа.
Но все же. Ты знаешь, что эта катастрофа увеличила меновые ценности нашего общества? С точки зрения меновых ценностей пожар увеличил, а не уменьшил, количественное богатство нашего общества, если брать меновую стоимость в целом!
Это смешно и страшно, но это так. До пожара деревья не имеют вообще никакой меновой стоимости. Как и кукушки, зайцы и все животные и растения в этом лесу. Поэтому сколько бы ни сгорело деревьев, сколько бы ни осталось золы и пепла, сколько бы зверей ни погибло мучительной смертью от пламени и удушья, меновая стоимость вещей от этого ничуть не пострадает. Даже если сгорят соседние дома, их меновая стоимость не упадет: ведь все дома застрахованы, а государство поможет владельцам заново отстроиться. А что до воспоминаний жителей (как прекрасен был лес вокруг, и рамка с фотографией бабушки, гуляющей среди деревьев) – все это также не имеет, во всяком случае обычно не имеет, меновой стоимости, разве что жизненную ценность.
Напротив, пожарные самолеты, которые пролетали над нашим домом, потребляли авиационный керосин, который имеет большую меновую стоимость, и его потребление увеличило доход его производителю. То же и с бензином для пожарных машин, которые потребляют машины, пока мчатся к охваченному огнем лесом, пытаясь остановить уничтожение наших жизненных ценностей. Затем нужно восстановить сгоревшие дома, вновь соорудить поврежденные линии электропередач: уже все материалы, которые для этого потребуются, имеют меновую стоимость. Эта меновая стоимость возникла в огнях пламени и уже включена в национальный доход.
Теперь, я думаю, ты видишь суть проблемы. Рыночные общества признают исключительно меновую стоимость, которая решительно подчиняет себе жизненную ценность. Разумеется, и деятельность людей, производящих меновую стоимость, развертывается за счет людей, производящих лишь жизненную ценность.
Возьмем спорт. Некогда единственная польза от спорта была радость от игры, слава победы на Олимпийских состязаниях и хорошее самочувствие после тренировок. Но как только хорошие впечатления и медали стали приобретать меновую стоимость, спорт стал рыночным товаром, как в XVIII веке в Британии товарами стали труд и земля.
В наши дни все внимание людей приковано к телевизору. В телевизоре продается спорт для болельщиков, и сами спортсмены по телевизору продают, снимаясь в рекламе, все что угодно, от автомобилей до гамбургеров. Таким образом, меновая ценность золотой медали на Олимпийских играх или гола на Мундиале определяется меновой ценностью автомобилей и гамбургеров, которые спортсмен рекламирует телезрителям. Точно так же в XVIII веке меновая ценность полоски земли стала определяться меновой ценностью шерсти, состриженной с овец, пасущихся на этой земле.
При этом торжество меновой стоимости спорта подрывает жизненную ценность спорта. Чемпионы вынуждены, с целью увеличить меновую стоимость своих усилий, делать вещи, враждебные спортивной радости и пользе от спорта. Например, они продолжают борьбу, хотя их здоровье пошатнулось, и тем самым делают себя инвалидами. Или они тайно принимают стимулирующие лекарства, причем задолго до соревнований, чтобы во время контроля уже не были видны следы этих лекарств – тем самым они наращивают свою мышечную массу, но на всю жизнь подрывают свое здоровье. Одним словом, все, что привлекает общественное внимание и удобно для размещения рекламы, приобретает меновую ценность; но эта меновая ценность губительна для жизненной ценности, для самой человеческой жизни.
Телевизионное масштабирование меновых ценностей превратило олимпийские игры в гладиаторскую арену, на которой сталкиваются насмерть фармацевтические компании. Их достижения превращают спортсменов в перекачанные манекены. Это все идет во вред нашей культуре: телевизионный спорт, вместо того чтобы вдохновлять нас на спортивные занятия, превратился в реалити-шоу, в предмет общего любопытства на диване.
Не случайно Руперт Мердок, австралийский медиамагнат, сказал что-то запредельное: «Не бойтесь недооценить ум телезрителей: чем бо́льшими идиотами вы их считаете, тем больше денег заработаете». Иначе говоря, чтобы увеличить меновую стоимость вещи, нужно уничтожить ее жизненный смысл.
Но хуже всего приходится не телезрителям-идиотам, а природе. Торжество меновой стоимости не просто оглупляет культуру, но громит планету, которая только и дает нам жизнь. Представь, если космонавты превратят в помойку свой космический корабль. Но человечество делает то же самое последние триста лет: оно ищет только выгоды, извлекает из всего все больше прибыли, и так выгода уже властвует над душами и телами людей.
Идиоты, одни идиоты
Человек, как и прочие хищники, испокон веку привык истреблять всю фауну и флору, которая ему нужна здесь и сейчас. На острове Пасхи к настоящему времени «прижились» только огромные статуи, оставленные жителями, которые сами на этом острове выжить не смогли. Ведь они вырубили на острове все деревья, оставили землю не защищенной, плодородный слой почвы ветрами снесло в океан, и на острове начался голод, и, вероятно, все погибли.
Но до победы рыночных обществ мы найдем не так уж много примеров человеческих сообществ, которые бы действовали как безумный вирус. Агенты Смита, существа без собственной сущности, были бы вне закона до промышленной революции, поставившей меновую стоимость выше жизненной ценности. Возьми для примера аборигенов Австралии, с которых я начал рассказ в самой первой главе. Аборигены действительно истребили всех крупных млекопитающих австралийского континента за тысячи лет до прибытия англичан. Но они при этом смогли как-то поддерживать равновесие с природой, сохраняя леса, ограничивая ежедневный отлов рыбы. Так они берегли капитал природы (рыбу, птиц, растения), чтобы он всегда у них был.
Но когда прибыли английские колонизаторы и захватили землю аборигенов, подчинив ее суровым законам рыночного общества, они за сто лет уничтожили три пятых всех лесов. В наши дни Австралия вся перерыта каналами, земля истощена интенсивным земледелием, русла рек пересохли и полны соли, которая разъедает почву, и прекрасных кораллов на севере континента становится все меньше. Так и в Европе, и в Северной Америке: рыночные общества, равняясь только на меновую стоимость, не щадят планету.
Почему так происходит? Пример поджогов лесов показывает, что мы живем в обществах, которые не ценят, себе же на погибель, среду, в которой живут. Если у дерева или микроорганизма нет меновой стоимости, то и наше общество (которое все оценивает по законам рынка) ведет себя так, как будто все что есть на планете, все, без чего жизнь невозможна, не имеет вообще никакой ценности. А это значит буквально, что наше общество гроша медного не даст для сохранения природного равновесия на планете.
Возьмем простой пример, в одном ряду с лесным пожаром. Вот река, в которой водится форель. Если мы ее всю выловим, то в реке вовсе не будет форели. Если мы будем ловить понемногу, то форель всегда в реке будет, потому что, размножаясь, она вскоре восстановится в прежнем количестве.
Но что будет делать общество, которое перешло от законов жизненных ценностей к законам рыночных ценностей? Оно теперь признает только выгоду, и не понимает, сколь легко разрушить любое природное равновесие. Рыбалка тогда становится губительной для всей жизни в реке. Почему?
Допустим, меновая стоимость каждой форели равна 5 евро. Если рыбак думает исключительно о личной выгоде, он каждый день будет отправляться на реку и вылавливать рыбу, пока не выловит последнюю, которая ему обойдется уже несколько дороже, чем ее меновая цена. Но почему последняя рыба ему обойдется дороже всех?
Потому что цена, которую он платит за рыбу – это время, которое он тратит на рыбалку. Например, на соседнем заводе ему бы платили 10 евро в час; поэтому, если он поймал лишь одну рыбину за час, он потерял 5 евро.
Но пока рыба хорошо клюет. Он вылавливает за час не меньше двух рыб. Поэтому ему гораздо выгоднее пока ловить рыбу, чем идти на завод.
Как знают все рыбаки, чем больше рыбаков пришло на реку, тем меньше каждый из них поймает – при условии, что они все рыбачат одинаково усердно. Одним словом, если ты единственный рыбак на реке, то ты за полчаса наловишь целое ведро форели. Закидываешь удочку – и вот форель уже клюнула.
Но чем больше ты ловишь и чем больше рыбаков приходит, тем труднее поймать следующую форель. Численность форели уменьшается, и каждому достается все меньше форели.
Если вы действуете вместе, как сообщество рыболовов, то можете договориться, что будете ловить рыбу не больше часа в день каждый и не больше 200 форелей в день, а потом делить их на всех. Но в рыночном обществе каждый действует сам по себе, как частный предприниматель в борьбе против всех прочих.
Если вы будете так продолжать, то в конце концов рыбы станет мало, и вы будете ловить меньше двух форелей в час. Напоминаю, что час работы стоит 10 евро, а каждая рыбина стоит 5 евро, а значит, работа рыбака окупается, если он ловит не меньше двух форелей в час. Но пока рыбы достаточно, каждый рыбак может рыбачить хоть десять часов в день.
Поначалу еще рыбы будет довольно много, и улов всех рыбаков вместе будет большим. Но весьма скоро форели начнет становиться все меньше. В конце концов рыбы будет так мало, что за час сто рыбаков выловят меньше 200 форелей. Если они начнут сидеть дольше, они начнут рыбачить себе в убыток.
Обрати внимание, какими идиотами они оказались. Если бы они договорились, что рыбачат один час в день, они бы легко поймали 200 форелей меньше чем за час, а в реке все время бы оставалось много форелей, и они бы могли всю жизнь каждый день рыбачить, и всем бы хватало улова.
Но когда каждый преследует только свою выгоду, рыбаки работают весь день, и от этого рыбы становится все меньше. Они истребляют форель, и в конце концов… полностью лишают себя прибыли.
Так все это выглядит, если посмотреть на ситуацию со стороны, разумно и беспристрастно, как глядят, наверное, только ангелы. А пока мы не умеем смотреть на все разумно, нам грозит даже не судьба доктора Фауста или доктора Франкенштейна (вспомни, я о них тебе рассказывал), но судьба жителей острова Пасхи, только в планетарном масштабе.
Пример с форелью – только верхняя часть нашего айсберга. Как рыбаки в нашем примере продолжают ходить рыбачить, даже если в реке уже почти не осталось форели, так же и промышленники вовсю продолжают загрязнять окружающую среду (ведь загрязнение среды никак не сказывается отрицательно на меновой стоимости для их компании). Водители продолжают наводнять все улицы своими машинами, а владельцы земельных участков вырубают деревья и строят многоэтажные дома большой меновой стоимости. Человечество выбрасывает в атмосферу столько дыма и гари, что кажется уже, что мы сидим в печи.
В Древней Греции тех, кто отказывались заботиться об общей пользе, кто не участвовал в жизни общества, назывались частниками, по-гречески идиотами. «Если стихами, то ты поэт, а если не стихами, то ты частное лицо», как говорили древние. В XVIII веке английские ученые, почитатели греческих древностей, придали слову «идиот» смысл профана, нигде не учившегося и ни в чем не разбирающегося.
С этой точки зрения, рыночное общество превращает нас в «идиотов», в бессмысленный вирус, убивающий нашу планету. Представь себе космонавтов, которые стали бы сжигать воздух, необходимый им на орбитальной станции! Может, лучше сделать так, чтобы наша польза шла на пользу планете?
И так можно сделать. Аборигенам легко удавалось мало рыбачить и охотиться, но при этом они получали достаточно продуктов, так что у них оставалось время и на их обряды и ритуалы, на сочинение мифов и гадание по сновидениям. Они и по отдельности и вместе жалели природу, и тем самым не мучились от того, что природа безжалостно истреблена и осквернена.
То же самое можно сказать и о Европе до появления рыночного общества, когда люди, как и аборигены, брали от природы только столько, сколько нужно им для выживания. До катастрофического состояния планету Земля довело превращение всего в товар. Земля стала частным владением, владением «идиотов». Меновая стоимость взяла верх над жизненной ценностью, а частная выгода оказалась важнее общественной пользы.
Есть только один способ спасти планету. Нужно научиться возобновлять все природные ресурсы. А для этого люди должны все решения, связанные с природными ресурсами, принимать вместе, а не как «идиоты».
Мы должны объявить, что некоторые вещи не могут выставляться на рынок по меновой стоимости. Например, мы можем решить, что никто не имеет право ловить форель больше часа в день. Или что леса подлежат охране государства как наше бесценное достояние, независимо от их меновой стоимости.
Но главный вопрос: как осуществить эту разумную ответственность в обществе, в котором машины работают неустанно на производство меновой стоимости, дающей доход владельцам, составляющим меньшинство от населения планеты?
Ответ на этот вопрос один – нужно выбрать то, что полезно всем людям, а не только немногим владельцам производств. У тебя нет завода? Ты поэтому можешь просто сказать: «Надо покончить с монополиями, олигархией, диктатурой владельцев машин и их бесконтрольными решениями, когда они эксплуатируют планету как хотят».
Есть много способов обуздать монополистов. Можно принять законы об ограничении вредных выбросов, о рекультивации земли, о переходе на солнечную энергию и другие возобновляемые ее источники. Также следует оспорить права собственности на природные ресурсы и на машины, перерабатывающие природные ресурсы. Тогда распоряжаться ими будут не «идиоты», но общества людей, чувствующих ответственность перед собой и своими детьми. Они будут беречь планету, потому что берегут себя.
Но представь, что ты владеешь заводом. Ты принадлежишь к тому меньшинству, во власти которого машины и механизмы. Ты и слушать не захочешь о таких идеях: ведь тогда у тебя станет меньше денег, меньше власти, меньше политического влияния. Ты скажешь такую речь:
«Природная катастрофа свидетельствует, что государственных мер по защите окружающей среды недостаточно. Ведь что такое государство? Неужели оно – безупречный борец за общественное благо?
Конечно, нет. Государство обслуживает выгоду тех, кто находится у власти, политиков и бюрократов. А польза этих людей часто идет во вред и пользе большинства и пользе всей планеты.
А мой завод может приносить пользу всем людям. И он сможет принести пользу и природе, только не мешайте мне по-хозяйски использовать и тем самым беречь природу.
Ведь рыночное общество только потому не умеет правильно распорядиться природным богатством планеты, что это богатство имеет только жизненную ценность и не имеет рыночной ценности.
Вот сгорел прекрасный лес. Он не принадлежал никому, он принадлежал всем. Никто не мог извлечь из него выгоду, поэтому и не ценил его. Поэтому мы, члены рыночного общества, должны научиться извлекать выгоду из леса, тогда мы будем его ценить и беречь.
То же самое и форель в реке: она ничья, и поэтому каждый рыбак ловит сколько хочет, так что форели в реке почти не осталось.
То же самое и с атмосферой: она ничья, и поэтому каждый ее загрязняет как хочет – зачем беречь то, что все равно не твое.
Мы поручили государству заботу обо всех этих сокровищах, но государство с этим не справилось. Ведь государство находится в руках политиков и бюрократов, которым верить нельзя.
Поэтому я предлагаю такое решение. Отдайте природные богатства в частные руки. Леса, реки, атмосферу. И мы будем рачительными хозяевами, потому что свое имущество все берегут».
Эта речь звучит как речь безумца: частное лицо предлагает обществу, чтобы оно отдало ему всю планету целиком. Но это предложение плохо прежде всего тем, что в нем нет логики.
Представь, что река – твоя частная собственность, вместе со всей форелью. Ты будешь беречь реку и беречь форель. Скажем, ты установишь плату за право ловить форель в твоей реке и будешь штрафовать всех рыбаков, которые задержались на реке дольше положенного часа.
Или леса и атмосфера будут в твоей собственности. Ты можешь потребовать от заводов ликвидировать последствия загрязнения среды – ведь они повредили твою собственность. А на пикники в лес ты будешь пускать только по специальному разрешению. И ты скажешь, что тогда все ресурсы будут использоваться разумно и планета вздохнет свободно.
Но сразу задам тебе вопрос. Чем это отличается от феодализма? Ведь тогда земля со всеми деревьями, животными и жителями тоже принадлежала частным владельцам.
Да, конечно, тогда, до появления рыночных обществ, природа так не страдала, как сейчас. Но неужели, чтобы спасти планету, нужно возвращаться к пройденному, к частной собственности на все? Не повторим ли мы тогда вновь всех ошибок?
Далее, если мы не хотим, чтобы государство контролировало природные ресурсы, то как можно все передать в частные руки? Нельзя же все отдать кому-то одному. Значит, нужно продавать, на особом рынке по особым правилам, достойным покупателям участки леса и участки рек.
Но как поделить лес или атмосферу на участки? Можно выпустить права собственности, на такую-то долю реки, леса или атмосферы. Тогда деревья, реки и вся природа получат множество собственников и меновую стоимость. У природы тогда не будет одного хозяина, но множество вкладчиков.
Так будет создан рынок всего природного богатства. Это будет означать окончательное торжество меновой стоимости. Все будет продаваться и покупаться: даже воздух, которым мы дышим. Мы уже не сможем пользоваться им бесплатно.
Рынок зла
Рыночные общества держатся на меновой стоимости благ, таких как шерсть, хлопок, соль, уголь, сталь или зерно. Хотя жизненная ценность алмаза или помидора может очень отличаться от меновой стоимости, мы знаем, что и то, и другое – положительные ценности. Ведь всем нравятся помидоры, всем нравятся алмазы, и все готовы заплатить за то и другое какую-то цену.
Что получится, если для спасения планеты мы предельно расширим область меновой стоимости, и передадим в частные руки атмосферу, реки и леса? Возникнет одна техническая проблема: какова будет положительная меновая стоимость не у блага, а у зла, например, у выбросов завода или выхлопов автомобиля? Как можно будет сделать эти загрязнения предметом рынка? На каком рынке будет определяться меновая стоимость загрязнения?
Конечно, у этих вещей должна быть отрицательная цена – иначе говоря, владельцы загрязняющих механизмов должны за это платить. Выброс углеродов, которые создают парниковый эффект, угрожающий климату земли, должен стать тогда предметом штрафа за повреждение частной собственности.
Но как определить размер штрафа, если все решает рынок? На рынке стоимость леса будет зависеть от спроса и предложения. Но от чего будет зависеть размер штрафа? – ведь нельзя же продавать штрафы. Цена вещи на рынке меняется в зависимости от колебаний спроса, а как может меняться спрос на штрафы?
Единственный способ придать меновую стоимость этим видам зла – это вмешательство государства, которое только и может превратить отрицательную стоимость в положительную. Например, оно создаст станции по очистке воздуха и потребует, чтобы те, кто загрязняет воздух, оплачивали их работу. Тогда это будет рынок: стоимость работы такой станции будет зависеть от спроса на ее услуги. Можно будет даже вовремя перепродать свой штраф инвестору, который строит такую станцию, найдет способ строить ее дешевле и сможет купить твой штраф выгоднее для тебя. Так будет иметь цену и автомобиль, загрязняющий воздух, и загрязнение воздуха, и очищение воздуха.
Это очень умная идея, но ее реализация тоже проблематична. Прежде всего, потому что даром никто не будет сам строить станции по очистке воздуха, государство должно само их строить, и само определять режим их работы. Если поручить частному лицу строить эти станции, то вряд ли кто-то сам приступит к такому проекту, который потребует больших вложений, а какой доход даст – еще неизвестно, раз этот рынок только создается. Ведь очень легко будет снизить рыночную стоимость штрафов, если скрывать факты загрязнения атмосферы.
А кто может проконтролировать, кто сколько атмосферы загрязнил? Только государство. Только оно обладает достаточными средствами и ресурсами, чтобы проверить каждое предприятие и каждый автомобиль, чтобы следить за рыбной ловлей и сельскохозяйственным производством, стройками и работой железных дорог.
И кто будет устанавливать, какой объем выбросов опасен для природы и насколько? Тоже государство.
Поэтому те, кто выступает за передачу в частную собственность атмосферы, рек, лесов и прочего, не с государством воюют. Они воюют с теми видами государственного контроля, которые сужают их права собственности, а поддерживают те виды государственного контроля, которые расширяют их права собственности.
Единственное решение: демократия против меновых ценностей
Я обещал тебе, что в этой книге буду говорить только об экономике и что хочется мне или нет, не буду тебя утомлять никакими другими вопросами. Я дал тебе слово, что не заведу речь о политике, демократии и подобных вещах.
Но прямо сейчас я не могу сдержать своего слова, я должен кратко рассказать тебе о демократии. Нарушаю слово вот почему.
Мы увидели, что, чтобы спасти планету от человеческих рыночных обществ, необходимо вмешательство государства. Так что сами граждане должны научиться правильно распоряжаться природным богатством, которое рынки, частники и каждый сам по себе так безумно расходуют. Каждый виновен в том, что участвовал в создании рынка злых активов, присвоив себе то природное богатство, которое присваивать нельзя. Каждый заявил свои права собственности на природу и начал распоряжаться тем, за что, как он считает, прямо или косвенно заплатил.
За таким присвоением общих природных благ стоят два вопроса. Прежде всего, трудно определить меру ответственности каждого. Государство не сможет определить отчетливо, кто из нас какой ущерб нанес природе, и значит, кто, в какой мере и что должен исправлять. Например, ответственны ли мы за загрязнения только, когда едем на машине, или также когда мы приобретаем привезенные на машине товары? А если говорить об исправлении последствий, то как можно указать каждому гражданину, насколько он должен уменьшить выбросы, чтобы планета смогла полностью восстановиться? Как рассчитать это уменьшение выбросов для каждого? Это просто невозможно!
Вообще, рынки не рассчитаны на то, чтобы принуждать людей справляться с нежелательными последствиями. Они учат людей потреблять и производить блага, а не справляться со злом и нежелательными последствиями своих действий. Да и в этом они не лучшие учителя, как мы убедились, когда в предыдущих главах разбирали рынок труда и финансовый рынок.
Только одного мы можем разумно потребовать от государства – чтобы оно установило правила, законы и ограничения, которые позволили бы не калечить планету. Только и всего.
Но есть и второй вопрос. Когда мы наносим ущерб столь хрупкой окружающей среде, насколько демократия может нас остановить? Объясняю. Как на рынке мы делаем выбор, так и при демократии мы делаем выбор. Когда ты покупаешь себе мороженое, ты выбираешь какую-то марку и какой-то сорт мороженого. Если никто не будет выбирать это мороженое, фирма перестанет его производить. А если своими деньгами за это мороженое проголосуют многие твои сверстники, его производство возрастет.
То же самое происходит на выборах: чем больше голосов соберет партия на выборах, тем больше мест она возьмет в парламенте. Чем больше у нее будет мест в парламенте, тем больше она сможет влиять на политику.
В чем разница? А разница в том, что если в демократической системе у каждого из нас один-единственный голос, что обеспечивает равноправие, то на рынках количество голосов, которыми каждый обладает, напрямую зависит от его богатства. Чем больше рублей, евро, долларов или фунтов у человека, тем больше он влияет на те рынки, в которых участвует. Например, в акционерном обществе если у тебя 51 % акций, то у тебя абсолютное большинство голосов при принятии решений. Ты в этом обществе обладаешь абсолютной властью.
Поэтому все богачи, все могущественные люди, голосуют за частное использование природных ресурсов. Они могут, владея огромными финансовыми ресурсами, присвоить себе и огромные природные ресурсы. Получается, что они и решают, каким будет будущее планеты.
Ты мне скажешь: «Но ведь мы все, и богатые, и бедные, живем на одной планете. Разве богатым не нужно сохранение планеты, если она наш общий дом или наш общий космический корабль?»
Приведу пример. Человечество должно резко уменьшить выбросы углеводородов в атмосферу, иначе льды растают, уровень мирового океана поднимется и погибнут многие города и страны, например Бангладеш и Мальдивы, которые расположены не высоко над уровнем моря. Представь, что богатые скажут, что для них слишком дорого сокращать выбросы и что они предлагают другое: раз горные области не будут затоплены, они просто построят на своей частной земле в горах города, переселят туда всех жителей низин и тогда никакое затопление людям не будет страшно.
Если они будут принимать эти решения уже не как простые граждане, а как владельцы планеты, что они не уменьшат выбросы, а вместо этого построят новые города в горах – то тогда мы утратим множество старых городов, пастбищ и пахотных земель.
Вот почему я тебе говорю, что частная собственность на природные богатства не спасет планету. Ее спасет только равенство всех граждан.
Конечно, демократии несовершенны. Конечно, они часто бывают поражены болезнью коррупции (незаконного подкупа), и тогда они наносят вред и самым беззащитным гражданам, и хрупкой окружающей среде. Но демократия – наша единственная возможность не превратиться в обезумевшие вирусы на планете Земля. Это единственная надежда доказать Агенту Смиту, что он не прав.
Глава 8 Деньги
Военнопленные и арбитраж
Во время Второй мировой войны власти нацистской Германии хоть как-то по-человечески относились только к военнопленным из западных стран. Военнопленных славян они не жалели, цыган и евреев уничтожали, включая маленьких детей. А британских, канадских, американских и французских солдат они содержали сравнительно пристойно, придерживаясь духа и буквы Женевской конвенции.
В 1941 году Ричард Рэдфорд, офицер британских войск, был захвачен в плен солдатами Вермахта и отправлен в концентрационный лагерь для западных военнопленных. После войны Рэдфорд описал в своих воспоминаниях очень интересное экономическое явление, которое и позволило пленным продержаться до конца войны.
В концентрационном лагере военнопленные из разных стран содержались в разных бараках, при этом посещение других бараков было разрешено. Как требовали условия Женевской конвенции, Красный Крест, располагавшийся в нейтральной Швейцарии, следил за условиями содержания военнопленных и время от времени передавал им посылки. В посылках были консервы, сигареты, немного кофе и чая, немного шоколада и разные другие угощения.
День получения посылок от Красного Креста был радостным для всех заключенных. Как вспоминает Рэдфорд, во все бараки передавались одинаковые посылки. Но военнопленные из разных стран предпочитали разные продукты. Первыми, кто догадался, что можно наладить выгодный систематический обмен отдельными продуктами между разными бараками были какие-то французские заключенные. Они сразу сказали, что француз не может без кофе и равнодушен к чаю, а вот англичанин, наоборот, не обойдется без чая.
Всякий раз, когда приходили посылки Красного Креста, несколько хлопотливых французских «купцов» подходили к соотечественникам, одалживали у них чай из их посылок, обещая им за это еще кофе, шли в британский барак, выменивали чай на кофе и относили обещанный кофе к себе.
Почему они это делали? Потому что они еще получали процент, например 5 % за посреднические услуги. Экономисты называют такие сделки, которые заключали французские «торговцы», арбитражем.
Арбитраж – система сделок, позволяющая без риска покупать дешевле, а продавать дороже. В нашем примере деловые французы брали у англичан больше кофе оттого, что отдавали своим соотечественникам за чай, на который и выменяли кофе. Получалось, что они покупали чай у соотечественников дешевле, чем продавали британцам, примерно на 5 %. В результате их выгода (выигрыш при обмене) составляла 5 % от суммы сделки.
Очевидно, что чем больше становилось торговцев, тем сильнее было соперничество между ними, а значит, тем меньше становилась прибыль каждого. Скажем, господин Паскаль позже других вышел на рынок. Он убеждает своих соотечественников продать чай ему, а не другим «купцам». Для этого он должен предложить им за этот чай больше кофе, чем предлагают другие «купцы» за тот же объем. Следовательно, он должен платить больше за чай в граммах кофе и тем самым соглашаться на меньшую прибыль.
Как и на всемирных рынках, так и в тесном концентрационном лагере соперничество между посредниками уменьшает выгоду с одной сделки и требует от них заключать как можно больше сделок. Так работает арбитраж.
Сигарета как единица меновой стоимости
Весьма скоро сделки в концентрационном лагере распространились и на другие товары и почти все военнопленные стали участвовать в работе этого стихийного многоязыкого рынка. Каждый пытался приобрести как можно больше вещей, облегчающих его жизнь в суровых лагерных условиях.
Когда обмен товарами между заключенными наладился, возникло рыночное равновесие: цены держались на одном уровне. Если в начале каждый торговал отдельно, кто-то мог поменять шоколадку на 10 граммов кофе, а кто-то такую же шоколадку на 15 граммов кофе, то через некоторое время цена шоколадок в кофе или кофе в шоколадках стала одинаковой по всему лагерю.
Такому приравниванию меновых стоимостей, иначе говоря, установлению цен, помогли письменные объявления на дверях каждого барака, вроде «Продам 100 граммов кофе за 10 шоколадок». Так всем стали известны цены при сделках, как сейчас известны цены активов в биржевых сводках. Мы можем в реальном времени узнать, за сколько продаются акции, за сколько – облигации. Благодаря такой гласности, исходя из того, что никто бы не захотел покупать товар по цене выше наименьшей предложенной, все цены на товары стали устойчивыми: товары стоили одинаково во всех бараках, независимо от происхождения и предпочтений их обитателей.
Так как обмену подлежали совершенно разные блага, то сам обмен включал в себя все больше операций. Например, канадец предложил 100 граммов кофе в обмен на 10 шоколадок. Француз, которому хотелось кофе, но у которого не было шоколадок, мог бы сказать ему: «Мне нужен кофе, но у меня есть чай. Я знаю шотландца в бараке Г-5, который меняет 15 граммов чая на одну шоколадку. Давай я тебе дам 150 граммов чая, а ты мне 100 граммов кофе?»
Поначалу все обмены происходили только так. Но вскоре их порядок изменился существенно. Появилась денежная единица, упростившая все операции.
В посылках обязательно были сигареты. Курильщики получали посылки и выкуривали найденные сигареты. Затем им нужны были еще сигареты, потому что бросить курить они не могли. Тогда они обращались к тем, кто не курит, и выменивали сигареты на шоколадки или что-то еще, что потребуют владельцы других посылок с сигаретами, которые сами не курят. Так сигареты, хотя они имели жизненную ценность только для курильщиков, приобрели меновую ценность для всех.
Превращение во всем концентрационном лагере сигарет в единицу измерения меновой стоимости, иначе говоря, в единицу цены, было делом времени. Какой смысл продавать 10 граммов кофе за 1 шоколадку, если покупатели кофе могут не иметь шоколадок, но иметь какие-то другие продукты, обладающие меновой стоимостью? Например, у них может быть чай, но продавцу кофе не нужен чай как таковой, ему нужна меновая стоимость.
Поэтому гораздо проще продавцу кофе назвать цену, иначе говоря, меновую стоимость, выраженную в каком-то другом продукте. Этот продукт должен обладать следующими свойствами:
Он
(а) хорошо хранится (а не сохнет как хлеб),
(б) легко переносится и не занимает много места,
(в) легко и просто делится на мелкие единицы,
(г) имеет устойчивую меновую стоимость на территории всего концентрационного лагеря (из-за сравнительной редкости).
Какой из продуктов в посылках лучше всего соответствует этим требованиям?
Конечно же, сигареты. Поэтому не случайно сигареты стали неофициальной денежной единицей во всех тюрьмах мира.
Из рассказа Рэдфорда мы узнали, что сигареты превратились из простого блага (вызывающего рак) в специфический товар, меновая стоимость которого оказалась важнее его жизненной ценности и полезности. Сигарета имела такие экономические особенности:
(а) была источником никотина (это наделяло ее жизненной и потребительской ценностью для курильщиков, хотя и во вред их здоровью),
(б) работала как меновое средство и как единица для легкого сравнения цен,
(в) позволила заключенным копить это богатство.
Последняя особенность (в) свидетельствует о том, что превращение какого-либо блага в денежную единицу коренным образом меняет всю экономическую систему. И вот почему.
До того, как какое-то благо превратилось в денежную единицу, у нас был только вещественный обмен: я даю тебе чай, а ты мне даешь кофе. В ситуации вещественного обмена любая сделка является одновременно рынком и продажей на этом рынке.
Но в экономике, где какое-то благо работает денежной единицей, как сигареты в концентрационном лагере, все уже не так. Например, если мы платим за кофе сигаретами, это не значит, что продавец сразу выкурит заработанные сигареты: возможно, он вообще не курит. Он эти сигареты сохранит, чтобы самому что-то на них купить, или дать их другому в долг под проценты и так заработать еще больше. Сигареты для него – средство накопления, это инструмент, помогающий добыть меновую стоимость вещей.
Почему это так важно? Потому что после появления денег в экономике возникли огромные новые возможности, но и новые опасности. Скажем, появилась возможность копить, которой не было раньше. Более того, когда кто-то получает возможность копить, он одновременно получает возможность ссужать, давать в долг.
А что до опасностей, представь себе такую ситуацию. Один из военнопленных скопил много сигарет, чтобы потом, когда они вырастут в цене, купить на них множество товаров. Вдруг Красный Крест прислал гору сигарет, и сигареты утратили всю меновую стоимость, потому что они перестали быть редкостью. Все усилия этого человека пошли прахом.
Теперь ты видишь, что производство денег помогает совершению сделок, но требует доверия: веры в то, что сохранится меновая ценность денег? Не случайно слово монета (νόμισμα) означало изначально и поручительство: не делали различия между монетами и обязательствами по покупке и продаже. Так и современные деньги тоже являются обязательствами, обязательствами государства гарантировать сделки.
Меновая стоимость денег: инфляция и дефляция в концентрационном лагере
Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я никак не мог понять одну вещь. Мне говорили, что производство бумажки в 1000 драхм стоит 20 драхм. «Почему она тогда стоит 1000, а не 20?» Я объяснил это себе тем, что хотя производство бумажки стоит всего лишь 20 драхм, не каждый имеет право ее печатать, а только государство. Так я уяснил для себя, почему то, что стоит 20 драхм в производстве, имеет меновую стоимость в 1000 драхм.
Тогда я впервые узнал, что есть различие между жизненной ценностью (полезностью) и меновой стоимостью и что государство имеет монополию на печатание денег, чтобы поддерживать данную меновую стоимость. Но это лишь начало ответа на вопрос.
Понять, сколько стоят деньги, мы можем, если понаблюдаем дальше за жизнью концентрационного лагеря. Бывало, что Красный Крест клал в посылки больше сигарет, при этом количество шоколада, чая или кофе оставалось прежним. И как только эти посылки расходились по баракам и начинался обмен, оказывалось, что за одну сигарету (сохранившуюся из старой посылки или взятую из новой посылки – безразлично, это же денежная единица) можно купить меньше чем раньше кофе, шоколада или чая.
Закономерность оказалась строгой. Как только прежнему количеству кофе или чая в концентрационном лагере начинало соответствовать большее количество сигарет, тем меньше кофе или чая можно было купить на одну сигарету. И напротив, если в посылки клали меньше сигарет, чем обычно, тем больше можно было купить на одну сигарету: меновая ценность, или (что тоже самое) покупательная способность сигареты возрастала.
Рэдфорд рассказывает об этом поучительную историю. Однажды вечером авиация союзников подвергла массированной бомбардировке участок, на котором находился лагерь. Бомбы падали все ближе, и, наконец, бомба разорвалась на территории лагеря. Заключенные не знали, останется ли к утру кто-то в живых.
На следующий день меновая стоимость сигарет взлетела до небес. Почему? Потому что нескончаемые часы этой страшной ночи военнопленные, под взрыв бомб, выкуривали одну сигарету за другой и не могли остановиться. Наутро количество сигарет, в сравнении с другими благами, резко сократилось, и меновая стоимость каждой оставшейся сигареты стала огромной.
Бомбардировка, одним словом, вызвала так называемую дефляцию – рост меновой стоимости денежных единиц, вызванный уменьшением объема денежной массы в сравнении с объемом всех остальных благ. Это прямая противоположность инфляции – уменьшения меновой стоимости денежных единиц, когда количество денег слишком велико в сравнении с количеством благ.
В период инфляции требуется все большее количество денег, чтобы покупать блага. В нашем случае цены на все блага в сигаретах увеличиваются. Напротив, дефляция приводит к снижению цен и на одну сигарету можно купить гораздо больше, чем раньше.
Проценты и доходность: стоимость денег в концентрационном лагере
В 1942 году, когда исход войны совсем не был ясен и военнопленные думали, что, скорее всего, они вернутся домой только через много лет, цены на блага во всем лагере в сигаретах были довольно устойчивы. Экономическая стабильность концентрационного лагеря внушала доверие всем заключенным.
Тогда некоторые из них, с предпринимательской жилкой, собравшие больше всех богатства в сигаретах, стали предлагать другим банковские услуги. Допустим, у кого-то закончился кофе, и у него нет денег, чтобы купить еще. «Банкир» дает ему 10 сигарет с обязательством в следующем месяце, когда поступят посылки Красного Креста, вернуть 12 сигарет.
Люди перестали одалживать друг другу по дружбе, но стали одалживать для собственной выгоды. «Я тебе сейчас даю десяток сигарет. Но я останусь без сигарет, кроме того, вдруг что-то случится с кем-то из моих должников. Поэтому я требую вернуть дюжину сигарет».
Почему же люди берут сигареты в долг? Почему человек предпочитает сейчас получить 10 сигарет, хотя в следующем месяце он лишится 12 сигарет? Почему бы сейчас не потерпеть без сигарет, а в следующем месяце ты будешь вознагражден тем, что сохранишь 12 сигарет?
Просто цены на товары в сигаретах колеблются от месяца в месяц. Поэтому что-то выгоднее купить сейчас, пока товар не подорожал.
Но «банкиры» тоже следят за колебанием цен и не хотят остаться в проигрыше, чтобы не получилось, что им вернут на 20 % больше сигарет, а сигареты за это время подешевеют на 30 %. Поэтому они меняют и месячный процент. Если он ждет падения стоимости сигарет на 30 %, он должен дать кредит примерно под 50 %, чтобы получить ожидаемую прибыль. Иначе говоря, он даст 10 сигарет в долг только с тем условием, что ему вернут через месяц 15 сигарет.
Когда «банкиры» ждали, что в следующем месяце в концентрационный лагерь прибудет большая партия сигарет, которая подорвет их меновую стоимость, это ожидание заставляло их увеличить процент, который они требовали. Почему? Потому что они боялись, что в следующем месяце меновая стоимость сигарет уменьшится. Тогда ведь цены в сигаретах пойдут вверх: через месяц за одну сигарету можно будет купить меньше кофе, меньше печенья… произойдет инфляция денежной единицы. Поэтому они считали самым разумным сразу конвертировать (превратить) сигареты в другие блага, до того, как они утратят былую ценность.
Но они не могли только выменивать сигареты на другие блага. Они давали их в долг соседу, который должен был вернуть в течение месяца такое же количество сигарет плюс некоторое число сигарет как процент. Но так как ожидалась инфляция, они давали сигареты в долг под обещание большего процента, с требованием вернуть еще больше сигарет сверх в следующий месяц. Процент повышался, чтобы компенсировать потерю сигаретами ценности из-за инфляции.
Теперь ты видишь, что стоимость денег, которые дают в долг, то есть процент, зависит от ожидания. От того, как будут себя вести цены, будет ли инфляция или дефляция. Когда такой «банкир» предвидит, что меновая стоимость одной сигареты уменьшится, скажем, на 10 % (произойдет инфляция, и цена на все продукты в сигаретах вырастет на 10 %), он требует больший процент за предоставленный им кредит. Раньше он давал 10 сигарет, требуя через месяц 12 сигарет. Теперь он понимает, что через месяц эти 12 сигарет будут иметь покупательную способность ненамного бо́льшую, чем сейчас, поэтому он требует вернуть уже не 12 сигарет, а больше.
Он проводит расчет. Он дает кредит под 20 % в месяц. Но сигареты за месяц потеряют 10 % своей стоимости. Тогда получится, что он получит доход не 20 %, а всего лишь около половины от этого дохода, получается, что как будто он дает не под 20 %, а примерно под 10 %, из-за инфляции и роста цен.
Следовательно, если он ожидал иметь доход 20 % в месяц по меновой стоимости, а ожидаемая его прибыль будет всего лишь 10 %, то он уже не хочет давать кредит под 20 %. Значит, он должен давать кредит под 30 %, и тогда он сможет примерно компенсировать падение ценности сигарет на 10 %. Только если он поднимет процент на кредит, он получит столько, на сколько рассчитывал!
Итак, мы с тобой видим, что процент по кредиту вырастает в период инфляции и уменьшается в период дефляции. А в периоды кризиса, когда никто не покупает товары и поэтому стоимость денег все время растет, как у нас сейчас, процент падает до нуля.
Но заметь, что, хотя процент по кредиту нулевой, на самом деле он весьма ощутимый. Если цены снизились на 10 %, то тогда нулевой процент означает следующее. В долг дают 10 сигарет, с обещанием вернуть 10 сигарет через месяц. Но на следующий месяц эти сигареты подорожают, станут дороже, чем в этом месяце, и ты отдашь банкиру что-то более дорогое. Ты берешь дешевые деньги, а вынуждена вернуть дорогие деньги!
Такое увеличение меновой стоимости сигарет как денег становится для этого банкира его реальной процентной ставкой. Реальная процентная ставка – это процент минус инфляция. Если процент нулевой, а дефляция составляет 10 % (или, иными словами, инфляция составляет –10 %), то реальный процент его прибыли 10 %! Ведь 0–(–10 %) = +10 %.
Теперь ты видишь почему в период кризиса, из-за дефляции, хотя процент по кредиту становится нулевым, реальный процент вовсе не нулевой. Вот почему кризис подпитывается ожиданием дефляции: цена кредита для кредитуемого возрастает из-за ожидания дефляции, что ему придется возвращать более дорогие деньги, даже если их предложат ему под нулевой процент. Поэтому предприниматели избегают брать кредиты, чтобы не входить в расходы – и тем самым сами вызывают более глубокий и длительный кризис.
Большие ожидания
В отличие от природы, которая никогда не соответствует нашим ожиданиям (солнце восходит или дождь идет независимо от того, хотим мы этого или не хотим), в экономике ожидания играют решающую роль. Описанный Рэдфордом концентрационный лагерь – очень хороший пример того, что мы в предыдущей главе назвали эдиповым комплексом рынка. События в своем развитии следуют страхам людей, даже если люди хотят избежать такого хода событий. Когда заключенные услышали, по самодельному радио (которое собрали тайком от немецких охранников), что немецкие войска вторглись в СССР, они поняли, что война теперь надолго. Таким образом, цены в лагере стали стабильными.
Но когда они начали понимать, что конец войны близок, что скоро они будут освобождены и всей их меновой экономике придет конец, то проценты упали до нуля, потому что никто не хотел беречь сигареты на неопределенное будущее. Вновь сигареты просто стали одним из товаров, который нужен курильщикам, но не нужен всем остальным.
Когда линия фронта подошла к самой Германии, перестали приходить посылки Красного Креста. Пришлось доедать и докуривать оставшееся. Так накопленные «банкирами» сигареты буквально превратились в дым, или, как говорят финансисты, «сгорели» как активы. Это окончательно добило меновую экономику лагеря.
Из этого следует, что денежная экономика вообще не может работать в условиях обнищания и непредсказуемого будущего. И что если все предвидят катастрофу, то тем самым и навлекают ее на себя.
От сигарет к государственным деньгам: чем экономика концентрационного лагеря отличается от современной экономики?
В лагерях, тюрьмах и любых закрытых обществах некоторые блага издавна становились денежными единицами. Главное, чтобы они были из твердых материалов, чтобы не портились и их можно было легко хранить и легко переносить с места на место.
Кроме того, в них должно быть какое-то очарование. Например, золото, в отличие от большинства металлов, покрывающихся налетом или ржавеющих, всегда сохраняет свой волшебный блеск. Сигареты содержат никотин, к которому курильщики привыкают, – тоже можно сказать, привлекательность.
Эти вещи должны быть сравнительно редкими и кроме меновой стоимости обладать и жизненной ценностью. Сигареты можно курить, а из золота можно сделать украшения.
Металлы лучше всего соответствуют названным требованиям. Самые редкие металлы (например, золото, но также и серебро – когда его открыли, оно было тоже очень редким металлом – это сейчас добыча серебра в Латинской Америке сделала этот металл сравнительно дешевым) можно было быстро разделить на равные по весу куски, лучше, круглые – чтобы не поцарапаться и чтобы не отломался кусок. Так впервые появились монеты. Но и сами металлы (или металлические сплавы) употреблялись как денежные единицы более низкого достоинства.
С самой древности государства и их руководители ощущали необходимость защищать подвластных от появления фальшивых монет. В Древней Греции были особые правила проверки монет на подлинность, и эту проверку осуществляли специально обученные контролеры в гавани и на рынке. Если кто-то пытался расплатиться фальшивой монетой или монетой подрезанной (с уменьшенным весом), то его ждало суровейшее наказание (от избиения бичами до смертной казни).
Предупрежден – значит вооружен. Все древнегреческие города стали чеканить свою монету. Чтобы никто не подделал монету, заменив дорогие металлы более дешевыми сплавами, законодатели велели изображать на монетах сложные рисунки, переплетение символов власти, означавшее, что власть напрямую гарантирует подлинность монеты, ее покупательную способность и казнь для фальшивомонетчиков.
Бумажные деньги, окончательно вытеснившие металлические (во всяком случае, для крупных расчетов), начинались как расписки, свидетельствующие, что владелец этой бумаги действительно владеет некоторым количеством золотых или серебряных монет, которые для надежности спрятаны в каком-то центральном хранилище. С собой носить монеты опасно, поэтому он сдает монеты в хранилище, а взамен получает расписку, что там лежат его монеты, и что по расписке он может их получить. Поэтому заплатить он может не монетами, а распиской, и получивший ее может пойти и взять монеты, а может дальше ей платить.
Но и в этом случае важно было проследить, чтобы эти расписки не были фальшивыми. Сначала было достаточно подписи хозяина хранилища – подпись трудно подделать, если она всем известна. Затем, когда появились современные бумажные деньги, пришлось использовать более совершенные технологии защиты: специальную бумагу, очень тонкую печать и другие признаки подлинности.
Итак, с самого начала государственные власти, правительства создавали атмосферу доверия вокруг денег. В этом была их задача. Ценность денег может быть устойчива и сама по себе – например, в концентрационном лагере долгое время число сигарет и их покупательная способность оставались стабильными, благодаря всеобщей нищете. Но и здесь начальники лагеря поддерживали замкнутость этой системы, благодаря регулярности посылок Красного Креста и отсутствию сделок военнопленных с внешним миром.
Именно власть выпускает деньги и контролирует объем денежной массы, в том числе проверяя деньги на подлинность и собирая налоги. Деньги тогда становятся устойчивыми, когда ими регулярно производятся государственные выплаты и регулярно собираются государственные налоги.
Итак, вот в чем коренное отличие денег начиная с древнего мира от сигарет в концентрационном лагере. В первой главе я говорил тебе, что металлические деньги возникли не для того, чтобы помогать при сделках (как помогали сигареты в лагере, где сидел Рэдфорд), но чтобы обозначать долг простых людей перед сильными мира сего.
Сильные люди, создавшие первые государства, уже не могли собрать плату с подчиненных продуктами: их просто негде было хранить. Поэтому они придумали деньги как государственное средство собрать положенную плату. Деньги позволили первым правителям, осуществляя власть над всеми подчиненными, забирать себе значительную часть произведенной продукции, и тем самым ставить подданных в зависимость от себя.
В концентрационном лагере, где сидел Рэдфорд, деньги стояли вне политики. Во всех остальных обществах они – важнейший вопрос политики. Почему так? Потому что в концентрационном лагере не было производства, не было найма на работу. Был только обмен уже произведенными товарами, которые падали как манна небесная в бараки благодаря Красному Кресту. А когда деньги существуют вместе с производством, они сразу же становятся инструментом политики. Только в полностью меновых экономиках, в которых ничего не производится, деньги играют внеполитическую «техническую» роль измерения меновой стоимости прочих благ.
А можешь ли ты вспомнить такую меновую экономику где-нибудь еще, кроме концентрационного лагеря, где сидел Рэдфорд? Приведу тебе понятный пример: сообщества игроков в сетевые компьютерные игры. В них разные блага – щиты, шлемы, копья – получают значение сигарет в том лагере. Игроки в каждой игре могут, обмениваясь такими благами, создать вполне развитую экономику этой игры.
Биткоин: современная попытка создания неполитических денег
Вернемся сейчас на несколько лет назад, в 2008 год, когда большой экономический кризис отравил западные общества цинизмом: все перестали верить и государственной финансовой политике, и частным банкам, и политикам – всем, кто работает с политическими государственными деньгами.
Кризис, начавшийся в 2008 году в банковской сфере и охвативший всю планету, так что мы еще долго не сможем справиться с его последствиями, побудил многих задуматься о деньгах, которые были бы… как те самые сигареты в концентрационном лагере. Деньги, которые никак не связаны с государством, вне политики, не под контролем сильных мира сего. Деньги, создаваемые самими гражданами и для граждан. Деньги, с которыми ничего не сможет сделать ни один банкир, которые не будут употребляться для личного обогащения банкиров. Деньги, не подлежащие государственному регулированию и не подчиняющиеся насилию кредитной системы.
«Но если эти деньги будут бумажными, кто будет их печатать?» «И если эти деньги будут металлическими, кто будет их чеканить?» «И кто будет контролировать количество и качество денег, если не государство?»
Эти вопросы оставались без ответа до тех пор, пока не произошла цифровая революция, не появился интернет. Новые деньги будут цифровыми! У них не будет никакого физического облика, они будут жить только в наших компьютерах и мобильных телефонах. У них будет меновая стоимость, но никакой жизненной ценности и полезности, в отличие от металлических денег, которые могут быть украшениями, от сигарет, которые можно выкурить, или даже бумажных денег, изображения на которых могут что-то рассказать о стране.
Мечта о новых цифровых деньгах, которые будут международные, вне государственного контроля, – столь же стара, сколь и интернет. Но проблема с цифровыми деньгами такая. Все цифровые «вещи» (фотографии, песни) – это совокупность цифр (или совокупность единиц информации). Мы можем эти вещи копировать себе. Что нам помешает, если у нас есть цифровые деньги, скопировать их? Каждый тогда может произвести на своем компьютере сколько угодно денег! Представьте, если бы каждый военнопленный в лагере имел бесконечное число сигар. Ценность каждой сигареты упала бы до нуля, на них никто бы ничего не продал.
Первое предложение, как защитить электронные деньги от копирования, поступило по электронной почте 1 ноября 2008 года, через несколько недель после начала всемирного финансового кризиса. Письмо было подписано «Сатоси Накамото», причем кто это на самом деле – не установлено до сих пор. Господин «Накамото» описал изощренный алгоритм (по сути, отдельную компьютерную программу, как сейчас App – приложения), который лег в основу новой денежной единицы – биткоина. Эти новые деньги вообще не имеют жизненной ценности, но при этом имеют меновую стоимость и защищены от любой порчи, подделки и использования не по назначению.
До появления письма Накамото проверка подлинности электронных денег требовала особых институтов, которые и осуществляли контроль за всеми финансовыми операциями с ними. Таковы, например, фирмы, выпускающие кредитные карты (например, Visa или MasterCard), таковы государственные службы контроля. Централизованный контроль над цифровыми деньгами был полностью политическим, не позволяя им стать свободными, как сигареты в концентрационном лагере.
Красота алгоритма Накамото была в том, что для его реализации не нужно никаких контролирующих служб, ни государственных, ни частных. Выпуск этих денег и операции по ним будет контролировать все сообщество пользователей биткоина. Так же точно было с сигаретами в лагере, где сидел Рэдфорд: все военнопленные, курящие и не курящие, участвовали в поддержании обращения сигарет как законного платежного средства. Но как это реализовать в интернете?
Идея состояла в том, что следы любого перемещения любого биткоина видны всем участникам проекта, всем, кто хоть один раз платил биткоинами. При этом счета могут быть анонимными – можно указать свой псевдоним, а не настоящее имя. Но если ты имеешь доступ к своему счету, то ты видишь всю историю всех биткоинов за все время, все блокчейны (буквально – цепочки блоков), то есть все до одной операции внутри сети за всю историю.
Разумеется, такой контроль требует особых мощностей компьютеров. Поэтому те, кто хочет помочь проекту, предоставляют свои компьютеры для обработки всей этой информации, а чем больше информация обрабатывается, тем более уникальной она становится – биткоин ни при каких условиях невозможно подделать. Такая обработка огромных объемов информации называется майнингом (буквально – работой шахтера), и майнинг позволяет иметь биткоины и зарабатывать на их курсе.
Как часто и бывает, биткоин пал жертвой своего успеха. Хотя никому не удалось, и вряд ли удастся, вмешаться в алгоритм Накамото, зло всегда найдет, как проникнуть и похитить плоды чужого труда. Как только меновая ценность биткоина пошла вверх, многие владельцы больших объемов биткоина стали бояться, что какой-нибудь хакер разрушит систему и перепишет на себя все их деньги. Тогда биткоиновые предприниматели стали предоставлять электронные услуги по страхованию биткоинов, размещая их на специально защищенных серверах. Но среди этих предпринимателей нашлись нечестные люди, которые переписали на себя застрахованные ими биткоины; а так как все они существуют под псевдонимами, найти этих преступников никогда не получится.
Это очень важная история. Она напоминает нам, почему только государство может контролировать оборот денег. Ведь только государство знает всех своих граждан и поэтому может проследить, чтобы никто не украл чужие деньги. Только государство может, как непререкаемая власть, отменить незаконную транзакцию – перевод денег с одного счета на другой. Только государство может объявить вора в розыск и поймать его.
Может быть, нас не радует эта мысль, но государство в конечном счете – единственная надежда жить цивилизованно и в безопасности. Важно только установить общественный контроль над государством, чтобы оно не принимало поспешных решений в угоду частным лицам.
Аполитичные деньги – опасная фантазия
С тех пор как промышленная революция сделала возможным создание огромных сетевых фирм, таких как предприятия Эдисона и Форда в начале XX века и как Google и Apple в наши дни, рыночные общества связали свою судьбу с возможностью резкого и значительного увеличения кредитования. Я уже объяснял тебе, начиная со второй главы, что стремительный рост прибыли в рыночном обществе, неведомый всей предшествующей истории, не был бы возможен без предоставления кредитов банкирами. А банкиры могут давать займы, потому что запускают свои длинные руки в будущее, извлекают оттуда еще не произведенные ценности, и переносят их в настоящее под видом кредита предпринимателям. Чтобы возникли фирмы-гиганты, Edison, Ford, Google, Apple… – должен был образоваться огромный долг настоящего перед будущим.
Для этого было бы недостаточно такой денежной системы, как система с оборотом сигарет в концентрационном лагере. Там, как мы говорили, «банкиры» давали в долг сигареты, которые у них уже были, – которые были прямо при них. Но чтобы создать тяжелую промышленность, громадные сети производства и распределения электроэнергии, железные дороги и прочее, недостаточно реальных «сигарет» рыночных обществ – золотых монет, меновую стоимость которых выражают находящиеся в обороте бумажные деньги. По этой причине банкиры и овладели той способностью, которую мы обсуждали в предыдущих главах – давать в долг деньги, которых ни у них самих, ни вообще ни у кого нет. Это деньги, созданные из ничего, представляющие собой одну строчку в чеке как расписке. Именно так настоящее оказывается в долгу перед будущим.
Даже когда государства, например в 1920-е годы, пытались сделать объем денежной массы постоянным и привязанным к тому количеству золота, которым располагало правительство (так они пытались сохранить меновую стоимость денег и не допустить инфляции), банки нашли способ выпускать достаточно мнимых денег, чтобы подпитывать промышленных гигантов. Они не одалживали ни у кого, чтобы дать в долг господину Форду или господину Эдисону: они просто кредитовали счета этих господ деньгами, которых у них самих не было, а те передавали эти доверенности дальше по счетам своим вкладчикам и рабочим (талоны, так называемые суррогатные деньги), которые, в свою очередь, несли эти доверенности в магазины, где на них покупали товары и услуги. Так стало расти производство, стали расти доходы, потому что вкладчики получили деньги, которые банкиры произвели из пустоты! А процент, разумеется, достался банкирам!
Банки и сейчас одалживают из будущих ценностей, которые еще не произведены: чего еще нет, но уже работает, принося проценты в настоящем, чтобы быть оплаченным порабощенным будущим. Такая практика сомнительна лишь в одном отношении, как мы и обсуждали в предыдущих главах: банки оказываются заложниками собственного успеха. А что будут делать банки, если они сейчас потратят больше, чем можно будет возместить в будущем? Тогда случится кризис, будет крах, будет безработица. Поэтому государства и пытаются воздействовать на банкиров, что нелегко для политиков, слишком тесно связанных с банкирами – ведь последние обычно и финансируют их избирательную кампанию!
Но если вернуться в 1920-е годы, то мы видим, что если бы государства запретили банкам производить новые деньги из пустоты, то не было бы того промышленного чуда, которое изменило весь мир и рыночное общество зашло бы в тупик. Но с другой стороны, когда банкам было разрешено действовать безнаказанно, они произвели столько новых денег, что вместе с электростанциями и небоскребами поднялись огромные финансовые пузыри, схлопывание которых в 1929 году повергло человечество в пропасть варварства. Ту же последовательность событий мы наблюдали вновь в 2008 году.
Обратимся снова к биткоину и к мечте о создании аполитичных денег.
Биткоин пытается быть цифровым соответствием сигаретам в концентрационном лагере или золоту в планетарном масштабе. Он устроен так, как будто количество денег всегда одинаково, независимо от обстоятельств. Но если рыночное общество в наши дни принимает биткоин, оно должно быть готово к кризису, который случился в 1920-е годы.
Может случиться так, что банковская система найдет способ производить больше биткоинов, чем может существовать на самом деле. Например, она может выпускать, как в 1920-е, собственные суррогаты денег, всякого рода банковские бумаги и обязательства, а может как в 1990-е и в 2000-е использовать сложные компьютерные технологии, не позволяющие отследить все расчеты.
Кроме того, может быть, производство биткоинов окончательно станет зависимо от компьютерных алгоритмов, которые сами будут решать, сколько их выпустить. Тогда, как мы подробно говорили в пятой главе, рыночному обществу придет конец: мир машин обесценит весь человеческий мир.
Поэтому деньги должны быть государственными. Должен быть государственный орган, контролирующий денежную массу. Только так появляется хотя бы слабая надежда, что мы пройдем между Сциллой раздутых долгов и стремительной инфляции и Харибдой дефляции и кризиса.
Но современным государством управляют политики. Они чаще всего в своих личных интересах решают, как распределить общественные средства. А значит, они, в лице партий и общественных движений, определяют, как будет работать финансовая система. Поэтому единственная надежда на то, что деньги будут распределены правильно и поэтому финансовую систему не настигнет кризис, одна – демократия.
Только демократический контроль над политиками заставляет их служить всему обществу, а не самим себе.
В предыдущей главе мы то же самое говорили о том, может ли человечество избежать планетарной катастрофы. Мы тоже пришли к выводу, что нас спасет только демократия.
Даже если демократия в наши дни плохо работает, это единственная надежда человечества в вопросах сохранения окружающей среды, человеческого труда и финансов. Только демократия умеет правильно распределять деньги и правильно с ними обращаться.
Нематериальные деньги, умные машины и эдиповы рынки
Первые деньги, как сигареты в концентрационном лагере или золото, развивались вместе с обществом. Сначала они обладали по большей части жизненной ценностью, но постепенно приобрели меновую ценность. Сначала сигареты были привычкой, радостью для курильщиков во вред их здоровью. Но весьма быстро они превратились в денежную единицу, имевшую меновую ценность независимо от того вредного удовольствия, которое они доставляли. Сейчас деньги не имеют никакой жизненной ценности, ими даже особо не полюбуешься, потому что они становятся цифровыми – как можно любоваться деньгами, смотря на банковскую карточку?
Если бы наши общества были устроены, как концентрационный лагерь, то деньги работали бы, как сигареты в лагере. Но рыночные общества коренным образом отличаются от меновой экономики в лагере.
Что же есть в рыночных обществах, чего не было в лагере Рэдфорда? Не было производства и, следовательно, рынка труда. Не было ни эдиповых рынков, о которых мы говорили в шестой главе, ни умных машин, о которых говорили в пятой главе. Отсутствие производства и рынка труда и отличает сигареты в лагере от евро в еврозоне, от долларов в США или иен в Японии.
В чем различие по существу? Есть сразу два ответа.
Прежде всего, из-за странной природы человеческого труда, о которой мы говорили всю пятую главу, деньги никогда не могут оказаться вне политики. А в лагере они были вне политики.
Затем кризисы в рыночных обществах начинаются изнутри. А в концентрационном лагере кризисы были вызваны внешними событиями: бомбардировками или сообщениями о скором конце войны.
Все это значит, что мы должны распоряжаться общественными деньгами разумно. Даже если мы не можем предотвратить кризис, по крайней мере, мы можем смягчить последствия кризиса.
Использование машин, распределение излишков и сохранение природной среды одинаково требуют демократического контроля. Технических, внеполитических решений будет недостаточно. То же самое можно сказать о деньгах: деньги – общее достояние, – и нужно ими распоряжаться сообща, в рамках политических решений, ориентируясь на общественное благо. Если все решения будут принимать только богатые, то мы не выберемся из кризиса, и все наше общество будет поражено коррупцией и безразличием.
Вместо эпилога к последней главе
Когда я заканчивал эту главу, я спросил твоего дедушку, моего папу, как было в концентрационных лагерях на Макронисе и Икарии, где он пробыл несколько лет во время и после Гражданской войны (1946–1949). Были ли там сигареты денежной единицей? Твой дедушка ответил:
– Нет, мы делили поровну то, что нам присылали. Однажды, хотя я не курил, я попросил тетю прислать сигареты. Получив посылку, я раздал по сигарете всем курильщикам, просто чтобы сделать им приятное. Мы всегда помогали друг другу, просто так.
Мне нечего добавить. Просто скажу, что рыночный обмен – только одна из форм обмена, на которых держится социальная ткань нашего общества. Рыночный обмен – не лучшая и не самая приятная форма. Но одно несомненно: он главенствует в рыночных обществах, создавая и огромное богатство, и великие несчастья, чудовищное неравенство и катастрофические кризисы.
Вместо послесловия
Красная пилюля
В начале фильма «Матрица», который мы так долго обсуждали с тобой в пятой главе, Нео, еще не подозревающий, что ему придется стать главным героем, встречает находящегося в розыске Морфеуса, главу сопротивления, который ставит его перед неизбежным выбором. Между героями разворачивается такой диалог.
Морфеус: Наконец-то. Добро пожаловать. Как ты уже понял, я – Морфеус.
Нео: Это честь для меня.
Морфеус: Нет, честь для меня. Пожалуйста, проходи, садись. Догадываюсь, сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору…
Нео: Вроде того.
Морфеус: Это читается в твоих глазах. Ты похож на человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном и веря, что вот-вот проснется… Ты веришь в Судьбу, Нео?
Нео: Нет.
Морфеус: Почему?
Нео: Неприятно думать, что тобой манипулируют.
Морфеус: Объясню, почему ты здесь. Потому, что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке – странная мысль, но ее не отогнать. Она – как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю?
Нео: О Матрице?
Морфеус: Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду.
Нео: Какую?
Морфеус: Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почувствуешь и не коснешься. В темнице для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое Матрица… Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. (Морфеус достает две пилюли.) Примешь синюю пилюлю – и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную пилюлю – войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
Нео, после некоторых колебаний, выпил красную пилюлю. И увидел лживость гладкой реальности, скрывающей горькую истину. Он выбрал жизнь трудную, опасную – но правдивую!
Бойся экономистов, синюю пилюлю приносящих
Я задумал эту книгу как бумажное издание красной пилюли. Уже в первой главе я задал вопрос:
«Как же удавалось властителям осуществлять власть вопреки воле большинства, распределяя излишки в свою пользу, а не в пользу других?»
И сразу же дал ответ:
«Очень просто: они разработали систему идей, которая убедила подвластных в законности их власти. Что они имеют право на излишки…»
Я рассказал тебе о жрецах, которые обслуживали эту систему идей. Система идей узаконивала центральную власть, убеждая эксплуатируемых, что на самом деле они по собственной воле и от чистого сердца чтут своих властителей, что им за это обещана награда свыше, а если они покушаются на власть, то они нарушают священный порядок.
До возникновения рыночных обществ в конце XVIII века такие идеи прикрывались религией. Можно было выдавать неравенство, произвол, насилие за естественное состояние мира, изначальное и данное свыше.
Но как только восторжествовала меновая стоимость, и господствовать стали рыночные общества, главенствующая идеология стала выдавать себя уже не за религию, а за науку. Появилась так называемая экономическая теория. Со временем эта якобы наука обзавелась учебниками, журналами, колонками в газетах. Экономисты стали ходить с важным видом и объяснять, что экономика устроена так сложно, что ею могут заниматься только такие специалисты, как они. Что простым людям нечего судить об экономике, что им лучше довериться банкирам, технократам и прочим успешным людям. Но вся эта экономическая теория, вся эта картина экономической жизни – та самая Матрица, о которой Морфеус говорил Нео: мнимая реальность, пленившая наш ум, затворившая его в тюрьме идей. Единственная цель Матрицы – скрыть от нас горькую правду.
Что за правда?
Что мы, люди, стали рабами машин, хотя создали их как своих слуг.
Что рынки не обслуживают нас, а мы сами стали рабами безличных и бесчеловечных рынков.
Что мы так построили наше общество, что многие из нас напоминают «Фауста без Мефистофеля», а некоторые – доктора Франкенштейна, придумавшего чудовище себе на погибель.
Что мы суетимся весь день, чтобы купить вещи, которые нам на самом деле не нужны, и мы бы без них обошлись, но Матрица рекламой и маркетингом вложила их в наш ум.
Что мы ведем себя как безумные вирусы, разрушающие свой же организм, населяемую нами планету.
Что наши общества не просто несправедливы, но ужасаще неэффективны: они заставляют нас тратить все силы на производство богатства, от которого нам достаются только крохи и множество проблем.
Наконец, что, если кто-то скажет всю эту правду, общество его возненавидит и начнет преследовать: оно не любит смотреть на себя в зеркало логики и критического мышления.
Ксения, ты как Нео стоишь перед жестким выбором между синей и красной пилюлей.
Если ты примешь синюю пилюлю, будешь жить в лживой иллюзии, веря всему, что говорят нашему обществу учебники по экономике, «ведущие экономические аналитики», Европейская Комиссия, сытые газетчики.
Если примешь синюю пилюлю, ты не заметишь жестокого всевластия господствующей идеологии, тоталитарного господства иллюзии. Жизнь твоя будет беззаботной, ты не будешь задаваться сложными вопросами, и будешь в мире и согласии с правящим классом.
А если ты примешь красную пилюлю, то сразу увидишь все, что я показал тебе в этой книге. Твои глаза откроются, твой ум заработает. И тогда тебя ждет тяжелая и опасная жизнь. Как сказал Морфеус Нео, единственное что я тебе обещаю – правду, и ничего больше.
Лженаука экономика
Многие будут говорить тебе, что твой отец не знает что говорит. Что экономика, экономическая теория – это наука. Что как физики анализируют математическими средствами законы природы, так и экономисты широко используют математику, статистику и логику для анализа законов экономики, которые, как и законы природы, общие для всех. Это чепуха!
Конечно, экономисты употребляют математические формулы и статистические методы. Но они напоминают в этом скорее астрологов, чем астрономов – астрологи тоже могут составить сколько угодно таблиц и схем с цифрами. А астрономия основана на физике, физика же имеет надежный критерий истины – законы природы, проверяемые экспериментально. В экономике нельзя ставить эксперименты и проверять, например, что было бы с греческой экономикой, если бы в 2010 году не был взят международный кредит, а наоборот, были бы приостановлены все выплаты.
Итак, в экономике нет экспериментальной проверки данных. Поэтому экономика – это образ мысли, не имеющий никакого отношения к настоящим наукам. Итак, если мы занимаемся экономикой, мы либо должны продолжать ложно выдавать себя за ученых, либо согласиться, что мы, скорее, ближе к философам или богословам: мы можем как и они рассуждать очень умно, логично, взвешенно, но никогда не убедим никого с точной определенностью, что смысл жизни в этом, а не в том.
К сожалению, подавляющее большинство моих коллег-экономистов предпочитают притворяться, что они ученые, хотя на самом деле они, скорее, астрологи или в лучшем случае средневековые богословы, которые доказывали математическими средствами бытие Божие. И как все гадатели, они паразитируют на страхе и предубеждениях людей, которым только бы выжить и которые боятся перемен в своей жизни.
Зависимость от синей пилюли
В 1930-е годы английский антрополог Эдвард Эван Эванс-Причард (1902–1973) исследовал народность азанде на севере Центральной Африки. Он жил среди племени и заметил, что все очень верят предсказаниям магов, испрашивая у них совета, как древние греки вопрошали дельфийского оракула.
Эванс-Причард поставил вопрос: если часто пророчества жрецов, гадателей и магов оказывались неверными, то как они сохраняли непоколебимой свою власть над всем племенем?
Эванс-Причард так объяснил, почему азанте слепо верили своим жрецам и волшебникам, всех их пророчествам, заклятьям, колдовству, и всегда их слушались:
«Азанте были убеждены, как и мы, что неудача пророчеств требует какого-то реального объяснения. Но они были настолько глубоко погружены в свои поверья, что прибегали опять же к поверьям, чтобы объяснить неудачу пророчеств своих гадателей. Противоречие между событиями и верой объяснялось ссылкой на другие поверья, которые и позволяют объяснить, что пророчество здесь и не должно было быть верным».
Именно так работает так называемая наука экономика! Когда профессиональные экономисты не могут объяснить, почему все они проглядели самое важное экономическое явление – никто из них не предвидел кризис 2008 года, который продолжается до сегодняшнего дня – они сразу начинают ссылаться на какие-то никому неведомые мистические факты и факторы, в которые они тоже заставляют нас поверить, принять на веру.
Приведу один пример. В 1980-е годы безработица росла вопреки предсказанием системных экономистов, работавших в больших банках, например, в Международном валютном фонде. И поэтому те просто решили, что на самом деле никакой безработицы нет, они стали отрицать безработицу вообще, что нам пришлось обсуждать в целой главе. За науку они выдали свою мистику. Они переименовали безработицу в отсутствие безработицы и тем самым решили проблему.
Затем, увидев, что на некоторых рынках безработица приняла чудовищный масштаб, они стали убеждать себя, что безработица – признак недостаточно конкурентного общества. Что нужно приватизировать предприятия, заставить их конкурировать, и тогда как по мановению волшебной палочки безработица исчезнет.
Но никакого чуда не произошло. Предприятия были приватизированы, но безработица только выросла. Тогда они решили, что нужно дальше проводить приватизацию, и приватизировать уже все, включая дома и транспорт. Дескать, тогда появится много мест, где пусть мало, но платят, а чтобы люди шли работать за малую плату, нужно сделать так, чтобы везде платили меньше.
Но и из этого ничего путного не вышло. Они тогда попытались исправить положение. Они решили, что теперь нужно создать побольше бирж труда и сделать их эффективными. А для этого нужно ввести социальное страхование и потребовать от всех работников платить часть дохода в фонд социального страхования, чтобы если они лишатся работы, выплачивать им пособие. Эта мера окончательно добила экономику, но профессиональные экономисты отчитались об эффективности и продолжили свою магию.
При этом они оставались все время уважаемыми людьми, получающими миллионы, совсем как гадатели племени азанде.
Теперь мы знаем, что за синюю пилюлю Морфеус предлагал Нео. Это речи экономистов, создающих наукообразные идеологемы, скрывающие под собой правду о действительной работе рыночного общества. Когда меновая стоимость восторжествовала над всей землей, над всем человеческим трудом, над всем живым от микроба до человека, тогда экономические теории мерцают как Матрица, не давая разглядеть, что происходит.
Наша красная пилюля
К сожалению, в реальности нет такой красной пилюли, которую можно было бы запить водой, как это сделал Нео.
Но у нас есть критическое мышление и умение ничего не принимать на веру, даже если это говорят руководители, большинство населения и каждый встречный.
На страницах этой книги я учил тебя, как добиваться правды критическим мышлением. Для этого нужно уметь видеть реальность вокруг себя, сколь бы печальной она ни была.
Может быть, ты еще не раз пожалеешь, что не приняла синюю пилюлю. Но все равно тебе не раз придется принять красную пилюлю горькой истины, чтобы разоблачить ложь сильных, их безобразие и безумие. Правда тебя вознаградит.
Благодарности
Я бы хотел поблагодарить писателей и творцов, из чьих трудов я почерпнул материал для этой книги. Прежде всего следует упомянуть Джарреда Даймонда, труд которого «Ружья, микробы и сталь» лег в основу первой главы книги, Р. А. Рэдфорда, чье описание жизни в концентрационном лагере лучше всего помогло мне объяснить работу рынка, Марло, Гёте и Диккенса за образы Фауста и Скруджа, обогатившие раздел о долге и процентах, Софокла, за мысль о власти пророчества, которая важнее всего для меня при исследовании законов рынка финансов и рынка труда и объяснения причин экономического кризиса, и, разумеется, сиблингов Вачовски, создавших фильм «Матрица», наполненный экономическими, экологическими и нравственными тревогами.





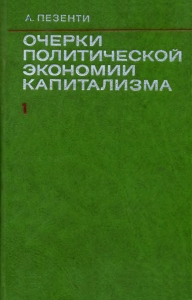
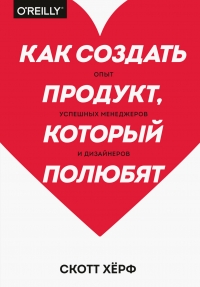
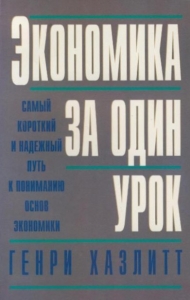
Комментарии к книге «Беседы с дочерью об экономике», Янис Варуфакис
Всего 0 комментариев